От составителя
Читателю никогда не приходится рассчитывать на то, что поэт напишет собственную автобиографию; в большинстве случаев поэты никогда этого и не делают. Поэту же, по большому счету, никогда не приходится рассчитывать на то, что ему будет предоставлено право представить читателю собственную жизнь так, как сам поэт пожелал бы; рассказать именно то, что хочется, так, как хочется, в той форме, в которой хочется.
Из-за этих двух причин (из-за этой одной причины, конечно) я затеяла в 2006 году проект «Биографии поэтов, рассказанные ими самими». «Новое издательство» во главе с Андреем Курилкиным немедленно согласилось участвовать в проекте. Я изложила Андрею идею этого проекта примерно в мае 2006 года и пообещала подготовить первый том проекта (с автобиографиями двенадцати-пятнадцати поэтов) к декабрю того же года. К моменту, когда первый том все-таки будет завершен и собран (в этом декабре), с того самого декабря пройдет шесть лет: я изначально переоценила свои силы и свою способность слушать людей залпом. Когда человек (любой, наверное, но особенно – такой человек) рассказывает тебе свою жизнь, это нельзя проглотить – и перейти к следующему собеседнику. Это проживаешь, хотел ты этого изначально или нет.
Я сразу говорила участникам проекта, что результат будет целиком и полностью таким, каким они захотят его видеть. Можно выкидывать куски, можно дописывать куски; можно передумать и отказаться от публикации вообще; можно сказать: «Мне не нравится то, что получилось; давайте выкинем этот вариант, и мы начнем все сначала» (тогда мы выкидывали этот вариант и начинали все сначала).
Я садилась перед поэтом с диктофоном и говорила: «Расскажите, пожалуйста для начала, какой была ваша семья до вас». Дальше разговор мог длиться два часа – легко, как по бумаге. Мог – в несколько приемов по несколько часов. Иногда (в одном случае) – с перерывом в несколько лет. Потом я присылала расшифровку текста. Первое время я проделывала над этой расшифровкой некоторую, как мне казалось, чисто техническую редактуру – со всей бережностью, на какую была способна, и постоянно спрашивая собеседника о неясных местах. Теперь я жалею об этих случаях: следовало (и так я поступала дальше) присылать поэту совершенный «сырец», не поддаваясь даже соблазну исправления ослышек и описок расшифровщика (тоже, кстати, очень внимательного и бережного), – просто для того, чтобы не вмешаться случайно даже в структуру конечного текста, даже в интонацию. Потом я выбрасывала свои реплики, кроме тех, которые служат опорными для рассказа, который ведет поэт (с таким собеседником невозможно постоянно молчать и спрашивать; с ним хочется говорить; это тоже соблазн, с которым я пыталась справляться, но получалось далеко не всегда).
Об отборе имен: никакого отбора, формального просева этот проект не подразумевает. Я просила участвовать (в этом томе и в следующих томах, над которыми уже идет работа) тех, чьи тексты люблю; кроме того, я пыталась хоть сколько-то коснуться разных поколений и разных школ, но и здесь не руководствовалась никаким жестким принципом. Даже решение о том, кто войдет в первый том, а кто – не в первый, было подчинено исключительно географическим и хронологическим случайностям, а не какой бы то ни было тайной стратегии. Конечно, я не могу себе простить того, что в результате моей лени и медлительности я упустила возможность поговорить с несколькими выдающимися людьми, ушедшими от нас за эти годы. Я буду пытаться работать больше и быстрее.
Это не журналистский проект. Мне не хотелось «получить информацию», или «пролить свет», или «уточнить подробности». Мне хотелось, если угодно, прямо обратного: настолько, насколько это возможно (а наличие спрашивающего, наличие собеседника все-таки, увы, задает определенную рамку, как этот собеседник ни пытается самоустраниться), дать поэту свободу говорить о себе на своих условиях. То, что именно поэт выбирает рассказывать, как, когда, в каком порядке, каким языком, мне виделось гораздо более важным, чем любые конкретные подробности, состыковки и факты. Конечно, моя собственная личная близость (разной степени) к говорящим, мое ощущение легкости или, напротив, робости в разговоре неизбежно влияли на результат. Я жалею об этом, но не представляю себе, как избежать этого, не прибегая к малоинтересным (и, боюсь, малорезультативным) формальным играм.
Еще мне кажется, что, не будь нужды написать данное предисловие, я бы сумела выпустить этот том раньше. Но необходимость написать это предисловие пугала меня. Я сомневалась, что сумею удержаться от нескольких очевидных соблазнов: от соблазна анализировать параллели, излагать концептуальные и философские соображения, предлагать интерпретации – и таким образом все-таки упеленывать эти автобиографии в ту опосредованную толщу чужого текста, от которой мне как раз хотелось избавить моих собеседников. После многократных переписываний и переделываний мне, кажется, удалось удержаться – и предоставить читателю эти биографии вне какого бы то ни было контекста, кроме того, которым располагает сам читатель.
Я хочу поблагодарить не только всех участников проекта (чье доверие и уделенное мне время значили для меня больше, чем я могу описать), но и «Новое издательство», сразу заинтересовавшееся идеей и терпеливо ожидавшее результата. Отдельно спасибо – расшифровщикам интервью, проделавшим очень непростую и очень кропотливую работу.
И, наконец, порталу OpenSpace, редакция которого предложила предпубликацию вошедших в книгу автобиографий и тем самым подтолкнула меня к переводу проекта в решающую фазу.
Михаил Айзенберг
...
Айзенберг Михаил Натанович (р. 1948, Москва). Окончил Московский архитектурный институт, работал архитектором-реставратором. Преподавал в Школе современного искусства при Российском государственном гуманитарном университете. Руководил изданием поэтической книжной серии издательства «ОГИ». Лауреат премии Андрея Белого (2003), премий журналов «Знамя» и «Стрелец». Лауреат поэтической премии Anthologia журнала «Новый мир» (2008), премии «Московский счет» (2009).
ГОРАЛИК Первое ваше стихотворение, прочитанное мной, было года примерно 80-го. Я потом начала читать вас в хронологическом порядке – и тексте на десятом подумала: «Как должно быть устроено мироощущение человека, когда главным действующим лицом все время оказывается не велосипедист, а стрелок? Мироощущение, при котором сквозь абсолютно мирный день просвечивает такая страшная, шершавая подкладка?» И чем дальше я читала эти тексты, тем сильнее мне казалось, что автор постоянно смотрит вот на тот самый, описанный в стихотворении со стрелком, солнечный двор – в разное время суток, в разную погоду, с разных точек, в разных ракурсах – и постоянно видит объект принципиально новым, но при этом додумывает его, доразглядывает.
АЙЗЕНБЕРГ Ну вероятно, так и происходит, потому что я не занимаюсь выстраиванием своей жизни, не делаю никаких проективных движений. Все, что со мной происходит, можно при хорошей погоде называть интуитивным существованием, при плохой – растительным. (А раз уж речь зашла о погоде, то вернее второе.) На самом деле имеет место, очевидно, и то и другое, но все движения сознания действительно следуют за сменой ракурса, а не наоборот.
ГОРАЛИК Так всегда было?
АЙЗЕНБЕРГ Всегда. Это такой способ существования. И если уж всплыли эти слова, то, наверное, нужно сказать, что и мое отношение к стихам – это отношение к некоторому способу реального, не фиктивного существования. Не именно моему, а вообще «способу существования».
ГОРАЛИК Каково это – пытаться передать словами способ существования, особенно такой?
АЙЗЕНБЕРГ В том и задача, чтобы «передать словами». Это прямо связано с тем, где мы живем и как мы живем. Придется начать с трюизмов: всю первую половину прошлого века здесь шла какая-то непрерывная война на уничтожение. Уничтожение не только всех, но и всего, культуры в первую очередь, даже материальной культуры. Культурное воспроизводство было окончательно разрушено – и вот осталось нечто: просто страна – как территория, как место, где живут люди, не имеющие для своей жизни культурных навыков. Не имеющие в том числе и речевого навыка, чтобы что-то сказать о себе, о месте, где они живут, о своей жизни в этом месте. Не имеющие языка и не понимающие, собственно говоря, где они оказались и кто они такие. И эта ситуация – ситуация полного отсутствия культурного, да и просто жизненного обеспечения – стала, мне кажется, ощущаться всеми как раз в то время, когда я сам начинал быть существом отчасти сознательным, начинал писать стихи, например. То есть где-то в середине 60-х. До этого еще существовала какая-то инерция – то ли инерция предыдущих уничтоженных культур, то ли просто инерция того гигантского геологического разлома с последующим высвобождением социальной энергии и пр. Люди жили силой этой инерции, но ближе к 60-м они стали ее терять, а вместе с ней – и представление о реальности. В таких ситуациях стихи первыми приходят на помощь самым естественным образом – просто потому, что они больше всего связаны с какими-то конвульсивными движениями «тонкого сознания».
ГОРАЛИК Стихи как метод глубокой рефлексии?
АЙЗЕНБЕРГ Изменения, происходящие в мире, ведь не сразу доходят до сознания, до тех областей нашей психики, которые мы способны контролировать. Но наше «тонкое сознание» (синоним души) сразу отзывается на любые перемены новыми, еще необъяснимыми колебаниями, каким-то новым трепетом. Оно трепещет иначе – не так, как раньше. Стихи умеют подхватывать этот трепет, заражаться им. Они сами становятся этим новым трепетом.
ГОРАЛИК Воскрешение погибшей культуры, заполнение лакун, возникших в ходе уничтожения культуры, – это ведь очень близко понятию «реставрация»? Вы реставратор по образованию, вы много лет работали в этой области. Как ощущает культуру человек, который фактически трогал ее руками?
АЙЗЕНБЕРГ Вы знаете, как раз мой опыт реставратора в этом плане сугубо отрицательный. Я, конечно, благодарен и этому опыту, как и любому другому, но энтузиазм, с которым я начинал работу реставратора, постепенно – и довольно быстро – исчезал: я понял, что сама реставрация – вещь страшно двусмысленная. Нужно уточнить: я говорю сейчас именно о реставрации – не о консервации. Консервация – вещь правильная и необходимая. А что такое реставрация? Какое-то здание было перестроено, искорежено, испорчено или даже уничтожено, но вот пришли мы, реставраторы, и сейчас восстановим все в самом что ни на есть первоначальном виде. Я понимал, что делаю что-то не то, но никак не мог это «что-то» сформулировать, найти главное слово. И это слово – уже в сравнительно позднем, начала 90-х годов, разговоре – мне подсказал Гриша Дашевский. Он тогда приехал из Франции, описывал свои впечатления и в каком-то придаточном предложении просто упомянул: «…средневековые замки, то есть настоящая архитектура – окаменевшее событие». Как потом выяснилось, он никак эти слова не зафиксировал и сразу их забыл, а у меня от них что-то вспыхнуло в мозгу: «окаменевшее событие». Именно! Событие тем и отличается от всего остального, что оно неповторимо: оно произошло раз и навсегда. Пытаться восстановить его, «реставрировать» – значит фальсифицировать реальность, переписывать историю.
ГОРАЛИК Как вы оказались реставратором?
АЙЗЕНБЕРГ Я окончил Московский архитектурный институт, но уже на последних курсах понял, что заниматься современной архитектурой мне не очень хочется, а вот старая архитектура, наоборот, привлекает меня весьма серьезно. Началось это увлечение еще на первых курсах: во время летних каникул мы вербовались в архитектурные экспедиции, это называлось «паспортизация памятников архитектуры». Эти памятники надо было зафиксировать, но для начала – просто найти, потому что никакого общего «свода памятников» еще не существовало. И мы буквально прочесывали какие-то глухие районы северных областей (в моем случае – Вологодской и Костромской) и смотрели, что там есть: искали разрушенные храмы, часовни, просто интересные деревенские дома – старые или чем-нибудь необычные. Нужно было сделать схематический обмер этих объектов, фотографии, разумеется, и дать какое-то профессиональное описание. По идее прилагалась еще и историческая справка – если удавалось ее где-нибудь раздобыть. Это было очень увлекательно, и мне показалось, что такая работа как раз по мне.
ГОРАЛИК Чем она была увлекательна именно для вас?
АЙЗЕНБЕРГ Во-первых, был какой-то поисковый, чисто экспедиционный азарт, да и сами памятники были порой вполне замечательны. Но все-таки самым сильным впечатлением были те края, те земли, по которым нам нужно было пройти. Мы оказывались там, где без этой работы никогда бы не оказались. Приезжали – а в основном приходили пешком – иногда в такие места, где до нас какой-либо посторонний человек был лет двадцать назад. Это был невероятный опыт, совершенно бесценный.
ГОРАЛИК Впечатление должно было нередко оставаться гнетущее.
АЙЗЕНБЕРГ «Гнетущее» – совсем не то слово, но нужного я сейчас что-то не подберу. Я думаю, что в тех деревнях, где мы бывали, сейчас уже никто не живет. В них и тогда практически уже не жили. Так, две-три семьи. И появлялось ощущение как бы исчезающей страны: громадного, пустого, только прошедшим заполненного пространства. Какое-то огромное ощущение.
ГОРАЛИК И это в то время, когда большинству казалось, что эта страна не просто не может исчезнуть – что она не может измениться, даже шелохнуться, – этакая неподъемная каменная скифская баба.
АЙЗЕНБЕРГ Ну, вы знаете, одно другому, боюсь, не противоречит. Было именно такое ощущение: есть незыблемая государственная территория, но только внутри этой территории – исчезающая страна.
ГОРАЛИК Как архитектура оказалась в круге интересов настолько вербального человека, как вы?
АЙЗЕНБЕРГ Не такого уж и вербального на самом деле. Стихи – это все-таки сравнительно позднее увлечение, я стал писать их регулярно лет с четырнадцати-пятнадцати. Именно регулярно, а не эпизодически, как это делают все. До того были редкие и совершенно детские опыты: несколько эпизодов с разрывом в два-три года. А уже лет с пятнадцати стихи постепенно стали превращаться в главное занятие и главное, что ли, жизненное приключение. До этого я все больше рисовал и лепил, занимался в художественных кружках, учился в художественной школе и лет, наверное, до шестнадцати полагал по инерции, что стану художником. Только потом сообразил, что это, в общем-то, дело не мое.
ГОРАЛИК Что могли дать стихи, чего не могло дать все прочее – рисование и пр.?
АЙЗЕНБЕРГ Могу признаться, что к тому времени в художественных занятиях обнаружилась какая-то область, мне явно недоступная. Я всегда прилично – ну, на подростковом, конечно, уровне – рисовал с натуры: в основном портреты, но и этюды, натюрморты и т. д. Куда хуже удавались мне так называемые композиции – то, что надо замыслить «из головы». Но ближе всего к настоящей картине, к полотну были именно «композиции», и вообще художник, как нам тогда казалось, – это человек, который пишет «картины», а не какие-то там этюды или натюрморты. Они лишь подготовительный этап для настоящей работы – писания «полотен». Я, слава Б-гу, очень рано почувствовал, что к «полотнам» мне перейти будет затруднительно и что меня вообще смущает сама идея «этапов». А в стихах не было таких подготовительных ступеней, не было и ощущения границы. Там все главное начиналось сразу. Вероятно, поэтому у стихов и не осталось реальных конкурентов, когда я стал немножко понимать, что такое стихи, чувствовать их как именно стихию.
ГОРАЛИК Это началось в какой-то строго определенный момент?
АЙЗЕНБЕРГ Скорее в определенный период – не очень длительный.
ГОРАЛИК А читатель, слушатель в то время у вас был?
АЙЗЕНБЕРГ Были два-три человека, которые тоже что-то сочиняли, и мы обменивались своей продукцией. Реальные читатели возникли уже в институтское время. Очень существенно, кстати, что за первый учебный год в институте я, кажется, не написал ни одного стихотворения. Это был какой-то перерыв, шлюз. А когда стал писать снова, то и сам почувствовал, что речь идет о текстах совсем другого рода. Изменилось мое отношение к ним. Это были уже не душевные излияния – я думал о том, что делал.
ГОРАЛИК Это были «полотна»?
АЙЗЕНБЕРГ Что-то в этом роде.
ГОРАЛИК Расскажите про самый ранний этап бытования ваших текстов. Вам же, наверное, сразу было понятно, что опубликовать ваши тексты в рамках официальной системы невозможно?
АЙЗЕНБЕРГ Да, практически сразу. Могу сказать, что мои стихи никогда не отвергали – просто потому, что я никуда их и не носил. Но я не уверен, что это чисто литературная тактика: я вообще не могу куда-то прийти и кому-то себя предложить. Ни разу в жизни не приходил и не предлагал.
ГОРАЛИК А как? Кто-то предлагал ваши тексты издателям, издатели предлагали публикации вам?
АЙЗЕНБЕРГ Именно так, но эти предложения относятся уже к 88-му и так далее году. К изменившейся, так сказать, литературной ситуации. До этого, разумеется, никто ничего не предлагал. У меня и знакомых-то таких не было, кто мог бы предложить. Впрочем, нет, один был: Костя Сергиенко, замечательный детский писатель. Мы познакомились довольно поздно – в 83-м году, и он на спор вызвался опубликовать мои ранние стихи, еще юношеские. С одним условием: никаких конечно же Айзенбергов, пусть будет мамина фамилия – Михаил Орловский. Костя тогда как-то участвовал в составлении юношеского альманаха («Парус», что ли?) и был уверен в успехе на сто процентов. Но ни фи-га. Номер не прошел. Ни Орловский не помог, ни то, что стихи юношеские, общелирические. Вообще, когда мои стихи стали приобретать в моих собственных глазах какой-то товарный вид, товар стал уже совершенно неходовым. Это был «птичий язык» – только на нем и можно было разговаривать. Он был другой и мог выразить другое. Поиски нового языка начинались с него.
ГОРАЛИК Как устроено детство такого ребенка, каким были вы?
АЙЗЕНБЕРГ Вы считаете, что человек может ответить на вопрос, каким он был ребенком?
ГОРАЛИК Иногда.
АЙЗЕНБЕРГ И что обычно начинают рассказывать?
ГОРАЛИК Все – разное. Кто-то – о том, где жил, кто-то – о том, как была устроена семья. Кто-то не рассказывает ничего.
АЙЗЕНБЕРГ Давайте я для начала просто вспомню один очень древний эпизод, из которого станет понятно, что критический импульс в моем случае сильно опередил собственно творческий. Вот этот эпизод: я совершенно четко помню, как в детском саду – мне, соответственно, лет шесть – воспитательница читает вслух стихотворение Пушкина, которое мы должны вслед за тем заучить наизусть. «Октябрь уж наступил, – читает она, – уж роща отряхает…». И тут я начинаю протестовать: «Зачем здесь это „уж“»? Только мешает, а без него лучше: «Октябрь наступил. Уж роща отряхает…» Воспитательница очень развеселилась: «Ты, значит, собрался исправить Пушкина?» По-моему, забавная история. Я вообще, надо сказать, не вспоминаю ничего ужасного про свой детский сад, кроме смертной скуки. Самым страшным испытанием был мертвый час – такая ежедневная пытка. А помимо этого я и к манной каше, даже к рыбьему жиру относился очень снисходительно.
ГОРАЛИК Вам было скучно с другими детьми?
АЙЗЕНБЕРГ Проблема была совсем не в этом. Как бы это сказать? – не в том модусе. Я заикался и был дико застенчивым. Само общение для меня всегда было проблемой – каковой, в сущности, и остается. Но сейчас я, конечно, немного приспособился. А тогда я начал лепить свой мир – буквально из пластилина. Отдельно взятое пластилиновое царство-государство.
ГОРАЛИК Большое было царство?
АЙЗЕНБЕРГ Огромное. В нем шла борьба, преследования, погони. Сложная была жизнь.
ГОРАЛИК А вне царства? Кто были, например, родители?
АЙЗЕНБЕРГ Отец – инженер-строитель. Он поступил в Московский инженерно-строительный институт еще до войны, потом ушел на фронт, прошел всю войну, в Польше был очень тяжело ранен осколками в ноги и в грудь, еле выжил. Около года провел в лазаретах и больницах. В Москву отец вернулся на костылях, восстановился в своем инженерно-строительном институте и окончил его в 47-м. После института работал на строительстве высотного здания у Красных Ворот, где, кстати, и находился потом мой детский сад – во внутреннем дворе. И жили мы тоже рядом, на Новой Басманной. Это вообще моя родина – этот кусочек города, Красные Ворота. Любопытно, что одним из архитекторов на строительстве того же высотного здания был Марк Бубнов, отец моей жены Алены. Тогда наши отцы общались только по работе, но сразу вспомнили друг друга, когда встретились через двадцать лет уже в другой ситуации.
ГОРАЛИК Вы пошли в отца или в маму?
АЙЗЕНБЕРГ По профессиональным склонностям – явно в отца. У него были некоторые способности к рисованию, и он всю жизнь писал стихи: в юности – юношеские, романтические, а позже – стихи на случай: к дням рождения, юбилеям и прочая. И делал это с мастерством, которое мне, например, в этом жанре недоступно. В нашей семье писание стихов было довольно обычным делом. Писала стихи бабушка, писал мой дядя. Тоже время от времени и не считая себя поэтами, разумеется. Так что для меня в этом не было ничего особенного. Только мама никогда стихов не писала. Нет, неправда: одно стихотворение у нее было, совсем детское и очень смешное: про то, как она увидела Кагановича. Я помню только одну строфу: «Он был так несказанно просто одет / В (каком-то) френче и белом плаще / И я дала себе твердый обет / Воспеть его в железном марше». Эта встреча явно произвела на нее огромное впечатление, но и само стихотворение, видимо, тоже произвело впечатление – больше она никогда стихов не писала. При том, что мама была как раз человеком абсолютно филологическим: и литературу хорошо знала, и дружила какое-то время с Семеном Гудзенко, Межировым и всей этой компанией «фронтовых поэтов». Окончила филфак МГУ, романо-германское отделение по специальности «немецкий язык и западная литература». Было это в 45-м году.
ГОРАЛИК Сложный период.
АЙЗЕНБЕРГ Сложный, да. Но удивительно, что я стал заниматься теми вещами, к которым у мамы не было ровно никаких способностей: единственный предмет, по которому она физиологически не могла подняться выше тройки, было рисование, а по остальным – всю жизнь одни пятерки. А все ее достижения от меня очень далеки: несколько иностранных языков, знание и понимание музыки (она все время ее слушала), невероятная трудоспособность и внутренняя дисциплина. При том, что я очень на нее похож и вообще очень ее сын.
ГОРАЛИК Вы дружили с родителями?
АЙЗЕНБЕРГ Я их очень любил, но «дружил» – какое-то не то слово. Может быть, с мамой – там было почти полное понимание. А отец – он, естественно, всегда отец. Довольно долго он старался внушить мне какие-то свои идеи и принципы и действовал достаточно настойчиво, но все же не ломал меня об колено. К тому же на моей стороне всегда был союзник – мама. Кстати, первый в жизни самиздат – перепечатку стихов Гумилева и Ахматовой – я получил тоже от нее.
ГОРАЛИК Вы всю жизнь провели в Москве?
АЙЗЕНБЕРГ Да, всю жизнь в Москве. Когда я учился в шестом классе, родители получили отдельную квартиру и переехали в Сокольники. До этого мы жили с маминым родителями, с ее братом, сестрой и их семьями. Это была большая, очень большая семья, живущая в квартире из четырех маленьких комнат. По тем временам такие условия считались чуть ли не роскошными – это все-таки была не коммуналка, хотя в каждой комнате жила отдельная семья. Но эти семьи состояли из ближайших родственников, что в каких-то случаях затрудняло жизнь, но в целом, пожалуй, облегчало. Потому что когда я заходил иногда в гости к своим одноклассникам, то видел просто войну на истребление, идущую изо дня в день между разными комнатами. Как люди жили в такой ситуации, я не могу даже представить.
ГОРАЛИК Какими они были, эти одноклассники? Какой для вас была школа?
АЙЗЕНБЕРГ Школа, в которой я учился до седьмого класса – это у Красных Ворот, – была нормальной, даже хорошей: какие-то обструкции, травля слабых были скорее исключением, а не правилом. Я, если честно, ничего такого и не помню, а только предполагаю, что и это должно было иметь место. В нашем классе было много очень симпатичных детей. Обычная районная школа. Тогда, как мне кажется, необычных-то и не было. Но все-таки в центре, а это важно. Насколько это важно, я понял, когда мы переехали в Сокольники и я перешел в другую школу. (А Сокольники были тогда очень «хулиганским» районом.) Вот там было тяжело. Просто очень, очень тяжело. Но самое плохое длилось, к счастью, всего один год, потому что в девятом классе началось так называемое производственное обучение. Наш класс был с математическим уклоном: нас учили на программистов. Собрали ребят, способных к математике, даже из соседних школ. Это уже был совсем другой контингент. Так что по-настоящему страшная советская школа у меня длилась, в сущности, всего год.
ГОРАЛИК Стихи были частью этой картины? Частью защиты, например? Поводом для нападений?
АЙЗЕНБЕРГ Ну, тогда еще и стихов особых не было. Я уже что-то писал, но это было юношеское, рефлекторное занятие. Нет, не думаю, что это было важно. Я поступил тогда в секцию самбо и стал чувствовать себя увереннее. К тому же человеку, который умеет делать что-то, чего не умеют другие, трудно стать полным аутсайдером. Само это умение вызывает определенный интерес. Я рисовал всякие стенгазеты, а однажды сделал общешкольную газету, полностью состоящую из стихов местных умельцев, моих в том числе. (Ага! Получается, что все же и стихи отчасти защищали.) В нашей школе таких газет раньше не было, и это стало некоторым событием. Даже цензурные изъятия имели место: в чьем-то – да не в чьем-то, а в моем – стихотворении вместо строчки «тяжелый директорский взгляд» появилась другая – «ребята на лавках сидят». Но в целом одобрили, время было еще вполне благодушное – 1962 год. Благодушие, впрочем, довольно быстро улетучилось. Уже через два года другую мою газету собирались обсуждать в роно (районный отдел народного образования) и грозились выгнать меня из школы. Но наш вполне сумасшедший директор просто отобрал газету у людей из роно, и тем уже нечего было обсуждать. Все ограничилось угрозами и внутренним скандалом.
ГОРАЛИК После школы как вы выбирали институт? Были какие-то варианты или сразу все было ясно?
АЙЗЕНБЕРГ Нет, сразу ничего ясно не было. Я вообще-то хотел идти на какую-нибудь филологию, но и сам понимал, что это не очень реально. А тут и мама проявила несвойственную ей твердость. Я помню ее лицо при обсуждении моих жизненных путей, я тогда как-то понял: это серьезно, к этому нужно прислушаться. В первый раз я видел у нее такое выражение лица. Она-то знала, что значит быть филологом. Мама всю жизнь была патологической отличницей и филфак МГУ тоже окончила с «красным» дипломом. После университета поступила в Издательство иностранной литературы младшим редактором. Об этом я узнал только после ее смерти, из трудовой книжки. Она никогда об этом не упоминала. Никогда.
ГОРАЛИК Почему?
АЙЗЕНБЕРГ Мамина работа в издательстве продолжалась около двух лет, но младшим редактором она пробыла совсем недолго. Сначала ее перевели на должность корректора, потом уволили «по сокращению штатов». Предположить, что мама была плохим младшим редактором, я не могу. Это просто невозможно – при ее невероятном трудолюбии, при том, какая она была умница. Очень долгое время она вообще никуда не могла устроиться, потом стала работать преподавателем немецкого языка в школе рабочей молодежи на станции Лось, под Москвой. Это не так уж далеко, но если ездить каждый день, то любая подмосковная станция оказывается очень далекой. И вся ее дальнейшая жизнь, как я понимаю, прошла под знаком этой начальной травмы, о которой я просто ничего не знал. Мама очень долго работала учительницей немецкого языка, в основном в школах рабочей молодежи. Потом стала переводчиком, но переводчиком техническим. Я, конечно, немного жалею, что нет у меня каких-то фундаментальных филологических знаний, которые нужно заложить именно в юности, в студенчестве. Они невосполнимы, и самоучке всегда чего-то не хватает. А с другой стороны, я, в общем-то, никогда не хотел становиться ученым.
ГОРАЛИК А кем? Вот вы представляли себе, что выучитесь на филолога, и…
АЙЗЕНБЕРГ Мне самому это было непонятно. Просто хотелось изучать что-то, связанное со словесностью, со стихами, с литературой; о дальнейшем я просто не задумывался. Но в то же время я безумно благодарен архитектурному институту просто за то, что у меня сложилась та жизнь, которая сложилась.
ГОРАЛИК Это касается профессиональной сферы или личной?
АЙЗЕНБЕРГ Скорее личной.
ГОРАЛИК Вы женились еще студентом?
АЙЗЕНБЕРГ Женился в последний студенческий год, уже на дипломе. Но и вообще это были замечательные шесть лет, невероятно активные, причем архитектура была только одной из, так сказать, творческих составляющих. Кстати, из той компании, которая у нас сложилась в архитектурном институте, почти никто не стал собственно архитектором. Несколько человек стали профессиональными художниками (одного из них вы наверняка знаете – это Сема Файбисович), двое – священниками, один – теоретиком архитектуры. Словом, в основном из этой компании вышли художники или почему-то – священники, что довольно неожиданно.
ГОРАЛИК А само изучение архитектуры что дало?
АЙЗЕНБЕРГ Архитектура вообще потрясающая вещь, только в архитектурном институте ей, к сожалению, не учили. Нас учили архитектурному проектированию, а не пониманию архитектуры. Я это понял, уже окончив институт. Когда я стал работать в реставрации, мне захотелось снова поступить в архитектурный и пройти все заново, потому что студентами мы всё учили на каком-то бессознательном уровне, не понимая, что такое архитектура, что это за вещь такая, с чем она имеет дело. Что архитектура имеет дело не с планами и фасадами, а с пространством и моделированием, может быть даже с организацией жизни. Но в первую очередь – все-таки с пространством; главное здесь – понимание пространства как такового: и внутреннего пространства, и городского, и пространства существования человека, социального в том числе. Все это вещи невероятно увлекательные, загадочные и сложные, имеющие свои не вполне наглядные, но, что важно, вполне объективные психофизические характеристики. И это ровно то, чему нас не учили.
ГОРАЛИК Что происходило после института – не в профессиональном, а в человеческом плане?
АЙЗЕНБЕРГ Ну, после института продолжалось то, что, по сути, началось еще в институтское время. Где-то на втором курсе, продолжая дружить со своими сокурсниками, я каким-то образом вышел и на другие круги. Это были, во-первых, художники, никак не связанные с архитектурным институтом. А во-вторых (но все-таки во-первых), группа поэтов, которая сложилась на мехмате МГУ: Леонид Иоффе, Евгений Сабуров, Анатолий Маковский и некоторые другие люди, появлявшиеся эпизодически. (Эпизодически появлялся, например, Авалиани, приходил время от времени.) Это была уже совсем другая жизнь, с другими разговорами, с другим стилем общения, с еженедельными журфиксами, во время которых читались и обсуждались стихи. То есть нормальная такая кухонная жизнь. Вы знаете стихи Лени Иоффе?
ГОРАЛИК Почти нет.
АЙЗЕНБЕРГ Вот это ужасно, на самом деле ужасно. Потому что стихи Иоффе – это одно из самых ярких событий того времени. Для широкого круга они прошли почти незамеченными, но я, слава богу, оказался почти в эпицентре – и, конечно, Иоффе на меня очень сильно повлиял. (Как, впрочем, и Сабуров.) Я о нем писал, мне просто не хочется здесь цитировать уже сказанное раньше, а пересказывать я не умею. Но просто представьте себе: 67-й год. Евтушенко, Вознесенский, да? Вознесенский – самый вроде бы продвинутый автор. Ни Красовицкого, ни Сатуновского я тогда еще не знал. Знал Бродского, но в основном совсем ранние стихи, и они были такие немножко жестяные, немножко громыхающие (только «Рождественский романс» я сразу полюбил). И вдруг я знакомлюсь с человеком, который мне читает такое:
Шли позвоночники на торг
стержней сегодняшних и вечных.
Осталось полостью наречься,
чумное выпростав нутро.
Но перед крахом клети волглой,
в кривизнах реберных давясь,
проклясть под молниями воплей
умов смирительную связь.
По мнению живущих всех
лег злак, недопоенный солнцем, —
чтоб вашим глазонькам сколоться
об иглы аховых потех.
Это производит очень сильное впечатление, должен вам сказать. Что-то такое в мозгу переворачивается.
ГОРАЛИК Кем вы все себя чувствовали, когда собирались на эти журфиксы? Кем их участники оказывались в рамках этого особого пространства? Расходясь в два часа ночи, уходили внутри себя с чем?
АЙЗЕНБЕРГ Любой ответ на этот вопрос будет носить анахронический характер, потому что все объяснения и осознания страшно отстают по времени. Конечно, уходили с большим количеством спиртного внутри (смеется). И всегда оставалось ощущение, что что-то произошло, что-то такое сдвинулось, – не только в сознании, но и в жизни. Вообще у меня к застолью и круговому разговору с тех пор особое отношение. Мне кажется, что это едва ли не лучшее, что выпало на нашу долю. Что-то невероятно важное происходило там – за теми столами, во время тех разговоров. В этом разговорном кружении, сталкивании находились слова для выражения того, что нас окружало. Иногда эти слова были случайными, иногда – точными. Сейчас я понимаю, что именно это и было главной работой, которая совершалась в то время.
ГОРАЛИК Называть мир именами?
АЙЗЕНБЕРГ Находить имена и учиться существовать в этом мире. Собственно, речь идет об определенной экзистенциальной технике: что делать с той «стеной», которая постоянно на тебя валится и грозит тебя полностью завалить. Как бы научиться так ее подпирать, чтобы не биться об нее головой, – не делать это своим единственным занятием, потому что жалко тратить на такое свою голову, свою жизнь. Как-то приспособиться, чтобы это стало постоянным, но побочным делом, не способным заместить постепенное – по сантиметрам, по буквам – осваивание, присваивание реальности.
ГОРАЛИК Как поразительно, что вся эта попытка осознавать, называть, принимать эту реальность через язык происходила как раз тогда, когда многие выбирали прямо противоположный путь: через все тот же язык яростно от этой реальности отстраиваться, отделяться. Не пытаться поддерживать падающую стенку, а отпихивать ее от себя. Почему вы сделали именно тот выбор, который сделали?
АЙЗЕНБЕРГ Ну, боюсь, что те, кто пытался «яростно отстраиваться», – они-то как раз и стали уезжать. И в основном уехали. Вот мы с вами и пришли к теме отъезда. Для 70-х годов (которые и есть моя родина в хронологическом отношении, как Красные Ворота – в географическом) эта тема – главная и очень тяжелая. Она, собственно, и сейчас очень болезненна; общее отношение к отъезду продолжает оставаться неприязненным. Что такое отъезд? Отъезд – это размыкание границ, нарушение целостности. А для этой страны ее целостность священна. Самое важное, самое дорогое.
ГОРАЛИК Перед вами самим вставал этот вопрос: уезжать или нет?
АЙЗЕНБЕРГ Ну разумеется. В какой-то момент было ощущение, что уезжают все. В 72-м уехал Леня Иоффе, мой близкий друг и человек чрезвычайно для меня важный (в том числе литературно). Его присутствие было одним из необходимых условий моего здешнего существования. В 75-м уехал Зиновий Зиник, тоже близкий друг. В этот период – примерно с 71-го по 76-й – общим фоном жизни было почти паническое ощущение, что какое-то жизненное основание, выстроенное конвульсивными, мучительными усилиями, пусть даже случайными совпадениями – но все-таки выстроенное! – это основание исчезает, разъезжается, как треснувшая льдина, и сейчас ты просто провалишься в темную мертвую воду. И все – конец, никаких возможностей для продолжения уже не будет. Но я почему-то все равно не мог представить себя на другой территории. Мне казалось, что это уже будет не моя жизнь. Здесь жизнь и такая, и сякая – и безнадежная, и тягостная, – но моя. А там она, возможно, будет замечательная – но чужая. При этом было понятно, что с людьми, которые уехали из страны, ты уже никогда не увидишься.
ГОРАЛИК Что менялось с уходом этих людей? Вряд ли новые люди занимали их места – что-то должно было меняться радикально?
АЙЗЕНБЕРГ Конечно. Новые люди занимали не прежние места, а свои места, и менялась «ориентация на местности», менялась вся система общения, стиль общения, даже ритуалы. Например, когда в конце 80-го уехал Александр Асаркан, общий наставник, наши еженедельные собрания, «четверги», без него уже не имели смысла, и мы их прекратили. Возобновились они только с появлением новых людей, но тон и характер этих собраний очень существенно – именно радикально – изменились.
ГОРАЛИК А «четверги» сколько длились?
АЙЗЕНБЕРГ Ну, до «четвергов» еще были «пятницы». Длились, правда, недолго – чуть больше года. В 72-м у нас родился ребенок, мы получили однокомнатную квартиру в Большом Казенном. Друзей, слава богу, всегда было много, они заходили, не очень сообразуясь с нашим распорядком, и, чтобы этот ненормированный приход как-то согласовать с работой и годовалым ребенком, мы и назначили свой «присутственный день» – пятницу. В 74-м «пятницы» закончились, а в 75-м начались «четверги», потом «понедельники», «вторники» – так это и длилось с некоторыми перерывами до самого конца 90-х. На «четвергах» тон задавали те люди, с которыми я познакомился у Зиника: Александр Асаркан, Павел Улитин. Это были люди на поколение старше, с совершенно другим опытом (в том числе тюремным). Через год после отъезда Асаркана журфиксы как-то сами собой восстановились, превратившись в «понедельники». Продолжали приходить наши старые друзья – Сабуров, Файбисович, Витя Коваль и многие другие, но появились и новые: Лева Рубинштейн, Дима Пригов, потом Сережа Гандлевский. Какие-то их знакомые, которые постепенно становились и нашими. Общее количество я назвать затрудняюсь – думаю, около сотни. От этих «понедельников» получил свое название наш первый общий сборник 1990 года.
ГОРАЛИК Там были только разговоры или происходило еще что-то? Например, специально организованные чтения, перформансы?
АЙЗЕНБЕРГ Вот только не перформансы. Заранее заявленные чтения и обсуждения, отчасти и перформансы проходили на так называемых семинарах у нашего товарища Алика Чачко, где-то с конца 70-х. Затеяли это предприятие Миша Шейнкер и Борис Гройс. На тех встречах была четкая трехчастная структура. Сначала – чтение или показ работ каких-то художников: Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Олега Васильева, Ивана Чуйкова, Франциско Инфанте и т. д. Следующая часть – обсуждение. А затем кто хотел – уходил, кто хотел – оставался, и вечер превращался в чаепитие с обсуждением уже неофициальным. С обсуждением обсуждения.
ГОРАЛИК А «понедельники» были совсем неформальными?
АЙЗЕНБЕРГ Абсолютно. По ходу дела, конечно, и стихи читали, но так – окказионально. Дима Пригов регулярно приходил с новой книжечкой, Рубинштейн читал, Сабуров, Коваль, Гандлевский, да и я тоже. Позже – Кибиров. Разные люди со стороны приходили, тоже читали. Но не припомню, чтобы кто-то заявлялся с такими особенными, горящими глазами: «Ух, что я написал!» Культивировалось некоторое авторское смирение тире самоограничение и самоценность Задушевной Беседы. Но в каком-то смысле нам было далеко до журфиксов Зиника, где демонстрировалась такая техника, такое искусство «высокого разговора», что я и участвовать не пытался – просто сидел с открытым ртом и слушал.
ГОРАЛИК Важно было, что появился ребенок, дочь? Это что-то изменило? Мир изменился?
АЙЗЕНБЕРГ Очень своевременный вопрос. Это было очень важно, но наш мир, пожалуй, не изменило. Мы были совсем молодыми, когда она родилась. Обожали своего ребенка и считали, что этого, в общем, достаточно. А этого явно недостаточно. Сейчас я понимаю: Лиза все-таки чувствовала, что ее рождение ничего принципиально не изменило в нашей жизни. По крайней мере в моей. И это очень плохо для ребенка. Сейчас она живет в Америке. У меня уже внучка есть, ей скоро пятнадцать.
ГОРАЛИК Взрослый человек.
АЙЗЕНБЕРГ Да, взрослый. Ну, она всегда была взрослой. Сразу родился такой человек, который одновременно и ребенок, и все понимает во взрослых отношениях. А если не понимает, то по крайней мере чувствует. Правда, сейчас она вошла в подростковый, абсолютно закрытый возраст. Подростки – это страшная сила.
ГОРАЛИК Дочка присутствовала на ваших встречах – «понедельниках», «четвергах»?
АЙЗЕНБЕРГ Первые годы дичилась, отсиживалась в комнате (а собрания, естественно, проходили на кухне). Но постепенно вошла во вкус, а потом и в дружеский круг – как бы на общих основаниях. Естественно, от одной стадии до другой прошло больше десяти лет.
ГОРАЛИК А проводить в те времена все эти встречи, собирать людей, говорить в открытую – не было страшновато?
АЙЗЕНБЕРГ Вы меня немного удивили этим вопросом. Я как-то об этом не думал. А что, собственно? Почему вы считаете, что встречи с друзьями на кухне должно сопровождать какое-то ощущение опасности?
ГОРАЛИК «Действия, предпринятые скопом». Тем более если в этом пространстве существовал какой-то неофициальный текст, живопись?..
АЙЗЕНБЕРГ Я постараюсь ответить со всей возможной тщательностью, потому что это как раз очень существенный вопрос и в каком-то смысле очень интересный. Во-первых, ощущение опасности сопровождало советского человека всю жизнь. К середине 50-х стало немного легче, но не потому, что ушел страх, а потому, что ушел… смрад что ли. В хрущевское время стал исчезать вполне ощутимый еще в начале 50-х трупный запах, которым был наполнен воздух. Но если человек, живший в советское время, скажет мне, что он ничего не боялся, я ему не очень-то поверю. По моему ощущению, страх – привычная и нормальная составляющая советской жизни. Ее подкладка. С ним сживаешься, как с признанием того, что человек смертен. Понятно, что человек смертен, – и так же понятно, что человек может оказаться в гэбухе, если обстоятельства сложатся не самым благоприятным образом. А они могли сложиться таким вот образом совершенно случайно. Можно было забыть в такси портфель со своей записной книжкой и какой-то не вполне кошерной литературой. Это вполне заурядное происшествие могло привести к довольно серьезным неприятностям. Не обязательно к посадке, но тем не менее. Во-вторых, наши собрания начались в 70-е годы, когда и я, и большинство моих знакомых уже пережили и оставили позади свой первый конкретный страх, первый шок. У меня этот шок случился, кажется, в 69-м году, когда мне один знакомый сказал всего лишь, что его «вызывали вчера, кстати, и про тебя спрашивали». Вот это ощущение, что ты на крючке, на заметке, – оно по первому разу ужасно неуютно. В такой момент приходится перейти в некое новое состояние сознания – и жить с этим. Как-то сжиться с тем, что ты не просто один из двухсот миллионов, – ты один из значительно меньшего числа: из тех, на кого уже есть кое-какое досье. Таким образом, первые нервные, так сказать, ощущения к тому времени уже были позади. Но было и третье обстоятельство: многие из нас во второй половине 70-х уже печатались за границей – а это совсем не то же самое, что собираться по четвергам и пить водку. Моя первая зарубежная публикация была в 74-м году – а это довольно рано – в израильском журнале «Менора». Через год-два – во «Время и мы», потом в «Континенте», «Русской мысли», «Синтаксисе», – в общем, во вполне читаемых изданиях. Четвертое же обстоятельство состояло в том, что все это было сущей чепухой по сравнению с тем, чем занимались настоящие люди – диссиденты, с которыми мы иногда сталкивались. На те же наши «четверги» ходил Сергей Григорьянц, Андрей Твердохлебов заходил перед самым отъездом, а в то время это имя произносилось через дефис с двумя другими: «Сахаров-Солженицын-Твердохлебов», образуя замечательную триаду с такой вполне символической семантикой. Но когда я приходил, например, в гости к Айхенвальдам, то оказывался уже в настоящем диссидентском гнезде, где можно было обнаружить себя сидящим рядом, скажем, с генералом Петром Григоренко. Понятно, что, зная этих людей, видя их жизнь и понимая, с какой реальностью они имеют дело ежедневно, считать себя рисковым парнем из-за того, что ты что-то там болтаешь про советскую власть, было бы просто неадекватно.
ГОРАЛИК Это было соблазн – диссидентство? Это ведь сильные слова – «настоящие люди». Вот если представить себе шкалу, на которой выбираются позиции, – вы описываете свою позицию как человека, который просто «что-то болтает про советскую власть», а их позицию – как крайнюю позицию на шкале. Был ли соблазн двигаться в одну или в другую сторону шкалы?
АЙЗЕНБЕРГ Ну, это был не соблазн все-таки, а понимание того, что если ты себя считаешь приличным человеком, то и вести себя нужно соответствующе. А если ты не ведешь себя соответствующе – ну что ж, тогда перестраивай самоощущение и живи уже не таким ясным соколом. Сообразуйся, короче, с собственными возможностями. В моей ситуации, кстати, тот самый первый нервный шок был связан не со стихами и не с диссидентским общением, а с изучением иврита. Я тогда изучал иврит – по примеру Лени Иоффе. Он был одним из первых здешних учителей иврита, их таких было всего человек семь. Каждый из них обучил свой кружок, те тоже стали учителями иврита, набрали свои кружки – и так далее, в геометрической прогрессии.
ГОРАЛИК Что это тогда значило – «изучать иврит»?
АЙЗЕНБЕРГ В общем случае это, конечно, значило не просто «изучать язык», и тема отъезда там звучала очень сильно. Но для Лени все-таки главным был иврит, он просто влюбился в этот язык. Иврит – это же не просто язык, это особый мир. Понятно, что человек, изучающий иврит, каким-то образом в этот мир входит – иногда на время, иногда навсегда. Я вошел на время, и, к сожалению, короткое.
ГОРАЛИК Это был сугубо лингвистический интерес или все-таки какая-то более сложная история? Ведь в те годы изучение иврита было особым ресурсом, все использовали его для решения самых разных внутренних задач – остранение, решение проблем самоидентификации, поиск корней и многое другое. Лингвистическая задача обычно оказывалась чуть ли не наименее значимой.
АЙЗЕНБЕРГ Нет, я думаю, для меня не наименее, а наиболее значимой. В этом отношении я строго следовал за Леней, своим старшим товарищем (у нас разница в пять лет, и для того возраста это было очень существенно). В его отношениях с ивритом был элемент чуда: не будучи человеком особо лингвистически одаренным, он его выучил поразительно быстро: овладел им в совершенстве в течение одного года – и это не в Израиле, а в Москве. Через год он уже учил других. Это была энергетическая вспышка, человек и язык совпали. При этом его влюбленность в иврит заражала окружающих – по крайней мере она заразила меня, но, как я уже говорил, ненадолго: у меня начался диплом, а диплом в архитектурном институте – это просто невероятное напряжение. В последние недели перед защитой студенты спят по два, три, от силы четыре часа в сутки. Потом родился ребенок, потом Леня уехал и т. д.
ГОРАЛИК Как происходило ваше обучение ивриту?
АЙЗЕНБЕРГ Ну, собирались люди, если не ошибаюсь, два раза в неделю на квартире у одного из членов кружка. Кружок состоял из пяти-семи человек. Существовали отксерокопированные учебники, они назывались «Элеф Милим» – «Тысяча слов». Я учился не у Лени, один из моих учителей был даже уроженцем Израиля – в детстве приехал в СССР вместе с родителями. Уже после окончания моей учебы по некоторым признакам стало ясно, что он еще и сотрудничал с определенными структурами… Впрочем, это было обычной практикой. Так что осведомленность органов о происходящем была вполне детальной.
ГОРАЛИК Каково было каждый день жить с ощущением, что кто-то – не Господь Бог, а некто совсем другой – постоянно смотрит на тебя?
АЙЗЕНБЕРГ Ну, ко всему привыкаешь в конце концов.
ГОРАЛИК Как плотно был ваш «ивритский» кружок связан с «четверговым» кругом?
АЙЗЕНБЕРГ Прямой связи не было вовсе, это совсем разные предприятия. Несколько моих прежних знакомых тоже изучали тогда иврит, они же приходили и на «четверги». Вот и вся связь.
ГОРАЛИК Люди, приходившие на «четверги», мыслили себя как один круг? Это было «мы»?
АЙЗЕНБЕРГ Не «было», а «постепенно становилось». В начале-то это «мы» было довольно расплывчатое: вовсе не «тесный круг». Первое время «четверги» просто соединяли – почти механически – остатки нескольких прежних кружков, к тому времени уже рассеявшихся.
ГОРАЛИК Рассеявшихся в силу чего?
АЙЗЕНБЕРГ Мы тут уже говорили с вами про отъезды. Отъезды, как мне кажется, были очень значительным общественным событием: с одной стороны, они размыкали советскую данность и «нарушали границу», но с другой – разрывали образовавшиеся к концу 60-х – началу 70-х годов устойчивые человеческие связи, начинавшие перерастать в социальное измерение. В тот период происходила какая-то медленная самоорганизация общества – снизу, исподволь, на уровне кружков и кланов. Отъезды приостановили это движение, даже отбросили назад, потому что из каждого кружка они вырвали людей, наиболее социально активных: уезжали именно те, кто вследствие этих своих внутренних свойств, своей активности был центром таких кружков, их объединяющим началом. Именно этим людям было необходимо состояться в том числе и социально, их отъезд был абсолютно логичным. Как абсолютно логичным был и весь этот процесс.
ГОРАЛИК А их «кружки» оставались?
АЙЗЕНБЕРГ Именно. К середине 70-х это стало как бы «общим местом». Мы оказались в ситуации, когда начальные связи разрушены. А разрушить их было довольно легко – они только начинали складываться, едва-едва. Самоорганизация общества искала для себя другие, неофициальные основания, и только в конце 60-х возникавшие связи стали превращаться в какие-то уплотнения с намеком на структуру. А с середины 70-х тот же процесс пошел как бы по второму кругу. «Четверги» были такой кухонной проекцией этого общего процесса: люди из разных компаний соединялись в какую-то новую компанию. Что, разумеется, происходило не без осложнений.
ГОРАЛИК Какими были эти смыкающиеся круги, кто тогда стал основой «четвергов»?
АЙЗЕНБЕРГ Существовала архитектурная компания моих сокурсников; существовал бывший мехматский круг: Иоффе уехал, но остался Сабуров, и еще несколько человек из этого круга уже стали к тому времени моими друзьями. Уехал Зиник, а у него был свой очень широкий круг знакомых, но человека, который бы их собирал вместе, уже не было. Это три основные составляющие, но было еще очень много людей – наших знакомых или знакомых наших друзей. Они стали сходиться и как-то притираться друг к другу – при том, что происходили из абсолютно разных «систем», у них были разные способы существования. Ну вот как-то так, постепенно. А с начала 80-х в это уже слегка устоявшееся сообщество стали вливаться мои новые литературные знакомые. Первым появился Пригов, он стал приходить к нам в конце 70-х и еще застал Асаркана. А Лева Рубинштейн, Гандлевский и другие – это начало 80-х. С Кибировым мы все познакомились в 85-м году, это уже новейшая история.
ГОРАЛИК До какого момента вы работали реставратором? Как? Где?
АЙЗЕНБЕРГ Я работал реставратором ровно до того момента, когда начал публиковаться и мне стали платить гонорары, – это был год, когда «нас» уже публиковали, но еще платили по прежним советским расценкам.
ГОРАЛИК Это, наверное, восемьдесят…
АЙЗЕНБЕРГ…девятый. (Но кто-то из наших начал публиковаться на год-полтора раньше.) За публикацию, например, в сборнике «Молодая поэзия – 89» я получил больше полутора тысяч рублей. То есть свой восьмимесячный заработок, потому что на работе я получал примерно двести рублей в месяц. Не то чтобы я предполагал, что так всегда и будет – никогда этого не предполагал, – но по крайней мере появилось какое-то, пусть иллюзорное, основание для ухода с работы.
ГОРАЛИК Усталость?
АЙЗЕНБЕРГ Очень сильная.
ГОРАЛИК Чем вы в качестве реставратора занимались?
АЙЗЕНБЕРГ Я архитектор-реставратор. Работал в областной организации, которая называлась «Мособлстройреставрация», занимался консервацией нескольких церквей и реставрацией нескольких усадеб в Московской области – всего четырех, поскольку реставрация – дело очень долгое. Например, основной мой объект – усадьба «Ивановское» на окраине Подольска: я приступил к ее реставрации в 73-м году, а в 89-м, когда я уходил, реставрация все еще продолжалась. Правда, там огромный комплекс: главный дом, флигели, хозяйственные строения, еще кое-что.
ГОРАЛИК Вам все это было интересно?
АЙЗЕНБЕРГ Вначале мне было очень интересно. Ну и еще, знаете, ведь наше поколение считается «поколением дворников и сторожей», да? Так вот, реставратор – это отчасти сторож. Он сторожит сохранность своего объекта.
ГОРАЛИК И оказывается отстоящей от действительности фигурой – как того и хотелось дворникам и сторожам?
АЙЗЕНБЕРГ А кроме того, на этой службе гораздо меньше социального напряжения, карьерных конфликтов. Даже климат внутри организации совершенно особый. Все праздники начинались с того, что первым вставал Аркаша Молчанов, наш искусствовед, про которого все знали, что он дворянин и монархист, поднимал рюмку и говорил: «За реставрацию!» Все с большим энтузиазмом выпивали, а секретарь партийной организации смущенно улыбался. А что возразишь? Ничего. Своих убеждений, как правило антисоветских, многие особенно не скрывали, и именно эти люди задавали тон.
ГОРАЛИК То есть система была цельной: всюду, где можно было выбрать и построить свой круг, он был вами выбран и построен?
АЙЗЕНБЕРГ Похоже на то.
ГОРАЛИК Как, должно быть, тяжело было поддерживать это, постоянно прилагать фоновое усилие по отстраиванию от остальной реальности.
АЙЗЕНБЕРГ Надо признаться, что на это уходило довольно много сил. Можно, конечно, спросить: а зачем это было надо?
ГОРАЛИК А ответ не очевиден?
АЙЗЕНБЕРГ Для меня очевиден. Я думаю, что эта энергия сопротивления на самом деле что-то подхватывала, захватывала и что-то шло вслед за ней, какие-то другие вещи. Это опять разговор о 70-х, об этом стоячем времени, когда, казалось бы, ничего не происходило. А на мой взгляд, как раз тогда происходило – и произошло – все самое главное. Начало нового времени – это как раз 70-е годы. Но они инкапсулированы, замкнуты внутри себя – не идеологически, а скорее эмоционально. Не было ощущения, что когда-нибудь что-то изменится. Казалось, что это навсегда. И в результате очень проявлено, очень заметно то, что было до или после, а сами 70-е словно взяты в скобки. Но ведь все, что существовало после, на самом деле – следствие 70-х. Только они, эти следствия, вышли в другие времена под маской 60-х или 80-х. Под такой маской, которая уже приросла к лицу и не могла быть сброшена, поэтому у тех вещей, которые стали происходить в 80-е годы, не было необходимого этапа «символической подготовки».
ГОРАЛИК Как с американскими 50-ми, в моем понимании: без этого стоячего, как принято считать, времени было бы невозможно все, что произошло потом; эти годы надо было пережить. Период отчаяния.
АЙЗЕНБЕРГ И 70-е были периодом отчаяния. Загнанное внутрь отчаяние было фоновым состоянием и общества, и каждого отдельного его члена, а особенно – тех людей, которых мы с вами знаем. Но мне кажется, что отчаяние – главный побудитель инноваций. Человека невозможно вытащить в «новое», если у него еще есть возможность существовать в «старом», привычном, комфортном. Само отчаяние не есть «новое», но «новое» наступает после отчаяния. Именно после. «Новое» – это выход за пределы отчаяния.
ГОРАЛИК Как полезна долгая болезнь.
АЙЗЕНБЕРГ Совершенно верно.
ГОРАЛИК Что происходило посередине – в начале 80-х, в первой половине – и с вами лично, и с кругом?
АЙЗЕНБЕРГ Знаете, мне довольно сложно это описать, потому что я не вижу это время отдельным периодом, а только каким-то промежутком. Его начало заслоняют и теснят 70-е годы, а конец – 90-е. Для меня очень важен разговор не про 80-е, а про 70-е годы и про то, чем была жизнь в эти «темные времена». На этот счет у меня есть кое-какие соображения, хотя они почему-то только сейчас начинают всплывать. 70-е – они ведь не только 70-е: они очень длинные. Начались в конце 60-х, а закончились году в 82-м, для кого-то и позже. Кто-то стал ощущать их конец раньше, кто-то позже.
ГОРАЛИК Каким был маркер? Что являлось приметой конца 70-х?
АЙЗЕНБЕРГ Ощущение, что дальше так продолжаться не может и что-то начинает обрушиваться. Плотное, неподвижное время с огромным статическим давлением начинает прореживаться воздухом, проникающим из-за каких-то неведомых границ. Массив стоячего времени стал расходиться прямо у нас на глазах. Все ждали, что это кончится какой-нибудь катастрофой, закручиванием гаек, новым сталинизмом, – а окончилось иначе. К нашему счастью. Пока. Но все-таки мы вырвали себе каким-то образом лет пятнадцать – или сколько там?
ГОРАЛИК Почти двадцать.
АЙЗЕНБЕРГ Почти двадцать, да. Двадцать лет – это неплохой результат, целая небольшая жизнь. Ну а что касается рубежа 70–80-х, то лично со мной в литературном плане все было как-то не гладко. Эти несколько лет я вспоминаю как состояние полного литературного одиночества. Предыдущие связи отпали, а новое ощущение общего дела не появлялось.
ГОРАЛИК Когда человек говорит «я один», он может быть один в комнате, или один в квартире, или один во всем доме, в городе, в мире. Когда вы говорите «литературное одиночество», это касается сугубо социальной структуры или того, что вы «один» в плане текстов, что никто не делает ничего в том же роде, с тем же вектором?
АЙЗЕНБЕРГ Основной план здесь, конечно, план текстов.
ГОРАЛИК Это ощущение потом прошло?
АЙЗЕНБЕРГ Пожалуй, не прошло, в каком-то смысле оно даже усиливается, но его стало сопровождать ощущение, что те, кого я знаю и ценю, хоть и бегут в разные стороны, но все же движутся в одном направлении.
ГОРАЛИК Кто тогда «нашелся»? Кто дал это ощущение?
АЙЗЕНБЕРГ Тут, знаете ли, есть какое-то загадочное хронологическое отставание. Все «нашедшиеся» фактически нашлись значительно раньше: уже во второй половине 70-х я знал стихи Сатуновского, был знаком с Некрасовым, Рубинштейном, Гандлевским. Их стиховая работа меня очень интриговала, но я ощущал ее как откровенно «другое». Пример Рубинштейна, наверное, самый показательный. Я знаю Леву с 74-го года, но его вещи мне тогда казались какой-то экзотической практикой, не имеющей ко мне ровно никакого отношения. Прошло много лет, пока я сообразил, что нет там особой экзотики и в нашей работе даже есть много общего, только происходит все на разных площадках.
ГОРАЛИК Что оказалось общим?
АЙЗЕНБЕРГ Работа с интонацией. Да, думаю, что сформулировал корректно: работа с интонацией.
ГОРАЛИК Но вот началась середина 80-х – что тогда происходило?
АЙЗЕНБЕРГ Это уже история вполне конкретная, и рассказывать ее легко, потому что в ней есть фактичность. Особенность всей предыдущей истории в том, что никаких «фактов» как будто и не было – одни состояния, настроения, схождения, расхождения… Облачная история. Социальная биология на уровне мхов и лишайников. А с 86-го началась как бы нормальная человеческая история. В том же году образовался знаменитый клуб «Поэзия», в который мы потихонечку влились. Не сразу, не без колебаний, но Дима Пригов – самый из нас общественно активный – приводил какие-то убедительные доводы, и мы согласились.
ГОРАЛИК Можно подробнее про «мы» и про «потихонечку»?
АЙЗЕНБЕРГ Первым туда стал ходить Дима, потом Лева, потом, кажется, Сережа Гандлевский, потом, наверное, я и где-то в то же время Тимур. Впрочем, мое «мы» ими не ограничивается, и уже с ранней юности оно включало, например, Женю Сабурова и Витю Коваля (с которым я дружу с восемнадцати лет). Но как раз в это время Жене было уже не до клуба «Поэзия», если вы в курсе дела. В 90-м, кажется, он вошел в состав Правительства РФ, а в 91-м стал там вице-премьером и министром экономики, ни больше, ни меньше.
ГОРАЛИК Это было очень странно?
АЙЗЕНБЕРГ Это было очень, очень странно!
ГОРАЛИК Как осмыслялось время, в котором Женя мог стать министром экономики?
АЙЗЕНБЕРГ Как интересное такое время – и тревожное, и увлекательное. Как очень «новое». Тогда просто лихорадочно искали новых людей. Женя был обычным завсектором в научном институте и в этом качестве написал какую-то выдающуюся докладную записку по поводу реорганизации чего-то. И нате вам – через год уже министр.
ГОРАЛИК Что это время значило изнутри? Что это значило для текстов? Что это значило для поэта?
АЙЗЕНБЕРГ Для поэта и для текстов – это все-таки разные вещи. Было всего несколько авторов, для которых это время «выхода на поверхность» оказалось еще и замечательно плодотворным. Тимур Кибиров – в первую очередь. Насчет остальных не уверен. Впрочем, у Левы Рубинштейна, мне кажется, лучшие тексты – как раз конца 80-х – начала 90-х. У меня, наверное, нет. Приходилось совершать какие-то новые, непривычные действия, это забирало много сил и как будто оттесняло в сторону собственно стихи.
ГОРАЛИК Какими оказались эти «непривычные действия»? Вдруг пошли публикации, чтения – как это все происходило?
АЙЗЕНБЕРГ Ну, например: иду я вечером по Новому Арбату и слышу из громкоговорителей, что ли, ритмическое скандирование, перекрывающее все остальные шумы. И понимаю, что это Дима Пригов читает свои произведения на весь Новый Арбат. А я первый раз читал публично в том самом клубе «Поэзия» – это, кажется, январь 87-го года. Второй раз – в клубе «Московское время», который тогда базировался в ресторане «Метелица» на Новом Арбате. Представьте: большой ресторанный зал (не главный, а второй, дополнительный, но все равно большой). Ощущение ресторана, шалмана, и народу пришло довольно много. Я точно помню, когда это было: десятого февраля 87-го. Это день рождения Семы Файбисовича, который ради такого случая перенес его на другое число.
ГОРАЛИК Сольное чтение?
АЙЗЕНБЕРГ Вечера в «Московском времени» были организованы таким образом: в первом отделении какой-то один автор читает свои стихи, а второе отделение – так или иначе музыкальное. На первом по счету вечере читал Гандлевский, член объединения, а второй вечер благородные устроители отдали человеку со стороны – то есть мне. Во втором, музыкальном отделении Андрей Липский пел песни на стихи Вити Коваля.
ГОРАЛИК Ничего себе.
АЙЗЕНБЕРГ Это было вполне ничего себе. А потом уже началась история с «Альманахом», «Понедельником» и «Личным делом» – вполне занятная.
ГОРАЛИК Давайте сначала про «Понедельник».
АЙЗЕНБЕРГ Это, в сущности, одна история из нескольких, что ли, глав, и там одно с другим связано. Сразу скажу, что на первых порах никто из нас не предполагал, что мы представляем собой какую-то общность, а тем более – литературную группу. Каждый из нас пришел со своей стороны, со своим бэкграундом, абсолютно разным: как будто люди сошлись с четырех сторон света. В одно время с Тимуром Кибировым в нашем кругу появился – на какое-то время – Миша Сухотин, а его приятель, художник Никита Алексеев, в это время жил в Париже и общался там с Марией Васильевной Розановой. Никита предложил Мише составить книгу стихов для издания в «Синтаксисе». Миша позвал для компании Тимура, чтобы это был сборник двух авторов; Тимур, в свою очередь, предложил включить Рубинштейна. Бабка за дедку, дедка за репку… Лева Рубинштейн пригласил Диму Пригова, и уже все они вместе решили еще и меня включить в это предприятие. Я сказал, что обязательно надо Некрасова. В то время у Димы и Левы отношения с Некрасовым уже были испорчены, но они, конечно, согласились. Не согласился как раз Некрасов – очень резко и категорически. Впоследствии Всеволод Николаевич этот эпизод забыл, как-то вытеснил – теперь у него в голове все иначе раскладывается. Короче, мы сделали книжку на пятерых. Называлась она «Задушевная беседа» и была отправлена в Париж, где и пролежала несколько лет без всякого движения. Но в результате всех этих маневров мы поняли, что все-таки можем стать авторами общей книжки. А еще поняли, что нам интереснее выступать друг с другом, а не с чужими людьми, которых кто-то сводит с нами как литературно близких. И когда в клубе «Поэзия» начальство дало команду всем разбиться на какие-то группы, мы организовали свою группу, которая называлась уже не «Задушевная беседа», а «Живой уголок» (это все придумывал Рубинштейн, большой мастер всяких наименований). В группу вошли, кроме нас пятерых, Сережа Гандлевский и Витя Санчук. В том же составе мы и сделали альманах «Понедельник». От составления книги до ее выхода в то время проходило не меньше трех лет. Соответственно, мы составили эту книжку году в 87-м, а вышла она в 90-м.
ГОРАЛИК То есть вышла она в совсем другой мир?
АЙЗЕНБЕРГ Ив совсем другое время: уже группы такой не было. А история с «Альманахом» и «Личным делом» началась осенью 87-го года. Она связана с театральной средой и с кругом, условно говоря, журнала «Театр», в котором я, кстати, печатался одно время – в середине 70-х.
ГОРАЛИК В каком качестве?
АЙЗЕНБЕРГ В качестве автора, пишущего про декорационное искусство, про театральных художников и т. д. От того времени осталась дружба с театральным критиком и драматургом Валерой Семеновским и его женой Алей. В 1987 году жизнь была очень бурная, а театральная жизнь в особенности. Были, например, созданы при СТД так называемые театральные мастерские, взявшие на себя роль коллективного продюсера. Они сами приглашали режиссеров, искали актеров, предоставляли театральную площадку, то есть создавали – и очень успешно – какую-то совершенно новую театральную структуру. Семеновский был одним из организаторов этих мастерских. Однажды мы пришли к ним в гости, и он рассказал нам про мастерские, про их планы, про все это замечательное кипение. Рассказывал очень долго, но потом все же стал расспрашивать и про нашу жизнь, в частности про выступления. Я ответил, что все ничего, нормально, выступаем иногда. «А с кем?» – «Ну, вот там с Димой, с Левой, Сережей. С Тимуром еще».
ГОРАЛИК Авто время не было названия у вас?
АЙЗЕНБЕРГ Не было, да и ни к чему. «И часто выступаете?» – интересуется Валера. «Да нет, изредка». И тут вдруг очень неожиданно вступает Алена (у нее случаются такие совсем неожиданные выступления, при том что деловитость девушке ну совсем не свойственна): «А чем это не спектакль для мастерских?» Я смотрю на жену испепеляющим взглядом, а на Валеру – извиняющимся, но замечаю, что у него на лице какое-то странное ошеломленное выражение, он как-то «завис»: несколько секунд глядит в пустоту, потом говорит: «А ведь действительно! Я поговорю с ребятами». Все произошло как бы само собой. «Ребята» отреагировали на удивление бурно, и все завертелось, как в кино. Уже через месяц мы подписали с объединением настоящий договор на настоящий спектакль. Ну, какой спектакль? – просто коллективное чтение: выход на сцену одного за другим семи поэтов и одного человека с гитарой – Андрея Липского. И все же было в этом что-то от театрального действия. Мы назвали его «Альманах». Семь авторов – это Гандлевский, Айзенберг, Пригов, Кибиров, Денис Новиков, Коваль, Рубинштейн (я перечисляю в порядке выхода на сцену). И с весны 88-го года началась у нас какая-то сумасшедшая жизнь, нам даже платили деньги – небольшие, но все-таки «деньги за выступление». За эти деньги мы должны были примерно раз в две недели читать на разных площадках. Самое необычное чтение, всем запомнившееся, состоялось в Обществе слепых.
ГОРАЛИК Люди, очень восприимчивые к слову, особенно к интонации…
АЙЗЕНБЕРГ Да там слепых-то почти не было. Были какие-то страшноватые бабки, которые все это слушали очень враждебно. Но в основном мы выступали на разных театральных площадках: в малом зале Театра Пушкина, потом в Клубе Зуева. Иногда куда-то выезжали. Регулярные выступления продолжались около трех лет, а потом еще года два – эпизодические. Году к 92-му «Альманах» уже стал предприятием расплывчатым, почти иллюзорным. Потом и «Театральные мастерские» прекратили свое существование.
ГОРАЛИК Это устная часть «Альманаха». А книжная?
АЙЗЕНБЕРГ Театральное издательство при обществе «Союзтеатр» усилиями того же Семеновского – выпустило наш общий сборник под названием «Личное дело» с какими-то статьями и с репродукциями социально близких художников: Кабакова, Булатова, Пивоварова, Гриши Брускина и других. Сборник вышел в 91-м году тиражом тридцать тысяч экземпляров. Вышел с годовым опозданием: должен был выйти в 90-м. И если бы он вышел в 90-м, то точно бы сразу разошелся. Но все равно это была книжка, которую «все прочли».
ГОРАЛИК 91-й, насколько я могу понять, был уже годом некоторого пресыщения жизнью.
АЙЗЕНБЕРГ И еще какого! В том году и произошло обвальное падение тиражей всех журналов – с миллионов до десятков тысяч.
ГОРАЛИК Как менялось самоощущение в этот очень короткий срок, когда вы вдруг из подпольного поэта, считающего себя подпольным поэтом «навсегда», превратились в поэта в социальном смысле слова – общественно значимую, публичную фигуру?
АЙЗЕНБЕРГ Вот уж какой фигурой я никогда себя не ощущал и не ощущаю. Все-таки в 88-м, в главном «альманашном» году, мне исполнилось сорок лет. Отношения между тобой и миром в таком возрасте кардинально уже не меняются. И для меня, в сущности, мало что изменилось, кроме некоторого расширения круга читателей. Я понимаю, что этот круг расширился, но поскольку привык всех своих читателей знать в лицо, то в существование читателей, лично мне не известных, я как-то не могу всерьез поверить. Я знаю, что они есть, но не знаю, сколько их, и в любом случае это величина для меня отчасти мнимая.
ГОРАЛИК Наверное, было огромное чувство приобретения от этой смены эпох – а вот чувство потери было? Я имею в виду не ностальгию по Советскому Союзу, а совсем другую потерю.
АЙЗЕНБЕРГ Чувство потери стало возникать постепенно – не в это время, а уже к середине 90-х годов, когда я почувствовал, что мы не только приобрели, но и потеряли, причем потеряли очень многое. Потеряли какую-то круговую связь, чувство общего ковчега, что ли. Но это стало очевидно очень, очень не сразу.
ГОРАЛИК Это братство было связано со временем? Могло существовать только в определенном времени?
АЙЗЕНБЕРГ Вероятно, как всякое «окопное братство». Это было – как бы сказать? – объединение людей, являющихся друг для друга и большим почти родственным кругом, и маленьким союзом писателей. Когда все это перешло в общее социальное пространство, отпала необходимость круговой обороны. Что-то я сегодня ужасно косноязычен, прошу меня извинить.
ГОРАЛИК Насколько сильно это маленькое братство было изолировано от большого мира? Рукописи вывозились за границу?
АЙЗЕНБЕРГ У людей, уезжающих из страны в 70-е – начале 80-х, были свои способы вывозить рукописи. Если отъезжающий был не очень трусливым – а точнее, довольно смелым человеком, – он мог что-то передать в голландское посольство, которое тогда было представительством Израиля. Так сделал, например, Зиник: отнес в голландское посольство целый чемодан рукописей. Это был серьезный поступок – вполне рискованный.
ГОРАЛИК Что в этом чемодане было?
АЙЗЕНБЕРГ Много чего там было. В частности, несколько рукописей Павла Улитина, которые Зиник таким образом вывез из страны. Но это проза, то есть довольно объемистые сочинения. А со стихами все было значительно проще, никаких чемоданов не требовалось. Свои стихи я просто записывал подряд, без строчной разбивки, в письмах Лене Иоффе.
ГОРАЛИК Интересно, каково было перлюстраторам их читать.
АЙЗЕНБЕРГ Я думаю, для них что текст этих писем, что текст этих стихов был приблизительно одной и той же темной и несусветной белибердой, разбираться в которой незачем.
ГОРАЛИК Просто.
АЙЗЕНБЕРГ Да. Но иногда требовались усилия куда более серьезные – в тех случаях, когда не работал ни первый метод, ни второй. Тогда уже передавали тексты через знакомых журналистов, через иностранцев, которые всегда как-то присутствовали в нашем окружении. Оговорюсь, что это чья-то практика, не моя.
ГОРАЛИК Попробуем вернуться от темы прошлого к теме настоящего?
АЙЗЕНБЕРГ Вы знаете, вот какая странность. Разговаривая с вами, я заметил, что новейший период – это история, состоящая из «историй». И поэтому она как будто вполне проявлена, у нее нет теневых областей. Это, разумеется, иллюзия, но вполне устойчивая. И мне это, признаться, как-то не очень – не очень интересно. Мне интересна подводная часть моей и нашей истории – прошлое.
ГОРАЛИК Тогда расскажите про вашу семью – до вас.
АЙЗЕНБЕРГ Вот об этом я все последние годы и думаю: «А что, собственно, я могу рассказать про мою семью? Какие могу найти слова?» Про своих родителей я что-то знаю, что-то могу рассказать про бабушку и дедушку с материнской стороны, вместе с которыми жил до четырнадцати лет. А вот про бабушку с отцовской стороны почти ничего, она очень рано умерла. Хотя я хорошо ее помню и ее смерть явилась для меня тем озарением, которое в детстве посещает каждого: что люди смертны. Своего прадеда я видел один раз, еще в каком-то полусознательном возрасте, и единственное, что про него помню, – что он научил меня разбивать яйцо. Вероятно, мне было года два, потому что этим сложным искусством люди овладевают в довольно раннем возрасте, а я все-таки не был полным дебилом. Дед с отцовской стороны умер до моего рождения, а прадед был расстрелян в войну вместе с еще семнадцатью моими дальними родственниками в городе Шепетовка, где он был раввином. Но все, что за этими пределами, – очень смутная история. Пожалуй, уже исчезнувшая.
АЙЗЕНБЕРГ В смысле – разговорной «пластинки»?
ГОРАЛИК Обычно вопрос о семье – это один из тех вопросов, на которые начинают отвечать не задумываясь, прямым заученным текстом.
АЙЗЕНБЕРГ Именно разговорных «пластинок» у меня нет вообще, в принципе. Когда я чувствую: «О! Здесь я уже знаю, как говорить!», просто начинаю пересказывать какой-то свой письменный текст. Это очень затрудняет мое публичное общение, потому что ответ на любой вопрос я начинаю обдумывать как в первый раз.
ГОРАЛИК Должно быть, сложно так жить. «Пластинка» же возникает ровно для того, чтобы о чем-то не думать.
АЙЗЕНБЕРГ Но ведь не бывает «тех же» вопросов: тот же вопрос, заданный в новой ситуации, – это новый вопрос. И я действительно не знаю, что вам ответить. Семья была большая, с одной стороны – еврейская, с другой стороны – советская, вероятно, эта двойственность и сбивает с толку. Связного рассказа не получается, потому что не было связности в истории семьи. Как и во всей советской истории. Непригодна эта вещь, советская история, для связного рассказа.
ГОРАЛИК Потому что противоречивая (в плохом смысле слова)?
АЙЗЕНБЕРГ Не просто противоречивая, а в первую очередь не имеющая языка. Язык гибкий и разработанный – это язык последовательный: прошедший след в след за той историей, которая уже стала культурой. А советская история – это напластование событий, так и не ставших исторической, культурной памятью. Как-то так получается, что без большой истории нет и истории малой, семейной. Кстати, про разговорные пластинки: в середине 60-х очень вошли в моду (отчасти в связи с Петром Ионовичем Якиром) расстрелянные командармы: Тухачевский, Якир, Уборевич. Стали на время какими-то легендарными фигурами. А мой дед их всех видел. И я все к нему приставал, чтобы он про них рассказал. Он не отказывался, но рассказывал всегда одно и то же, то есть включалась «пластинка» – но очень-очень маленькая, на несколько оборотов: «Тухачевский! О! это был большой барин! Он и держал себя так, и подкладка, знаешь, у него была барская: все ходили в одних и тех же шинелях, но его была на подкладке из красного атласа!» Ничего, кроме этой подкладки, он не мог вспомнить. И я даже знаю почему: потому что очень многих сажали за длинный язык. И человек сам себе его укорачивал, совершенно инстинктивно. Заодно укорачивал и память – чтоб, не дай бог, не вспомнить лишнего. (Кроме того, есть травмы такой силы, что сознание добровольно выбирает амнезию.) А потом люди стали просто рождаться без языка и без памяти. И когда не такие пуганые поколения пришли в мир и попытались в нем оглядеться – они обнаружили, что у этого мира нет никакого языка. Его нужно просто придумывать заново.
ГОРАЛИК Когда-то я общалась со случайным знакомым, в разговоре с которым всегда чувствовалось, что он очень странно говорит – как будто выучил язык искусственно. Да и язык этот был странный – образы странные, все странное. Я удивлялась, пока не выяснилось, что он в детстве считался тяжелым аутистом и преодолел это огромными усилиями своими и своих родителей. Для этого человека речь была работой, и ни для одной темы в мире у него не было «готового» языка. Эффект очень сильный.
АЙЗЕНБЕРГ Мне это очень понятно, потому что и для меня речь – это всегда некоторая работа.
ГОРАЛИК Речь или высказывание?
АЙЗЕНБЕРГ Речь – как следствие заикания, высказывание – как следствие того, что ты в основном молчишь и у тебя нет привычки разговаривать, болтать – нет привычки автоматически класть мысли на язык.
ГОРАЛИК Как это сочетается с работой поэта?
АЙЗЕНБЕРГ Я думаю, самым непосредственным образом.
ГОРАЛИК Как устроена ваша связь с бытовым миром, с бытом вообще? Я имею в виду – вот есть живой человек, который живет своей повседневной жизнью и часть этого человека – поэт, который пытается эту жизнь осмыслять. Как это синтезируется, как устроено у вас?
АЙЗЕНБЕРГ Сложный вопрос. Я, пожалуй, прицеплюсь к слову «осмыслять». Наверное, мое рядовое писание текстов как процесс является не собственно писанием, а записыванием. Я что-то записываю. Записываю какие-то «мысли», не являясь при этом ни философом, ни мыслителем-специалистом, но тем не менее записываю зачем-то, не очень знаю зачем. Эти «мысли» являются, да, реакцией на изменение реальности, на ее новые ракурсы. Но в стихах все происходит иначе. Это два совершенно разных пространства, которым желательно даже никак не соприкасаться – не то что пересекаться.
АЙЗЕНБЕРГ При моем отношении к стихам это получается автоматически, потому что стихи для меня – не результат «осмысления» чего бы то ни было.
ГОРАЛИК Тогда они – что? Проговаривание?
АЙЗЕНБЕРГ Я бы даже не сказал «проговаривание». Возникновение речи. От возникновения речи до осмысления такая огромная дистанция… Здесь я – один человек, а там – совсем другой. Стихи не мыслят, а наводят на мысль. Стихи – это попытка что-то сказать до языка, они – то, что еще только станет языком. Даже не так: это то, что станет мыслью, а уже мысль потом станет языком. Прыжок через пропасть в два отталкивания (так Черчилль сказал про Хрущева – мол, тот пытается перепрыгнуть пропасть в два приема, оттолкнувшись от пустоты). Вот это и есть, мне кажется, суть стиховой работы: перепрыгнуть пропасть в два толчка, когда второй раз отталкиваешься от пустоты.
ГОРАЛИК Поразительно, потому что я вдруг поняла, что вы описываете процесс рефлексии, то есть преобразования чистой эмоции в осмысление, в рациональную мысль.
АЙЗЕНБЕРГ Ровно это.
ГОРАЛИК И он происходит, конечно, в два толчка, из которых один делается в пустоте.
АЙЗЕНБЕРГ А про связь с бытовым миром – ну есть же какие-то прививки и привычки, я же не первый день живу на этом свете.
ГОРАЛИК В ваших текстах наблюдение за миром ведется не с высоты птичьего полета, а примерно с нижней ветки дерева. Вернее, даже не так: дистанция между автором и объектом оказывается достаточно большой в начале текста, но в какой-то момент полностью схлопывается, читатель оказывается с объектом носом к носу. Вами так всегда весь мир рассматривается или это присутствует только в текстах?
АЙЗЕНБЕРГ Я думаю, что только в текстах. Это наиболее продуктивная для меня методика – скоростного сближения. Собственно, эта скорость и является событием стиха.
ГОРАЛИК Но для того чтобы ее набирать, надо, наверное, большую часть времени проводить где-то в районе нижних веток?
АЙЗЕНБЕРГ Разве? Я думаю, из такой позиции никакой скорости не наберешь. Но вы вынуждаете меня к каким-то величественным высказываниям, от которых мне потом будет не по себе.
ГОРАЛИК В текстах, в историях, которые вы рассказываете, вы при этом ни в коем случае не находитесь в позиции наблюдателя. Мне все время видится некая картинка: вот, в любой компании умненьких детей, какими мы все были, всегда есть ребенок, который заговаривает последним. Он не то чтобы находится в над-позиции или в отдельной позиции – он просто дольше других думает, берет на обдумывание больше времени. И в результате его высказывание странным образом получает особый вес. Читая ваши тексты, слушая то, что вы рассказываете – в том числе про общение со своим кругом, – я все время думаю об этом ребенке, который заговаривает последним. Так вот, он и стоит всегда слегка поодаль. Это важно: дистанция вообще?
АЙЗЕНБЕРГ Она важна для меня, это моя дистанция. И это именно моя ситуация и моя позиция, но я не уверен, что она выбрана добровольно, а не просто «так случилась». А впрочем, мне всю жизнь хотелось быть человеком, владеющим шапкой-невидимкой.
ГОРАЛИК Этому можно научиться? Это получается когда-нибудь?
АЙЗЕНБЕРГ Да, иногда получается, но только иногда.
ГОРАЛИК Но нам никто никогда не рассказывал про шапку-невидимку, что она в то же время не является шапкой-молчанкой. Тебя-то никто не видит, но каждый момент ты решаешь, нужно ли ее снять. Получается, что на ее ношение тоже уходит много сил. События-то идут, но не сквозь человека в шапке-невидимке, а рядом с ним. Но, наверное, для поэта это вполне может быть способом в них участвовать.
АЙЗЕНБЕРГ Вот ровно таким образом я и могу в них участвовать.
...
Осень 2006 года
Сергей Завьялов
...
Завьялов Сергей Александрович (р. 1958, Царское Село). Окончил классическое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета. В 1988–2004 годах преподавал древнегреческий и латинский языки. Переводил с литовского, финского, древнегреческого. В 2004 году эмигрировал в Финляндию. С 2011 года живет в Швейцарии. Член русского и финского ПЕН-клубов с 2005 года.
ГОРАЛИК Расскажите, пожалуйста, про семью до вас.
ЗАВЬЯЛОВ О, это очень сложно.
ГОРАЛИК Они петербуржцы?
ЗАВЬЯЛОВ Нет, совсем нет. Семья моего отца переехала из Мордовии в 20-е годы в Ленинград. Другое дело, что они уже в самой Мордовии – это была большая семья и, на мой взгляд, интересная – переехали из деревни в город еще в середине XIX века. Отсюда и фамилия, потому что таких фамилий вообще-то среди мордвы не бывает. Мордовские фамилии обычно бывают, так сказать, репрессивные, с уничижительным суффиксом. Образованы они либо от христианских имен: Петрушкин, Алешкин, либо происходят от имен языческих: Кемайкин, Кудашкин. Так вот, мои родственники перебрались в город еще в середине XIX века, то есть, в сущности, они с социальной точки зрения и не совсем мордва. Ведь мордва – это крестьяне. Понятно, что из деревни можно было выбраться, только сделав экономическую карьеру, что и удалось моему прапрадедушке, но забавно, что уже его дети не пошли по этой линии, а превратились в каких-то мелких чиновников, что-то вроде советской интеллигенции. Произошла, так сказать, конвертация капитала. И вот как раз накануне революции мой прадедушка был всего лишь заведующим уездным отделением какой-то, говоря советским языком, конторы. Это его оградило от предпринимательства, от чистогана. Нет, по семейным воспоминаниям, они вели тихую домашнюю жизнь, учили детей, купили фортепиано. Следы всего этого я застал, правда, прадедушка и дедушка уже умерли, но прабабушка была жива – ей было под девяносто, – и братья и сестры моего дедушки были живы. Все они были людьми городского типа, им нравилась классическая музыка, они ходили в филармонию, играли на музыкальных инструментах. Мой дедушка играл на скрипке, его брат – на кларнете. Интеллигенцией я бы их не назвал, потому что интеллигенция критически осмысляет действительность и вступает в интеллектуальный спор с этой действительностью.
После революции им пришлось бежать из Мордовии, потому что конечно же у них был в городе дом, мало того – перед Мировой войной они умудрились купить у какого-то разорившегося помещика имение под дачу. Ну а в Ленинграде им пришлось полностью раствориться в этой жизни. Я хорошо помню эту семью. Когда в возрасте двадцати семи лет я вдруг почувствовал, что нужна какая-то национальная идентичность, я выбрал национальность моих предков, хотя понятно, что мать у меня из совершенно другого мира.
Семья матери – совершенно другая, трагическая история. Ее отец был директор военного завода в Ленинграде, старый большевик. Его расстреляли в 1938-м. А бабушку бросили в лагерь. В общем, все те правила, которые тогда работали, – они сработали. О дедушке мало что известно: до революции окончил военное училище, но не высшее, а среднее, готовившее унтеров, воевал в Первую мировую и Гражданскую. Вроде бы был из крестьянской католической семьи. Родился в городе Динабурге – это теперь Даугавпилс в Латвии. Они себя называли поляками, но поляками в тех местах часто называют белорусов-католиков. Скорее всего, так оно и было. Он был 1892 года рождения. Моя мать родилась, когда ему было уже много лет, она была поздним ребенком. У матери были в детстве и детдом, и ссылка, и сто первый километр. И я как-то рано обо всем этом узнал, у нас это не скрывалось.ГОРАЛИК Родители были диссидентского склада?
ЗАВЬЯЛОВ Нет, диссидентство – это активная позиция, как и интеллигентность – активные жизненные практики. У нас ничего этого не было.
Мой отец учился в одном классе с Арефьевым, Трауготом и Глазуновым в средней художественной школе при Академии художеств, которую потом разогнали (ну, Глазунова, положим, не разогнали). Потом он учился в Училище Штиглица (это уже потом оно стало называться Мухинским).
Но он был совсем не такой, как его товарищи-бунтари. Он вел скромный образ жизни, уйдя в себя, читая книжки по античной литературе. Я благодаря ему принял решение стать филологом-классиком. Он работал каким-то мелким дизайнером в Институте горной химии, и, я бы сказал, увлекался, как-то болезненно увлекался античностью. Так что для меня античность с четырех-пяти лет была чем-то естественным. Ну и потом, мы жили в Пушкине, то есть в Царском Селе, где все эти античные статуи. Хотя, вы знаете, еще есть один поэт моего поколения, который жил в Царском Селе, Валерий Шубинский, но он совсем на меня не похож, так что, наверное, это совсем ничего не значит. Не буду судить.ГОРАЛИК Вы родились в Питере?
ЗАВЬЯЛОВ Нет, я родился в Царском Селе и провел там двенадцать лет. Потом моим родителям дали собственную квартиру, и нам пришлось переехать в Петербург, причем в ужасный новый район.
ГОРАЛИК «Пришлось» – это неожиданное слово. Нехотя уезжали?
ЗАВЬЯЛОВ И да, и нет. Конечно, им хотелось переехать, потому что было тесно жить, много было родственников, но уродливые новостройки, набитый транспорт… Кстати, в детстве я не жил в коммунальной квартире – счастье большое, потому что мое поколение… Я помню, что в моем классе было больше сорока человек, и не думаю, что больше чем у десятерых были отдельные квартиры, и все эти десять человек были детьми офицеров. Военное училище было рядом – Пушкинское военное строительно-техническое училище, – и дети офицеров были всегда чистенькие, девочки с аккуратными бантиками. А другая часть класса – это были дети рабочих, а отчасти и крестьян, потому что несколько человек из нашего класса были из совхоза «Детскосельский». Это были дети, которые в первом классе никак не могли научиться говорить «вы» учителю, которые могли прийти без рубашки, в пиджаке на голое тело, и когда учительница спрашивала: «А где же твоя рубашка?», ответить: «Мамка не выстирала», что-нибудь такое… Так вот, в двенадцать лет мне пришлось переехать в Петербург. Это было для меня довольно тяжелой травмой, потому что новостройка в то время – это ужасные какие-то улицы, на которых нет асфальта, в школу ходили в каких-то сапогах, проваливались в грязь. Потом, видимо, дети, вырванные из привычной среды, как будто сорвались с цепи – хулиганами были.
ГОРАЛИК Школа была районная?
ЗАВЬЯЛОВ Да, в город возить то ли не имели возможности – далеко, то ли не понимали необходимости. Единственное, чему меня в детстве научили, так это, как и моего дедушку, играть на скрипке.
ГОРАЛИК Ну и как?
ЗАВЬЯЛОВ Ну, я окончил музыкальную школу, но не более того.
ГОРАЛИК Каким вы были, когда были маленьким? Как был устроен ваш мир?
ЗАВЬЯЛОВ: Я был такой послушный ребенок, послушный, тихий. Я вообще очень долго не задумывался над своим детством с той точки зрения, которая вам интересна. Для меня было куда важнее – и до сих пор важно – осмыслить эпоху, в которую я рос. Это была эпоха перехода от раннего советского общества к позднему советскому обществу, важнейшие перемены произошли на моих глазах. Например, когда я родился, не было газа в квартирах, а был керосин: приезжала большая старинная машина с фанерной кабиной, выходил человек с горном, дудел в этот горн, и домохозяйки сбегались с бидонами за керосином. Или, например, по нашей Царскосельской дороге ходили паровозы, правда, не в Царское Село – туда уже пустили электрички, – а дальше, за Царское Село, на Новгород. И можно было подойти к паровозу на станции и посмотреть, как он выглядит: огромные такие колеса с поршнями. Я вообще застал отзвуки этого старого сталинского жизненного уклада, эти ужасные коммунальные квартиры, как в стихах Михалкова: «Мы живем в одной квартире, / Все соседи знают нас, / Только мне звонить четыре, / А ему – двенадцать раз». Большая часть моих одноклассников и жили именно в таких квартирах. Так вот, во дворе, где я вырос, два дома стояли напротив друг друга: один – обычный, а второй – от военного училища. (Вскоре после войны мои родственники поменялись на Царское Село и оказались в доме, заселенном офицерами.)
Двор. Это еще старая советская реалия, почти что мифологема: «двор». Так вот, в нем было два дома: в одном жили офицеры, и в этом доме жил я: там были только отдельные квартиры. А в соседнем доме жили рабочие, и там были эти страшные коммуналки по пятнадцать комнат. И я бы сейчас сказал, что это было символично – именно так раннее советское общество и было устроено. Так что для меня до последнего времени страшно важно было осмыслить в своем детстве именно эти вещи, именно они для меня были актуальны. Я все пытался понять эпоху, в которой вырос, потому что паровоз… что – паровоз… На самом деле паровоз был в голове у людей, у кого-то еще работали поршни, у кого-то керогазы горели, а вот у кого-то уже нет, потому что это были уже 60-е годы. И переход к советскому обществу, по которому теперь ностальгируют, только-только начинался, потому что этот развитой социализм брежневский, где у абсолютного большинства рядовых людей были отдельные квартиры, у многих – машины «жигули», какие-то дачки на шести сотках из картона, – это все появилось позже. Хрущев – действительно переходная эпоха. А до этого была совсем другая жизнь: это была жизнь бараков. На территории Царского Села, например, были места, где жили еще в настоящих трущобах: в каких-то сараях, где туалет – это будка, а вода – колонка на улице. И там жили в том числе семьи с детьми. Целые такие города я смутно помню рядом с Донецком, где случайно оказался в 1965 году. Их там называли «шанхаями».
Вообще у меня такой историзм сознания: когда я приезжаю в Россию и вижу бомжа, лежащего в блевотине, мне хочется понять факт его лежания в блевотине исторически и социально, а не с точки зрения психоанализа, не с той точки зрения, что его в детстве плохо сажали на горшок и в результате у него развились неврозы. Кто спорит: второе тоже важно, но так сложилось, что я в этом хуже понимаю.ГОРАЛИК Каким было детство? Вот этот самый двор, например?
ЗАВЬЯЛОВ Мне трудно сказать, потому что у меня не осталось воспоминаний, особенно дурных, о Царском Селе: о терроре хулиганов, например. То есть, грубо говоря, меня в детстве особенно не обижали. Ну, немножко так дразнили за то, что я играю на скрипке. Если меня родители выпускали во двор, то меня не отвергали.
ГОРАЛИК А вас интересовали другие дети?
ЗАВЬЯЛОВ Да, мне очень хотелось иметь возвышенных друзей, я фантазировал. В музыкальную школу ходили только дети офицеров. Вообще Царское Село – странный город. Это не Петербург: там другая структура населения. Во время войны население было депортировано немцами, и мало кто вернулся: многие погибли, кто попал в ссылку. Какой-то был у меня мальчик-одноклассник, у которого объявились родственники в Бельгии: страх исчез, и они написали письмо в каком-то 1967 году, что они живы. Немцы их угнали, и они не вернулись. С другой стороны, в Царском Селе три военных училища и авиаполк. То есть город делился на две части. Пропасть была страшная, и не было середины.
ГОРАЛИК А разделение на классы существовало?
ЗАВЬЯЛОВ Думаю, что да, но я был слишком маленьким, чтобы понимать такие вещи. Вот я помню: у нас в музыкальной школе появился новый мальчик, который мне страшно понравился. Я не исключаю, что это было какое-то гомоэротическое чувство – у детей же, знаете: влюбляешься в человека. У него папа тоже был офицер, а мама хирург. Она так изящно курила – для меня это была такая новость: курящая женщина. Потом еще были какие-то мальчики, которые, знаете, в десять-двенадцать лет серьезные книги читали…
ГОРАЛИК Вы искали для себя такую среду?
ЗАВЬЯЛОВ Да. Но с другой стороны, музыкальная школа – это не двор. Туда дети приходят три раза в неделю на один час и по делу. В группе на сольфеджио или музыкальной литературе сидит десять человек максимум, из них пять – девочки, а в этом возрасте девочки еще не так интересны. Или, скажем, закончился урок у предыдущего ученика, ты перебросишься с ним парой фраз, пока учительница сходит чаю выпьет.
Мне не хватало эмоционального общения, мне хотелось каких-то возвышенных друзей. Их было маловато. Один был замечательный мальчик, он, кстати, не из офицерской семьи: у него не было папы, а его мама была работником музея в Царскосельском дворце. Этот мальчик играл на виолончели. Он прекрасно знал географию, мы с ним соревновались, кто лучше знает географию Африки. А тогда учителя еще плохо ее знали, потому что еще вчера это были Французская Западная Африка или Французская Экваториальная Африка, а сегодня – десятки независимых государств, да еще с новыми названиями столиц, потому что все было переименовано. Это было так интересно.
Да, еще я забыл сказать, что наша музыкальная школа находилась во дворце.ГОРАЛИК Вы добровольно в нее пошли?
ЗАВЬЯЛОВ О да, я очень все это любил. Для меня это был особый мир. Когда меня родители возили в филармонию, для меня это было тем, чем для человека религиозного было посещение церкви. И вообще: другие люди, другие чувства. А там, в обычной школе – эти гопники: день начинается с того, что надо наступить кому-нибудь на ногу. Эти шутки грубые. Меня это ужасно травмировало, я совершенно не мог этого переносить. Причем у нас не было хулиганов в классе, у нас никто никого не терроризировал – но эти грубые нравы… А тут – совершенно другой мир, где иначе разговаривают, иначе движутся. Я чувствовал, что происходит что-то важное. Тогда я, конечно, любил не музыку, а то, что было вокруг музыки, людей, связанных с музыкой. По-настоящему я полюбил музыку года в двадцать два, когда услышал авангардную музыку XX века.
ГОРАЛИК То есть фактически вы не столько хотели заниматься музыкой, сколько быть причастным к этому миру?
ЗАВЬЯЛОВ Может быть, да. Я сам никогда для себя так не формулировал, но вы так сейчас сказали, что я готов согласиться.
ГОРАЛИК В каком возрасте вас отдали в музыкалку?
ЗАВЬЯЛОВ В семь лет, то есть я пошел одновременно и в простую школу, и в музыкальную.
ГОРАЛИК А откуда возникла любовь к языку?
ЗАВЬЯЛОВ К языку? Нет, я язык не любил, и сейчас не люблю. Мало интересовался лингвистикой: для меня это было как-то неактуально. Я сейчас написал статью в «НЛО», где спорю с Бродским по поводу его высказывания, что поэт – диктат языка. Эта система взглядов, которая была разработана французскими интеллектуалами в 50-е годы и была для своего времени прекрасна. Но сегодня – другие проблемы, другие враги. Я считаю, что самое главное – это не воевать со вчерашним врагом, потому что сегодня враг новый. Вот что существенно. А люди, которые продолжают воевать со старыми врагами, как, например, интеллигенция в России – с коммунистами, – это мертвечина. Последнее время так получается, что у меня летом есть возможность кататься под парусом, и интересно, что можно идти против ветра. Это довольно сложно, для этого все время надо перебрасывать парус с левого борта на правый. Так вот, мне кажется, что интеллектуальная история – это и есть такая яхта, которая идет против ветра под парусом, и все время нужно перебрасывать парус, причем вовремя. И, скажем, тот галс, который был в 50-е годы, был важный, был правильный. Но сейчас время другого галса. Когда начинаются сейчас разговоры о диктате языка, мне кажется это смехотворно устаревшим.
ГОРАЛИК Как вы пришли к филологии? Было ли что-то в детстве?
ЗАВЬЯЛОВ Нет, там ничего не было, там были царскосельские парки и т. д. …А потом мы переехали в Петербург, но в Царском Селе продолжали жить мои родственники. А мои родители получили наконец квартиру по реабилитации дедушки. Мы три раза получали жилье по реабилитации жертв репрессий. Последний раз я получил комнату – уже для себя самого – в 82-м году. Так что, несмотря на сам брежневский режим, нельзя говорить, что Коммунистическая партия Советского Союза все это игнорировала, – реабилитация медленно продолжалась, медленно и тихо.
Итак, мы переехали в Петербург. Для меня это был большой стресс. Здесь были совсем другие дети. Те, которых я помнил по Царскому Селу, были какие-то забитые, в школе как будто продолжался сталинский режим: злые языки говорили, что директор – бывший начальник лагеря, что, когда в 50-е годы большую часть лагерей распустили, его перевели на фронт просвещения. Очень, кстати, было похоже на то. Он был очень суровый человек, и у него – очень суровый порядок: парами на перемене, молча, никто никуда не пробежит, карцер перед его кабинетом… Школа была в старинном здании Царскосельского реального училища. И там в целом был вот такой железный порядок.
А тут было хулиганство. Ведь что такое хулиганство в школе? Это когда безграничный террор шпаны: школа во власти молодежной банды, которая состоит частью из старшеклассников, а частью – просто из окрестных малолетних преступников. После уроков шпана торчит около школы, отбирает деньги у всех выходящих и творит суд. Директор и учителя делают вид, что этого не замечают, впрочем учителей-мужчин иногда избивают вместе с учениками. Когда все же вмешивается милиция и кого-то сажают в исправительную колонию, то в глазах банды этот человек приобретает ореол героя.
Это сейчас я в состоянии посочувствовать и этим одичавшим детям тоже.
Но, правда, мне все время как-то везло: то в одном классе я оказался вместе с каким-то главным бандитом, а как раз своих одноклассников он не трогал, то потом другой главный бандит жил в моем доме – и не трогали жителей нашего дома, но три года такой жизни были чудовищным унижением. Ведь если начинают кого-то избивать, и избивают систематически, то человека доводят до потери рассудка. Надо сказать, что меня побили в жизни всего один раз, под самый конец этих трех лет, в восьмом классе: что-то не сработало в этом мироустройстве.ГОРАЛИК А сама учеба вас сколько-нибудь интересовала?
ЗАВЬЯЛОВ Как сказать… в старших классах я пристрастился писать сочинения. Была литературная фронда такая: я стал писать скандальные сочинения. А учительница не стала давить, но, наоборот, провоцировала. Мне это очень понравилось, вообще я с годами все больше любил литературу, историю. Потом у нас вдруг появился прекрасный учитель французского языка (хотя у нас была простая школа), автор книжек. Выгнали человека с приличной работы: как раз 73-й год был, война Судного дня. Куда идти? Друзья устроили его в школу. Как-то получилось, что мои родители с ним договорились – и я с ним занимался частным образом. А потом пришло время куда-то поступать, и я поступил в университет на вечернее французское отделение, потому что не было никаких связей и поступить на дневное было невозможно. Да, надо сказать, и я сам был к университету не готов. И я проучился на этом французском отделении несколько лет через пень-колоду, потому что я поначалу никак не мог организовать свою жизнь. Требовалась бумажка с работы, а где-то работать и учиться одновременно – это все можно, но надо организовать свое время. Но потом меня родители устроили в Институт акушерства и гинекологии, и у меня все стало получаться: милое место.
ГОРАЛИК Что вы там делали?
ЗАВЬЯЛОВ Анализы крови. Институт находится на Менделеевской линии напротив здания Двенадцати коллегий. А в Двенадцати коллегиях – университетская библиотека, дорогу перейти. Поставил анализы в холодильник – и пошел в библиотеку. Вернулся, проверил анализы, записал в журнал – и опять в библиотеку. В общем, я там проучился какое-то время, и в конце концов, когда у нас наконец началась латынь – а я всегда мечтал о классическом образовании, – преподавательница латинского языка вдруг предложила мне перейти на классическое отделение. Видимо, я ей понравился. И она меня привела к высокому партийному начальству. Высокое партийное начальство благожелательно взглянуло и сказало: «Оно можно, пускай мальчик поступает». Уже, думаю, было проверено, что там евреев нет в родстве, а что касается репрессий, так потом я узнал, что у начальства у самого родители погибли по «ленинградскому делу». Вот таким образом я оказался на классическом отделении, а мне тогда уже было двадцать два года, это много, что оказалось тяжеловато: тут семнадцатилетние дети, которые только что окончили школу. Но учился я с начала: пять лет.
ГОРАЛИК И это было хорошо?
ЗАВЬЯЛОВ Да, это было прекрасно. У нас были прекрасные учителя, в которых я был влюблен, как и положено. Я застал стариков настоящих: я застал великого человека, которого звали Аристид Иванович Доватур, любой филолог помнит. У него была потрясающая судьба, он окончил университет еще до революции. Из семьи молдавских помещиков, а фамилия французская: de Vautour, потому что у него по прямой линии предки переселились в Восточную Европу из Франции. Причем дома кто-то еще был грек, и мама с бабушкой говорили при детях на греческом, чтобы дети не понимали. Он был человек легендарный. В 20-е годы входил в знаменитую группу «АБДЕМ». Его ближайшим другом был Егунов, он же Андрей Николев. Тот, что написал знаменитый роман «По ту сторону Тулы». Из тех писателей, которым пророчат попадание в классики сразу после того, как будет пересоздан канон русской литературы. Он же и филолог-классик, перевел Платона на русский. Была еще такая дама Мария Ефимовна Сергеенко. Меня ей представили в день, когда ей исполнилось девяносто лет. Она занималась сельским хозяйством Древней Италии. Перевела на русский язык Катона Старшего, Варрона, Плиния Младшего. И написала серию книг о простых людях древности: как жили пастухи, гончары, кузнецы и т. д. …А главой нашей школы в годы уже моего студенчества был Александр Иосифович Зайцев. Действительно великий ученый и, что редко совмещается, философ. Он написал несколько книг, одна называется «Культурный переворот в Древней Греции». Это книга о начале европейской цивилизации. Она сейчас переведена на три или четыре языка, что для научной книги почти невероятно. Еще по мифологии и по стиховедению у него есть книги. А вот Доватур написал книгу о рабах: «Рабство в Аттике». Поскольку он сам сидел в лагере, эта тема была для него важна. Еще у меня были непосредственные учителя Александр Константинович Гаврилов и Валерий Семенович Дуров. Гаврилов, изящнейший человек, мастер слова. Кроме прочего (то есть кроме собственно научных трудов, трактующих отдельные сложные пассажи Еврипида и Аристофана) он перевел на русский язык Феогнида, Марка Аврелия и Петрония. Петрония он перевел на русское просторечие, потому что Петроний писал на неправильном латинском языке. Одним словом, у меня были прекрасные учителя.
ГОРАЛИК Что значило находиться в этой среде? Какие были люди вокруг – соученики, не учителя?
ЗАВЬЯЛОВ И студенты у нас на классическом отделении были замечательные, прежде всего два мальчика, которые учились со мной в одной группе. Но один уже умер, а другой тяжко заболел. Меня тоже нет. В каком-то смысле это символично, потому что филолог-классик, оказавшийся вне профессионального рода занятий, не в состоянии найти ни дела себе, ни самого себя. И так везде в мире: филологи-классики вымирают.
ГОРАЛИК Как устраивалась жизнь во время учебы?
ЗАВЬЯЛОВ Вы знаете, я совершенно не думал о том, что будет завтра. В советское время жизнь была устроена совершенно особенным образом, именно поэтому и был возможен этот феномен ухода в котельные. Сейчас об этом много и часто говорят но, на мой взгляд, главного не понимают. Ведь это был не асоциальный уход, а как раз социальный уход. Уходя из мира советских ценностей, человек совершал поступок. И это в глазах тех, кто ему был небезразличен, было социальным подъемом. Скучная советская карьера доцента какого-нибудь воспринималась в определенных кругах как ерунда. Плевать было на нее. Ничего она не стоила. Пинки официальных институций были звездами на погонах, и наоборот: книгу издали – это позор. Конечно, я говорю не об интеллигенции в целом, говорю только об определенной, очень узкой среде. Но в ней действительно было так, люди были на редкость бескорыстны. Конечно, можно сказать, что корысть была другая, связанная со сложными статусными играми. Об этом Берг, между прочим, писал. Иногда интерпретируют это как выход контркультуры, то есть в каком-то смысле как своеобразную шпану. Савицкий в своей книге об андеграунде проводит линию, что все эти люди, включая нобелевского лауреата, в общем-то шпана, и в каком-то смысле с ним даже можно согласиться: был такой момент, что подрывалось не «советское», а культура как таковая, социум, вообще все.
ГОРАЛИК Когда вы окончили университет, сколько вам было лет?
ЗАВЬЯЛОВ Мне было двадцать семь лет, это было страшно много. Между прочим, тут есть одна сложность: меня из него выперли. Уже после защиты диплома. Была забавная история: я защитил диплом и пришел сдавать последний экзамен, по научному коммунизму, а мне говорят: «Знаете, мы вас не можем допустить к экзамену, у вас не сдан предыдущий зачет». Достаю зачетку: «Вот, за прошлый семестр по научному коммунизму». Мне говорят: «Знаете, а в ведомостях нет». Началось хождение по начальственным кабинетам. Одним словом, меня отчислили.
ГОРАЛИК Это была умышленная история, сознательная линия поведения?
ЗАВЬЯЛОВ Ну конечно. Позже, когда я уже был в «Клубе-81» и у меня, как у всех, были контакты с ГБ – давали советы, с кем дружить, как себя вести, – мне тогда и сказали: «Университет хотите окончить?» Я говорю: «Конечно хочу». Мне говорят: «Ну так идите». На следующий день звонят из университета: «А что вы не приходите к нам?» Прошло два года. Это было уже после январского горбачевского пленума 87-го года, а выперли меня в 85-м году.
ГОРАЛИК И чего хотели?
ЗАВЬЯЛОВ Да ничего не хотели. Мне потом уже гэбист сказал: «А вы можете нам сказать, кто вам давал читать „Русскую мысль“?» А мы читали с одним моим другом университетским: вышли на канал литературы, получали раз в неделю газету «Русская мысль» – представляете, это в 83-м году! Ну и, кроме того, любые тамиздатские книги. А через этот дом, в котором мы брали книги, книги шли штабелями.
ГОРАЛИК А сейчас можете рассказать, как это было устроено?
ЗАВЬЯЛОВ Да я и сам не очень понимаю. Не потому что темню. Действительно не знаю: мы приходили в один дом и брали что хотели, на неделю, скажем. Ну и, конечно, стало известно где-то, кто-то болтанул. Ну а гэбист этот известный, он в истории фигурирует, такой Кошелев, который курировал «Клуб-81», он как раз и задавал такие вопросы. Я ему ответил: «Вы знаете, когда мы будем с вами на пенсии в Доме творчества писать мемуары, тогда я вам все и расскажу». Он так посмеялся. Его потом, кстати, якобы выперли из ГБ за то, что он завалил работу. Может быть, и вправду выперли. Во всяком случае, он стал одним из лидеров демократов.
ГОРАЛИК Что началось после того, как вас выгнали из университета?
ЗАВЬЯЛОВ Я пошел работать в школу. Проработал я в школе два года, преподавал русский язык. Мне очень нравилась моя работа. Казалось бы, парадокс.
ГОРАЛИК С маленькими работали?
ЗАВЬЯЛОВ Нет, с шестого по восьмой. Сложно, но занимательно: они еще в этом возрасте были живые. Я, правда, еще в десятом классе преподавал французский язык: у нас не было учителя, вот я и преподавал французский. А так я преподавал историю, русский язык, литературу и французский – четыре предмета. Сейчас бы я, конечно, ни за что, но тогда мне нравилось. Вообще я ведь почти всю жизнь преподавал, но в высшей школе, и мне это нравилось. А сейчас, пожалуй, нет. В 85-м году меня выперли из университета, до 87-го я преподавал в школе, потом еще два года были частные заработки: времена кооперативов. Жизнь сменилась, и у меня были случайные заработки в новых структурах – тоже, как правило, преподавание. Правда, у меня был один смешной эпизод в жизни, когда я с полгода занимался бизнесом. Это был конец 88-го года. Великий поэт Айги познакомил меня с моим соотечественником, мордовским художником Масловым, который живет в Петербурге, и мы решили создать национальный мордовский кооператив по продаже запчастей к автомобилям. Но, конечно, никаких запчастей там не было, все ограничилось тем, что мы выпускали бюллетень, наподобие газеты «Из рук в руки». Но кончилось все печально: как люди искусства, считавшие, что мы созданы для другого, работать мы, конечно, особенно не хотели и наняли какого-то хмыря, который оказался уголовником с несколькими стажами, и, когда его забрали, нас тоже допрашивали.
ГОРАЛИК Но обошлось?
ЗАВЬЯЛОВ Да, а его, по-моему, тоже выпустили. Какой-то странный человек: всю жизнь сидел за мошенничество, только выходил – и тут же садился вновь. Но с нашей стороны это, конечно, было барство такое: как это мы да будем работать? Особенно Маслов был такой.
Но уже через несколько месяцев мы с моим университетским другом организовали кооператив по преподаванию древних языков. Мой друг преподавал санскрит, а я – древнегреческий. Вы не поверите: народу шла тьма, потому что в то время людям всего этого хотелось. Это сейчас никому ничего не нужно, а тогда люди изголодались по знаниям. В 90-м году возникло такое заведение в Петербурге под названием Высшие гуманитарные курсы, куда пришли уже сотни юношей и девушек с горящими глазами. Мы читали лекции о чем угодно. А потом пришли как-то мои ученики и сказали: «А хотите, мы создадим школу древних языков? Мы дадим вам денег». Я сказал: «Конечно хочу». И мы создали такую школу, она называлась Греко-латинской и просуществовала семь лет, с 92-го по 99-й год. Она была вузом, я был ее директором. Нас взял под крыло Институт иностранных языков, директором которого стал тот самый мой друг, который преподавал санскрит. Все студенты получили диплом государственного образца.
Хотя, конечно, с другой стороны, студентам приходилось платить деньги, пусть не так много, как в обычных платных конторах. Да, мы дали им хорошее образование – но потом-то что? Потом-то люди столкнулись с невостребованностью всего этого. Поэтому насчет того, какое хорошее дело мы сделали, – это вопрос. Другое дело, что мы делали его честно.ГОРАЛИК Давайте вернемся ко временам института. Что происходило с вашей литературной жизнью?
ЗАВЬЯЛОВ А, это особый рассказ. Начну с того, что у меня ни в одном доме не было телевизора. Сейчас появился, на 50-м году жизни, правда без антенны: можно только DVD смотреть.
ГОРАЛИК Это было сознательным решением – или просто так сложилось?
ЗАВЬЯЛОВ Трудно сказать, но у моих родителей этой штуки не было. Потом мама купила телевизор, когда папа уже умер. А мне было двадцать семь лет, когда он умер. То есть ни в детстве, ни в юности я никакого телевизора не видел. И это создавало некоторое напряжение, потому что, когда я приходил в школу, дети обсуждали вчерашний фильм, а я не понимал, о чем они говорят. Но, надо сказать, мне никогда и не хотелось это обсуждать. Мне и их разговор был неинтересен, и сами они были неинтересны. Сейчас я испытываю такое же отвращение к массовой культуре. Я понимаю, что порой это уже неадекватно, слишком яростно. Она для меня то же, что в детстве была для меня советская власть: ненавижу. Иду в детстве по Царскому Селу и читаю вывески на домах: улицы Комсомольская, Коминтерна, улица, где находилась гимназия, где Анненский работал и жил, называлась улица Пролеткульта. Бульвар, на котором я родился, назывался Советский бульвар. Все это казалось мне отвратительным. Но сейчас, когда какие-то фашисты уничтожили там памятник Ленину, – для меня это сейчас стало так же отвратительно. А потом и в пролеткульте, и в Ленине я увидел совсем другое, но это – особый разговор.
ГОРАЛИК А как фактор, меняющий мир, массовая культура вас не интересует?
ЗАВЬЯЛОВ Ну конечно, меняет. Когда гунны Атиллы шли на Европу, они тоже меняли мир. Что же тут восторженно восклицать, как русские символисты: «Но того, кто меня уничтожит – / Встречаю приветственным гимном»? Да нет, их нужно с автоматом встретить. Я люблю культуру. Другое дело, что я человека тоже люблю, а культура часто бывает против него. И вообще она – сила, а нехорошо быть на стороне силы. Путешествуешь по Европе, видишь орды мигрантов, в сущности – варваров. Но постепенно я все больше на их стороне, я понимаю, что большую часть этих людей привезли сюда родители, которых жизнь заставила за копейки вытирать мочу в сортире, а дети не хотят этого делать, и дети бунтуют. И как я могу быть не на стороне этих детей? Хотя я понимаю, что эти дети могут убить меня. Они бунтуют, но их иррациональный бунт происходит из-за того, что они перенесли чудовищное унижение, потому что в европейской размеренной жизни молодым без социальных корней быть ужасно.
ГОРАЛИК Сейчас, оказываясь в Европе или Америке, я часто чувствую (без всякой, надо сказать, тревоги), что мы с вами – представители отступающей (европейской, я имею в виду) расы. Словно растратили отведенную на одну расу энергию, – видимо, что могли, все сделали. Похоже на правду?
ЗАВЬЯЛОВ Я бы таким образом интерпретировал то, что вы сказали: то, что в XIX веке было естественным социальным процессом внутри европейских стран, сейчас вышло за их границы: раньше ехали из европейских деревень в европейские города, но вот все переехали, а потребность в эксплуатации социальных низов осталась. Расы – это мираж. Дело не в расе – дело в социуме.
ГОРАЛИК Графики рас и социальной расслоенности часто так плотно смыкаются, что происходит подмена понятий.
ЗАВЬЯЛОВ Да, мы говорим «негр», а имеем в виду «бедный». А человек должен быть за справедливость. Я сторонник социальной справедливости. Я прекрасно понимаю, что двадцать процентов людей в принципе не могут заработать себе на хлеб, – значит, общество должно их содержать. Другое дело, что оно должно минимизировать это количество людей, чтобы люди не лежали на панелях и не пропивали полученное пособие. Я думаю, насчет белой расы вы все-таки преувеличиваете. Другое дело, что старой моноэтничности быть не может, вы правы. И опять получается такая дилемма. Если смотреть на вещи, как я предлагаю, есть социокультурные слои, властные и невластные. Получается, что последний набег европейцев – это сейчас крестовый поход глобализма. Он задохнется, потому что он сталкивается с людьми, у которых иначе устроена ментальность.
ГОРАЛИК Может, не задохнется, а, как говорили в советские времена, отступит на заранее заготовленные позиции?
ЗАВЬЯЛОВ Но слабо не будет, и Европа может накрыться после этого. Но сами виноваты, потому что в мире идет поляризация бедных и богатых, в результате которой легитимируется только определенный тип ментальности, причем нельзя сказать – европейский, потому что внутри европейского давно маргинализированы все типы, кроме одного – типа торговца. Где воины? Где экзальтированные монахи? Где поэты? Где они все? Только тип торговца является магистральным, но миллиарды людей на земле этого не принимают.
ГОРАЛИК Есть ведь теория о том, что никакая стая не может оставаться сильной, если она не охотится постоянно. Европа, кажется, не находится в состоянии борьбы за пищу довольно давно.
ЗАВЬЯЛОВ Ну, как не находится. Посмотрите, за XIX век ни одной войны – с 1814-го по 1914-й, за исключением локальных: Франко-прусской, Австро-прусской… но это были мелочи. Сто лет не было войны, и в от, наконец…
ГОРАЛИК Война – это все-таки сражение непосредственно за собственную жизнь каждый день.
ЗАВЬЯЛОВ А вы считаете, что сейчас человек не сражается за жизнь каждый день? Война переместилась на другое поле. Это как нас учили на военной кафедре. Я сдавал экзамен по военному делу и получил даже четверку, не готовясь. У меня был билет «Мотострелковая дивизия в наступлении». Я, конечно, ничего не знаю, но говорю: «Сначала наносится ядерный удар». И тут подполковник говорит: «Все слышали, что сказал курсант?.. Он, конечно, разгильдяй, но он главное уловил». Так вот, понимаете, это – старая тактика. Теперь война иначе устроена. Еще тогда нас учили, что новая война не будет иметь линии фронта. Это было тридцать лет назад, а сейчас вообще все изменилось. Изменилось само наполнение слова «война»: больше никаких марширующих людей с автоматами. Непонятно: началась Третья мировая война, не началась? На все будет одна из возможных точек зрения. У меня вообще нет точки зрения по этому поводу: не знаю. Мы завершили тему моего преподавания, а про литературную историю я практически ничего и не рассказал. Ну, в моем поколении все начинали писать стихи, кроме уж совсем диких. Мне кажется, что даже студенты техникумов, по крайней мере половина из них, писали стихи, а я помню советскую статистику: только что-то около тридцати процентов детей оставались в школах после восьмого класса, около десяти процентов шли в техникумы и шестьдесят процентов – в ПТУ. Это, конечно, не значит, что те, о ком я говорю, читали стихи, но писать – писали. Я полюбил писать сочинения и вообще читать класса с восьмого – и стихи, стихи. Но это ничего не значит, по крайней мере до конца десятого класса, что я что-то знал. Я не был интеллигентным ребенком, который все читал.
ГОРАЛИК А для вас связаны понятия «читать» и «писать»?
ЗАВЬЯЛОВ Не знаю, вы меня поймали на неотрефлексированном.
ГОРАЛИК А в детстве они связаны были?
ЗАВЬЯЛОВ В детстве – конечно да. Если это уважаемое дело, если это вызывает восторг, значит, я и сам хочу этого. Если Пушкин – это прекрасно, то я тоже хочу быть как Пушкин. Тем более Царское Село. А я уже говорил, что, когда мы переехали в Петербург, мои родственники продолжали жить в Царском Селе и я ездил почти каждую неделю к ним в гости.
ГОРАЛИК Это был интеллектуальный мир?
ЗАВЬЯЛОВ Нет, абсолютно нет. То есть для меня конечно да. Мифа не было, но осознание пребывания в священном месте было. Потом чем дальше, чем становился взрослее, тем больше меня тянуло к этой деятельности. Я уже лет с восемнадцати сталкивался с мальчиками литературными, действительно из интеллигентных семей, где все читалось. Где дети с четырнадцати лет знали Ахматову наизусть. У меня ничего подобного не было, но я сталкивался с такими людьми, когда на вечернем в университете учился. Но сейчас я думаю, что прекрасно, что я не попал тогда ни в какую литературную среду. В 1979 году зашел как-то на лито к Сосноре. Это было лито при Дворце культуры имени Цурюпы. Страшно знаменитое место: оттуда вышли Юрьев, Мартынова, Закс, Шубинский, которые потом составили группу «Камера хранения». Я оказался в этом лито, и, конечно, мне хотелось в какой-то момент быть с ними. Сейчас, трезво это все оценивая, я понимаю: писать, как они, я бы не смог; все они были значительно более подготовленными людьми, и мне нужно было бы несколько лет с ними вертеться, чтобы научиться писать хотя бы как они в свои восемнадцать лет. Но я этого не сделал, потому что поступил на классическое отделение. А там – греческая поэзия; она построена на других принципах, и ритмы античных размеров мне показались значительно более привлекательными. С другой стороны… Это как Шиш Брянский в какой-то статье иронизировал, что писать верлибром – значит следовать рекомендациям ООН, ОБСЕ и НАТО. Есть такая у него издевательская статья. Так вот я такой и был, как его персонаж. Мне казалось: а как же так, что же в мире происходит, как пишут люди? А переводов уже было много в 80-е годы. И тогда я обнаружил любопытную вещь: люди, которые пишут стихи, читают один вид поэзии, а люди, любящие поэзию, но не пишущие, читают другое. Я помню, мне попалась случайно в каком-то киоске книга Галчинского в переводе Бурича. Прекрасная, кроме того, там же еще содержание сильное: Европа после Освенцима. Это такой польский вариант тематики Целана. Галчинский, кстати, жив, ему под девяносто. И вот тут, с одной стороны, античная поэзия, с другой – современная европейская. И когда этим занимаешься, видишь, что русский стих – это «Дядя Степа утром рано / Лихо вскакивал с дивана» или «Мой дядя самых честных правил / Он уважать себя заставил» – какая бы ни была ритмическая изысканность, но пять размеров – мало. Античная поэзия намного больше: там двенадцать вариантов внутри одного гекзаметра. Ведь русские переводы гекзаметров, кроме переводов уж совсем позднесоветского времени, как перевод «Энеиды» Ошерова, – это же упрощенные переводы. Что такое перевод Жуковского? Егунов великий сказал, что античный гекзаметр – это марш, а русский гекзаметр – это вальс. Это правда. Перевод Гнедича использует греческие изыски, но ровно в десять раз реже.
ГОРАЛИК А вообще можно сохранить масштаб?
ЗАВЬЯЛОВ Можно. Первый это сделал Кузмин. Он перевел маленький кусочек «Илиады» в 30-е годы. То есть как перевод это воспринимается не иначе как пародия, но с точки зрения передачи ритмики – абсолютно идеально. Вячеслав Иванов то же самое: его переводы греческой поэзии с точки зрения содержания чудовищны, но с ритмической точки зрения – виртуозны. Никто не мог передавать ритм так, как он. Так вот, с одной стороны, на меня влияла античная ритмическая изысканность. Что такое пиндаровская поэзия? Ведь это как если бы человек сначала писал музыку…
ГОРАЛИК Это как-то связано со слухом, с историей про музыку?
ЗАВЬЯЛОВ Да нет, пожалуй, с натяжкой. Я в это время музыкой не занимался.
ГОРАЛИК Я не так про непосредственную связанность двух занятий, как про устройство головы.
ЗАВЬЯЛОВ Понимаете как, музыка, на мой взгляд, – это активные, сложные операции с ритмическими, а также мелодическими, гармоническими, а теперь и звукообразующими вещами. Это очень сложная материя. Поэтому я думаю, что это, конечно, было бы слишком романтичным: видеть влияние музыки на мои стихи того времени. На самом деле для этого должна была быть проделана большая работа. Нет, в это время я еще настолько не воспарил.
Итак, с одной стороны – античная поэзия со сложнейшими ритмами, а с другой стороны – современная европейская поэзия, и между ними оказалась зона традиционного русского стиха. Я очень его любил, но как-то понял – или не понял: прочувствовал, – что там все в прошлом.
И где-то в 84-м году я осознал, что вот-вот начну писать. И я начал писать. И сразу же то, что я написал, было опубликовано в самиздате, в журнале «Предлог». Сергей Хренов издавал этот журнал. Я вам сейчас покажу свою первую публикацию ( показывает ). Да, почувствовал, что могу писать. Обратите внимание: старая орфография. Потом пришлось отказаться: старая орфография в 91-м году оказалась экспроприирована совершенно другой культурной стратой. Когда стали писать «ъ» в газете «Коммерсантъ», когда стали появляться вывески, где «еры» были перепутаны с «ятями», где «и» восьмеричное сплошь заменялось на «i» десятеричное, я был бы со своей орфографией нелеп.
Но тогда, в 85-м году, это было не так. И вдруг я стал писать. Это было в 84-м году. Да, с тех пор прошло двадцать три года. У меня был перерыв лет в пять с 90-го по 94-й год. Как-то так жизнь протекала. Наверное, что-то откликнулось на крушение старого мира. Одни враги поменялись на других врагов, и, видимо, я не сразу сориентировался. Поэзия ведь штука деликатная, прислушиваешься к себе постоянно. А что писать? Как? Поэтому я года четыре не писал. В 94-м году я снова пришел в литературу, и с 94-го года я каждый год пишу либо поэму, либо цикл стихов.ГОРАЛИК Как и когда начали выходить ваши книжки?
ЗАВЬЯЛОВ Я оказался в «Клубе-81» почти сразу, потому что мои тогдашние друзья Беневич и Шуфрин познакомили меня со всеми. Беневич и Шуфрин – это два философа ленинградской второй культуры. Сейчас Шуфрин защитил докторскую в Принстоне и работает там в библиотеке, а Беневич здесь – бедствует, много пишет; настоящий Диоген, человек, который умирает от голода, но пишет абсолютно свое, высокое… Правда, потом они ушли в христианство оба, и наши пути на какое-то время разошлись… Так вот, эти ребята меня познакомили с Кривулиным и с Останиным, и меня почти сразу приняли в «Клуб-81». Но надо сказать, что на мне эта история и закончилась. Знаете поэта Дмитрия Григорьева? Замечательный человек, герой автостопа, настоящий битник. Так вот, мы с ним были последними людьми, которых приняли в «Клуб-81», потому что следующему молодому поколению это стало не нужно. «Клуб-81» все-таки был создан определенным поколением людей. Вообще у меня в некотором роде культ поколений: для меня люди – всегда представители поколений. «Клуб-81» – это кривулинское поколение, люди, которые родились между сорок четверым и пятьдесят каким-то годом. Даже я, 58-го, был для него слишком молод. Мои ровесники – это скорее «Камера хранения». Они были более правильными: больше читали, меньше пили. Но мне не хватало в них социальной радикальности. Да и стихи у них были слишком правильные, а в «Клубе-81» были в том числе и те, кто писал свободным стихом. И вот я оказываюсь в «Клубе-81».
ГОРАЛИК Вы там оказались или вас туда приняли? Вы трепетали перед этим обстоятельством?
ЗАВЬЯЛОВ Я не особо трепетал, но я этого очень ждал, конечно, потому что для меня это было включение в среду чрезвычайно уважаемых мной людей. А в «Клубе-81» уже началось расслоение, был религиозно-философски ориентированный журнал Бутырина и Стратановского «Обводный канал», была как бы центральная политическая линия Кривулина и была линия битническая – это линия Драгомощенко. Где-то с той стороны был и Волчек с только что возникшим «Митиным журналом». Я эстетически скорее был на их стороне, но по-человечески мне с ними было труднее, чем с двумя другими группами. И Драгомощенко, и Волчек были для меня слишком богемны. Но через несколько лет появились кооперативные издательства, и самиздат и «Клуб» перестали существовать: все это потеряло смысл. Я не сумел напечататься официально в эти годы.
ГОРАЛИК А потребность была?
ЗАВЬЯЛОВ Вы знаете, да: пресса изменилась. Это в советской прессе печататься – между стихом о комсомоле и стихом о Ленине – было позорно. А тут: вспомните хотя бы знаменитый «Испытательный стенд» в «Юности» – конечно, хотелось быть в этой компании. В этом вся специфика перестроечного времени. Кривулин, на мой взгляд, в одном своем стихотворении замечательно смог это состояние передать: на любом углу сегодня – Гумилев, завтра – Ходасевич, а мы, как и вчера, – нет. Напечататься в каком-то смысле стало еще труднее. Создалось такое ощущение, что дверь еще сузилась – казалось бы, уже некуда – ив нее прошли люди с широкими плечами. Кто-то из них, конечно, был настоящим поэтом, как Парщиков, но где сегодня большинство тех, чьи имена были на слуху? Что такое сегодня Друк? Где Коркия? Когда последний раз слышали про Кутика? Я помню, как сразу после путча приехал в Москву и пошел в «Юность» к Ткаченко. Он меня поставил на 92-й год в план, но тут и «Юность» накрылась, и Ткаченко ушел, и вообще все изменилось. Для меня все это было болезненно. 92-й год, свободная печать, нет никаких коммунистов, а мне тридцать четыре года – и ни одной строчки типографским образом. Может быть, поэтому отчасти я и перестал писать. И вот тут меня нашли молодые ребята – Вася Кондратьев в первую очередь. Кондратьев получил тогда какие-то деньги, кажется от Сороса, и издал один номер журнала, который назвал «Поэзия и критика». И вот там были напечатаны Шамшад Абдуллаев, Скидан, Голынко, Сергей Тимофеев, Хамдам Закиров. Я и сейчас считаю их всех абсолютно современными. Вообще замечательное это было начинание. И еще тогда появилась галерея «Борей», а в ней кафе и издательство. Там можно было издать книжку. Я пришел и издал. Вел издательство Коровин, из наших, из «Клуба-81». Он сделал мне книгу за месяц. Понятно, что на ризографе, понятно, что тиражом двести экземпляров. Но этого было достаточно: все, я уже стою и читаю новые стихи.
ГОРАЛИК Что это было за ощущение?
ЗАВЬЯЛОВ Какое-то ощущение востребованности. В первую очередь ощущение праздника: я был тогда еще молод, похмелья были не такими сильными. Одним словом, это было прекрасно. Мне очень понравилось в этой компании, и я с ней провел несколько лет. У нас были выступления, что-то мы придумывали. И апогеем всего был фестиваль, который назывался «Genius loci». Я был его организатором: мне удалось получить деньги от Сороса. Я организовал чтения и в Петербурге, и в Москве. Это был апогей. А еще перед этим я забыл момент страшно важный: в 97-м году меня позвали выступать в Москву. А тогда была эпоха салонов, печать еще только появлялась, Кузьмин еще только начинал свою деятельность. И был мой вечер в Георгиевском салоне, его вела Татьяна Михайловская, она была в «НЛО» на том месте, где потом долгие годы был Кукулин. У меня было такое ощущение, как будто мне дали Нобелевскую премию. Сапгир пришел и, так сказать, меня благословил. Это было замечательно. Мне было тогда тридцать девять лет, и это было первое выступление, когда я почувствовал, что мир раздвигается. Правда, потом я себя всегда ловил на том, что передвижение границ – это все иллюзия. Ну, выступил в Москве, ну и что? Ну, книжка вышла, ну и что? Сейчас я понимаю, что все это – ничто, но тогда для меня это было страшно важно.
ГОРАЛИК А что могло бы быть «чем-то»?
ЗАВЬЯЛОВ Это слишком сложно. Ну, во всяком случае, понятно, что мои представления о том, как устроен мир, и литература в частности, были крайне наивными, даже когда мне было сорок лет.
ГОРАЛИК Парнас?
ЗАВЬЯЛОВ Нет-нет, как устроен сам механизм, я совершенно этого не понимал. Потом после этого фестиваля меня еще позвали в Швецию, в Висбю, в Дом творчества. И вот впервые я оказался в европейском писательском мире. А там совсем другие отношения между писателями. Правда, потом я понял почему, понял, что писатели до такой степени маргинализированы, что нет особой почвы, чтобы толкаться. Ну, конечно, сегодня можно много на эту тему иронизировать, но тогда для меня это было страшно важно. Тогда я написал поэму «Slussen». Помню, как в первый же день приезда в Швецию я вдруг ощутил чистоту невероятную, нечеловеческую. А русский мир тогда состоял из бесконечных ларьков, из людей с открытыми бутылками пива в руках. И этот контраст – во всех отношениях, – только он и позволил мне пережить чувство подлинного трагизма. Что не бедность ужасная, не бандитизм – не это трагедия, а трагедия, когда все в порядке, когда человек живет в чистом доме, когда у него всегда есть еда и одежда, – вот когда начинается трагедия. Чтобы это понять, мне надо было месяц прожить на Западе.
А что было потом? А потом я почувствовал, что жизнь начинает разрушаться. Моя жизнь начинает разрушаться, потому что ничего не происходит. У писателя должна быть какая-то биографическая логика, должно что-то происходить. А когда ничего не происходит, нет востребованности, то все равно: продолжать писать или нет. Я продолжал писать, и писал даже больше, чем до этого, но у меня такое сейчас ощущение, что именно в это время (начало 2000-х годов) мои стихи слишком ушли в область внутреннего диалога, разговора с самим собой. У меня есть такой цикл стихов «Диалоги в царстве теней»: так вот это уже какое-то доведение речи до стадии бормотания, которое вроде бы эстетически и может представляться продуктивным как проявление минимализма. Но в минимализме, как я сейчас понимаю, должны быть большие темы, причем нелитературные, которые влезают в текст, как в великом фильме Феллини «Репетиция оркестра» в какой-то момент стена рушится и в проеме появляется огромная металлическая баба. Сейчас я понимаю, что должно быть вторжение нелитературного – политики, философии, чего угодно. Это, кстати, то, что делает Скидан, и делает давно, значительно раньше, чем я. Тогда я этого не понимал, я уже дошел до какого-то бормотания в этом цикле. Ну и потом, чувство разрушения было связано с моими личными обстоятельствами: рухнула Греко-латинская школа, которую я построил, бедность, выросшие дети, негде жить. Все это закончилось тем, что моя семья оказалась в Америке. Мне предлагали пойти мыть полы в американской больнице, но я не смог. А потом вдруг нашелся какой-то внутренний выход из положения – сначала литературный: тот цикл, который вы вспоминали, «Переводы с русского», который мне приснился во сне. Мне приснилась во сне идея. И я встал и писал трое суток. Я спал четыре часа, просыпался и снова писал. Это был какой-то выход концептуальный. Хотя и раньше у меня было много концептуальных вещей – «Мордовский» цикл стихов, где человек, не зная языка, кричит от отчаяния. 1998 года вещь. Ну а последнее, что я написал, это поэма «Сквозь зубы». В ней три части, может быть, будет еще. Я хочу, чтобы это было как симфония Малера. Каждая из этих частей является… немножко смешной: я как бы не изжил в себе модернизм до конца, а модернизм – он немножко смешной.
Как огромные паровозы. Вот роман Джойса: эпизод соответствует такой-то песни Гомера, свет – белый, тональность – до-мажор. Так же и у меня: это поэма, каждая из этих частей должна быть оммажем какому-то автору. Первая часть – Збигнев Херберт, вторая часть – Сесар Вальехо, третья часть – Георгос Сеферис, хотя там написано, что это посвящено всем новогреческим поэтам, но это, конечно, Сеферис. Содержание всех трех частей абсолютно политично. Первая часть – террорист, то есть я, который пытается вжиться в роль террориста, идет совершать теракт. Его голос все время перебивается голосом Бога, который он слышит. А заканчивается тем, что все-таки в последний момент автор отстраняется от героя, и становится понятно, что это не он. Первая часть написана в горах на границе Италии и Словении. Мне кажется, если интересны стихи, то интересен и тот опыт, который к ним привел, как вообще устроен механизм письма, что может человека толкнуть писать? Вот я шел по горам, спускался вниз и обратил внимание на таблички на почтовых ящиках с фамилиями – в горах словенские фамилии, а чем ниже к морю, тем меньше славянских фамилий и больше итальянских. И когда вы уже подходите к городу – почти исключительно итальянские фамилии.ГОРАЛИК Чем это объясняется?
ЗАВЬЯЛОВ Грубо говоря тем, что это оккупированные территории. А я перенес это все на свою мордовскую почву, которая тоже колонизированная страна. Где остаются жить коренные жители? В деревне. Лучшие места всегда занимают завоеватели. И вот мой герой, господин Террео, идет по горам и читает таблички на домах, а потом оказывается, что он сам так и не выучил родного языка, хотя и принимался его учить. Вторая часть была написана в Освенциме, где я был летом. Взято жуткое стихотворение Сесара Вальехо, который вспоминает свое детство, и вот: умерли все, кого он помнит. У меня же этот сюжет переносится в мир тотального уничтожения: какой-то персонаж вспоминает какую-то подростковую компанию, она абсолютно несимпатична, и сам он тоже абсолютно несимпатичен. Но человек вообще не то что несимпатичен – он отвратительное существо, в принципе любой человек сам по себе отвратителен. И когда в твоих глазах стоят эти многие тысячи стеклышек от очков, которые навалены в освенцимских бараках, или многие тысячи зубных щеток, или кружек, или детских горшков, то как-то все начинает принимать другой оборот, иначе выглядит: добро – зло, хорошее – плохое.
...
Петербург. 2007 год
Владимир Гандельсман
...
Гандельсман Владимир Аркадьевич (р. 1948, Ленинград). Окончил Ленинградский электротехнический институт. Работал конструктором, сторожем-истопником, грузчиком, гидом, театральным режиссером. С 1989 года живет в США. Преподавал русский язык в Вассарском колледже (Пакипси). Переводил с английского и литовского. Лауреат премии Liberty (2010), премии «Московский счет» (2011).
ГОРАЛИК Если можно, расскажите про вашу семью до вас.
ГАНДЕЛЬСМАН Я был третьим ребенком, у меня две сестры довоенного происхождения, а я родился в 48-м, и совсем недавно, прочитав письмо папы с фронта, узнал, что они с мамой замышляли мальчика, когда отец вернется с Северо-Западного фронта. Этот замысел существовал, пока я не родился, еще три года после войны пытались меня родить – и в конце концов родили. Мама родом из Невеля, папа – из Щорса, городка под Черниговом, описанного Рыбаковым в «Тяжелом песке», фамилия Рыбаков там была известна. В детстве я часто туда ездил, и это одно из самых замечательных впечатлений. Я родился в Ленинграде, папа возил нас, меня и маму, к себе на родину, ездили однажды на своей машине, папа был военный, у него была машина, «он ее любил»… Мы жили в военном доме на Чапыгина, 5, квартира эта до сих пор существует, без папы и без мамы, там живет моя племянница с семьей. Папа был военно-морской человек, капитан первого ранга, и в сравнении со многими малоимущими людьми хорошо зарабатывал. Машина называлась «Победа», по тем временам редкость, в одну из поездок в Щорс мы на ней и отправились. Уже на подъезде попали в жуткую грозу и грязь, местные пацаны скакали возле машины и кричали: «Загрузнешь!» Ехали нестерпимо долго, с какими-то ночевками, не помню где, потому что происходило это в раннем-раннем детстве. Городишко был тогда потрясающим, он был еще местечком, так что в детстве мне удалось увидеть, что это такое. В войну там были фашисты, все усеяно братскими могилами, местные оттуда бежали. Потом они вернулись, жили единой большой еврейской семьей. Помимо того там жили, конечно, украинцы, существовали дружно и уютно. Учась в одиннадцатом классе, я съездил туда, к сожалению, ничего от этого местечкового рая не осталось. Быстро-быстро, годам к 70-м, все исчезло. А вот любовная атмосфера местечка мне запомнилась. Там жила сестра папы тетя Феня, туда регулярно наведывался его старший брат Марк. У отца была масса братьев и сестер. Брат Марк был остряк, все время пританцовывал и шутил – глупо шутил, но мне нравилось. Какие-то это были еврейско-украинские шутки, изрядно идиотские. А тетя Феня всю жизнь прожила в Щорсе, за исключением военных лет. У нее был дом, и там паслись свои Марики и Борики… К ее дочке Розочке приезжал жених, Смогаринский Саша. Он ел курицу на веранде, и куриные косточки летели во все стороны. А тетя Феня подслушивала, о чем ее дочь говорит с женихом, который потом стал мужем… Потом они нарожали своих Мариков и Бориков… Тетка подслушивала под дверью, чтобы понять, толочь мак или не толочь – то есть печь пироги или нет, будет свадьба или не будет. Эта присловица «толочь мак или не толочь» со всеми специфическими интонациями так и засела в голове. Один из Мариков всю дорогу ходил грязный, немытый, его заставляли перед сном умываться, а он кричал: «Или уши, или шею!» В общем, было много присловиц, которые привозились в Ленинград, и мы всячески, как люди интеллигентные, посмеивались, мы были ленинградцы, а они деревенские, с украинско-еврейским акцентом. Вот эта атмосфера, узкий железнодорожный мост через пути. Дело в том, что Щорс (до советской власти – Сновск, а сейчас не знаю) – это железнодорожный узел, развязка и поэтому всегда оживленное место. Весь город как на ладони, ты идешь к реке купаться и проходишь через железнодорожный мост, мимо вечного нищего с кепкой, кочегары какие-то, депо, пар из этого депо, и там чумазые машинисты сидят, мимо рынка, где умопомрачительный запах груш и дынь. Да и не только запах: все, что видишь вокруг – это место, где и время течет по-другому, все запечатлевается в виде ярких шаров памяти. Это всегда были летние каникулы, зимой я там не бывал. Вот это одно из замечательнейших впечатлений жизни.
ГОРАЛИК До скольких лет вы ездили?
ГАНДЕЛЬСМАН Впечатления эти класса до четвертого, лет до одиннадцати-двенадцати, потому что потом восприятие слабеет и человек не может так остро воспринимать жизнь, когда все очень ярко, до слез.
ГОРАЛИК Каким вы вообще были ребенком? Как вы были устроены маленький?
ГАНДЕЛЬСМАН Я все больше плакал, я думаю, не столько от обиды… Наверное, был страшно избалован. Меня обожали родители, я рос в атмосфере любви сестер, бабушки, маминой мамы Гени Абрамовны… Она была хромая и часто падала, а папа над этим посмеивался. Ее надо было поднимать, я уходил в школу, а когда возвращался, иногда из-за двери слышал ее крики, что-то на идиш типа «вейзмир», она сама не могла подняться. У нее была деформирована нога – последствия убегания от немцев и эвакуации. Она постоянно роняла палочку, с которой ходила, и падала сама, а дворники-татары, жившие напротив, когда никого не было, вскрывали топорами дверь и ее поднимали. Это был предмет папиных шуток, папа очень любил шутить, как и его старший брат Марк. Папа в меньшей степени, чем Марк, но этот еврейский идиотизм сидел и в нем, есть такие идиоты… ну, в хорошем смысле. Такой примерно, как Шагал: когда я его увидел – я увидел папу, или этот великий пианист Горовец, вы видели, как он кривляется на сцене, – за кулису уходит, рожи корчит. Вот этот весь провинциальный идиотизм по отцовской линии присутствовал. Национальная пластика в чужой среде. Но папа был партийный человек и за пределами квартиры – никакого идиотизма… Да, я плакал. Помню себя все время в слезах. Видимо, я никуда не хотел, совсем никуда, это мама хотела: «вставай в школу», «пора на музыку» и т. д., что-то невозможное. Самым невыносимым испытанием были уроки музыки. Наверное, еще до школы меня начали таскать по учителям музыки, я этого не переносил, у меня не было дарования.
ГОРАЛИК Фортепиано?
ГАНДЕЛЬСМАН Да. Дарования не было и – это взаимосвязано – не было тяги, музыка мне давалась с трудом. Помню, когда меня приводили к частной учительнице – они все, наверное, были хорошими женщинами, но запомнились какими-то угрожающими, – как только я садился за рояль, я начинал плакать, ничего не мог сыграть. Это такая любовь родительская, которая может свести с ума. Наверное, так не только у евреев, но не зря же существует выражение «еврейская мама». Из-за любви, огромной любви, в которой я не сомневаюсь, мама меня мучила восемь лет – сначала частные учителя, потом ДПШ, что значит Дом пионеров и школьников. До сих пор мне снятся сны, что я не выучил урок по музыке. Второй страшный сон – это уже в связи с институтом. Мне очень трудно было на последних курсах, я учился в Электротехническом институте имени Ульянова-Ленина, где сначала держался на школьных запасах, а потом стало невмоготу. К тому времени я начал писать стихи, более или менее всерьез, что отвлекало. И я стал учиться откровенно плохо, последние два курса – как страшный сон, вот он и снится до сих пор, не знаю, как я окончил институт, надо было любыми правдами и неправдами не загреметь в армию, все это было запрограммировано родителями. И в результате лет девять жизни – пять с половиной в институте, а потом три года в конструкторском бюро – это, как говорят эмигранты на Брайтоне, вырванные годы.
ГОРАЛИК Когда вы избавились от музыки?
ГАНДЕЛЬСМАН В восьмом классе, когда я уже обнаглел и мог перечить маме – папа был человек гуманный, он в этом не участвовал, – тогда я сказал, что все, кончено. На этом мои музыкальные мучения прекратились. Принято говорить: «Я благодарен тому-то и тому-то за то-то и то-то…» Я никакой благодарности не испытываю – при всей моей любви к родителям, которых нет уже на свете, за уроки музыки я ничуть не благодарен, это была напрасная затея. Так же они меня вынудили пойти учиться на инженера, что не соответствовало моим наклонностям, боюсь, что и наклонностей никаких не было, но инженер… Тогда казалось, что это надежная профессия – знаете эти разговоры про кусок хлеба… Какой это был кусок хлеба? Особенно, когда рухнула советская власть… Смешно…
ГОРАЛИК Что было в школьные годы вокруг вас? Какими были школа, друзья, жизнь вообще?
ГАНДЕЛЬСМАН В школе я привык, класса до девятого в се было нормально.
ГОРАЛИК Вы хорошо учились?
ГАНДЕЛЬСМАН Да, я учился хорошо.
ГОРАЛИК Это, оказывается, редкость среди поэтов.
ГАНДЕЛЬСМАН А что, поэты такие тупые?
ГОРАЛИК Очень многим просто было очень скучно.
ГАНДЕЛЬСМАН Не знаю, в чем дело, я себя, наверное, заставлял. Ведь в школе ничего сложного нет. Как говорил мой друг, чтобы хорошо учиться, надо понять, что учителю от тебя надо. Очень легко соответствовать, просто надо приспособиться. Конечно, там очень неуютно – этот урок, лучи солнца сквозь пыльные стекла, а ты за партой сидишь, все эти запахи, завтраки… Всякое бывало… Вы знаете, есть такое ощущение, когда сгораешь дотла. Это очень серьезный момент любой биографии. Например, на уроках музыки я сгорал дотла от ужаса. Можно сгорать дотла и от счастья, это не важно. В школе тоже был эпизод, в самом начале первого класса. Я без конца вертелся, учительница меня называла китайским болванчиком. Хорошо, что не еврейским. Я вертелся, но у меня оказалась прекрасная память на детали: я помню всех пофамильно, кто где сидел, в какой колонке и на какой парте. На соседней сидела Зина Крутова. Помню, как она описалась на первом уроке. Советская школа – это общечеловеческий позор. Учительница ее стыдила перед всем классом. Страшное дело… Но это лирическое отступление. Так вот, в самом начале первого класса учительница написала записку родителям, что я плохо себя веду, те должны были расписаться, а я должен был записку вернуть. Я этого не знал, видимо еще не умел читать по-письменному. Записку я уничтожил, не дойдя до дома, понимая, что там что-то нехорошее, и на следующий день учительница поставила меня перед всем классом и спросила, где записка. Это был позор, уличение во лжи… Ну надо же было маленького такого человека поставить перед всем классом и стыдить! Я тогда сгорел дотла, с ног до головы, заплакал. Бездарно учителя себя вели. Я помню эту Екатерину Александровну, она была добрейшая женщина, но, видимо, так их учили… Я с удовольствием дружил, очень общительно существовал. Но и лицемерное умение приспособиться освоил быстро. К этому обязывает любой коллектив, надо уметь перестать быть собой и стать социальным животным. Вот еще один жестокий эпизод. Это уже позже, пятый-шестой класс. Сережа Измайлов влюбился в Ларису Васильеву… – видите, я всех помню. Они за одной партой сидели. Но она благоволила другому мальчику, Славе Давыдову, он сидел впереди Измайлова. И этот, который без взаимности, ножиком – сзади под лопатку сопернику, чуть-чуть, к счастью, поцарапал слегка… В общем, устроили пионерский суд. Опять же учителя шибко умные, все вынесли на суд, на какой-то пионерский сбор. Я дружил как раз с обидчиком, и надо было его осудить. А я не мог этого сделать, не помню, что я сказал, но я не осудил. Это не по смелости – дружба была важнее. Хорошо я поступил или плохо, не знаю, где-то посередине. Учительница сказала: «Ты сидишь на двух стульях». Суд свершился над всеми… Это школа начальная… Грустные времена продолжались и в другой школе – там началась производственная практика. Два дня в неделю из нас пытались сделать токарей. Шершавые два года, потому что я ничего не мог, я падал в обморок на заводе – ну, по избалованности, из-за неумения держать напильник… Это был кошмар, я прогуливал… а потом привык, приспособился и окончил школу почти на «отлично», потом два года в институте мог ничего не делать. В школе было отлично с физикой-математикой, а по русскому-литературе – четверка.
ГОРАЛИК А что вас в этот момент интересовало?
ГАНДЕЛЬСМАН Например, я был увлечен театром, увлекся рано, классе в пятом-шестом.
ГОРАЛИК А как это произошло?
ГАНДЕЛЬСМАН Ну, драмкружок рядом, друг меня туда затащил, сам он быстро выбыл, а я остался надолго. Играл в спектаклях, а когда повзрослел, школу окончил, это было место дружбы. Группа ребят, некоторые стали профессиональными артистами, каких-то знаменитых не получилось, но некоторые играли… Увлечение это абсолютно исчезло. Я, правда, страстно хочу написать что-нибудь для театра, но у меня не получается, нет драматургического таланта. Вообще я считаю, что театр – это гениальное изобретение, не будь в нем людей, потому что работники театра – больные люди, за очень редким исключением. Атмосфера больная. Наверное, любая артель – со стороны – состоит из чокнутых. Тем не менее я очень многих театральных людей знал и обожал театр, потом уже просто как зритель. 60-е годы – это расцвет БДТ в Ленинграде, и не только БДТ, это был расцвет театрального искусства, что, на мой взгляд, неслучайно, потому что в империи театр цветет и пахнет. Император ведь обожает театр, место в первом ряду, он и сам актер, как было в случае Нерона и многих-многих других. Вспомните актерские повадки Гитлера… Но действительно театр был такой, что сейчас, даже когда вижу лучших актеров, все это, на мой взгляд, никуда не годится по сравнению с тем, что было. Смоктуновский, Лебедев, Борисов… Созвездие гениев в одном коллективе. Так что увлечение было оправдано таким роскошным существованием театра. Почему так все происходило? Не только по эстетическим причинам. «Горе от ума» казался антисоветским спектаклем, искали подтексты, и небезуспешно. В «Ревизоре» Басилашвили играл Хлестакова, на вопрос «как дела?» отвечал: «Да так как-то все!» – и делал жест: мол, берут за горло, и воспринималось так, будто речь о Советском Союзе, хотя это Гоголь, «Ревизор», пьеса, прекрасная и без каких-либо намеков… Помню, в это время я встретил замечательного человека, может быть, это продлило мою любовь к театру, Ивана Митрофановича Куницына, он был выдающийся режиссер, профессионал, но он был «голубой». Я слышал, что такие люди существуют, но как-то отдаленно. Я был в него влюблен. Это интересный опыт, потому что я его обожал как человека, совершенно несексуально, у меня не было этих склонностей, но я был влюблен. И однажды он меня пригласил к себе домой. Я был юный еще и не знал, что такое секс. Он стал меня раздевать, очень медленно так рубашечку расстегивать, коньяком угостил, музыку поставил… Очаровательнейший человек, он не мог в театре работать, там его, по-видимому, не держали, поэтому он ставил на телевидении, а одновременно вел студию художественного слова в нашем районе, куда я и попал… Да, я пришел к нему в гости… Пришел, но сбежал. Помню, как заявился домой и как был потрясен тем, что мне придется бросить эту студию. Это был крах любви. Если бы у меня была хоть малейшая биологическая склонность к гомосексуализму, то, конечно, все бы произошло по взаимному любовному согласию… Он приглашал выдающихся артистов в нашу маленькую студию, они выступали, читали… Ну а потом я разочаровался.
ГОРАЛИК Был какой-то момент, когда вы думали поступать на актерский?
ГАНДЕЛЬСМАН Я поступал в Ленинградский театральный институт. К счастью, меня не приняли. Почему «к счастью»? Потому что прожил бы веселую и бесшабашную жизнь. Это неправильно. Я видел, как это происходит, на примере многих знакомых… Как-то так получилось, что жизнь все равно сталкивала меня с театром, кино. В четвертом или пятом классе пришли с «Ленфильма» отбирать мальчика в какое-то кино. И отобрали меня, одного из всего класса, я позорно этим гордился. Хотя я стеснялся и был скромный мальчик, но вот отобрали. И я, как потом шутил один человек, создал запоминающийся образ спины гармониста. В фильме «Девчонка, с которой я дружил» можно увидеть спину проходящего мальчика – это я. Много позже мой друг работал в кино композитором. Это был забавный и обаятельный человек, у него в пропуске на «Ленфильм» было написано «композир» вместо «композитор», по ошибке. Так я его и называл – композир. В титрах фильма «Мой друг» композитор – Нодар Киквидзе. Я попал на просмотр фильма, когда его никто еще не видел, восемьдесят какой-то год, правдивое кино, одно из лучших в нашем околотке. Ну и режиссер ничего, он, по-моему, считает себя гением. Как все они. И как-то я был приобщен: маленький зал, просмотр. Фильм закончился, я ему говорю: «Композир, а где тут музыка?» Там один фашистский марш, переделанный под советский, – и вся музыка, больше ничего. Что такое актерское поведение? Он приходил на худсовет, ему задавали тот же вопрос, что и я задал: «Где музыка?» Двадцать лет он числился на «Ленфильме» композитором, но, по-моему, не написал ни одной ноты. На худсовете он выстукивал музыку: «Вот, будет примерно так», – все так и тянулось, и тянулось… Потом они хотели с помощником режиссера, работавшим на «Моем друге», с Колей Седовым, сделать фильм «Афродита», рок-оперу. По тем временам это лихо звучало. В общем, не состоялась рок-опера… Нодар умер, Коля умер, «осталась одна Таня»… Вот такое лихое актерское существование, при этом всегда навеселе, всегда рядом красивые женщины, помимо жен и детей, которые как раз не рядом. В два часа ночи, бывало, он заваливался ко мне, и моя жена, бывало, спускала его с лестницы, потому что мы жили в коммуналке, негде было пить водку, кроме как на кухне, а тут соседи – полный завал. Но он запросто заходил, так повелось в те годы. Бесшабашная пошловатая жизнь. Пошлость очень приманчива, соблазнительна, и в актерской жизни ее так много. Я не имею в виду великие случаи, впрочем, они редки…
ГОРАЛИК Расскажите про институт?
ГАНДЕЛЬСМАН Институт – бездарное времяпрепровождение. Весело, но бездарно. Знаете, стройотряды какие-то, инерционно вынужденная жизнь, по институтским законам того времени. Надо было в стройотряд поехать – поехали. Я не знаю, что происходило, дружбы… – у меня остались приятельские отношения, милые, замечательные люди, они пошли своим путем… В то время я уже писал, но все, что я писал тогда, не сохранилось, у меня ничего не получалось. Первое из того, что сохранилось, – это 75-й год, тогда я уже ушел с инженерной работы, мне было двадцать семь лет. А еще на последнем курсе института я женился – так, фактически на год женился, но появился сын… Сын прекрасный, но все было неправильно. Развод, отсутствие жилья, денег. Заводить семью в таком положении… – только советские дети могли заниматься этими глупостями. Короче говоря, попал в конструкторское бюро «Электроавтоматика». Там я три года проспал, но уволить «молодого специалиста» нельзя было. Я категорически ничего не хотел делать, и не делал, помню, что я там перевел «Охоту на Снарка» Льюиса Кэрролла. Это был чуть ли не первый переводческий опыт, я не знал английского, но у меня была подруга, которая мне делала подстрочник, и я сидел там и переводил. А поэма довольно большая… Это был один из способов существования на службе. Остальное время – просто руки положишь на стол и спишь. Моя специальность называлась «системы автоматического управления летательными аппаратами», боюсь летать с тех пор, потому что если такие люди, как я, делали что-то, то это все летать не может, не должно. Правда, я ничего не делал… Честно говоря, я просто ждал окончания срока. Я его отбыл день в день, уволился и ушел в сторожа, куда уходили тогда многие. Но я был один из первых, я уходил в никуда, это не было еще очень уж модно. Более всего горжусь тем, что попал в угольную котельную, потому что в дальнейшем поэты работали все-таки в газовых, а у меня была настоящая, угольная. Я был в саже весь, черный, на берегу Невы, это было потрясающее место у Елагина моста. Там я начал жить. До этого, как я сказал, был перерыв на девять лет: институт и служба… До школы, детство все – абсолютно гениальное время. И потом, когда я освободился от социума… Я был снова женат, но вторично я женат уже больше тридцати лет…
ГОРАЛИК Каково было оказаться этим новым, освободившимся человеком?
ГАНДЕЛЬСМАН Это было восхитительно.
ГОРАЛИК Как был устроен день?
ГАНДЕЛЬСМАН Добавлю смеха ради – я нежилой дом отапливал. Это очень по-советски. Двухэтажный дом, правда, там иногда обитала какая-то администрация, но в принципе абсурд… Работа называлась «сутки через трое», этим она и привлекала: сутки работаешь – трое отдыхаешь. Уголь подкинул – и читаешь, гуляешь вокруг да около, а там замечательное место, Крестовский остров, ведь это же Петербург. Туда Блок наведывался, «вновь оснеженные колонны, Елагин мост и два огня…». Ну и полная свобода. Свобода, конечно, не денежная – какие там деньги, копейки, – и если бы не родители, которые продолжали мне помогать, протянул бы ноги… Зато свобода. Родители были растерянны. Мама до самой своей смерти говорила: «Сынок, может, вернешься в инженеры?», хотя к тому времени у меня уже книжки вышли и я давно забыл, чему равен икс. Мама. Желание добра без ориентации на местности. Она-то инженером проработала всю жизнь в каком-то НИИ, и у нее не укладывалось в голове, что ее сын не какой-то уважаемый человек, инженер, а истопник. Она стеснялась. Думаю, никому об этом не говорила. Родня знала, но самой ей рассказывать эти вещи было бы неприятно. Вот такое советское воспитание. Мама к тому же была оптимистка – вы знаете, эти выходы на демонстрации со своим НИИ, она меня брала с собой. Двоякое событие, потому что это не только глупость, но и радость, детство, сияющие лица, шарики… Это радость именно в детстве, потом начинаются другие дела. Бывало, мы и подростками на демонстрацию ходили, но там уже какие-то флаги воровали, хулиганили, ничего хорошего. И вообще, все, что происходит не в детстве, малоинтересно, на мой взгляд. Я согласен с Левой Толстым – по-моему, он сказал, что все самое важное происходит с человеком до пяти лет примерно. Все события, все основное происходит в это время. Нет, интересного много, но вот запечатленность – я не знаю, все люди устроены поразному, но, наверное, степень яркости и запечатленности исчезает. А интерес – конечно, культура – это же сплошная интересность. Все любопытно, но в этом нет абсолютной обязательности – вот в чем отличие от безусловных горящих шаров памяти, вынесенных из детства. Они вроде снов: во сне все безапелляционно, что бы ни происходило. Абсолютная безусловность, даже если ты проходишь сквозь стены или лежишь на потолке – во сне нет вопросов. А потом мы становимся культурными людьми, начинается игра в культуру. Это, конечно, чудно, на этом держится оболочка, поверхностное существование человека. Без условности нельзя, она вносит порядок какой-то… С другой стороны, повторяю, обязательности нет… есть много игры. Я с удивлением прочитал у поэта Льва Лосева: «Тогда я понял главное: что поэзия – это игра». Есть такая точка зрения. Это очень существенное высказывание и очень, по-моему, неверное. Мне кажется, что Лосев в своих лучших стихах отнюдь не играет. Он очень хорошо умеет играть, он технически безупречный мастер, но его лучшие стихи, удачи самые большие – там дело не в игре.
ГОРАЛИК Как все происходящее с вами в то время выносили жена, дети?
ГАНДЕЛЬСМАН Страшно вспомнить, все время на грани развода, маленькая дочка появилась, все в одной комнате, рядом соседи. Мы их называли «микроцефалы». Действительно, они были маленькие, по метр пятьдесят ростом, муж, жена и бабка с ними, они не знали грамоты. Где-то я в стихах писал: «Крик обезьян за стеной…» Это действительно были, господи прости, обезьяны. Он жили животными инстинктами. Например, поскольку в комнате дочь спала, мы ели на кухне, а кухня крохотная – два стола, – если у нас на столе появлялась бутылка вина, сосед мгновенно бежал в магазин за вином, причем таким же. Инстинкт животный, но свойственный только людям, – то же самое иметь, сейчас, немедленно. Хотя это зависть, обычное человеческое чувство, но оно у него срабатывало на каком-то желудочном уровне. Примечательные были люди. Она говорила так: «Я стирала шлага на твоем пинжаке, а оно как было, как и есть». Радио еще она слушала – вскакивает и пересказывает юмористическую историю: «Представляешь, а у него на жопе фургон». Слов не знала, перепутала с фурункулом. Фантастические соседи… Моя жена – строгая женщина, совершенно непьющая, а я прилично выпивал в молодые годы, и, естественно, были проблемы. Как мы удержались – трудно сказать… Безденежье, жизнь лоб в лоб в одной комнате, друзья непрерывно снуют, кухня, вино, водка… Попробуйте уцелеть в такой ситуации. Но ничего, уцелели.
ГОРАЛИК Сколько лет длилась такая жизнь?
ГАНДЕЛЬСМАН До тех пор, пока жена не получила жилплощадь. Она историк по образованию, но пошла работать в ЖЭК за жилплощадь. Таким образом у нас появилась квартира.
ГОРАЛИК Коммунальная?
ГАНДЕЛЬСМАН Да, на улице Чайковского, потому что на Петроградской, где жили мои родители, места не было. И вот ее героическими усилиями была приобретена жилплощадь, пусть служебная, но в центре города, там мы кантовались долго, лет десять, если не больше. Потом удалось получить свою, за длительную службу в ЖЭКе, на Воинова, под Большим домом, под этим омерзительным логовом КГБ, рядом. Вот уже оттуда я уезжал в Америку. Еще там жили сколько-то лет, до 91-го года.
ГОРАЛИК А кто были люди вокруг?
ГАНДЕЛЬСМАН Мои друзья. Разные люди вначале, а потом все сузилось до двух: Лев Дановский и Валера Черешня – вот два друга, один из которых умер в 2004-м, Лев, а Валера в Питере, он одессит, но с начала 70-х живет в Ленинграде. Были, конечно, и не такие близкие, не то чтобы друзья, а очень добрые знакомые, приятели, их много.
ГОРАЛИК Это было завязано на текст?
ГАНДЕЛЬСМАН Было, конечно, мы варились в одном котле. Ленинградские литературные объединения нас не коснулись. Ни «Клуб-81», где Кривулин и прочие, ни другие компании. Мельком видели этих людей, но никаких человеческих и литературных отношений с ними не имели. Не сдружились не «потому что», а так получилось. Если бы попали в их компанию, наверное бы, сошлись. Там были и замечательные люди, и менее замечательные, всякие.
ГОРАЛИК А каково было чувствовать себя поэтом?
ГАНДЕЛЬСМАН До сорока с чем-то лет я напечатал одно стихотворение в журнале «Аврора», когда я был еще в институте. Оно не сохранилось. Это было, кстати, большое счастье, я участвовал в конференции молодых писателей Северо-Запада. Проводились такие конференции в Питере раз в два года, и я студентом участвовал, Глеб Семенов возглавлял наш семинар. И было порекомендовано одно стихотворение, и оно было напечатано. Я думаю, что это событие было очень счастливое, потому что я был юн. Молодых надо непременно печатать. Как писал Черешня в одном стихотворении: «Дарить нам счастье надобно тогда, / когда оно для нас немного счастье». Будь моя воля, я бы премии, например, ограничил возрастом лет до тридцати. Премии, награды – это же потрафление тщеславию, и это может приносить некоторое время радость, пока человека не начинает тошнить от собственной глупости. Хотя глупость может длиться всю жизнь. Вот то время: силы кипят, сказать нечего, и еще хочется за это каких-то поощрений. Ситуация наипечальнейшая. Пожар в публичном доме во время наводнения при полной проверке документов.
ГОРАЛИК А ближний круг?
ГАНДЕЛЬСМАН А ближний круг – это такая бочка. В результате к 80-му примерно году я понял, что бочка прочно закупорена, огурцы все те же. Мне надоело. Когда подвернулась возможность уехать, – по многим причинам это было очень тяжело, я расставался с женой, но понимал, что необходимо поменять жизнь, она стала слишком привычной, – я уехал. Недавно вышел на какой-то платформе здесь, в Америке, и вдруг такое состояние: сначала черный прошел, мне показался знакомым, потом китаец прошел, и тоже мне показался знакомым. Я подумал: вот это и есть старость, когда все типы людей исчерпаны и кажется, что ты их встречал раньше… Короче говоря, я понимал, что надо что-то менять. К сожалению, такого совершенства, когда ничего можно не менять вовне, а измениться самому, я не достиг, необходим был внешний толчок.
ГОРАЛИК Но переезд в Штаты – это ведь сильная перемена декораций.
ГАНДЕЛЬСМАН Штаты подвернулись, это не было спланировано. Моя близкая подруга уехала в 70-е годы, она и нашла мне работу инструктора – не профессора, у меня же никакого звания нет. В общем, она убедила кого-то, что меня можно взять как инструктора по русскому языку, обычным преподавателем. Я поехал, оставив жену и дочь в Питере и полагая, что эта работа будет года на два.
ГОРАЛИК Получалось, что человеку, которому не давали стать поэтом, вдруг дали возможность почувствовать себя таковым?
ГАНДЕЛЬСМАН Да нет, очень долгая история… Случилось такое совпадение: женщина, по инициативе которой меня приняли, была ближайшим другом Бродского, Маша Воробьева. Она преподавала там же, в Вассаровском колледже. К несчастью, умерла, это случилось в 2001-м… Мне кажется, она была ближайшим другом Бродского здесь, в Америке. Человек уникальной доброты и строгости выражения своих чувств, никогда о Бродском не писала, не хотела оставлять воспоминаний. Преданность и чистоплотность. Стихи мои попали к Бродскому за несколько лет до этого, и он мне написал письмо. Через кузину, которая жила в Париже, я передал ему стихи в 85-м году. И когда Маша брала меня на работу в Вассар, у нее было мнение Бродского. Что же касается поэтического признания, то его не было, за исключением доброжелательного письма Бродского, что не имело отношения к перемене места жительства и переезду в Америку, потому что стихи я хотел показать Бродскому всегда – он был кумиром нашей молодости, и мы обожали его стихи. Ничего в этом смысле не переменилось, я их очень люблю и сейчас. Поэтому его одобрение, которое я получил в те годы, было моральной поддержкой. Первую книжку издал Игорь Ефимов, любимый мною человек, философ, прозаик и создатель издательства «Эрмитаж». Я к нему подошел на какой-то конференции, он сказал, что издает поэзию только в тех случаях, когда порекомендуют Бродский или Лосев. Тогда-то я второй раз обратился к Бродскому, исключительно по делу. Бродский при мне снял телефонную трубку, набрал номер Игоря Марковича и сказал, что надо издать. Двух слов было достаточно, хватило бы и одного, поскольку оно было здесь законом. Ну и правильно, кстати говоря. Бродский быстро и по-деловому помог, и я ему бесконечно благодарен за это… Они жили с Машей Воробьевой долгие годы в одном доме – по-моему, это Маша когда-то нашла ему жилье в Нью-Йорке, на Мортон-стрит, в Нижнем Манхэттене. Он жил на первом этаже, Маша – на втором, и когда я приезжал в Нью-Йорк, я останавливался у Маши. В начале 90-х Бродский переехал в Бруклин, в 95-96-м годах его уже там не было, а мне негде было жить, работа в колледже закончилась, я жил в квартире Маши, и там меня застала смерть Бродского. Он тоже часто живал в этой квартире, скрывался от звонков, работал. Я пас кота Миссисиппи. У дочери Иосифа Александровича была аллергия, они не могли взять кота с собой, и он остался у Маши. И вот этот кот был со мной. Тоже история забавная, немного мистическая. Дней через десять после смерти Бродского просыпаюсь и вижу – я закрывался в спальне, чтобы кот ко мне не лез, потому что он прямо на голову садился, – вижу, что вся гостиная в голубиных перьях. Зима. Окна все закрыты. И кот спит в кресле. Прохожу в гостиную, заглядываю в эркер. На столе сидит голубь. Я испугался, потому что все окна закрыты. Кот его потрепал по ходу ночи, но вот: сидит живой голубь. Я быстро открыл окно, и он вылетел на улицу. Потом, по следу от перьев, я догадался, что он упал в дымоход. Я спрашивал хозяина этого дома и Машу Воробьеву, которая прожила там очень много лет, бывало ли такое. Нет, никогда. Не сомневаюсь, что это Бродский прилетал. При этом незадолго до «бродскоявления» мой нью-йоркский приятель Саша Алейник, очень талантливый поэт, оставил на столе свою рукопись, он всегда хотел знать мнение Бродского. Все поэты, особенно те, которые здесь жили, пытались сунуться к нему. Саша был у меня в гостях и оставил рукопись в этом самом эркере, на столе, за которым Бродский часто сидел и работал. Голубь его рукопись, конечно, пометил соответствующим образом. Потом я ему сказал: «Хочешь знать отношение Бродского к твоим стихам? Вот оно».
ГОРАЛИК Каково было осваиваться здесь?
ГАНДЕЛЬСМАН Понимаете, у меня была особая история. Я попал в тепличные условия колледжа, на все готовое – жилье, еда, общежитие, поэтому с трудностями эмигрантской жизни не столкнулся. Но всяких психологических эффектов хватало. Вы знаете, что такое частные колледжи, есть очень богатые, тогда обучение стоило двадцать пять тысяч в год, сейчас все пятьдесят, там учились дети состоятельных родителей. Это замкнутый мир, в котором есть все, как Бродский писал, «от телескопа до иголки». Там свои стадионы, свои бассейны, своя обсерватория – ну все, можно не выходить за пределы этого городка. Помню ощущение обиды, мне было до слез обидно. Я вспомнил свой институт и те условия, в которых мы жили. В какой нищей, а точнее – обворованной стране мы жили… Вот такое было чувство. Я слышал историю об Андрее Тарковском, когда он попал за границу и мечтал увидеть какое-то полотно. И он попал в этот городок и в этот храм, где эта картина была. И вдруг в последний момент отказался взглянуть на нее, что-то в этом роде. Мол, не могу: я увижу, а мои любимые не увидят… Если это было так, то я его хорошо понимаю… Я попал в совершенное одиночество, но не страдал от этого, потому что слишком был пресыщен однообразием питерского дружества и братства. А сосредоточенного времени появилось гораздо больше – да оно все было таким, за исключением нескольких часов преподавания. Кроме того, мне нравилось преподавать. Там русских почти не было – по большей части избалованные детки. Детки пьют пиво, занимаются сексом, кто поспособнее, тот учится, но так, вполсилы. Шикарное такое место. Дети сносные, хотят или не хотят учиться, но, знаете, это американская культура, он, может быть, ни одной книги не прочитал, но воспитанный человек. У него в голове пусто, но он никогда не нахамит. В России наоборот: бывает, умный человек – и хам, правда? Какие еще впечатления? Ничего, кроме одиночества, хорошего одиночества, сосредоточенного времени, которое раньше уходило на болтовню и всякие тусовки. Никаких тусовок… Я в этом колледже задержался. Поскольку приехали жена с дочерью и они не захотели возвращаться, меня там милостиво оставили. В результате я провел там четыре года вместо положенных двух. А потом надо было делать green-карту, бороться за существование. Масса всяких формальностей, адвокатов, но это уже неинтересно… Факт тот, что мы получили green-карты, а потом стали гражданами Америки.
ГОРАЛИК Это часть мироощущения?
ГАНДЕЛЬСМАН Нет, совсем нет. Я очень рано перестал быть социальным человеком, начиная с кочегарки… У меня двойное гражданство, но я никогда не чувствовал себя в России гражданином России, никак себя в государственном контексте не вижу и этих слов не понимаю. Хватит уже любить свою Родину. Одного немецкого политика, канцлера, спросили, любит ли он Германию, он ответил: «Я люблю свою жену». Нормальный ответ. Что это за любовь к Германии, России? Что за вопрос? Это комплекс неполноценности. Если любишь, нет вопроса. В России интеллигент постоянно занимается тем, что презирает свое государство. Зачем? Берегите Родину, живите за границей!.. Мы получили гражданство, гражданство – это важная формальность. Знаете, старость, пенсия…
ГОРАЛИК Дочка взрослая?
ГАНДЕЛЬСМАН Дочка взрослая… Да у меня сын уже мой ровесник! Он оказался своими путями в Америке, женившись в Питере на американке. Дочке двадцать восемь, она художник, работает в Гуггенхайме. Окончила Корнельский университет, участвовала в нескольких выставках, у нее есть великий учитель, мой ленинградский товарищ Толя Заславский, который ее признает. Он изумительный художник. Я же не могу ничего про это сказать – дочь, во-первых, а во-вторых, я не специалист. Считаю, что о стихах могут говорить только поэты, а о живописи – только живописцы, критикам не доверяю… О чем еще вам рассказать? О работах своих, что ли… Были работы самые удивительные. Например, «Салон красоты», Невский, 90. Директором была Елена Александровна, очень некрасивая, прости господи, женщина, но с хорошо поставленным юмором. Пьющая, утром приходила, не протрезвевшая еще, ложилась в своем кабинете. У нее было приятное чувство слова – если я выходил в зал, говорила: «Вальдемар (она меня называла Вальдемар, а мою жену Аллу – Олимпия), ваше место на помойке». И я убирался восвояси. «Восвояси» – чудовищное слово, вы не находите? Час-полтора я ломал коробки и связывал их, чтобы они не загромождали проходы. Помню, сочинил стихотворение, оно начиналось так:
Елена Александровна была
собой нехороша, нехороша,
Елена Александровна пила
и говорила мне «моя душа»,
я в парфюмерном офисе служил,
коробки я ломал из-под духов,
и так как я духовной жизнью жил,
то и писал пленительных стихов.
Такая была духовная работа, духовитая. Тогда французские духи были редкостью – Climat за двадцать пять рублей, синенькие коробочки, еще какая-то невидаль. Надо было как-то зарабатывать, я покупал, потом перепродавал на пять рублей дороже. Нищета, работал в кочегарке и одновременно срывался на Невский коробки ломать… Работал помощником банщика. Было время, когда запретили пиво в банях. Ну какая баня без пива? Я должен был пиво поставлять с черного хода, потом бутылки собирать. Наутро мы с моим приятелем эти бутылки сдавали. Ночная работа, черные лестницы, я помощник банщика, адская работа… Что еще? Работал Дедом Морозом в фирме «Невские зори» в самые мрачные советские брежневские годы… «Невские зори», Дед Мороз по вызову… Очень часто это мать-одиночка, которая заказывает Деда Мороза накануне Нового года. Объезжали на машине по восемь домов, к последнему дому – все как в анекдоте: «А теперь, детки, давайте позовем Снегурочку…» – в каждом доме ведь наливают… Трогательно, ребенок встает на табуреточку и что-то тебе читает наизусть, а ты – ему. Между дверями подарок спрятан… Эти однокомнатные страшные новостройки запали в душу, приезжаешь в хрущевки, и тебе эта мама, несчастная рабочая лошадка, смертельно уставшая после службы, впихивает подарок в дверях, как будто ты его привез, Дед Мороз… – жалкая картина, пробирающая, осталась в памяти… Водил экскурсии в Петропавловской крепости… В Петропавловке у меня папа работал, уже в пенсионном возрасте… И много-много других работ, которые сейчас не припомню. Ну, самые экзотические я назвал.
ГОРАЛИК Есть у вас хобби?
ГАНДЕЛЬСМАН Да нет, в самом раннем детстве марки собирал, а потом совершил немыслимый поступок, такая беспамятная щедрость возможна только в детстве. Я собрал приличную коллекцию марок. Однажды вынес портфель во двор и подарил какому-то мальчику. Потом, к стыду своему, с сожалением об этом вспоминал. Не знаю, куда этот мальчик подевал марки и куда сам подевался – по-моему, он во флот пошел: у нас флотский дом был, много адмиралов всяких. Когда мой отец получил квартиру, еще в 30-е годы, до моего рождения, дом был заселен морскими офицерами. Морская форма красивая, поэтому вокруг всегда было много красавцев моряков.
ГОРАЛИК А из вас не пытались сделать военного?
ГАНДЕЛЬСМАН Нет, и не пытались, и не хотели, а вот сделать порядочным инженером, конечно, хотели. Не вышло.
...
Осень 2007 года
Дмитрий Кузьмин
...
Кузьмин Дмитрий Владимирович (р. 1968, Москва). Окончил филологический факультет Московского педагогического государственного университета (1993). Преподавал литературу в гимназии, различные дисциплины (античную литературу, мастерство художественного перевода) в вузах. Кандидат филологических наук (2005). Переводил с английского, украинского, французского, белорусского. Культуртрегер, инициатор ряда литературных объединений, изданий, проектов. Главный редактор издательства «АРГО-РИСК», журнала «Воздух». Лауреат премии журнала « Арион » (1998), премии Андрея Белого (номинация «За особые заслуги», 2002), малой премии «Московский счет» (2009).
ГОРАЛИК Расскажите, пожалуйста, про вашу семью до вас?
КУЗЬМИН Я про свою семью знаю сравнительно много (хотя, конечно, смотря с кем сравнивать), так что это может быть долго – и к литературе имеет косвенное отношение, хотя соответствующая тема все время возникает: по материнской линии я, стыдно сказать, профессиональный литератор в третьем поколении. Почему стыдно? Потому что, говоря это, ожидаешь в ответ иронической ухмылки: понятно, пришел на готовенькое, нет чтоб самостоятельно выбиться, так сказать, из народа в люди. Даром, что ли, Игорь Олегович Шайтанов, этот профессор Каченовский нашего времени, о котором еще речь впереди, одну из самых злобных погромных статей против новой поэзии начал с мемуара о том, как моя бабушка в былые годы в Доме творчества писателей в Переделкино ему с нажимом читала мои детские стихи. И иди теперь отмазывайся: ну да, читала, наверное, а по некоторой аскетической суровости обращения, вполне возможно, и с нажимом читала, но ведь не в «Пионерскую» же «правду» засовывала… А главное – ежели б тут фокус был в какой-то протекции, а не в более возвышенных и трудноуловимых зависимостях, то уж всяко оказался бы я по одну сторону баррикад с профессором, в стане постсоветского истеблишмента… Впрочем, это меня сразу несет в сторону полемики, извините. Если вернуться к генеалогическому сюжету, то я гораздо лучше ориентируюсь, напротив, в отцовской линии, потому что бабушка моя по отцу, ныне здравствующая на девяносто девятом году жизни, не поленилась в какой-то момент написать для внутрисемейного пользования мемуары, с довольно подробным отчетом про всяческих своих дедушек, бабушек и дядьев, которых было много. Эта линия бабушки по отцу – вполне еврейская, основные родовые фамилии там – Коган и Равикович. Ее дед, а мой прапрадед происходил из семьи, занимавшейся какой-то лесоторговлей примерно в брянско-гомельских краях, в окрестностях города Клинцы, и существует невыдуманная история о том, как бабушкин брат, дядя Даня, в 60-е годы двинулся туда припасть к корням (их с бабушкой оттуда вывезли в бессознательном младенчестве), но вернулся чернее тучи и наотрез отказался вообще об увиденном рассказывать. Можно себе вообразить, конечно, что произошло с этим городом за соответствующие полвека. У меня, кстати, была похожая история: в самом начале 90-х мы с моим супругом в поисках приключений отправились путешествовать по постсоветскому пространству, путь наш пролег мимо города Броды, прародины всех Бродских на свете, – и у меня была тайная мысль, которую я озвучил, уже подъезжая, что надо, значит, выйти посмотреть, вроде как поклониться. Мы вышли на привокзальную площадь, посмотрели на нее – и бегом побежали обратно на поезд, пока он не ушел. В тех же бабушкиных мемуарах содержится немало сочных подробностей о моих пращурах – вроде того, например, как один из моих прапрадедов держал где-то там же в Клинцах лавку, но очень не любил в ней работать, поэтому он посадил там жену, а сам уехал в Париж и жил в Париже, тогда как в лавке сидела и торговала его жена. Это был большой разветвленный род, с которым в около– и послереволюционные годы произошли многочисленные пертурбации: один мой двоюродный прапрадед погиб под Ростовом в качестве красного комиссара и бегло упоминается в записках Юрия Трифонова как соратник его отца, другой стал сравнительно известным в 30-е годы журналистом, вместо природной фамилии Равикович стал подписываться звонким именем «Иосиф Раневский» и вошел в анналы как первый биограф сталинского стахановца-железнодорожника Петра Кривоноса, третий через Харбин убыл в Палестину, и его внучка, а моя четвероюродная бабка по имени Далия Равикович стала одной из самых крупных ивритоязычных поэтесс Израиля, а самая младшая двоюродная прабабка была в 20-е годы молоденькой пианисткой, также со звучным псевдонимом «Ролли Раич», аккомпанировала уже давно не юной звезде петроградской оперной сцены лирическому тенору Роману Чарову-Чарини, вскружила ему голову и вышла замуж, – и от этого Чарова-Чарини через эту Ролли Раич, которую я еще помню, мне достался здоровенный средневековый накладной кошелек из оперного реквизита, несколько лет украшавший мою первую собственную квартиру в Чертаново, пока кто-то из случайных гостей его не срезал со стены и не стащил. Глядя на блестящую юную тетку Ролли, захотела стать пианисткой и моя бабушка, Агнесса Иосифовна Коган, – солистки из нее не вышло, и она полвека проработала концертмейстером в музыкальной школе имени Гнесиных. И муж ее, мой дед по этой линии, был подающий надежды виолончелист, – они, собственно, познакомились в консерватории. Про него я мало что знаю, кроме того, что он приехал в Москву из Баку и, как я понимаю, был более или менее без роду без племени, но у него был старший двоюродный брат, который его вытащил из этого самого Баку, и он был сравнительно известный в околовоенные годы кинорежиссер Владимир Легошин. Соответственно, дед мой, Константин Легошин, погиб на войне. А бабушка осталась с двумя сыновьями: моим отцом, тоже Владимиром Легошиным – в честь двоюродного дяди, и его младшим братом. Предполагалось, естественно, что и дети будут музыкантами, с младшим братом это и произошло, он стал скрипачом, и я в годы юношества, неизменно исполняя во всяких дружеских компаниях роль тамады (это при том, что я не пью), имел привычку любой тост начинать со слов: «Мой дядя работает скрипачом в областной филармонии» – поскольку в семейных застольях именно дядя-скрипач играл первую скрипку; один раз даже, помнится, под какое-то особенное торжество был предуготовлен тост в рифмованной форме:
Мой дядя самых честных правил —
Облфилармонии скрипач.
Зачем его сюда я вставил —
И сам я не пойму, хоть плачь.
И так далее. Ну, а отец мой пошел против этого течения. Первоначально-то он, как старший сын, учился играть на той же виолончели, что и отец, но в итоге…
ГОРАЛИК Буквально на той же?
КУЗЬМИН Наверное, нет все-таки: трудно вообразить, чтобы инструмент пережил эвакуацию и все прочее в таком духе. Но тем не менее идея была, как это часто бывает, во второй попытке. Есть его очень трогательные детские фотографии с виолончелью, и с этими фотографиями была отдельная история, потому что вообще по этой линии осталось сравнительно много фотографий: прадеды, прапрадеды, прапрапрадеды – начиная с рубежа веков. И они у меня лежали и даже на всякий случай были оцифрованы. А когда в издательстве «Новое литературное обозрение» готовилась книга стихов Бориса Херсонского «Семейный архив», то художник издательства по логике этой книги сделал обложку в виде коллажа из старых фотографий, но фотографии были, видимо, из его собственного архива и оказались катастрофически славянскими, что для книги Бориса Херсонского, вся соль которой в том, что это такой рассыпанный эпос погибшего народа – евреев Восточной Европы, – никак не годилось. И поскольку времени разбираться не было, то мне пришлось оперативно заменить на этой обложке родственников художника моими родственниками, в результате чего мы с Борисом Херсонским вступили, я бы сказал, в такое тоже своеобразное родство. Так вот, на самом видном месте обложка «Семейного архива» украшена круглолицым мальчиком с виолончелью – и это мой отец. Но музыку, однако, он быстро бросил и занялся вместо этого архитектурой, которая, как мы помним, есть застывшая музыка. Правда, эту максиму папа вряд ли поддержал бы, потому что он, собственно, специалист по проектированию крупных медицинских учреждений, лауреат последней, 1991 года, Госпремии СССР за спроектированный им Всесоюзный кардиологический центр, а новейший его объект, Центр детской гематологии, давеча лично Путин приезжал открывать.
По материнской же линии история была примерно такая же: разветвленный еврейский род со стороны бабушки и нечто не совсем ясное со стороны деда. Но разница в том, что в отцовской ветви ощущение рода, клана дожило до моей бабушки: ей было важно и интересно, кто кому родня, и я тем самым имел возможность соприкоснуться и ознакомиться. А бабушка моя по матери, знаменитая переводчица Нора Галь, была ко всему этому глубоко равнодушна. Кроме основного занятия, художественного перевода, ее не очень-то многое в жизни волновало. Вернее, волновали какие-то возвышенные материи: скажем, сохранилось сочиненное ею «письмо в будущее», адресованное мне взрослому в тот момент, когда мне было восемь, что ли, лет, – ужасно трогательное: что вот-де через десятилетия вернется к Земле такая-то комета, и хорошо было бы, если б я проследил, что о ней узнают ученые, потому что ей это сейчас очень интересно. То есть по-своему она была очень романтически настроена, и понятно почему: в ее сознании реальные космические успехи 60-х годов накладывались на «Маленького принца» Сент-Экзюпери, который стал ее главным переводом (при том, что перевела она уйму всего, в том числе какие-то судьбоносные тексты: скажем, «Постороннего» Камю). И даже круг общения у нее был – не то что она была вполне затворница. В середине жизни во всяческий круговорот событий, вплоть до перепечатки самиздата, ее вовлекала ближайшая подруга Фрида Вигдорова, человек совершенно неуемной энергии, замечательная вовсе не только своим участием в деле Бродского, позднее бабушка вела огромную переписку с какими-то малопонятными людьми, со всех концов советской страны жаловавшимися ей на порчу языка – это, естественно, после выхода ее книги «Слово живое и мертвое», замечательного практикума по литературному переводу, который, однако, в советскую эпоху прочитывался скорее как сочинение в защиту культуры речи… Но еврейские родственники – это было совсем не то, что ей было интересно. Хотя своя любимая история о предках и у нее была: вроде бы ее прадед был фронтовой врач из окружения Николая Пирогова. Отец ее тоже был врач и тоже отчасти военный, на протяжении всей Первой мировой, а потом Гражданской, потом его довольно быстро посадили и сослали, и, как это бывало, ранняя посадка оказалась везением, так что последние двадцать лет жизни он провел в городе Ачинск Красноярского края – не то чтобы совсем на свободе, но каким-то более или менее сносным образом, и даже женился там на молоденькой медсестричке, а дочь их, моя двоюродная бабка, здравствует в Петербурге, я как-то раз у нее даже остался переночевать в те поры, когда еще не было ни друзей с жильем, ни денег на гостиницу. Ночью по привычке вытянул с полки первую попавшуюся книжку и, раскрыв ее наугад, попал в аккурат на подробную и обильно иллюстрированную классификацию странгуляционных следов: работала она судмедэкспертом. Стало быть, прадед мой был Яков Гальперин, а бабушка была в действительности Элеонора Гальперина, причем псевдоним ее восходит к детским стишкам, которые она печатала в пионерской прессе 20-х годов за подписью «Деткор Норгаль» в соответствии с духом времени. Но и еврейское семейство, которое в 1912 году называет дочь Элеонорой, – это тоже, естественно, дух времени. Мать Элеоноры, мою прабабку, тоже, впрочем, звали не как-нибудь, а Фредерика, урожденная Подорольская. Это, насколько я понимаю, были галицийские евреи, чрезвычайно рафинированные. На фотографии юной Фредерики Подорольской, сделанной в начале века в местечке Новоселица, что под Черновцами, уж такая у нее кружевная блузка, уж такая шляпка… Нет, не поеду в Новоселицу, не буду повторять ошибок дяди Дани. Тем более что от прабабушки есть еще два снимка: начала 20-х, с юной бабушкой, где обе они одеты в нечто, сшитое как будто из мешка от картошки, и конца 20-х, огромное групповое фото сотрудников Наркомфина, где прабабушка служила юрисконсультом: седая женщина с довольно истерзанным лицом, и вокруг нее три десятка бритых мужиков в кожаных куртках, с физиономиями, которые страшно увидеть в подворотне. Прабабушку я не застал, но застал ее младшего брата, моего двоюродного прадеда, Николая Подорольского, который в конце 30-х был молодым перспективным драматургом, автором ура-патриотической пьесы о героическом походе капитана Седова к Северному полюсу (с Седовым была классическая история сталинских времен: он ведь был, собственно, авантюрист и честолюбец, желавший непременно воздвигнуть на Северном полюсе царский штандарт в ознаменование трехсотлетия Дома Романовых, экспедицию грамотно распиарил и бездарно подготовил, никуда толком не добрался и погиб – но, в отличие от разных других полярных исследователей, родом был из простого народа, а потому в какой-то момент вдруг стал главным героем). Потом, правда, автора пьесы посадили, и его литературная карьера не состоялась, но сын его теперь чуть ли не главный специалист по Николаю Чехову, старшему брату писателя, – то есть некое литературное начало все равно подкрадывается со всех сторон.
Подобно тому, как бабушка-пианистка встретила своего суженого в консерватории, бабушка-литературовед (переводчицей она тогда еще не была, это переключение с ней случилось во время войны в результате иссякновения любых других заработков, а так-то она сперва писала стихи такого постблоковского рисунка, потом, как бы мы сказали сейчас, молодежную прозу, но в 30-е годы все это было никуда не деть, так что она занялась рецензиями для журнала «Интернациональная литература» и диссертацией про Артюра Рембо) нашла мужа на филфаке. Мой дед по этой линии Борис Кузьмин, филолог-англист, писавший о Байроне и Голдсмите, также подавал надежды и также погиб на войне. И у него, видимо, была интересная родословная, но о ней я имею довольно эскизное представление. Дело в том, что его мать, моя прабабка, была немецко-шведско-французских кровей, и звали ее Берта Васильевна, урожденная Ауэ. И вот по этой линии я в отрочестве встречался с некоей дальней родственницей, которую звали Флора Феликсовна Ауэ, что само по себе красиво, a Google мне услужливо подсказывает про нее, что она еще и совладелец патента на нечто под названием «Установка для электроконтактного нагрева прутков». Так вот, помимо этих прутков, кто бы они ни были, Флора Феликсовна была фанатически увлечена собственным, то есть отчасти нашим общим, родословием, все про всех знала, но мне в мои семнадцать-восемнадцать лет это было как-то не очень интересно – за вычетом, правда, рассказа о том, что эта самая Берта Васильевна Ауэ будто бы происходила по прямой от сестры жены Вальтера Скотта (подробности у меня в голове не отложились). Вообще интерес к корням легко переходит в стадию легкой невменяемости, и я вот все это рассказываю, а про себя думаю, не перейдена ли уже эта грань, за которой начинается лишенный всякого смысла фетишизм – как, помню, та же самая тетя Флора однажды позвонила и потребовала, чтобы я немедленно явился. Я немедленно явился, и вместе со мной явился Володя Ильинский, журналист «Эха Москвы» и сын актера Игоря Ильинского (видимо, поздний ребенок, поскольку мы с ним примерно ровесники), тоже с этой стороны оказавшийся каким-то родственником, и сказано нам с ним было, что некий почтенный швед из рода Ауэ находится проездом в Москве и хочет на нас посмотреть. Тетя Флора привезла нас на Ленинградский вокзал к уже поданному поезду Москва-Хельсинки, подвела к вагону, оттуда вышел пожилой швед, посмотрел на нас, удовлетворенно покивал и уехал, а мы с Володей Ильинским пошли прочь в состоянии глубокой задумчивости.
Ну и примерно так же, как у бабушки Агнессы-пианистки с памятью о деде Константине-виолончелисте должны были получиться дети-музыканты, у бабушки Норы-переводчицы с памятью о деде Борисе-литературоведе должна была получиться дочь, занимающаяся литературой. Мама проработала всю жизнь редактором, слегка отвлекаясь в сравнительно молодые годы от этого занятия ради литературно-критических статей: в самую оттепель она довольно регулярно печаталась как рецензент в «Новом мире», одной из первых отозвалась на появление Шукшина, Астафьева и т. д. Я несколько лет назад к ее семидесятилетию выпустил сборник этих статей, потом сделал ей персональный сайт, и самое сильное впечатление на меня произвели слова из рекомендации в Союз журналистов, которую ей давала как раз дама из «Нового мира», – насчет того, что подательница сего «обладает счастливой способностью писать о книгах просто, понятно для самого широкого читателя, с какой-то удивительно естественной, доверительной интонацией, и при этом она касается проблем важных, общественно-значительных»: и ведь ничегошеньки из этого я таки не унаследовал. Ну а в качестве редактора она работала в издательстве «Книга», выпускавшем научно-популярные книжки о литературе и писателях: авторы ее были, к примеру сказать, Лотман, Эйдельман, Вацуро, Аникст и т. д. Дело это было в целом приятное и небесполезное, хотя какая-то идеологическая судорога временами била это заведение: уже на моей памяти, в начале 80-х был, например, прекрасный эпизод, когда вышла книжка Эйдельмана про, кажется, Пушкина или Карамзина (хотя нет, про Карамзина писал Лотман), – в общем, про начало XIX века, и в этой книжке была вклейка с портретами упоминаемых лиц, а среди прочих портретов был портрет государя императора Александра I, поскольку он, как ни крути, в книге неоднократно упоминался, и по этому случаю Эйдельману, маме, художнику книги и кому-то еще припаяли идеологическую вылазку в форме монархической пропаганды, долго-долго волтузили и мурыжили и в итоге, ввиду уже наступившей полной импотенции режима, ограничились снятием маминой фотографии с Доски почета. В остальном же там было все вполне мило, и даже меня лет с двенадцати можно было пристроить к делу (по моей, впрочем, собственной инициативе): я повадился составлять для выходивших у мамы книг указатели имен, ибо уже в те времена обожал тихую и аккуратную рутинную работу, от которой, увы, обстоятельства жизни меня все время отрывают.
Родители мои, понятное дело, разошлись, когда мне было два года.ГОРАЛИК Вы родились в Москве?
КУЗЬМИН Я родился в Москве, да, в роддоме Грауэрмана, как положено, как все хорошие дети.
ГОРАЛИК Можно, я задам странный вопрос: вы когда-нибудь учились в одном заведении с Юлием Гуголевым?
КУЗЬМИН Мы с Гуголевым учиться вместе не учились, но был момент, когда мы вместе и одновременно поступали в аспирантуру – только он, если я ничего не путаю, поступил, а я нет. Аспирантура причем была в Литинституте: Лев Адольфович Озеров хотел меня взять к себе на кафедру перевода, но ректором к тому моменту уже стал Есин, и ничего из этого не вышло.
ГОРАЛИК Я объясню: выяснилось, что нет, кажется, среди наших коллег человека, который не учился бы с Гуголевым. Или хотя бы не поступал с Гуголевым. Или не был бы, не знаю, исключен из института с Гуголевым. Или в детский сад бы с ним не ходил.
КУЗЬМИН Ну, в детский сад я практически не ходил, в школе из известных личностей учился только с эстрадным певцом Леонидом Агутиным, а вот в университете… Но до этого мы еще не дошли, а тут как раз, в самом начале моей биографии, есть та точка бифуркации, которая мне всю жизнь не дает покоя. Ведь, как видно из содержания предыдущих серий, на мне сошлись две короткие, но династии: литературная и музыкальная. И когда мама с папой сперва разошлись, а потом еще и окончательно поссорились, так что лет примерно с семи и до четырнадцати я ни отца, ни бабушку по отцу не видел, – естественным путем литература оказалась у меня в активе, а музыка в пассиве. Так что впоследствии, уже во взрослом состоянии, это стечение обстоятельств стало для меня предметом бесконечной рефлексии в духе классического стихотворения Роберта Фроста «The road not taken», в котором история такая: тропинка в лесу разделяется на две, и ты идешь по одной, прекрасно идешь, тебе все очень нравится, но потом ты всю жизнь думаешь, что было бы, если бы ты пошел по другой. Вот с музыкой у меня ровно эти отношения – причем, понятно, именно с академической. Я даже лет в четырнадцать рыпнулся было, попытался брать уроки музыки, хотя бы на уровне каких-то теоретических азов, у жившей неподалеку сестры блистательного пианиста Любимова, но тут как раз нагрянула первая любовь, и сюжет сам собой сошел на нет. Так что мне остается довольствоваться циклопических размеров фонотекой – благо что теперешние файлообменные программы позволяют извлечь из недр Интернета фантастическое количество записей, о которых в юности я не мог и мечтать. Более того, ты можешь еще и сам выложить это богатство в открытый доступ для всех желающих. И я теперь нередко думаю: вот неудачный день, работа не клеится, сезонная депрессия, то да се, но программа Soulseek, в просторечии ласково именуемая «сусликом», весь день была включена, и десяток-другой неведомых личностей с разных концов планеты вытащили у тебя из компьютера для собственных нужд собрание виолончельных сюит композитора Каррильо, тромбонный концерт композитора де Фрюмери и прочее столь же труднодоступное и малопонятное для простых смертных: следовательно, день был прожит не зря.
ГОРАЛИК Это уроки музыки. А уроки литературы?
КУЗЬМИН Конечно, каким-то образом литература меня с малолетства окружала – вплоть до семейной легенды о том, что во младенчестве бабушка Нора вместо колыбельной читала мне «Волны» Пастернака. Однако ни в какую мою собственную творческую активность это не перерастало, и в младшие школьные годы я вообще бредил географическими картами и мечтал заниматься географией, быть географом (а не, что характерно, путешественником – памятуя о разъясненной в «Маленьком принце» разнице: не ездить хотел, а рисовать карты и составлять справочники). Но как-то раз бабушка летом поехала в Дом творчества в Переделкино. В сущности, я не до конца понимаю, зачем она туда ездила, потому что элемент социализации у нее там был сведен к минимуму, а сидеть за печатной машинкой ей было комфортно и дома, – ну, может, ей было приятно после обеда часок пройтись по тамошнему парку. Мама же сняла дачу по соседству, и мы к бабушке чуть не каждый день ненадолго заглядывали. А рядом с бабушкой жил и творил писатель Леонид Зорин, которого я, вероятно, забавлял (мне было лет одиннадцать в этот момент). И Леонид Зорин развлекался тем, что учил меня писать стихи. Чисто с технической стороны: как подбирать рифму, как строить образ… Обещал, что мы будем это делать вместе и уж непременно прославимся, а подписываться будем специально для такого дела сконструированным псевдонимом: Летрий Курин. Вполне изящно: по слогу от имени и фамилии каждого из участников конвенции, а в результате выходит имя Летрий, вроде как образованное от lettre. И при моем довольно несущественном участии сочинял он стихи примерно такого содержания: «Стою у темного стекла я, / Гляжу на улицу Маклая. / Но света нет, и окна глухи / На этой улице Миклухи». Это мы в тот момент жили с мамой и отчимом на улице Миклухо-Маклая, в Беляево, практически в приговских местах (а до этого, кстати, я успел пару лет в совершенно уж несознательном возрасте прожить непосредственно в одном доме с Приговым, на соседней улице Волгина, и как-то тешу себя мыслью о том, что вот играл я в песочнице, а Дмитрий Алексаныч, может, кинул беглый взгляд, да ненароком и вдохновился…). Тою же осенью я в очередной раз не сошелся характером с одноклассниками и перешел в новую школу, где была молодая и чрезвычайно увлеченная своим делом классная руководительница Татьяна Ивановна Ильина, которая нами всерьез интересовалась, чего большинство школьных учителей, безусловно, не делают. И она в порядке активной воспитательной работы велела к Новому году каждому ученику для беспроигрышной лотереи сделать что-либо собственными руками. А так как я сделать что бы то ни было своими руками был не готов, то от безысходности пошел к маме и спросил, как же мне быть. И мама велела мне написать стихи: тебя же Леонид Генрихович учил. И я пошел и написал каждому из своих одноклассников по стишку.
ГОРАЛИК Сколько у вас человек было в классе?
КУЗЬМИН Ну, человек тридцать. Сказать мне про них было нечего, но в каком-то таком необязательном, эпиграмматическом жанре… Потом я взял у мамы печатную машинку, все перепечатал, разрезал, сложил, сшил нитками…
ГОРАЛИК То есть вас сразу интересовали масштабные издательские проекты.
КУЗЬМИН Абсолютно. И получившаяся книжечка, конечно, очень сильно подняла мое реноме среди одноклассников, так что на протяжении какого-то следующего периода пришлось волей-неволей оправдывать ожидания и что-то такое сочинять еще. Поначалу мои представления об этом занятии совершенно не выходили за пределы школьной программы, но потом, по ходу общего взросления, я сперва пережил период острого увлечения ранними декадентами (особенно Надсоном: лет в тринадцать эти роковые страсти – «нет на свете мук страшнее муки слова», «но настанет пора, и погибнет Ваал, и вернется на Землю любовь», – идут прямо на ура), потом начал прикладываться к маминой книжной полке с поэзией, где преобладала позднесоветская лирика: Ахмадулина, Самойлов, Левитанский, Кушнер, – во всем этом для восприятия немало благодатных вещей, «два мальчика, два тихих обормотика» смутными ассоциациями горячили мне кровь, а самойловским «Ночным сторожем» с его концовкой: «Благодарите судьбу, поэты, / Что вам почти ничего не нужно, / А все, что нужно, / Всегда при вас» – я до сих пор отбиваюсь от мыслей о разных других вещах, за которые поэтам благодарить судьбу отнюдь не приходится. Все это, в общем, вполне подлинная поэзия, хотя ее место в общей картине оказалось гораздо более скромным, чем это тогда виделось либеральной интеллигенции. Но потом в моей жизни произошел некоторый поворот, сказавшийся в том числе и на круге чтения. Дело в том, что мама к этому времени была уже замужем повторно, и мой отчим был человек по-своему очень милый, но довольно плохо совместимый со мной по темпераменту. Звали его Владимир Савватиевич Боровинский, и по профессии был он преподавателем технологии металлов в станкостроительном техникуме, принадлежа тем самым к несколько иному – ладно бы только социальному кругу, но еще и психотипу.
ГОРАЛИК То есть вы получили свою долю воспитания в среде научно-технической интеллигенции, как положено?
КУЗЬМИН В общем, да – хотя некая склонность к литературе ему тоже была не чужда: выйдя на пенсию, он даже написал вполне приличное предисловие к подготовленному мамой собранию сочинений своего любимого писателя О’Генри. И меня он тоже очень любил, но, к сожалению, тот способ, которым он это делал, мне не годился. Ну вот чтоб было понятно, о чем речь: летом мы, скажем, снимали где-нибудь дачу. И у моего покойного отчима была привычка, начиная примерно с сентября, в среднем раз в неделю подходить ко мне и говорить: «Митюшенька, а помнишь ли ты, что третьего июня мы с мамуленькой поедем на дачу туда-то и туда-то». Излишне говорить, что к Новому году я начинал биться в судорогах уже на словах «а помнишь ли ты». То есть у нас было кардинальное несовпадение темпераментов. С годами, естественно, реакция моя усиливалась, и в конце концов я из дома сбежал, целый день бесцельно болтался по городу, а к вечеру меня вдруг осенило, я пошел в киоск Мосгорсправки, существовавшей тогда в городе, и поинтересовался местожительством моего родного отца. Получил какой-то адрес, мне абсолютно ничего не говоривший, на ночь глядя поехал по этому адресу, вперся туда в десятом часу, мне открыли две неизвестные дамы, я поинтересовался, не здесь ли живет Владимир Константинович Легошин. Они сказали, что да, здесь. Ну а я, сказал я, – его сын. Дамы эти, оказавшиеся, соответственно, следующей женой отца и ее мамой, были, конечно, несколько потрясены, да и отец, вернувшийся с работы по обыкновению ближе к полуночи, тоже, конечно, отчасти изумился, но в итоге последующие полтора года я прожил у него в кабинете на диванчике. А тогда были как раз осенние каникулы, что ли, и наутро я после всех потрясений еще спал, когда отец, уходя на работу, положил мне рядом с этим диванчиком три книжки: ксерокопию ардисовского издания набоковского «Дара», другую ксерокопию – том ранней прозы Булгакова, всякие там «Роковые яйца», изданный, кажется, в довоенной Латвии, и машинописный сборник стихов Горбаневской 60-х годов. И тут важно не только то, что все три книги были запретные, год стоял 1983-й (мама, как впоследствии выяснилось, Горбаневскую тоже с юности любила, но дома на всякий случай не держала), – но прежде всего их художественная радикальность, в том или ином смысле слова: вот ведь вроде бы Горбаневская: довольно традиционный поэт – но это же смотря с какой стороны подходить и с чем сравнивать. И уж дальше за Горбаневской пошли Ходасевич, Мандельштам и Бродский, за Набоковым – Кортасар и Пруст…
ГОРАЛИК То есть годам к шестнадцати у вас был неплохой круг чтения?
КУЗЬМИН Скажем так: настолько, насколько это тогда было возможно без прямого подключения к пространству неподцензурной литературы. Потому что Бродский, Горбаневская, Галич ходили в самиздате, так сказать, общего доступа, а, допустим, лианозовцы или институциональный питерский самиздат циркулировали главным образом среди так или иначе причастных. А этой личной причастности у меня не было. Поэтому, как и вообще для позднесоветской интеллигенции, альтернативой официальной и полуофициальной традиции выступала не неподцензурная литература, а переводная – от Пруста до Кортасара. В поэзии у некоторых было то же самое, но это был не мой случай, потому что переводной поэзией отец интересовался в меньшей мере. Ну, а кроме вот этого контраста в круге чтения разница между маминым домом и домом отца была и в атмосфере огромная. Мамин дом был такой советский интеллигентский в архетипическом смысле. Она, скажем, не готовила ничего, кроме яичницы и винегрета. Отец потом шутил, что про маму был мультик – такой классический советский мультик «Варежка», гениальный, где, помимо всего прочего, была мама, которая стояла у плиты и что-то помешивала, глядя при этом в книжку. Вот отец мне объяснял, что это моя мама и есть: дама в очках, которая даже и помешивает что-то, но головой полностью в книжке. В то время как у отца и бабушка, и все его последующие жены прекрасно готовили, что-то вязали, варили варенье с собственной дачи, и все это было важно: более традиционалистское, что ли, ощущение дома в противоположность революционно-романтическому аскетизму. Оборотная сторона этого традиционализма была в том, что отец ухитрялся все дела переделывать как бы легко и непринужденно – в отличие от моего замечательного, прекрасного покойного отчима, который любое даже не то что дело, а вообще любой шаг обставлял как некоторое специальное событие, – и тоже мне кажется, что у этого устройства личности очень глубокие корни уходят в экзистенциальное устройство советского режима. Но в этом зазоре между двумя очень по-разному устроенными укладами, на контрасте между ними у меня и сформировалось некоторое собственное самоощущение – я всерьез полагаю, что человеку вообще и подростку в особенности очень полезен опыт разнообразия в области самых близких отношений, и лучше параллельно, чем последовательно. Я, конечно, что-то взял от каждого из членов семьи – и одно другого, как мне кажется, не перечеркивало, как Набоков, Пруст и Кортасар не вышибли у меня из головы братьев Стругацких, которых я читал до этого у мамы и которых по-прежнему считаю блестящей литературой, обязательной к прочтению любым мыслящим подростком.
В том числе у меня есть ощущение, что я наследник своей бабушки, переводчицы Норы Галь, несмотря на то, что общался я с ней крайне эпизодически: бабушка предпочитала тратить время жизни на занятие художественным переводом. Ее уже двадцать лет нет, в этом году как раз отмечается столетие, по случаю которого я, составляя том ее избранных переводов, заново перечитал довольно большой корпус текстов – и как раз много думал о сходствах и расхождениях: и в переводческих решениях, и в каких-то просматривающихся за ними человеческих свойствах. Я ведь, помимо прочего, про бабушку написал диплом. Тут нарушение хронологии выйдет, ну да не страшно: пока у меня в университете дело дошло до диплома, я как-то уже сполна зарекомендовал себя и на кафедре русской литературы классической, и на кафедре русской литературы современной, бывшей советской, где на первых ролях был некто Агеносов, обессмертивший свое имя монографией с гениальным названием «Советский философский роман», и единственная литературоведческая кафедра, где я никому не сообщил в той или иной форме, что я о нем думаю, была кафедра зарубежной литературы, но про зарубежную литературу я как-то совершенно не имел ничего сказать, никогда ею не занимался. Но перед лицом суровой необходимости меня осенило. И я через два года после бабушкиной смерти написал диплом по ее архиву. Тема была «Сент-Экзюпери в России», вводная часть была посвящена общим вопросам: когда начали читать, когда переводить, когда публиковать, что писали о нем, как воспринимали, там было немало занятного (я потом это переписал в статью и опубликовал в журнале «Урал», где работал кто-то из друзей). А основной корпус работы представлял собой разбор бабушкиного перевода «Маленького принца»: текст короткий, так что я его разобрал практически пословно. Фокус тут в том, что французского языка я к этому моменту не знал. Поэтому я положил перед собой бабушкин перевод, французский оригинал и словарь – и когда закончил сверять первый со вторым, пользуясь третьим, то некоторое представление о французском языке у меня уже было. Но все это, собственно, не что иное, как несколько фарсовое повторение аналогичной истории, случившейся с Норой Галь ровно полувеком раньше: она была, со своей диссертацией про Рембо, специалистом по французской литературе, о французских авторах писала статьи, но сперва после пакта Молотова-Риббентропа Франция превратилась для сталинского государства во врага, и писать о новых французских книгах стало невозможно, потом началась война, и выбирать было не из чего, и в конце концов ей дали книгу на английском языке (которого она не знала) и сказали: «Переводите» (чего она прежде не делала). И она положила перед собой эту книгу и словарь, причем на первой странице, согласно ее собственным воспоминаниям, лезла в словарь и за словом has , и за словом had , не зная, что это один и тот же глагол to have , – но к тому времени, когда она закончила переводить порученный ей роман (в итоге запрещенный цензурой и напечатанный по-русски спустя сорок лет), английским она владела.
И в дальнейшем с английского переводила больше, хотя прежде всего ее имя и связывается с Сент-Экзюпери. Для меня же эта история закончилась тем, что в 2000 году я заново перевел раннюю повесть Сент-Экзюпери «Южный почтовый», и это, конечно, был еще и внутрисемейный жест. Перевод этот по счету третий, я думаю, что он лучше двух предыдущих, сделанных в начале 1960-х, – ритмичнее и свободней по дыханию, но одна-то заслуга у меня там точно есть: герои поют песенку, как бы народную, и переводчицы 60-х ее переводить не взялись, а я, естественно, счел своим долгом:Пастушка, не зевай-ка —
Ведь ливень все сильней,
Мокрым-мокра лужайка,
И овцы вместе с ней.
Средь пашен оробелых
Гремит все ближе гром —
Своих милашек белых
Гони скорее в дом!
Между тем бабушка мне оставила еще и другое завещание, уже не профессиональное, а личное. Дело в том, что вторым эмблематическим автором для нее был Брэдбери. Она его очень любила, перевела и напечатала, если мне не изменяет память, двадцать семь его рассказов, включая хрестоматийные «Все лето в один день», «Здравствуй и прощай»…
А двадцать восьмой рассказ, «Секрет мудрости» («The Better Part of Wisdom»), остался не напечатанным. Он вовсе не фантастический: в двух словах, о том, как старик, зная, что ему осталось жить недолго, из Ирландии приезжает в Лондон навестить на прощание любимого внука – приезжает без предупреждения, обнаруживает, что внук живет не с девушкой, как он предполагал, а с другим мальчиком, смотрит на них, поражается изяществу и уюту жилья и, видимо, все понимает. Второй мальчик из деликатности уходит, а дед проводит ночь у внука и рассказывает ему, что – знаешь, много у меня в жизни было хорошего, и очень я любил твою бабушку-покойницу, но если подумать, то самые счастливые дни и самые сильные чувства были у меня в отрочестве, когда на неделю появился в городке мальчик из бродячего цирка и мы с ним вместе бегали по лугам и валялись в траве. Брэдбери написал этот рассказ в 1976 году, тогда же о нем писала американская критика как о самом трогательном отражении гомосексуальной темы в литературе, обязательном для прочтения любым писателем-геем. Бабушка перевела его на русский немедленно, как только получила в руки: в 77-м, мне было восемь лет. В 91-м, после ее смерти, этот перевод обнаружился у нее в столе. А еще через полгода я привел к маме молодого человека, с которым собирался прожить вместе всю оставшуюся жизнь, – и, глядя сегодня на нашу квартиру, вполне соответствующую моим представлениям об изяществе и уюте, твердо понимаю, что этот рассказ она перевела для меня.
Все это при том, что на уровне принципа – я с большой настороженностью отношусь к кровному родству: собственно, как и ко всему, что человек не выбирает осознанно и ответственно сам для себя.ГОРАЛИК Давайте еще ненамного вернемся назад, к вашему детству. Как вы были устроены, когда были маленьким? Каким был этот ребенок?
КУЗЬМИН Я мало что могу про это рассказать, потому что честно ничего не помню. Мое детство меня в мало-мальски взрослом возрасте совершенно перестало интересовать: насколько мне интересно и важно, что со мной происходило в пятнадцать или восемнадцать, настолько мне безразлично (и, следовательно, изгладилось из памяти) все, что со мной было в пять или в девять.
ГОРАЛИК Другие дети вас интересовали? Вы как-то с ними контактировали?
КУЗЬМИН Да не то чтобы очень. В детский сад меня отдали раз в жизни на неделю, я тут же заболел, и родители отказались от этой идеи. В пионерлагерь – тоже раз в жизни, но уже в наказание (за манеру втихаря читать по ночам во время дачного отдыха), это было чудовищно. Каких-то существенных друзей у меня не было. Поменял я к пятому классу три школы на почве несходства характеров с одноклассниками. Все это, нельзя не заметить, довольно шаблонная история про шибко интеллигентного ребенка – некоммуникабельного не по каким-то специальным причинам, а просто потому, что больно умный. Но подробности несущественны, потому что больно умным я и потом быть не перестал и вспоминаю обычно, применительно к этому, гораздо более поздний и гораздо более смешной эпизод. Однажды Наталья Перова, главный специалист по пропаганде современной русской литературы в англоязычном мире, попыталась меня отправить на писательский workshop в Айову, для чего надо было пройти собеседование у американского атташе по культуре. Не то чтобы я туда особенно рвался, но предложили – интересно, почему бы и нет. Мы вполне мило с этим мистером Брауном побеседовали, я ему рассказывал про Союз молодых литераторов «Вавилон», новое поколение 90-х, пятое-десятое, и ничем это не закончилось. Но спустя сколько-то лет, беседуя с Перовой на всякие смежные темы, я вдруг решил поинтересоваться: а что же было не так, чем я мистера Брауна не удовлетворил? А она мне и отвечает: да, я тогда же у него поинтересовалась, и он мне ответил: конечно, интересный молодой человек, яркий, не исключено, что талантливый, но, знаете ли, too arrogant. Тут мы понимаем, что для писателя, разумеется, это самое нетерпимое свойство, по крайней мере в глазах представителя бюрократических инстанций (каковые ведь обычно плоть от плоти широких народных масс). Но писателем я в детстве еще не был, а мои одноклассники, когда во втором классе били меня головой об пол, думали, наверное, про меня что-нибудь в этом же роде. Хотя и не могли так чеканно сформулировать.
ГОРАЛИК А кроме школы в школьные годы были какие-то кружки, секции, то-се?
КУЗЬМИН Да ничего существенного. Вроде в какой-то момент пытались меня отдать в группу для занятий английским, и даже я задним числом понимаю, что преподавала в этой группе поэтесса Лариса Миллер, но – воспоминаний ноль. Книжки я читал. И только лет с четырнадцати все поменялось. В восьмом классе я случайно познакомился с ребятами из параллельного класса, и они оказались другие, чем все, кто мне попадался до этого. Там было четыре класса в параллели и один из них, как это в некоторых школах делалось, был изначально еще в первом классе отобран. И когда пришла пора переходить из восьмого класса в десятый (такое на нашу долю вследствие какой-то реформы выпало арифметическое приключение), я вильнул хвостом и перескочил вот в этот отборный класс, где учились мои новые друзья: несколько мальчиков и одна девочка, моя, соответственно, первая девушка. Это была прекрасная компания, в которой мне, несмотря на разные происходившие в ней юношеские драмы, было исключительно легко и свободно, независимо от того, дискутировали ли мы о смысле жизни или играли в города, – не в последнюю очередь, конечно, по причине сопоставимых культурных горизонтов. До смешного: в одну из наших первых бесед один из мальчиков стал мне пенять на злоупотребление иностранными словами и порекомендовал ознакомиться с книгой Норы Галь «Слово живое и мертвое», в которой рассматривается эта проблема. Двадцать лет спустя именно этот мальчик подошел ко мне во Франкфурте после поэтического вечера с моим участием, и я его, естественно, не узнал; вообще от этой школьной компании ничего в моей взрослой жизни не осталось – кроме меня самого, потому что весь мой коммуникативный опыт сложился именно в ней. Я там был не самый умный, а, как бы это сказать, самый энергетически заряженный, и за мной готовы были идти, но при этом мои порывы было кому как-то корректировать (а вот в дальнейшем было по большей части некому – хотя, может, оно и к лучшему). За пределами же вот этой самой близкой компании там тоже были всякие занятные люди: скажем, мой главный соперник на почве идейного лидерства в классе, а также в сражениях на первенство класса по шахматам, теперь называется не иначе как Волхв Иггельд, один из вождей родноверческого движения, соавтор фундаментального труда «Языческие боги славян», в котором систему верований наших далеких предков (науке, как мы понимаем, известную весьма фрагментарно), излагает со всей структурной строгостью выпускника Химико-технологического института. Не говоря уже о звезде эстрады Леониде Агутине – тогдашней звезде школьной рок-группы, вместе с которым мы даже сочинили для школы выпускной вальс, не хуже всего того, что по такому поводу было принято петь в Советском Союзе. Спустя лет десять он мне внезапно позвонил, позвал в гости и уговаривал сочинять для него тексты, я страшно растрогался, но, естественно, отказался.
ГОРАЛИК Между прочим, это могло быть сравнительно легким хлебом на долгие годы.
КУЗЬМИН Нет, ну это же совершенно другая профессия. Текст на готовую ритмомелодическую структуру, ударения тут и тут, скопления согласных исключены, тематика задана – если с голоду буду помирать, то не побрезгую, а так – пускай мастера комбинаторной поэзии подрабатывают.
ГОРАЛИК Рассказывайте тогда, что происходило у вас с собственными текстами в школьные годы.
КУЗЬМИН Для сочинительства, как известно, полезна первая любовь. Мне в этом смысле особенно повезло, потому что у меня первых любовей было две: в восьмом классе к девочке и в десятом-одиннадцатом к мальчику. И это совершенно разный опыт, естественно, – не только потому, что с девочкой у меня был вполне успешный, хотя и утомительный роман, а на мальчика я сперва только смотрел круглыми глазами, а потом без лишних комментариев писал за него сочинения, переводил ему с английского тексты битлов и т. п., понимая, что никакой иной формат сближения просто не уложится у него в голове. Но дело в том, что по умолчанию (на практике-то может быть что угодно) в основе разнополой любви лежит острое переживание фундаментального различия (она не такая, как я, и этим притягивает), а в основе однополой – не менее острое переживание фундаментального сходства (он такой же, как я, и этим притягивает). Я потом об этом писал в связи с Евгением Харитоновым, который и в своих стихах, и в своей прозе вот эту любовь-как-отождествление с удивительной точностью ухватил. Когда ты сам ощущаешь свой опыт как уникальный и ищешь способ передать именно это ощущение уникальности, – это вообще изрядный творческий стимул. И мне кажется (хотя, конечно, отчасти это, быть может, аберрация теперешнего восприятия), что у меня уже тогда появилась именно такая установка: передать в стихах уникальность своей ситуации и своего самоощущения в ней (в противовес более ранним упражнениям с обратной установкой: сочинить так, чтоб было похоже на взрослых). Конечно, применительно к однополому чувству эта логика действовала гораздо сильнее: все-таки на дворе было начало 80-х, и сама возможность такого чувства была закрыта для обсуждения (не считая психиатрического дискурса), но моя уверенность в том, что я нормален, а мои чувства правильны и прекрасны, была абсолютной и достаточно убедительной для того, чтобы многочисленные друзья и знакомые, которым я читал стихи про мальчика Пашу, воспринимали их как должное – или по крайней мере делали вид. Ну, а выразительные средства, естественно, брались из тех источников, которые мне были тогда доступны. Скажем, последние летние каникулы моей школьной жизни были посвящены сочинению поэмы, лирический сюжет которой опирался на есенинского «Черного человека», а образный ряд монтировался из есенинской инфернальщины и возвышенностей позднего Пастернака (и все это, естественно, на текущем жизненном материале про возлюбленного мальчика). Плюс в этот же период во втором ряду маминой книжной полки был отрыт прижизненный мандельштамовский сборник 1928 года. Плюс тем же последним школьным летом в моей жизни появился Бродский – вполне романтическим образом: приятельница бабушки, переводчица Нина Бать, владела половиной хутора в глубине Латвии, под Кокнесе, с романтическим названием Капмала, что переводится как «На краю погоста», и пригласила меня туда на недельку, в одиночку, как взрослого, а второй половиной владела очень милая дама по фамилии Айнбиндер, ей было слегка за тридцать, дочери ее Маянэ (муж и папа был курд, так что национальность своих детей они иронически определяли как «курдеи») – лет тринадцать, я болтал с ними обеими сравнительно на равных, с едва уловимым элементом флирта со всех сторон, и, конечно, ксерокопия «Части речи» чрезвычайно украшала наши прогулки по светлому хвойному и совершенно пустому балтийскому лесу и посиделки на берегу безымянного озера… То есть это я все к тому, что, конечно, никаким вундеркиндом я не был, но к концу школьных лет мои стихи уже были для подростка вполне приличные. Посылать их куда-нибудь и показывать кому-нибудь мне в голову не приходило (советских литературных журналов, кроме «Иностранки», ни в мамином доме, ни в папином не держали, ни про какие литстудии мне никто не рассказывал), но первое публичное выступление мое состоялось как раз тогда: мой одноклассник по предыдущей школе, тоже сочинявший стихи, играл маленькие роли в Театре на Юго-Западе, пару раз проводил меня туда посмотреть на гениального актера Авилова и в конце концов договорился с руководителем театра Беляковичем, что после какого-то спектакля нам дадут час времени, а все желающие из публики смогут остаться и послушать. Представлять нас вышла дама-завлит и сказала так: у одного из молодых поэтов фамилия Кузьмин, и он тем самым продолжает славную традицию (Михаила Кузмина она имела в виду), а у другого фамилия Жуков, эта фамилия никакой традиции не продолжает, – и тут мы с отцом дико захохотали, вспомнив одновременно историю Хармса про то, как Пушкин очень полюбил Жуковского и стал называть его по-приятельски Жуковым.
ГОРАЛИК В пятнадцать-шестнадцать человек обычно представляет себе, кем бы хотел стать. Что представлялось вам?
КУЗЬМИН Я собирался быть учителем литературы и преподавать в школе.
ГОРАЛИК Не часто слышишь о школьнике, который хочет быть учителем.
КУЗЬМИН Это был очень характерный для меня жест от противного. Раз у меня не было учителей литературы, с которыми мне было бы интересно и важно взаимодействовать, значит, я сам должен стать таким учителем для других. Плюс мы помним, что я вырос на Стругацких, у которых в ранней прозе некий широко понимаемый педагогический мотив очень силен, – и, конечно, теперь-то я понимаю, что я хотел быть учителем не где-нибудь, а в интернате из книги «Полдень, XXII век», и это никак нельзя было осуществить. Тогда я как-то бессознательно полагал, что и в реальной средней школе управлюсь. Потом, надо сказать, я полтора года в школе проработал и ушел оттуда, хотя и не вполне добровольно, глубоко разочарованным.
ГОРАЛИК Вы и поступать думали в педагогический?
КУЗЬМИН Ну нет, конечно, я поступал в МГУ. Это вопрос честолюбия. Тогда я об этом даже не задумывался, а потом, уже после стадии школьного учительства пробуя преподавать в вузах, понял очень хорошо. Ведь абитуриент не знает внутренней кухни, если только он не из профессорской же семьи: при поступлении ориентируются на бренд. МГУ – это бренд, и туда, в целом, шли лучшие (хотя какой-то бессмысленной публики по комсомольской линии тоже хватало). И уже только попав туда, эти лучшие обнаруживали, что филфак МГУ – место довольно унылое. Думаю, там и сейчас так.
ГОРАЛИК Поговаривают.
КУЗЬМИН А там мало что изменилось. Дама, которая в мои времена была замдекана, теперь декан – а это ж двадцать пять лет прошло. Весь литературный цикл, что теоретический, что практический, был чудовищной советской идеологической жвачкой – а советская идеологическая жвачка не поддается никакой переработке: ее можно только выгрести в мусор целиком (но тогда возникает тяжелый вопрос о том, чем и кем занять столько освободившегося места). Эта система нереформируема. Недаром там аж до двухтысячных годов кафедрой теории литературы заведовала божья старушка по фамилии Эсалнек, у которой докторская диссертация была про ленинские принципы партийности и народности, – и с этим настолько ничего нельзя было сделать, что для соблюдения каких-никаких приличий руководство открыло параллельную кафедру теории словесности, чтобы порядочным людям тоже было куда идти. Непосредственно у нас теорию литературы читал академик Николаев, обожавший рассказывать на лекциях о своем пастушеском детстве, но более всего запомнившийся тем, как в ответ на записку от кого-то из студентов орал с пеной у рта, что Набоков никогда не будет издан в Советском Союзе, потому что он поддерживал фашистов и Гитлера. В общем, это были совершенно пещерные люди, не считая, естественно, всяких милых и славных персонажей, преподававших старославянский язык, фонологию и прочие неидеологические вещи. Но эти предметы вполне могли потребоваться для школьного преподавания, потому что, по крайнему моему разумению, любой предмет должен школьника прежде всего заинтересовать, а простейший способ заинтересовать на уроке русского языка связан с историей слов и всякими закадровыми отношениями между ними: ну, то есть я искренне верю, что если ребенок знает, что слова «бык» и «пчела» – исторически однокоренные, то и вопрос об их правописании будет у него вызывать несколько большее уважение. Однако для занятий современной литературой соответствующие познания требуются довольно редко. Хотя вот я время от времени вспоминаю курс диалектологии, например, с восхитительными образцами ладожско-онежских говоров, у которых и фонетика, и особенно синтаксис деформированы угро-финским субстратом: скажем, «У куота на пецку забрануось» – это будет «Кот залез на печку». Ведь в западных странах последние сто лет разные восторженные безумцы на таких диалектах сочиняют небольшие, но самостоятельные литературы – и это на свой лад чрезвычайно интересно. А у нас те же сто лет восторженных безумцев целенаправленно истребляли и в значительной степени вывели просто как антропологический тип. Как-то мне довелось в Эстонии выступать вместе с замечательным тамошним поэтом Яаном Каплинским, который рассказывал, что в советские времена он, руководствуясь соображениями национальной консолидации, писал на общелитературном эстонском и еще немного по-английски, а после обретения независимости считает более важным культивировать разнообразие, в том числе и языковое, и пишет на восточно-эстонском диалекте и еще немного по-русски, – это мы понимаем, да, сколько всего народу в Эстонии и сколько из них владеет именно восточно-эстонским диалектом? А после вечера взял меня за пуговицу и спрашивает: «А у вас в России как обстоят дела с поэзией на диалектах?» И ответить мне ему было нечего. Извините, все время отвлекаюсь от исторического обзора к теоретическому.
ГОРАЛИК А как обстояли дела с соучениками?
КУЗЬМИН С соучениками было как обычно. Сперва я кое с кем подружился – особенно с очень обаятельным и, как мне тогда казалось, очень талантливым как поэт Андреем Десницким, ныне довольно известным библеистом. Вместе с несколькими не имевшими отношения к филфаку ровесниками: уже упомянутым Максимом Жуковым (впоследствии надолго пропавшим с горизонта, а пару лет назад возникшим снова и даже опубликовавшим подборку примерно тогдашних стихов в журнале «Знамя») и Михаилом Шапошниковым (ныне директор Музея литературы Серебряного века), и еще с таким Олегом Столяровым, который поступал в МГУ вместе со мной, но провалился (а теперь, подсказывает мне Google, первый вице-президент Русского общества по изучению проблем Атлантиды), мы даже образовали нечто вроде поэтической группы, и я поехал в Нижний Новгород в литературную студию Игоря Чурдалева на первые в своей жизни, так сказать, гастроли – читать стихи всех пятерых. Но и эта компания как-то быстро рассыпалась, и с прочими окружающими ровесниками я тоже в сжатые сроки поссорился. Дело в том, что общая пассионарность и склонность как-то организовывать пространство вокруг себя всякий раз приводили меня к каким-то конфликтным социальным ролям. Для начала, например, к позиции комсорга группы – и тут теперь приходится объясняться, что во второй половине 80-х идейное содержание всех этих позиций, по крайней мере на низовом уровне, стремилось к нулю, а через какие иные структуры можно было бы что-то делать социально осмысленное было непонятно (если не говорить, естественно, о собственно диссидентской деятельности того или иного рода). Так что у меня в голове увлеченное чтение Набокова и Горбаневской и вполне сформировавшееся отвращение к разным специфическим проявлениям советской идеологии и ментальности бесконфликтно сочетались с готовностью действовать внутри системы (готовность эта прошла уже в какие-то перестроечные годы, но практические последствия посетившей меня бескомпромиссности, в общем, довольно неоднозначные). Значит, в качестве комсорга я быстро достал всю свою группу… Ну просто я от всех все время чего-то хотел, а все хотели, чтобы их оставили в покое. Соученицы мои (я там, понятно, был один мальчик) написали слезную мольбу в деканат, чтоб меня от них куда-нибудь забрали. Меня перевели в соседнюю группу, где уже был свой тихий и мирный комсорг, а начальство решило употребить мою энергию на самом провальном и бесперспективном участке: мне было поручено организовать и возглавить на факультете комсомольский отряд дружинников. Теоретически такие были на всех факультетах, а практически на филологическом его не было, потому что девочки для этого не очень годились, а филологические мальчики… ну, в общем, тоже не очень годились.
ГОРАЛИК Что входило в ваши обязанности?
КУЗЬМИН Это в основном были дежурства в общежитиях по вечерам. У Сергея Юрьенена в одной повести есть замечательные описания того, как такие дружинники ловят мальчиков, несанкционированно забравшихся в общагу к своим девочкам, et vice versa. Что, вероятно, тоже имело место, особенно в более ранние годы. Между тем некоторый позитивный смысл всей истории был в том, чтобы разные лица не устраивали по месту собственного проживания перманентный дебош, потому что некоторым до недавнего времени домашним детям в соседних или даже тех же комнатах в обстановке такого дебоша было не выжить. А уж сверх этого бывало, естественно, всякое: мне там доводилось ловить каких-то диких персонажей, пытавшихся среди ночи выбрасывать с тринадцатого этажа столы; приятели мои по этой структуре как-то раз обнаружили нечто вроде тайника, а в нем пачку повязок со свастикой. В то же время случался и всякий постыдный идиотизм вроде борьбы с идеологической диверсией в лице вальяжного олдового хиппи по фамилии Сидоров, которого почему-то пытались ни за что не пускать в гости в общежитие философского факультета, а он все равно постоянно там оказывался… А я, конечно, не был хиппи, но какие-то друзья были, так что один раз вышла странная сцена, когда одного из моих «бойцов» – бойцы же были рекрутированы в принудительном порядке с первого курса, следующего за моим (и были среди них всякие хорошие люди: Псой Короленко, например, или Михаил Гронас), – направили по общегородской разнарядке дежурить у синагоги во время какого-то еврейского праздника, а моя тогдашняя околохипповская компания в полном составе отправилась этот праздник праздновать (поскольку главное место сбора московских хиппи, кафе «Турист» на Мясницкой, рядом с теперешней «Билингвой», было недалеко от синагоги и от костела, и все порядочные хиппи по праздникам ходили туда и туда), и я там пристальный взгляд этого «бойца» встретил как раз по ходу лихого отплясывания «Хава нагилы»… В общем, это было довольно смешно, но в моем тогдашнем представлении вопрос стоял на уровне принципа: вот никто же из приличных людей не любит милицию, но если на этом основании все приличные люди отойдут от нее как можно дальше, то какая же сволочь в ней тогда останется, и хорошо ли это будет – оставить данный социальный институт в полное оной сволочи распоряжение? Эту нехитрую мысль со мной разделяли двое-трое ближайших друзей, с которыми мы после этих дежурств зависали до утра в каком-нибудь безлюдном углу общаги под разговоры о смысле жизни и песни раннего Гребенщикова из еле живого кассетника, а прочие лица относились ко мне как к чокнутому или, реже, как к пособнику кровавого режима.
Ну вот, а одновременно со всем этим я еще вел кружок для старшеклассников в системе так называемой Школы юного филолога – такие школы, где студенты вели занятия для школьников, были на всех факультетах: скажем, на журфаке в тот же самый год в Школе юного журналиста преподавал Дмитрий Быков (кто-то из моих питомцев ходил к нему тоже, поэтому я знаю). Мой семинар был посвящен, естественно, поэзии XX века. Причем я не нашел ничего умнее, как вывешивать на факультетской доске объявлений план ближайших занятий. Мне хватило ума не писать Бродского, но Ходасевича и Гиппиус я туда написал. И в конце концов был вызван в партком, и замсекретаря парткома доцент Авраменко, предъявив мне бумажки с этими планами, поставил передо мной совершенно идеологически точный вопрос: а по каким изданиям вы собираетесь рассказывать детям об этих авторах? Но эту ловушку я знал и твердо сказал: по дореволюционным (потому что по дореволюционным было со скрипом можно, а вот по эмигрантским – категорически нельзя). И долго он меня мурыжил, пообещав на прощание мною заняться более пристально. Но и в качестве командира дружинников я был, само собой, не менее arrogant – и все время вляпывался в какие-то истории: то пытался встать на пути одного из общажных дебоширов, у которого была какая-то протекция, то начальство велело мне снять пару-тройку дружинников с занятий, чтобы они дежурили на какой-то идиотской конференции, а потом по недоразумению зачло им это за прогул, а тут мне как раз передали сюжет, как одну девочку примерно такими подставами в итоге выгнали с факультета якобы за непосещаемость, – в общем, такая дурная позднесоветская околобюрократическая рутина. И в итоге я перестал здороваться с дамой, которая была замдекана (а теперь, как уже отмечалось, декан). И она меня при всем честном народе останавливает в коридоре и спрашивает: «А что это вы, Кузьмин, со мной не здороваетесь?» На что я, не моргнув глазом, ей отвечаю: «Я, Марина Леонтьевна, как филолог считаю себя ответственным не только за современное значение слов, но и за их внутреннюю форму». Что в переводе с филологического на русский значит: «Не желаю вам здравствовать». Было это в аккурат перед сессией, сдать ее я, по совокупности вышеуказанных обстоятельств, не рассчитывал (при всех пятерках до этого) и в предвкушении армейского призыва пошел сдаваться психиатрам. Мне дали с факультета роскошную справку: отличник, командир дружинников, с преподавателями груб и невыдержан, от соучеников по их просьбе переведен подальше, – меня положили в больницу имени Кащенко, куда я через несколько лет пытался вернуться уже в ином качестве, с приуроченным к ее юбилею вечером молодых поэтов для больных и персонала, и начальство больницы сперва этот вечер даже разрешило, но в последнюю минуту одумалось, и нам пришлось читать стихи собравшимся корреспондентам перед запертыми воротами… Ну и вышел я из больницы к концу сессии, подал бумаги на академический отпуск, у меня их с ласковой улыбкой взяли в июле, а в сентябре отчислили за неявку на сессию, потому что эти бумаги были как-то не там или не так заверены.
Надо сказать, что мои отношения с МГУ на этом не вполне закончились: я туда, как и в Кащенко, возвращался, причем дважды, с разной степенью триумфальности. Первый раз имел место году этак в 90-м, когда в этой цитадели просвещения случилась некая акция, посвященная «возвращенной литературе». Жанр этой акции тогда меня не удивил, а теперь глубоко непонятен: в поточной аудитории набилась куча народу, повесили портрет Солженицына, в президиум сели декан Волков, замсекретаря и доцент (впрочем, к этому моменту, кажется, уже секретарь и профессор) Авраменко и другие официальные лица, а с кафедры было произнесено несколько речей сугубо общего порядка – в том смысле, что возвращенная литература возвращается, и это прекрасно, и данное событие является историческим в истории данного факультета, – после чего предложено было высказываться всем желающим. Я в те годы обычно желал высказаться всегда, а потому взошел на кафедру и сообщил собравшимся, что действительно меру судьбоносности данного события для судеб данного факультета трудно переоценить, если вспомнить, что говорили по этому же поводу сидящие теперь в президиуме лица каких-нибудь пять лет назад, после чего напомнил и про партпроработки Авраменко, и про тираду академика Николаева против Набокова, и про разное прочее. Потом я произнес какой-то спич уже по существу вопроса – насчет того, что перемена идеологических акцентов еще не означает перемены эстетических доминант и тем самым не влечет за собой никаких коренных, антропологически существенных изменений, и в этом смысле хоть вы вешайте портрет Солженицына рядом с прежним портретом Горького, хоть вместо него – это все только переворачивание той же медали другой стороной. По окончании этой катавасии, как сейчас помню, ко мне подошел знакомиться сидевший в зале мальчик-студент по имени Саша Панов, которого последующие пару лет я безуспешно агитировал писать о современной русской поэзии, но он вместо этого превратился в итоге в арт-критика Федора Ромера. Господа же из президиума умылись, но, как сказано у Зощенко, затаили в душе хамство.
Второе мое возвращение произошло году этак в 93-м, когда девочка из моего кружка для школьников, ставшая уже дипломницей филфака, заняла позицию координатора всей этой Школы юного филолога. А там помимо кружков по интересам предусматривались и общие для всех школьников лекции – и Наташа по старой памяти позвала меня их читать. Я прочел ровно одну, называвшуюся, как сейчас помню, «Пролегомены к теории стиха»: то есть, понятно, начал свое общение с этими школьниками с того, что крупно написал на доске слово «пролегомены» – ну, чтоб детям мало не показалось. После чего Наташа позвонила, извинилась и сказала, что руководство факультета мое появление в его стенах категорически воспретило. После чего, помявшись, спросила, какие у меня отношения с Комитетом государственной безопасности, ибо в те баснословные года местному начальству почему-то не хотелось вспоминать ни про озабоченность парткома Ходасевичем, ни про разные другие реалии середины 80-х, зато в свете бродивших в эпоху раннего ельцинизма разговоров о люстрации приятно было сделать вид, что здесь, на отдельно взятом факультете МГУ, идеи демократии и общечеловеческие ценности возобладали еще вон когда и деканат с парткомом избавлялись от стукачей собственными силами, так что начальство не побрезговало самолично объяснить Наташе, что именно по этой причине мое воздействие на будущих филологов будет носить растлевающий характер и совершенно недопустимо. Мне когда потом, спустя много лет, эту историю напомнили и я ее изложил в блоге, поэт и по совместительству доктор наук Александр Платонов сформулировал точный вопрос: в самом ли деле уже выросло поколение молодежи, для которой такое объяснение может проканать, и если да, то хорошо это или плохо?
Но в целом я, надо признать, вышел из двухлетнего пребывания в главном вузе России с чувством изрядного разочарования. Уж больно очевидным образом окружавшая меня там публика делилась почти без остатка на советско-комсомольскую сволочь и милых прекраснодушных интеллигентов-эскапистов, с которыми каши не сваришь. Хотя, конечно, были там и свои светлые моменты – помимо слушания БГ по ночам в общежитии. Я там первый раз видел живого Максима Шапира, который, кажется, в этот момент еще даже доучивался, но уже производил впечатление великого человека, не только по размерам; его безвременная смерть несколько лет назад стала для русского стиховедения, в общем-то, катастрофой, хоть я и попытался в некрологе понадеяться на то, что семена как-то взойдут… В факультетской стенгазете «Комсомолия» среди всякой чепухи иногда возникали прелестные стихи за подписью «Татьяна Тихая» – с их автором Татьяной Нешумовой я познакомился лет через пятнадцать. В поэтическую студию МГУ под управлением Игоря Волгина я зашел один раз, это было чрезвычайно унылое место, душная атмосфера общей неталантливости. Я на нее плюнул и пошел в Студенческий театр МГУ под руководством режиссера Славутина, куда и был благополучно принят.ГОРАЛИК В качестве актера?
КУЗЬМИН Ну да. И примерно полгода играл там какие-то совсем крохотные роли, на одну-две реплики, но в большей степени смотрел на то, что происходит, а главной звездой этого театра был тогда Алексей Кортнев. Потом он придумал группу «Несчастный случай», заслуживавшую куда более широкого признания, потом стал сниматься в рекламе, клипах и каких-то бессмысленных шоу, а тогда он играл все главные роли у Славутина и пел дуэтом с Валдисом Пельшем (Пельш доучивался на философском, я с ним пересекался в этом самом отряде дружинников, где он тоже состоял, а Кортнева к этому моменту, кажется, уже выгнали с мехмата). Пели они мило и славно, но драматическим актером он был, по моему тогдашнему впечатлению, просто блестящим. Поскольку речь идет о середине 80-х, то главной постановкой в этот момент было что-то такое по драматургу Шатрову, в чем Кортнев играл Ленина. Было ему года двадцать два – двадцать три, он был огромный, еще не лысеющий, без грима, без ничего, в каком-то свитере – и через пять минут спектакля или репетиции я как зритель про все это забывал, потому что натурально видел перед собой Ленина (ну конечно, мифологического такого Ленина, в рамках позднейшего извода советской агиографии). Ну и угадайте, чем все закончилось?
КУЗЬМИН Практически. Славутин поссорился со своим заместителем и выгнал его, а я решил, что в этом конфликте заместитель – пострадавшая сторона, и ушел вместе с ним в знак протеста. И тот пытался вести какую-то мелкую студию в мелком ДК, но это уже не имело никакой перспективы. Моя театральная карьера, к сожалению, на этом завершилась.
ГОРАЛИК Прежде чем мы уйдем из МГУ, расскажите еще про Школу юного филолога. Это ведь был наконец тот самый педагогический опыт, которого вы так жаждали. И как?
КУЗЬМИН И да, и нет – то есть и тот самый, и не тот. С одной стороны, я рассказывал детям (хотя каким детям? разницы-то между нами было года два-три) про то, что мне самому интересно, и им интересно тоже, причем они ко мне шли добровольно: постольку, поскольку хотели слушать именно про это и именно от меня (а нет – так добро пожаловать в любой соседний кружок). С другой стороны, это все-таки я говорил, а они слушали – не курс лекций, конечно, скорее обильно комментируемое чтение стихов, но понятно же, что задача такого семинара – формирование и расширение некоторого горизонта представлений. Тогда как в школе, если по-хорошему, задача номер один – это формирование навыков: не «вот какая бывает литература», а «вот что ты можешь из такой и такой литературы для себя извлечь». Ну, это в идеале, конечно. Поэтому когда я пошел работать в школу, то метод был обратный: не я им читал и рассказывал о прочитанном, а дети на каждом уроке читали кусочек какого-то текста и рассказывали мне, что они там вычитали. Но это были дети поменьше (преподавал я в пятых классах), и читали мы с ними, конечно, не стихи, а «Муми-тролля», гениальную сказку Александра Шарова «Человек-горошина и простак» и что-то еще в том же духе (пока через год не пришла проверка и не обнаружила, что ничего общего с официальной школьной программой эти наши собеседования не имеют). Тут я довольно твердо полагаю, что я был прав, потому что официальная школьная программа собственно зло (я потом про это статью написал): ведь, по сути, в школе учат некоторой куцей истории литературы, еще более куцей теории литературы, но толком не учат, как читать, и главное – совершенно не учат, зачем читать, так что дети выходят с уроков литературы со смутными и ни за чем не нужными познаниями насчет того, кто был Евгений Онегин и кто был Акакий Акакиевич, но без понимания, что чтение книг имеет некоторое отношение к их собственной жизни, что оно может помочь им разобраться в ней и выстроить ее. Но семинар ШЮФа был скорее тренингом для грядущего вузовского преподавания, с поправкой на ту самую добровольность, которой в советизированной российской образовательной системе минимум (как ликвидировали большевики в начале 20-х возможность для студентов выбирать себе профессоров и курсы, так мы с этой принудиловкой по сию пору и остались). Забавно: давеча в блоге встретил длинную патетическую запись какого-то молодого преподавателя с общей идеей «умри, но научи». То есть ты педагог, ты обязан, как бы клиенты, то бишь студенты, ни сопротивлялись. И я не мог не вспомнить, что в классические времена эта максима звучала ровно противоположным способом. Когда знаменитый философ Антисфен не брал учеников, а желающих у него учиться прогонял палкой, то пришедший к нему Диоген, вместо того чтоб уйти, подставил спину и сказал: «Бей, но выучи!» – настолько хотел учиться. А тут учиться никто не хочет, но педагог обязан на посту умереть. Я, между прочим, много об этом думаю применительно к национальному вопросу и всяческой иммиграции: ведь ассимиляция американского образца в большой мере строилась на универсальности образовательных механизмов: будь ты хоть из еврейской диаспоры, хоть из итальянской, хоть из японской, но если ты хочешь для себя или своих детей будущего, то необходимо встроиться в образовательную систему, только она по крупному счету обеспечивает социальный лифт. Сейчас Россия, возможно, еще не дошла до момента, когда это начинает работать, но когда дойдет, когда у прибывающих в Москву киргизов и узбеков возникнет потребность в социальном лифте если не для себя, то для своих детей, – ведь наша образовательная система, косная, мертвая, совершенно к этому не готова. Простите, это я отвлекся опять.
ГОРАЛИК Это, увы, просто слишком большая тема, и далековатая от вас лично. Давайте вернемся к уходу из МГУ. Куда вы отправились?
КУЗЬМИН После МГУ я сперва на краткое время оказался в Библиотеке имени Ленина, в отделе диссертаций, так называемое «на подборе». Это вот что такое: в те времена отдел диссертаций еще не выселили за МКАД, а находился он непосредственно в доме Пашкова в подвале. Этот подвал занимали этакие катакомбы, густо уставленные стеллажами с диссертациями, и когда сверху по пневмопочте сваливались поступившие заказы, то три-четыре мальчика, которые там работали, с жуткими громыхающими телегами бегали по этим самым катакомбам, сдергивая с полок диссертации и привозя их к лифту, который поднимал заказанное куда-то наверх.
ГОРАЛИК Это же чистый стимпанк – подземелье с рукописями.
КУЗЬМИН Ну да. Но тут как раз эти диссертации стали переселять за МКАД, да и я там со всеми поссорился, и следующее место, где я провел полтора года жизни, была Республиканская детская библиотека, что у станции метро «Октябрьская», в аккурат за спиной у последнего в Москве, самого помпезного памятника Ленину. Это место примечательно тем, что за полтора года службы в читальном зале для старшеклассников, на выдаче литературы, я там практически ни с кем не поссорился. Кроме одного старшеклассника лет четырнадцати, явившегося на какие-то посиделки для завсегдатаев заведения затем, чтобы в ответ на любую реплику любого другого человека вставлять нечто мерзко язвительное, пока я не выгнал его оттуда на фиг. Ребенок этот сделал прекрасную карьеру в дальнейшем: это звезда Государственной думы депутат-журналист Хинштейн. Но дело было в том, что тут уже наступил сперва 88-й, а потом и 89-й год, и мои свойства темперамента, совершенно не переменившиеся, в этот исторический момент совпали с общим градусом жизни. Начальствовавшие надо мной милые, славные, благожелательные библиотечные дамы быстро перестали понимать, что же это такое происходит в стране, и когда я, как водится, стал себя вести как право имеющий, у них возникло подозрение, что, возможно, в этом-то как раз самая перестройка и состоит. Так что я там, например, практически все издания кондовой советской поэзии и добрую долю кондовой советской прозы списал из фондов в макулатуру по графе «морально устаревшая литература» (вообще-то предназначавшейся для списания брошюр с решениями позапрошлогоднего пленума ЦК КПСС, дабы спустя время уже никакой дотошный читатель не мог выяснить, что ж они там нарешали и отчего оно не выполнено). Мама моя вспоминает, что я при этом выбросил лозунг «Заменим Маркова на Маркеса!» (Марков был такой заскорузлый советский графоман, руководитель Союза писателей) – звучит изящно, но я такого не помню. Потом в этой библиотеке меня избрали в совет трудового коллектива и в комитет комсомола секретарем по идеологической работе. Первым моим действием в этом последнем качестве стало вывешивание к годовщине Седьмого ноября от лица комитета комсомола небольшой стенгазеты, в центре которой был крупными буквами выписан текст песни Шевчука «Революция»: «Революция, ты научила нас верить в несправедливость добра. Сколько миров мы сжигаем в час во имя твоего святого костра?» И эта газета висела там на стене сколько ей было положено, а пожилые сотрудницы библиотеки, проходя мимо нее, переходили на другую сторону коридора. Но прекрасно это время было другим: на фоне всех событий в библиотеке постепенно образовалось некоторое количество подростков, которые приходили туда персонально ко мне – разговаривать как про поэзию, так и про революцию. Из разговоров про революцию вышел сюжет в популярной тогда телепрограмме «До 16 и старше», где я рассказывал, что коммунизм – это не та байда, которую организовали в СССР, а вершины духа, свобода личности, ранний Маркс и ранние Стругацкие, мне было «старше», то есть двадцать, а вокруг меня болтались в кадре «до 16», которым было всем четверым лет по пятнадцать. Потом еще по этому поводу к нам приезжал для беседы о марксизме журналист из минского журнала «Парус», самого тогда продвинутого в стране молодежного издания, я его кормил у себя на кухне эклерами, и интервью вышло, если я ничего не путаю, под заголовком «Все марксисты любят сладкое». Потом я со всеми этими смутными идеями поступил в организацию под названием Московский комитет новых социалистов, которой руководил Борис Кагарлицкий, сын театроведа Юлия Кагарлицкого, бабушкиного приятеля и маминого автора, ходил на какие-то переговоры с бастующими шахтерами, но ничего из этого всего так и не вышло, к сожалению, – ни для меня, что полбеды, ни для отечества, что довольно печально. Ну, то есть не в том смысле, что отечество надо было непременно отдать в руки Борису Кагарлицкому, но вот уж двадцать лет прошло, а вменяемой левой политической силы как не было, так и нет.
ГОРАЛИК А разговоры о поэзии?
КУЗЬМИН Именно те мальчики, с которыми мы разговаривали о поэзии в библиотеке на «Октябрьской», поэтами не стали, хотя были все так или иначе талантливы. Правда, один из них работает теперь литературным обозревателем в одном второстепенном журнале – но тут ситуация двойственная: литературным – по причине наших тогдашних разговоров, а во второстепенном журнале и довольно блеклым образом – по причине того, что от сомнительных знакомств в моем лице добрая мамаша его отвадила путем совершенного выжигания какой-либо внутренней самостоятельности. Но в это же самое время на моем пути встретились и другие мальчики – уже не в связи с библиотекой, а специально про поэзию. Любопытно, кстати, что это были почти исключительно мальчики – тогда как в следующем поколении, в 2000-е годы, поначалу погоду делали почти исключительно девочки; наверное, это что-то значит, но что – я не знаю. Вообще какой-то порыв к объединению присущ творческой молодежи во все времена, но именно такое переломное время, как рубеж 80–90-х, в этом смысле особенно благодатно. Потому что прежние иерархии, каноны и правила игры рушатся, и старшим товарищам совершенно не до вас: им бы с собственным положением разобраться. И вы остаетесь предоставлены самим себе: свобода – и сладко, и страшно. Я довольно много об этом писал – об остром переживании нестабильности пространства, которое у всех было в это время. Это и вообще жизнь так была устроена: непонятно было, какое потрясение завтра свалится, – но в культуре, литературе, поэзии такой расклад был особенно явным. Ведь автор пишет внутри некоторой системы координат, образованной представлениями о том, кто и как писал вчера и наряду с ним пишет сегодня. У молодого автора последнего советского десятилетия в этом смысле было все просто: либо он первоначально попадал в пространство советской литературы, и там ему было совершенно ясно, что по оси абсцисс у нас Кушнер, по оси ординат Вознесенский, а по оси аппликат какой-нибудь ветхий Тряпкин; либо он попадал в пространство неподцензурной литературы и оказывался сразу локализован в каком-то кружке, в одном из узлов ризомы – и это тоже некая определенность: в данной точке значимо вот это и вот это, ключевые авторы этот и этот, а характер отношений с другими точками постепенно осваивался (то есть ризома совсем не означает отказа от структуры и иерархии – просто структура усложняется). А у нас на глазах – у тогдашних юношей, которые еще не успели сделать первый шаг ни туда, ни туда, – эти два пространства стали как бы совмещаться в одно, схлопываться. То есть вот ты живешь себе, сочиняешь что-то, и вдруг выходит декабрьский номер «Нового мира» за 1987 год с первой официальной публикацией Бродского – и ты понимаешь, что твоя система координат современной поэзии фундаментально неверна и требует пересмотра. Ты как-то ее пытаешься пересматривать, проходит месяц, приходит новая порция журналов, а там впервые Айги, или Некрасов, или Парщиков, или Шварц. С одной стороны, ты существуешь в ситуации постоянной дезориентированности, с другой – траектория твоего развития никак не предопределена, и это здорово. В этом смысле сегодняшние двадцатилетние, явно пишущие с ощущением, что очень многое уже предрешено, могли бы нам позавидовать, хотя, естественно, и нам есть чему позавидовать в их положении. Так вот, именно в таком бурном море особенно сложно выплывать в одиночку, особенно нужна команда. И я в свободное от библиотечных борений время начал ходить по всяким странным местам в поисках человека. Первым делом я встретил будущего Станислава Львовского, который тогда еще пользовался другим псевдонимом. Есть две версии того, как это случилось: его и моя. Моя состоит в том, что я шел себе весной 88-го по Старому Арбату, который тогда только-только офонарел (то есть из обычной улицы с троллейбусом превратился в пешеходную зону с декоративными фонарями) и функционировал в качестве Гайд-парка, и застал там шестнадцатилетнего будущего Львовского за чтением мимохожей публике стихов Галича. Но поэт Львовский этот факт отрицает и говорит, что мы познакомились только летом на турнире поэтов «Московского комсомольца». Заодно выяснилось, что мама поэта Львовского работает со мной в одной библиотеке и он, заходя к ней иногда, заглядывал и ко мне. А осенью 88-го я пошел на экскурсию в заведение под названием «Московский совет литературных объединений» – это был такой идеальный питомник густопсовых графоманов, до сих пор я оплакиваю полный шедевральной «уткоречи» их сборник, который у меня потом кто-то стащил. Главный муж совета там был некто, писавший популярные книги по химии, а в свободное время сочинявший стихи, и статус автора популярных книг по химии сообщал ему ту дозу профессионализма в области поэзии, в силу которой в этом королевстве слепых этот одноглазый был королем. Но из городского литобъединения города Мытищи Московской области в этот паноптикум прислали на просмотр трогательно агрессивного, в такой демонстративной тельняшке четырнадцатилетнего Вадима Калинина (в сопровождении его alter ego , другого юного поэта из Мытищ Вячеслава Гаврилова, который потом как-то сошел на нет). Тут опять есть две версии. Я-то полагаю, что я просто послушал там его стихи и оставил ему номер телефона. Но Калинин утверждает, что звонить он мне не стал, потому что я не внушал доверия, – я же вычислил номер его школы, позвонил директору и кем-то таким назвался, что его затребовали мне к телефону прямо с урока. Я такого не помню. Но, в общем, ничего невозможного в такой версии нет. И на фоне всего этого как раз вернулся после непродолжительного пребывания в Вооруженных Силах Артем Куфтин, один из моих товарищей по отряду дружинников и ночным бдениям под БГ, сочинявший такую довольно обаятельную циклизованную бессюжетную малую прозу со слегка абсурдистским привкусом… К концу года мы собрались и решили, что будем на печатной машинке делать свой самиздатский журнал. Выбрали название – «Вавилон», имея в виду песенку Гребенщикова со словами «Вавилон – город как город, печалиться об этом не след: если ты идешь, то мы идем в одну сторону – другой стороны просто нет» (в том смысле, что любая живая поэтика имеет право на существование – лишь бы она «шла»). В феврале 89-го я первый выпуск этого журнала на семейной печатной машинке «Эрика», в соответствии с памятной формулой Галича, напечатал.
ГОРАЛИК Ас вашим собственным письмом что происходило в это время?
КУЗЬМИН Мне кажется, у меня уже начиналось в тот момент состояние некоторого общего недоумения, которое привело меня через несколько лет к довольно серьезной паузе, после которой фактически пришлось все начать заново. Дело в том, что я постепенно всякому-разному выучился, у меня какие-то штуки стали получаться. Причем довольно амбициозные: с форсированной звукописью, с метафизическими претензиями, нередко с каким-то вызовом в содержании – вроде того, например, что был у меня стишок под названием «Баллада полового созревания» или другой, какое-то время считавшийся моей визитной карточкой, с первой строкой, задававшей установку на аллитерационное эстетство: «Порталов и портиков, притолок и потолков…» – и чтоб потом этот настрой разнести в пыль натуралистической метафорикой: «Выводит меня чемеричной водой, как лобковую вошь, Город, в котором, может быть, ты живешь». То есть в этом во всем даже было какое-то эстрадное начало, что ли, хотя никаких таких эстрад, с которых это можно было читать, в моем распоряжении не было. Если не считать эстраду уже упомянутых поэтических турниров «Московского комсомольца», с каковыми турнирами (проходившими раз в году в Парке культуры и отдыха) у меня был сравнительно долгий роман – уже после того как на первом из них, в 88-м, мы пересеклись с поэтом Львовским. На следующий год мы туда пошли уже компанией, ведал этими ристалищами поэт Александр Аронов, в юности ездивший в Лианозово к Кропивницкому, но потом выбравший относительно правоверную советскую поэтику, в рамках которой, однако, ему удавались очень живые и пластичные вещи, я потом про него стихотворение написал… На уличной эстраде выступали с одним текстом все желающие плюс несколько человек по специальному ароновскому приглашению, а в конце предлагалось избрать Короля поэтов. И почему-то Аронов очень хотел, чтобы народ избрал Королем поэтов Александра Еременко – несмотря на то, что Еременко уже был избран таковым шестью с половиной годами раньше и при куда более осмысленных обстоятельствах, а не постоянно менявшейся у эстрады толпой. И это желание Аронова было настолько заметно, что часть народа, с учетом «перестроечных» умонастроений, возроптала и выдвинула протестную кандидатуру, которой почему-то оказался я, прочитавший именно стихотворение с чемеричной водой. А поскольку посчитать в такой толпе, кто за кого голосует, практически невозможно (ну, при каком-то сопоставимом масштабе поддержки), то Аронов выдвинул соломоново решение: ведь у мальчика-то все еще впереди, давайте мы его объявим Принцем поэтов, а Королем пусть будет Еременко, он все-таки пишет уже столько лет. Возразить было нечего, но ирония состоит в том, что во второй, и в последний, раз мне довелось пересечься с поэтом Еременко – конечно, классиком 80-х, но так в этой короткой переходной эпохе и оставшимся – спустя двенадцать лет при обратных обстоятельствах: я вел поэтический вечер в ОГИ, а сильно набравшийся классик долго, громко и агрессивно что-то кричал из-за зала, и мне пришлось потребовать у охраны, чтобы его вывели. С Ароновым же я пересекся спустя год на точно таком же турнире – мы туда снова явились уже несколько расширившейся компанией, я из принципа прочитал ровно то же самое стихотворение с чемеричной водой, снова было хаотическое голосование народа, роящегося вокруг сцены, и примерно одинаковое число голосов набрал вместе со мной некто неведомый. Тогда поэт Аронов сказал: «Ну что, ну Кузьмина же мы уже знаем, давайте дадим новому человеку». И я, надо сказать, всерьез подумывал на турнире 91-го года прочесть то же самое стихотворение в третий раз, хоть меня от него уже и тошнило, но поэт Аронов незадолго до этого заболел и попросил меня вместо него этот самый турнир провести, в результате чего королевский титул народ присудил Вадику Калинину, аккомпанировавшему себе на губной гармошке. И, в общем, я к чему это все рассказываю: у меня постепенно возникало ощущение, что вот эти стихи, на которые даже можно «купить» какую-то публику, – они, в общем, может, и ничего, но по большому счету не мои. Поэтому то немногое, что я сочинял в начале 90-х, – это по большей части «отдельно стоящие стихотворения», попытки ответить самому себе на вопрос: а если вот так? Или, может, вот так? И тексты-то случались удачные, но при этом ответ каждый раз был отрицательный: нет, никакой именно моей поэзии тут нет. Но на драматическое переживание этого довольно мучительного зависания у меня особо не оставалось времени и энергии, потому что со страшной силой закипела «вавилонская» литературная жизнь, да и в институте было весело.
ГОРАЛИК А что был за институт?
КУЗЬМИН Ну я же не собирался всю жизнь провести в детской библиотеке, это было место для меня слишком мирное. А поскольку в МГУ мне уже дорога была заказана, то я восстановился с потерей года в Московский государственный педагогический институт имени Ленина, который в процессе моего обучения там превратился в Московский педагогический государственный университет, уже без Ленина. Тут даже не то замечательно, как они убрали имя Ленина, а заодно его же статую, украшавшую огромный вестибюль главного здания и указывавшую воздетой десницей на мужской туалет… Я эту статую всегда вспоминаю при поездках по российской провинции, потому что меня научила поэтесса Наталия Азарова: надо смотреть, куда показывает Ильич на главной площади, – в той стороне всегда или хорошая гостиница, или хороший ресторан, а если Ильич никуда не показывает (скажем, держит обе руки за спиной), то месту сему быть пусту. Но это-то все шутки, а вот с переименованием МГПИ им. Ленина в МПГУ главный фокус был не в исчезновении «им. Ленина», а в перестановке букв Г и П: они поменяли местами «педагогический» и «государственный», чтобы в аббревиатуре не выходило ГПУ. Вот какой был в начале 90-х у некоторых в голове масштаб исторической памяти. Ну, и я по мере сил там старался продолжать свою, так сказать, идейную борьбу. В частности, выпуская в гордом одиночестве альтернативную факультетскую стенгазету, которая так и называлась «Альтернатива». В силу особенностей эпохи ее можно было совершенно легально вывесить рядом с официальной факультетской стенгазетой – но висела она обычно несколько часов, а потом ее кто-то из моих сокурсников незаметно срывал, пока никто не видит, оттаскивал по ближайшей черной лестнице к чердаку и там рвал в клочки. Клочки я несколько раз находил, но за руку поймать все никак не удавалось. Я про эту газету часто вспоминаю, потому что в одном из номеров там было лично мною взятое интервью с профессором Игорем Олеговичем Шайтановым, заканчивавшееся, как сейчас помню, дословно так: «Нигде я не встречал столько людей, не любящих литературу, как на филфаке».
ГОРАЛИК Это его фраза?
КУЗЬМИН Ну да. И вообще он был мой любимый наставник и представлялся мне тогда всячески светлой личностью: ведь официальный курс у него был по основной специальности – зарубежной литературе XVII–XVIII веков, а в свободное время он вел нечто вроде спецсеминара для всех желающих, где рассказывал нам про Потебню, Веселовского, Тынянова, про положительные основания филологической науки, о самом существовании которой – именно как науки, а не всяких необязательных рассуждений – мы именно там и именно у него узнавали. А неформально я у него допытывался и про современную поэзию, которая, в общем, для него заканчивалась Бродским, из дальнейшего он, с оговорками, принимал только Ивана Жданова, но это выглядело тогда вполне приемлемой академической умеренностью – и как было знать, что на следующем повороте эпохи это будет один из главных охранителей-стародумов… В остальном же не то чтобы я в этом вузе сильно чему-то выучился, потому что симпатичные преподаватели там, как и в МГУ, попадались преимущественно по мало относящимся ко мне предметам. За исключением того, что там был эпизод, сильно повлиявший на мои последующие занятия стихотворным переводом. Была такая Анна Александровна Маныкина, про которую я даже не могу теперь сообразить, какой же, собственно, курс она нам читала – какую-нибудь «Методику преподавания литературы», – но в качестве примера не помню чего она вдруг прочла одну из верленовских «Песен без слов» по-французски: «Il pleure dans mon coeur comme il pleut sur la ville…» И я совершенно заболел этим стихотворением, разыскал десяток его русских переводов, начиная со знаменитой «Хандры» Пастернака: «И в сердце растрава, и дождик с утра…» – уяснил себе, что ни один из этих переводов не схватывает некоторых самых важных свойств оригинала – прежде всего ритмических, – и сделал свой перевод, в целом довольно неуклюжий, но по передаче вот этих начальных двух строк самый, я считаю, точный и верный из всего, что есть: «То ли плачется сердцу, то ли каплет с небес». Справедливости ради надо сказать, что это была не первая попытка, а вторая: до этого, еще в МГУ, кажется, я перевел стошестнадцатый сонет Шекспира, причем аж два раза: мне попала в руки знаменитая книжка Е.Г. Эткинда «Поэзия и перевод», где этот сонет разобран по косточкам и показано, отчего имеющиеся его переводы не годятся. Как ни смешно, эти переводы стали чуть ли не первой моей публикацией, потому что как раз в этот момент готовился сборник новейших переводов Шекспира, и я несколько лет назад испытал культурный шок, обнаружив в Интернете курсовую работу какой-то девочки из Иркутска с сопоставлением разных русских версий этого сонета, включая мои. При том что этот перевод, конечно, сугубо ученический, – но дело даже не в этом, а в том, что первую и в каком-то смысле самую важную часть работы, аналитическую, в этом случае Эткинд проделал за меня, а уж с Верленом – я сам. И вот этот тип переводческой работы, связанный с тщательным изучением ряда уже предложенных решений и выработкой собственного альтернативного решения, основанного на каком-то принципиально ином видении задачи, – он для меня скорее исключение, чем правило (потому что обычно я перевожу что-то совсем новое, то есть у меня право первой ночи), но несколько очень важных для меня работ, прежде всего «Погребальный блюз» Одена (который до меня переводил аж Бродский, не говоря о многих прочих, но ни один из моих предшественников удивительным образом не пожелал воспроизвести по-русски расшатанную блюзовую ритмику оригинала, все перекладывали в твердый русский метр), по своему методу выросли напрямую из этого студенческого Верлена.
ГОРАЛИК Откуда вообще возникает потребность перевести текст?
КУЗЬМИН Ну, тут есть какой-то комплекс мотивов. Есть чисто человеческий порыв: поделиться с не владеющими языком. Так бабушка когда-то взялась за «Маленького принца» не по издательскому заказу, а ради двух ближайших подруг, которые не знали французского. Это, стало быть, эмоциональный посыл: в оригинальном тексте обнаруживается что-то очень важное – близкое, а иногда, наоборот, далекое, и ты хочешь это воссоздать на своем языке и передать дальше (а не просто проинформировать русскочитающую публику, что есть-де за границей и вот такой вот автор). Но в хорошем случае потребность поделиться с людьми (более или менее конкретными) перерастает в потребность обогащения собственной национальной литературы. В оригинальном творчестве ведь то же самое: для кого ты пишешь – для конкретных людей, которые есть здесь и сейчас, причем не важно, знаешь ты их в лицо или просто представляешь себе, важно, что они отчетливо локализованы во времени и пространстве, – или ты все-таки имеешь в виду некоторого провиденциального собеседника, как говорил Мандельштам, не в смысле разговора с Богом, а в смысле отсутствия готовых ответов, готовых схем восприятия, которым можно идти навстречу: вместо этого ты забрасываешь мячик куда-то, где в этот момент еще никого нет, но кто-то должен появиться, в том числе и потому, что ты туда бросаешь (в этом есть что-то бейсбольное, включая и то, что бейсбол – игра с довольно жесткими правилами, но этих правил так много, что степень предсказуемости действий стремится к нулю). Тут есть интересная тема насчет того, как этот провиденциальный читатель соотносится с читателем имплицитным, то есть тем образом адресата, который postfestum вычитывается из текста, но это уведет нас слишком далеко от скромного вопроса о переводческих стратегиях. Я же клоню к довольно простому ощущению, которое возникает у переводчика: вот эти тексты, эти поэтики, иногда вот эти конкретные авторы непременно должны стать фактом и фактором моей национальной культуры, они ей нужны. У меня такое в первый раз было с Резникоффом, но это уже следующий по хронологии этап. А бывает и другое, более рациональное: чужой текст как хитроумная головоломка, которую нужно сперва, на другом языке, разобрать, а потом, на своем языке, собрать обратно, и чтоб оно после этого работало (а не как русский Левша, которого по недомыслию, по непониманию тонкой лесковской идеи многие представляют как бы национальным героем: ведь он, сердешный, подковать-то блоху подковал, но плясать она в результате перестала). Это скорее про мою историю с Оденом, несмотря на все мои личные душевные резонансы с этим самым «Погребальным блюзом». И отчасти с «Южным почтовым», который я сперва вообще хотел только отредактировать, взяв за основу старый перевод Марины Казимировны Баранович, прекрасной женщины, в которую была когда-то влюблена стареющая Софья Парнок, а потом она была доверенной машинисткой Пастернака, переписка их опубликована, и вот она на рубеже 50–60-х по бескорыстному душевному порыву перевела чуть ли не всего Сент-Экзюпери, кое-что из этого было напечатано, но все-таки она не была профессионалом, и когда я взялся вычитывать старый перевод с оригиналом, то нашел много всяких неточностей в стиле, тоне, терминологии, вплоть до того, что в первом издании этого перевода в 1964 году случайно потерялась одна строчка, и за тридцать шесть лет ее никто не восстановил. Короче говоря, я переписал текст Баранович наполовину, а потом ее наследники мне это дело воспретили, и я скрепя сердце переписал получившийся текст на оставшуюся половину, чтобы от Баранович, при всем уважении, в нем ничего не осталось.
ГОРАЛИК Давайте вернемся в начало 90-х. Самое главное у вас тогда происходило на организационном фронте, наверное?
КУЗЬМИН Конечно. Просто я, кажется, почти про все это уже столько раз писал и рассказывал… Конкретно про историю «Вавилона» была моя статья в «НЛО» под названием «Как построили башню». Ну, в двух словах: народу вокруг нашего самиздатского журнальчика с каждым месяцем становилось больше – некоторые из них, увы, в дальнейшем безвестно канули (как, например, отличные прозаики Ивар Ледус, Илья Бражников, Марина Сазонова, автор прелестных трехстиший-хайку Алексей Мананников), другие так или иначе остались в литературе (прежде всего Ольга Зондберг, которая, правда, окончательно перешла со стихов на прозу, но проза эта, по-моему, выдающаяся, хотя и прошедшая мимо критического внимания ввиду совершенной неформатности). Стало понятно, что самостоятельных, в значительной степени уже сформировавшихся авторов нового поколения, плюс-минус около двадцати лет, должно быть полно, а деваться им всем особо некуда. И тогда мы объявили Всесоюзный конкурс молодых поэтов, анонсировали его через еще не выродившуюся в нынешнее свинство «Литературку» на всю страну, получили мешок писем, выбрали из него полсотни с лишним осмысленных претендентов, добавили десять-пятнадцать «своих», отдали все это судьям, а именно Кушнеру, Левитанскому, Кривулину, Бунимовичу, Жданову и Аронову – набор имен, который сегодня выглядит странновато, но в ситуации 91-го года непросто было разобраться в том, какая из тогдашнего тотального перераспределения символического капитала выкристаллизуется в дальнейшем иерархия авторитетов, к тому же вопрос еще был в том, до кого нам было легче дотянуться-достучаться. Каждый из них выбрал своих собственных лауреатов, суммировать их баллы мы не стали, чтобы не высчитывать среднюю температуру по больнице, хотя то, что сразу трое дали высший балл пятнадцатилетней Полине Барсковой, – явно не просто совпадение: такая она была безоговорочно яркая, но при этом вполне вписывающаяся в представление о том, какие темы, какие образы, какие приемы должны волновать юную девушку (впрочем, в свете ее сегодняшнего письма и в тогдашних ее стихах ретроспективно видятся совершенно другие стороны). После этого, по идее, нужно было собирать всю эту компанию в Москву на фестиваль, и для этого уже, в отличие от всех наших предыдущих подвигов, нужны были деньги. Тогда я пошел в Верховный Совет РСФСР, депутатом которого незадолго до этого случайно оказался мой шапочный знакомый по имени Миша Сеславинский, впоследствии сделавший роскошную карьеру, а тогда еще только привыкавший к случившейся с ним перемене обстоятельств – превращению из преподавателя третьестепенного провинциального вуза в заместителя председателя парламентской комиссии по культуре. Я сказал ему: «Миша, нельзя ли молодым поэтам дать немного денег?» Запросы у меня были самые скромные: на проезд до Москвы всем иногородним и на распечатку на ксероксе маленьких подборок каждого, чтобы всем раздать. Вышла какая-то сумма, в государственном масштабе смехотворная. Миша позвонил в Министерство культуры РСФСР, я вслед за звонком туда поехал, ко мне в вестибюль спустился дяденька, заведовавший финансовым отделом, и вынес мне эти деньги в конверте. Потом случился августовский путч, и поэт Львовский любит вспоминать (а я, опять же, не помню), как при начале этой катавасии позвонил мне и поинтересовался, что же теперь делать, а я ответил, что действительно совершенно непонятно, что делать: до фестиваля осталось два месяца, а у нас нет для него площадки. Звучит несколько маниакально, но на ночное дежурство-то к Белому дому мы с одним моим тогдашним поклонником ездили, и я об этом написал маленький сентиментальный очерк под названием «Наши на баррикадах» – для одного из двух только что появившихся первых российских гей-изданий. Ив итоге все закончилось более или менее благополучно: путч провалился, зал нам для фестиваля предоставила Республиканская юношеская библиотека, и мы успели этот фестиваль провести как всесоюзный, на месяц опередив исчезновение самого Союза. Выступали шестьдесят два участника, и это было первое появление на литературной сцене таких авторов, как Николай Звягинцев, Ярослав Могутин, Владимир Бауэр, Алексей Верницкий, Дмитрий Соколов (в дальнейшем, увы, бросивший поэзию и теперь известный как публицист Соколов-Митрич), поженившиеся в результате встречи на фестивале Олег Пащенко и Янина Вишневская и даже теперешний почвенный критик Кирилл Анкудинов, от которого, правда, уже тогда все шарахались. Недавно, по случаю двадцатилетия этой истории, мы снова провели поэтический вечер в стенах той же библиотеки (теперь это называется Государственная библиотека для молодежи) в диапазоне от давешних Львовского и Звягинцева до двадцатилетней на нынешний момент Ксении Чарыевой – как мне кажется, одной из главных надежд нового поэтического поколения. Ну и вообще, как-то я перебирал архивы, обнаружил какие-то забавные мелочи – например, фестивальную фотографию, на которой по сцене с глубокой задумчивостью на лице идет член жюри Иван Жданов, я на него смотрю с таким выражением лица, как будто сейчас подставлю ему ножку, а на груди у меня при этом, оказывается, значок с розовым треугольником – международным символом гей-движения (насчет чего, правда, в 91-м году в России мало кто был в курсе)… Потом, надо сказать, был еще второй фестиваль – в 94-м году в ЦДРИ, но уже без такого сильного впечатления, хотя состав-то выступающих был, пожалуй, сильнее: к уже упомянутым добавились, например, Сергей Круглов, Андрей Сен-Сеньков, Александр Анашевич, Шиш Брянский, Андрей Поляков, Наталия Черных… В промежутке между двумя фестивалями двумя главными нашими событиями стали превращение «Вавилона» из самиздатского журнальчика в полиграфический ежегодник и появление в дополнение к нему серии маленьких авторских сборников, то бишь начало собственной издательской программы. Ежегодник мы делали с 1992 по 2003 год, вышло десять номеров (а не одиннадцать, за счет накапливавшегося опоздания), объем за этот же период вырос с восьмидесяти страниц до четырехсот, последние выпуски я делал на пару с Данилой Давыдовым, и там уже начались дебютные публикации поколения 2000-х: Марианны Гейде, Дины Гатиной, Ксении Маренниковой, Анастасии Афанасьевой… Первая книжка вышла у нас весной 1993-го, это был сборник Николая Звягинцева «Спинка пьющего из лужи», его же стихами открывался первый типографский «Вавилон» – моим любимым стихотворением «Крас, кирпич и шепот мела…» о Пауле Целане. Впрочем, это было не только мое любимое стихотворение: на каком-то из тогдашних наших выступлений некто доброжелательный, но неумный посетовал из зала, что вот хорошие же стихи, но непонятные и потому совершенно незапоминаемые, – и тут вдруг моя мама, которая почему-то из всех «вавилонян» больше всего одобряла Звягинцева, начала ему читать вслух про то, что «здесь стоит Париж-кораблик и глядят глаза гуляк, здесь с растеньями на равных люди ходят по полям…». Но и вообще эта книжка замечательно выходила: денег у нас не было никаких, вообще время было веселое, но голодное, и я как-то пожаловался на жизнь даме по имени Валентина Полухина – она давняя эмигрантка, профессор небольшого английского университета и известный бродсковед, герою своих исследований преданная довольно фанатически. А мы с ней познакомились за пару лет до этого в Питере на посвященной Бродскому конференции, я туда поехал с докладом про то, что система сквозных образов у раннего Бродского, эпохи «Холмов», в сущности представляет собой вариант символизма, ночевал по безденежью на вокзале и был вполне счастлив. По всему по этому Полухина ко мне отнеслась благосклонно, в стихах моих тоже углядела какой-то бродский след, да и вообще молодые дарования вызывали у нее порыв как-то помочь и поддержать… Короче говоря, барыня прислала тридцать долларов – ну то есть у провинциального профессора-филолога в самые тэтчеровские годы тоже, вероятно, лишних денег было в обрез; но в России в это время тридцати долларов хватило на две маленькие книги стихов: Звягинцева и, выпуск второй, книгу Полины Барсковой «Раса брезгливых». Конечно, я говорю только о чистых затратах на полиграфию. Издательскую марку, красивое и непонятное название «АРГО-РИСК», мне подарил недавно ушедший из жизни Владислав Ортанов – один из основателей российского гей-движения; он ее регистрировал в расчете на создание первой российской гей-организации, для которой придумал складывавшееся в звучную аббревиатуру название: «Ассоциация за равноправие гомосексуалов: равенство, искренность, свобода, компромисс»; организацию такую ни тогда, ни потом еще довольно долго создать не удалось, аббревиатура не пригодилась, и последующие рецензенты выходивших под этой маркой стихотворных сборников смутно прозревали в этом дефисном написании каких-то рискованных аргонавтов. Компьютерную верстку мне пришлось освоить самому…
ГОРАЛИК А обложки кто делал? У них были такие графичные обложечки.
КУЗЬМИН Вот рисовать обложки, увы, я так и не выучился – хотя для одной книжки, первого сборника стихов Данилы Давыдова, все-таки сделал обложку методом текстового коллажа. А так – Звягинцев как архитектор по образованию себе нарисовал сам, к Барсковой и к большинству ежегодников делал Олег Пащенко, у каких-то поэтов оказывались друзья-художники… Это же было самое начало компьютерной эры: обложки все рисовались руками. Своего компьютера, естественно, у нас не было, так что верстал я по ночам в штаб-квартире Школы культурной политики Петра Щедровицкого, крестного отца российских политтехнологий, с одним из ассистентов которого, счастливым обладателем запасного ключа, у меня был роман. Ну, правда, справедливости ради надо сказать, что верстать я к этому времени уже немного умел, потому что все начало 90-х сотрудничал с легендарной андеграундной газетой «Гуманитарный фонд», пытавшейся в тот момент аккумулировать примерно всю информацию о любом неофициальном искусстве, – а у них был верстальщиком один хороший малый, не особо интересовавшийся поэзией, и после пары случаев, когда его верстка не оставляла от принесенных мною стихов (не моих, а кого-то из «вавилонского» круга) камня на камне, я стал во время верстки стоять у него за плечом, и кончилось это тем, что при очередном иссякновении у этой газеты денег верстальщик ушел, а я сел на его место за бесплатно. И про газету эту тоже надо рассказывать отдельно, там было много смешного, а закончилась история этого легендарного издания несколько комичным скандалом с моим участием, потому что в качестве бесплатного верстальщика я имел довольно весомое влияние на ход событий: некто, писавший под псевдонимом «Николай Славянский», опубликовал в «Гуманитарном фонде» длинную статью под названием «Carmina vacui taetra» (это по-латыни) о том, что Бродский плохой поэт, я разозлился и опубликовал не менее длинную статью под названием «Testimonium paupertatis» о том, что Бродский вовсе не плохой поэт, а Николай Славянский разозлился еще больше и написал еще более длинную статью под названием «Hoc produit tibi», о том, что Бродский все-таки плохой поэт, да и я, в общем, тоже непонятно кто, и тут я разозлился окончательно и сказал, что я эту статью верстать не буду, и, в сущности, на этом газета «Гуманитарный фонд» прекратила свое существование, несмотря на попытку Германа Лукомникова занять мое бесплатное рабочее место. В общем, было что-то героическое во всей этой издательской деятельности на коленке, и в таком стиле дело шло примерно два года, уже несколько английских славистов скидывались долларов по пятнадцать-двадцать на эти забавы, а к молодежной серии постепенно стали добавляться такие же тоненькие и малотиражные сборники старших авторов (первым был крохотный сборник Генриха Сапгира «Любовь на помойке», затем последовали Айзенберг и Авалиани, Пригов и Рубинштейн, Еремин и Аристов, Байтов и Искренко, Кривулин и Кекова… смысл был в том, что мы, младшее поколение, заявляли свою претензию на формирование иерархии авторитетов по собственному усмотрению. Ну а через два года материальное положение мое переменилось, и все стало несколько проще. Даже на цветные обложки стало хватать денег.
ГОРАЛИК А что случилось?
КУЗЬМИН Ну, видите ли, я-то сам после диплома, как уже было сказано, некоторое время читал вместе с детьми сказки о муми-тролле, потом, когда из школы меня погнали, писал всякие мелкие статьи и рецензии в «Книжное обозрение», а потом вернулся в педагогический университет на четверть ставки ассистента вести семинары по античной литературе для первокурсников. К античной литературе я не имел никакого отношения, но, с другой стороны, античная литература со своей специфической проблематикой имеет настолько мало отношения к шестнадцати-семнадцатилетним первокурсникам, что тут мы были отчасти в равном положении. Так что я просто старался всю эту седую древность немного приблизить к чему-то, с чем они хоть как-то соприкасались. Помнится, один юноша, прогулявший все мои семинары, кроме одного, заработал себе «автомат» на зачете благодаря тому, что на этом единственном семинаре при моем объяснении происхождения слова «трагедия» пометил себе на полях тетрадки: «Вагинов». Десять лет спустя я его встретил во Франкфурте-на-Майне в лифте гостиницы, где жила российская делегация, приехавшая на книжную ярмарку: я туда прибыл в качестве критика, а он – в качестве участника музыкальной программы, так что под мышкой у него был инструмент под названием геликон, и мы с ним, выйдя из лифта, некоторое время мучительно разглядывали друг друга, пытаясь понять, почему наши лица друг другу смутно знакомы. Иными словами, педагогический эффект от моего педагогического воздействия на будущих педагогов был, видимо, не особенно велик – платили же мне, как сейчас помню, двадцать пять рублей в месяц, и эта сумма никак не коррелировала с прожиточным минимумом. А стояла, между прочим, осень 1994 года, и осень эта ознаменовалась для меня тем, что я наконец уломал маму и отчима пустить меня в отдельную запасную квартиру, которая у них была. До этого мой замечательный отчим двенадцать лет использовал ее для хранения ненужных вещей (вместо того, чтоб, например, сдавать за деньги), но тут я окончательно проел им плешь, и нас туда пустили – меня и моего любимого супруга, с которым мы к этому времени были вместе уже больше трех лет, встречаясь преимущественно во всяких дружеских компаниях из моего окружения. А Димка мой занимался в этот период жизни, окончив аспирантуру мехмата, расчетом траектории баллистических ракет, и от заведения, в котором он этим занимался, имел койку в общежитии. Но в силу специфики момента общежитие, за отсутствием ремонта и призора, начало физически рассыпаться, так что мы были вдвойне счастливы возможности съехаться. Проблема была в том, что если мне все-таки платили двадцать пять рублей в месяц, то за его баллистические траектории перестали платить вовсе, потому что военно-промышленный комплекс как раз начал накрываться медным тазом. И, в общем, он по утрам уезжал из нашего Чертанова в Реутов к своим ракетам, а я или ехал в университет беседовать со студентами о Софокле, или в свободные от занятий дни шел на улицу собирать бутылки.
ГОРАЛИК Прекрасное сочетание.
КУЗЬМИН Любопытно, что оно меня совершенно не напрягало. И мы, собственно, прекрасно провели эту осень. Что называется, музыка играла, без конца приходили и уходили какие-то гости, с помоек приносились дополнительные предметы домашней обстановки, я выучил все окрестные точки приема стеклотары вместе с разницей в их расценках…
ГОРАЛИК Молодые все были, Митя.
КУЗЬМИН Ну разумеется же. Но все же бесконечно это продолжаться не могло. И к началу 95-го года Димке надоело бесплатно рассчитывать траектории баллистических ракет, он уволился и стал заниматься комплектованием фирм и учреждений компьютерной техникой, после чего вопрос о семейном бюджете был в нашей совместной жизни снят. И это, в общем, благотворно сказалось на деятельности издательства «АРГО-РИСК».
ГОРАЛИК А на ваших собственных текстах?
КУЗЬМИН К этому времени мне, в общем, окончательно разонравилось то, что я сочинял. По мере того как вокруг меня становилось все больше ярких и неожиданных авторов моего же поколения, постоянное наблюдение за ними заставляло меня все сильнее задумываться над тем, а что же я-то сам могу к этой картине добавить. Потому что к каждому отдельному написанному мною стихотворению у меня вроде и не было серьезных претензий: ну вот вполне приличное само по себе стихотворение, но что оно по крупному счету меняет? Что в нем специфически моего? При том что буквально у всех вышеназванных моих товарищей – а в середине 90-х «звездный» состав «Вавилона» продолжал расширяться: с нами начала дружить Мария Степанова, появился Дмитрий Воденников (сперва пришедший в качестве корреспондента брать у меня интервью, а затем робко показавший ранние стихи), возник совсем юный Данила Давыдов… – буквально у всех у них каждый текст был не просто хорош (а в случае каких-то ошибок и неудач, которые у всех могут случиться, – не просто плох), а выступал как проявление собственной неповторимой авторской индивидуальности. И тут две стороны медали. С одной стороны, литературной, понимание авторской индивидуальности как основной единицы культурного процесса отличает в сегодняшней парадигме новаторов от консерваторов (для которых основной единицей выступает отдельное произведение, обладающее законченным набором свойств), потому что в условиях а) художественного многоязычия и б) перепроизводства культурного продукта нет ни смысла в изготовлении текстов с заранее заданными свойствами (то есть «гарантированно хороших»), ни общего для всех простого правила, по которому можно определить, хорошо или плохо (из чего еще отнюдь не следует, что разница между «хорошо» и «плохо» отменяется). А с другой стороны, личностной, есть смысл сочинять только то, что, кроме тебя, не может сочинить никто другой. И, честно говоря, я начал думать о том, что хороших поэтов и без меня хватает, тогда как вот этой обслуживающей, по сути дела, работой – книжками, альманахами, фестивалями, в середине 90-х к этому добавились еще Интернет и литературный клуб – заниматься, кроме меня, некому. Но случилось так, что примерно в это время в ходе моих изысканий в области моностиха… Тут надо пояснить, что изыскания эти начались, по случайному поводу, еще в «Гуманитарном фонде», я составил антологию моностиха, сделал предварительную публикацию к ней в «Арионе», получил премию за лучшую публикацию года (это был еще ранний «Арион», более или менее надпартийный, только начинавший эволюционировать в сторону той ортодоксальной рутины, оплотом которой он сейчас является) и сел писать к будущей антологии предисловие. Примерно на шестидесятой странице этого предисловия я понял, что делаю что-то не то, и отложил этот недописанный текст ввиду каких-то более срочных дел. Несколько лет я занимался разными более срочными делами, потом осознал, что так я не вернусь к этой истории никогда, и попросил добрейшего Юрия Борисовича Орлицкого исполнить роль моего научного руководителя, то есть применительно к данному случаю – дяди с палкой, понуждающего закончить рукопись в должный срок, то есть к защите диссертации. Диссертацию я эту защитил в 2004-м в Самаре, подальше от разных своих столичных доброжелателей, со всякими смешными подробностями – начиная со сложных реверансов между мной и Орлицким (поскольку теоретическая, стиховедческая основа моей работы прямо противоположна той концепции, которой придерживается он) и заканчивая какой-то самарской филологической дамой, которая вышла на середине моего доклада, заявив, что в такой одежде, как у меня, защищаться неприлично. А одежда на мне действительно, даже для моего обычного имиджа, была несколько демонстративная, купленная в Нью-Йорке за (в первый и последний раз в жизни) несусветные деньги, поскольку я там случайно зашел в какой-то недешевый магазинчик и наткнулся на невероятной красоты продавца-мулата, сделавшего мне по этому магазинчику полную получасовую экскурсию, примерившего на меня половину ассортимента и выбравшего самое подходящее, так что к моменту расплаты у меня наступил паралич воли, и в результате после того, как я подписал чек и наши формальные отношения закончились, этот самый Роберто поинтересовался у меня, каковы, собственно, мои планы на следующий вечер, но на следующий вечер у меня уже был самолет в Москву, так что в последующие лет пять я со сложно устроенным чувством надевал эти богемные шмотки при любом особо торжественном случае, включая неподходящие. Но остальных самарских филологических дам мой вид не шокировал, так что теперь я малой скоростью доделываю эту диссертацию для публикации в виде монографии. И, собственно говоря, все это время я между делом расспрашивал всех встречных и поперечных, что они знают и думают о моностихе. И помимо всех прочих я пристал с этим вопросом к питерскому поэту, прозаику и переводчику Василию Кондратьеву, которого уже давно нет на свете, он погиб очень питерской литературной смертью: повел каких-то знакомых на экскурсию по городским крышам и, показывая им с крыши дом, где жил Михаил Кузмин, сорвался вниз. С учетом того, чем он занимался в литературе, эта смерть встала как влитая в его биографию, потому что был он прямой наследник самой теневой петербургской литературной линии, шедшей от Кузмина к Николеву, Дмитрию Максимову и другим до сих пор полулегендарным фигурам. Но в то же время он был эстет-западник выучки Аркадия Драгомощенко, первый русский переводчик Пола Боулза и т. д. Короче говоря, в ответ на мой вопрос он дал мне здоровенный том американского поэта Чарльза Резникоффа, сына евреев-эмигрантов, родившегося уже в США в 1890-х. Моностихи у Резникоффа действительно нашлись – но это оказалось не главным.
Вообще ранний, довоенный Резникофф – это такая очень неброская, очень аскетическая поэзия, освобожденная практически от любых формальных ухищрений, в том числе метрических и ритмических: остается только собственно стиховой ритм, ритм концевых пауз: чистый верлибр. Суть которого ведь в чем? Автор заставляет нас делать микропаузу там, где он сам ее делает. То есть дышать в такт с ним. И этим программирует наше восприятие сказанного, расставляя едва уловимые акценты. Об этом есть гениальное место в одной работе Михаила Леоновича Гаспарова, где он объясняет, как работает верлибр: берет один и тот же более или менее незначительный текст, разбивает его на строчки верлибра тремя разными способами и показывает, что три получившихся стихотворения говорят нам не одно и то же. Слова одинаковые, но другое дыхание – и потому другая эмоция и другое понимание. Вот этому-то дыханию как самому главному, конституирующему свойству поэзии меня Резникофф и научил. Тому, что можно просто присмотреться к чему-то в своей жизни и в себе, навести взгляд на резкость, выделяя нужный фрагмент, – и поделиться им, в то же самое время разделяя с читателем ритм своего дыхания. Чтение Резникоффа изменило у меня саму установку, само представление о том, что есть поэтическое. При том что я, естественно, к этому времени и тыняновскую «Проблему стихотворного языка» знал назубок (а там есть пассаж о том, что верлибр, несмотря на свою новизну и редкость в русской поэзии, есть в некотором смысле стих par excellence , стих-как-таковой), и русских верлибристов – от Бурича и Метса до Ахметьева – знал и ценил. Но как-то все это знание у меня не пересекалось с вопросами к самому себе – а тут пересеклось. Может быть, потому, что я стал его переводить, а это все-таки другой уровень проникновения в текст. Потому что по существу тех вещей, о которых его стихи рассказывают, пересечений с моим внутренним миром довольно мало: он был такой незаметный замкнутый человек с юридическим образованием, тихий семьянин, одиночка, развивавшийся по большей части в стороне от всяких литературных групп своего времени… И уже много позже я осознал, что, конечно, помимо Резникоффа была еще поддержка с флангов: примерно в то же время мутации, направленные примерно в ту же сторону, что и у меня, переживали два важных для меня автора-ровесника – Львовский и Сергей Тимофеев.
Рассуждать о своей поэтике в целом мне не только неловко, но и сложно. При том что про отдельные свои конкретные тексты я по большей части понимаю довольно много – и могу их разбирать, как мне кажется, более или менее беспристрастно. Недавно, кстати, мне такая возможность как раз предоставилась – в рамках проекта Тамары Буковской и Валерия Мишина «В поисках утраченного Я», где под одной обложкой чуть ли не сотня авторов (отобранных, правда, на основании принципов, с которыми я не могу согласиться) дает одно стихотворение и его комментирует. И там я, в частности, говорю о том, что мои стихи второй половины 90-х и позднее – это что-то вроде фотографий. Параллель с фотоискусством тут довольно-таки далеко идущая: ведь в эпоху «мыльниц» всякий может навести объектив и нажать на кнопку, барьер технологических сложностей (будь то изощренные стиховые формы или изощренные методы проявки и печати) больше не выполняет заградительной функции, но эта иллюзорная общедоступность не отменяет того, что лишь единицам есть что снимать (читай: что сказать): и потому, что мгновений, заслуживающих быть остановленными, не хватает на всех, и потому, что находить ракурс и ставить границы кадра – тоже не простое умение.
В этом смысле неслучайно, может быть, что наиболее ранние мои стихи вот этого рода чуть ли не все связаны с метро. И не потому, что метро вообще сыграло в моей жизни особую роль: с супругом моим мы, собственно, познакомились, встретившись взглядами в вагоне. Но обычно в метро ты встречаешь людей совершенно по касательной и больше никогда их не видишь, однако в то же время ваша взаимная локализация – кстати сказать, я это в особенности ощущаю именно в советском метро с его длинными параллельными лавками, в западном, с маленькими секциями, этого чувства не возникает, – в общем, тут ты поневоле вступаешь с человеком напротив в некоторый интимный и даже довольно плотный, но при этом совершенно дистантный контакт. Вот это ощущение моментальной интимности было очень созвучно пониманию поэзии как деятельности по остановке мгновения (а уж дальше следуют мои обычные более общие, касающиеся не только и не столько моих собственных стихов, рассуждения про то, что это мгновение, несущее на себе существенные черты той эпохи, к которой оно принадлежит, будучи схвачено искусством, прибавляет свою эпоху к вечности). Потом я еще у Фаины Гримберг нашел одно стихотворение ровно про это же.
ГОРАЛИК Значит, конец 90-х был для вас временем новой определенности?
КУЗЬМИН Наверное, можно даже сказать сильнее: эта определенность – ив личной жизни, и в смысле денег, и в восприятии собственных стихов, к которым я стал относиться по-другому: как к маленькой, но своей собственной чашке чая, если воспользоваться английской идиомой, – и во всех проектах: бумажных, сетевых, устных, которые в равной мере двигались на протяжении всего десятилетия по восходящей, включая сюда и то самое важное обстоятельство, что из молодежных эти проекты неуклонно становились надпоколенческими, общими для всех, – вела меня к некоторой общей убежденности в том, что мы, весь наш круг, готовы в полном объеме принять наследство великой русской неподцензурной литературы середины XX века, которая, в свою очередь, есть основная и главная наследница всей предшествовавшей национальной традиции (тогда как советская литература в целом осуществила незаконный захват территории – хотя отдельные вовлеченные в этот процесс авторы, безусловно, заслуживают извлечения из ложного советского контекста и переноса в правильный, где только и обретают свое настоящее значение: как, к примеру сказать, творчество восхитительного лирика Беллы Ахмадулиной обретает действительное собственное значение в со– и противопоставлении с Еленой Шварц и Ольгой Седаковой, а не с какой-нибудь Риммой Казаковой и прочими бабьими соплями советского разлива). Причем, как я уже говорил, разница тут не в персональном составе пантеона и даже не в отвлеченно понимаемом качестве текстов, а в культурной модели: ризома, многоукладность эстетического хозяйства против «большого стиля», попытки объявить некоторый способ письма приоритетным. Потому что поиск «большого стиля» был естественным для советской идейной парадигмы (однопартийная система, внутри которой та или иная группировка стягивает одеяло на себя), но совершенно противоречил идеологии гражданского общества, которая явно или неявно стояла за спиной у неподцензурных авторов и их продолжателей. Ну и то сказать: в какую общую рамку можно загнать, к примеру, Всеволода Некрасова, Кибирова, Парщикова, Цветкова и Гандлевского? Только в некую многополярную, многопартийную систему. А раз так – какие шансы у сторонников реставрации эстетической однопартийности? Но на смену 90-м пришли 2000-е годы и наглядно показали, какие шансы бывают у сторонников реставрации. Даже поразительно, насколько все происходившее в литературном мире похоже на то, что происходило в политике. И теперь я понимаю, насколько прекраснодушной иллюзией было думать, что сотрудники литературных органов так просто отдадут власть: они отошли от первоначального шока, выработали механизмы и условия ассимилирования многих (хоть и не всех, разумеется) неподцензурных авторов и благополучно закрепились на позиции хозяев дискурса.
ГОРАЛИК Что это были за условия? И что за органы?
КУЗЬМИН Конечно, я говорю о толстожурнальном мэйнстриме. Причем говорю о нем как о системе – в ясном сознании того, что среди активных работников этой системы есть и всячески достойные люди. Сколько бы я ни расходился в оценках тех или иных конкретных авторов с Ольгой Ермолаевой, я не могу не признать героической ее работу по расширению эстетического диапазона в поэтическом отделе «Знамени». Но концептуальную-то рамку для этой работы задает критический отдел вкупе с привходящими декларациями ключевых фигур, – и как прикажете относиться к «пробитому» Ермолаевой довольно обширному корпусу текстов Всеволода Некрасова, первой его посмертной публикации, после того как при жизни автора главный редактор «Знамени» господин Чупринин заявил в одном из интервью, что Некрасову на страницах «Знамени» точно так же не место, как Илье Резнику? Зато православной поэтессе Николаевой на этих страницах из года в год честь и место: она генетически своя: еще батюшка ее поэт Николаев обессмертил свое имя чеканными строками про то, что «ежедневно, в каждом деле / Родная партия ведет / Народ к великой нашей цели». Первые поэты самиздата все равно стали первыми поэтами постсоветской России, но деятели самиздата так и не стали заметными деятелями постсоветского литературного процесса, точно так же как диссиденты и правозащитники не стали реальными политиками. Кроме премии Андрея Белого, разве что, да и ей обеспечили выживание новые люди, взявшиеся за гуж в конце 90-х. Но когда Чубайсу вдруг пришло в голову отстегнуть денег на поэзию, то держателями банка оказались все те же Чупринин, Николаева и прочий толстожурнальный истеблишмент. Черт с ними, с премиями (хотя, по уму, это важный механизм – не распределения денег между литераторами, а ориентации читателей), но ведь и с литературной критикой история ровно та же. В той ситуации, которую я готов был бы считать нормальной, грубо говоря, первым критиком страны должен был оказаться Илья Кукулин, обладающий в наивысшей степени двумя главными для этой позиции свойствами: универсализмом, то бишь сочувственным интересом к самому широкому кругу явлений, и концептуальной смелостью, то есть способностью сопоставлять эти явления, сколь бы далеко друг от друга, по видимости, они ни были разнесены. Но Илья сперва много лет провел за мелкой поденщиной в дурацкой газетке ExLibris, а потом перешел в «Новое литературное обозрение», где опубликовал несколько этапных статей, но…
ГОРАЛИК …не определяющих дискурс?
КУЗЬМИН Просто эти статьи были списаны консервативным истеблишментом по ведомству «филологического птичьего языка» – это такая индульгенция, позволяющая не задумываться над сказанным, – а возможность такая возникла благодаря специфике «энэлошного» позиционирования. Будь все то же самое напечатано в «Знамени» или «Новом мире», да еще, по-хорошему, пять-семью годами раньше, – и вся история закрутилась бы по-другому. Но те площадки были задействованы под другое: сперва под пламенного зоила Андрея Немзера, у которого и диапазон приемлемости с гулькин нос, и концептуальных соображений кот наплакал – одни суждения вкуса; потом под гомункулусов «нового реализма», знаменосица коего критикесса Пустовая начала свою карьеру в «Знамени» с того, что назвала первую книгу стихов Марии Степановой «репьем на хвосте нашкодившего постмодернизма». К слову, «постмодернизм» как главное зло 90-х, которое в 2000-х удалось наконец побороть, – это очень характерный жупел: даже не тем, что подлинное значение термина никого из любителей этой риторической фигуры не интересует, а тем, что сама структура этой риторической фигуры идентична другой: про зловредных приватизаторов 90-х, которых с наступлением 2000-х окоротила «сильная рука». И в результате ты смотришь на списочный состав толстожурнальных авторов текущего года – и, в общем, не так много возражений: не все, конечно, но очень многие на месте, от Гандлевского и Айзенберга до Фанайловой и Азаровой. Но та смысловая и концептуальная рамка, в которую все это помещено, – насквозь гнилая и лживая. Почему все это для меня личный вопрос? Да потому что свое положение фрондера и анфан-террибля я в 90-е расценивал как временное, в том смысле, что не только мы сами делаем дело, но и ход истории объективно работает на нас. А в 2000-е выяснилось, что на ход истории полагаться не приходится и, следовательно, что ранг вечного оппозиционера при мне навсегда. И хотя вся моя личная синдроматика, начиная со школьных и раннестуденческих лет, вроде бы вела скорее к этому положению дел, но осознать этот расклад было для меня, в общем, нелегко.
ГОРАЛИК А когда это произошло?
КУЗЬМИН Я думаю, что это середина 2000-х. Это отчасти было связано с тем моментом, когда наше поколение, младшее поколение 90-х, перестало быть младшим. До тех пор пока мы осознавали себя младшими, у нас было объяснение, почему «взрослые» площадки не наши. А где-то начиная с 2003 года стали появляться совершенно новые мальчики и девочки из Интернета, про которых было сразу ясно, что это уже не наше поколение, а новое: с другим культурно-антропологическим бэкграундом, с другими коммуникативными навыками, с другими подходами к позиционированию в литературном пространстве… И тут нам пришлось приступить к переопределению всех проектов, потому что их субъектом уже не могло быть младшее литературное поколение (либо надо было передавать проекты лидерам новых двадцатилетних, но это было явно нереально). Я переформатировал всю издательскую линейку, закрыл альманах «Вавилон», заменив его ежеквартальным поэтическим журналом «Воздух», закрыл книжную серию «Библиотека молодой литературы», а вместо этого открыл книжную серию «Воздух» для всех и книжную серию «Поколение» для двадцатилетних дебютантов… И в этой ситуации уже стало нельзя не понимать почему, собственно, все это делается? Да потому что казавшийся естественным процесс перетекания не просто отдельных авторов, а всей конструкции, всей иерархии авторитетов и системы ценностей не то что из «Вавилона» в «Знамя», а, правильнее сказать, из какого-то отдельного пространства неподцензурной литературы и ее наследников в общее, базовое пространство национальной литературы – вот этот процесс на самом деле не имеет места, не идет. Значит, что мы (и прежде всего я сам) сделали не так, можно ли было сделать иначе и как дальше быть в этой не столько новой, сколько по-новому осознанной ситуации? Что, надо было с самого начала идти внутрь этих постсоветских структур в расчете на реформирование их изнутри? Я не знаю таких прецедентов: все позитивные реформы имеющихся традиционных структур (думаю, не только в литературе) были осуществлены не теми, кто пришел в них со стороны, а теми, кто в них же внутри вырос и сформировался, но постепенно выработал представление о необходимости перемен. Самый решительный пример этого рода – неспешная, но вполне определенная метаморфоза, переживаемая «Новым миром» под управлением Андрея Василевского, который, как мы знаем, проработал в этом издании всю жизнь, придя туда в семнадцать лет курьером, хотя, разумеется, о системной реформе тут говорить не приходится. Таким образом, я могу себя уговорить, что я сделал для изменения расклада все, что было в моих силах. Но это, как и в отношении случившегося за последние десять лет со страной вообще, не снимает ощущения некоторого общего проигрыша.
ГОРАЛИК Этот непростой момент. Человек другого иного склада на этом месте опускает руки…
КУЗЬМИН И что делать после этого? Удалиться в имение и выращивать капусту?
ГОРАЛИК Переводить современную американскую литературу, скажем.
КУЗЬМИН Да, переводить… У меня, кстати, был такой соблазн: после того как в конце 90-х вдруг возникла возможность что-то сделать в рамках празднования стовосьмидесятилетия Тургенева и я вместе с Орлицким и Татьяной Михайловской из тогдашнего «НЛО» придумал и провел фестиваль современной русской прозаической миниатюры, а потом составил для того же «НЛО» антологию такой миниатюры, мне стало интересно, как с этим по-английски, я выписал из Штатов несколько тамошних антологий того, что у них называется prose poetry и flash fiction оказалось, что есть множество совершенно замечательных текстов… Сперва мне было не до них, а потом меня позвали в один второстепенный вуз вести семинар по художественному переводу на пятом курсе переводческого факультета, студенты там к пятому курсу уже хорошо понимали, какие контракты и проспекты они будут переводить после диплома, и художественный перевод им был ни к черту не нужен, но в режиме «две миниатюры за пару» я в течение семестра и им, и себе разогревал мозги – и уже слегка представил себе этот modus operandi в качестве основного содержания жизни… Капуста в имении была бы хуже, конечно.
Но ведь есть же еще и некая взятая на себя ответственность. Потому что, с одной стороны ощущение удачи, ощущение, что все получилось, оно ведь тем острее, чем новее и чем неожиданнее для тебя самого то, что получается. Когда ты первый раз в жизни делаешь фестиваль или выпускаешь журнал – это ах, это «ну надо же, сработало!», это «ай да Пушкин, ай да сукин сын!». Когда у этого журнала выходит двадцатый номер, то никакого «ах», собственно говоря, уже нет: ну да, двадцатый номер – это номер между девятнадцатым и двадцать первым, ну, очень хорошо. Ну и какой вывод из такой утраты восторга – не закрывать же лавочку?
В принципе это проблема, которая хорошо описана относительно бизнеса: предприниматель и менеджер – разные профессии, стартапом должны заниматься одни люди, а последующим функционированием уже вставшей на ноги компании – вполне возможно, совсем другие. Но мне ближе аналогии из личной жизни: есть особенно острое ощущение влюбленности на заре любых романтических отношений, а есть приходящее гораздо позже чувство любви как абсолютной уверенности в другом человеке. Я знаю, что есть люди, которые готовы просто обменять одно на другое и этим удовлетвориться, есть такие «стартаперы по жизни», которым второй сюжет вообще неинтересен, и они уходят, как только закончен первый, но мне-то представляется, что для полноты жизни хорошо бы, насколько это возможно, совмещать… Но, возвращаясь к нашим баранам, в сутках всего двадцать четыре часа: невозможно только и делать, что набирать и набирать новые проекты: выйдет перебор, на каждый останется слишком мало времени и сил, и упадет качество. А если не набирать, то падает самоощущение (где мое «ах»?) и останавливается экспансия, остается только удержание занятых позиций…ГОРАЛИК Вам это видится как замкнутый круг?
КУЗЬМИН Почти. Этот круг можно разомкнуть, для этого нужно только одно: чтобы вокруг тебя постепенно собиралась команда. И я вынужден признать, что за все уже больше чем двадцать лет моих упражнений на ниве, так сказать, организации литературного пространства мне не удалось сделать так, чтобы кто-то им занимался вместе со мной. Причем в 90-е меня это местами раздражало, но по большому счету не тяготило (ну и в каких-то отдельных вещах все-таки Давыдов выступал тоже как субъект какой-то созидательной активности, хотя вообще-то он, при многих своих талантах, все-таки не организатор, а индивидуалист). Но в 2000-е мне это стало чем дальше, тем больше казаться катастрофой – все по той же причине: появилось новое литературное поколение, в нем выкристаллизовалось немало талантливых авторов, но так и не возникло соратников и партнеров. Были какие-то моменты, когда то Ксения Маренникова, то Владислав Поляковский, то Андрей Черкасов, то еще кто-то вроде бы выдвигался на авансцену в таком качестве, но каждый раз выяснялось, что это ненадолго и как-то не совсем всерьез. Может быть, я в этом сам виноват и отталкиваю резкостью и авторитарностью, может быть, само понимание культурного проекта как авторского мешает другим субъектам культурного процесса воспринимать его тем не менее как и свой тоже, может быть, менталитет поколения, сформированного Интернетом с его преобладанием горизонтальных связей, мешает самому формату младшего партнерства, – я могу придумать много объяснений, от которых одинаково мало толку. Тут, может быть, штука в том, что для меня это проблема еще и личная, то есть напрямую связанная с моей личной синдроматикой. Для меня молодость всегда была некоторой сверхценностью, потому что это время потенциала: еще возможно изменить и мир вокруг себя, и себя самого. В зрелости этот потенциал может быть реализован – но это в каком-то смысле столько же приобретение, сколько и потеря: ты уже изменил мир и себя; хотя, конечно, можно пытаться продолжать дальше в том же духе. Я поэтому всегда последовательно окружал себя в жизни младшими (с моих собственных лет шестнадцати, хотя тогда многие из этих младших, понятно, формально были ничуть не младше), потому что я понимаю, в чем смысл этой коммуникации, – они из нее выходят не совсем теми, какими в нее вошли, и я как следствие тоже. В то время как с некоторыми моими ровесниками, прекрасными и замечательными, мне может быть хорошо и интересно, но разойдемся мы теми же, какими мы встретились: все уже произошло, все уже сложилось – прекрасно сложилось, но не в чем более поучаствовать. Но если в приватной моей жизни эта коммуникация с младшими у меня худо-бедно по-прежнему проходит, то в младшем литературном поколении совершенно ничего не получается. Ну то есть что значит «не получается»? Ежели предложить публикацию или позвать на выступление, то на хер меня пока никто не посылает, но это же не совместная работа, да? А хотя и какое-то сбрасывание меня с парохода современности тоже уже, кажется, намечается – и, с одной стороны, вроде и лестно, что именно я (то есть, разумеется, в лице своих проектов: «Вавилона», «Воздуха» и т. д.) этой решительно настроенной молодежи чем-то мешаю, тут почти по Гарольду Блуму: что мешает, то действительно существует…
ГОРАЛИК Есть ведь и обратный эффект, несколько патерналистский: ваше мнение, соответственно, много для них значит. Чтобы ненавидеть папу, папа должен многое заслонять…
КУЗЬМИН Чтобы многое заслонять, порой совсем не нужно быть большого роста – достаточно просто стоять ближе. Ясно, что я к ним стою ближе, чем Чупринин, но разница в том, что я бы и подвинулся, если б кто-то был готов встать рядом. То есть понимаете, это не про то ламентация, что меня, ах, не любят, – меня, знамо дело, многие не то что не любят, а в судорогах начинают биться при моем упоминании, один Емелин с его крестовым походом против пидарасов чего стоит, или был такой Кудрявицкий – так он, прознав, что меня на какой-то заграничный фестиваль позвали, стал туда слать доносы насчет того, что я на самом деле фашист, подкрепляя их кусками из текстов рок-группы «Черный Лукич» (у которой, понятно, лидер – мой однофамилец)… Я всю жизнь такого рода ненависть воспринимал как медаль: значит, я занят чем-то осмысленным и ненапрасным, раз эти все так нервничают. Но, честно, я рассчитывал на то, что те, кто придет после меня на это поле, будут с нами вместе, а не врозь. Знаете, почему еще я об этом много думаю? Потому что у меня перед глазами украинская ситуация. Я туда часто езжу, постоянно перевожу с украинского – с тех пор как когда-то первый пропагандист новейшей украинской литературы в России Игорь Сид показал мне некий случайный альманах, в котором обнаружилось совершенно потрясшее меня стихотворение классика украинской эмигрантской поэзии второй половины XX века Юрия Тарнавского про Россию: «О, страна, пораженная комплексом материнства», и т. д. – я просто не мог его не перевести. И потом тот же Сид первым привозил и пропагандировал Сергея Жадана, а уж за Жаданом пошла совсем молодая плеяда – то, что у них там называется «поэты-двухтысячники», поколение 2000-х годов… И в середине 2000-х у меня там были два перворазрядных культурных шока. Один – когда Жадан в Харькове проводил фестиваль «Харьковская баррикада». Он снял довольно крупный Дворец культуры, с залом мест на пятьсот, на два выходных дня с полудня до девяти или десяти вечера, и устроил там программу нон-стоп из поэзии и рок-музыки. И этот зал на пятьсот мест два дня по восемь-девять часов был заполнен, периодами – битком, веселой, раскованной, продвинутой молодежью, которая, конечно, в значительной степени пришла на музыкантов (вполне осмысленных), но и когда между музыкантами по часу, по полтора звучали стихи, этот зал не отваливал покурить, а слушал: в том числе стихи сложные, без внешних эффектов, не всегда рифмованные, не всегда по-украински. И не только слушал, но и слышал. Поэта Нугатова, например, шумом и свистом прогнали со сцены – чем он, по-моему, остался очень доволен, потому что он же работает с речевой агрессией как с материалом, и в Москве просвещенная публика типа хихикает в ответ, а тут зал отреагировал на агрессию как на агрессию. И даже когда в конце был слэм… А я вообще слэмы очень не люблю и считаю, что это совершеннейшая отрава, при всей моей нежной любви и к Курицыну, который их придумал, и к Андрею Родионову, который сейчас этим занимается: давайте уравняем профессионалов с непрофессионалами и посмотрим, кого полюбит народ, – ну и выясняется, что народ всегда полюбит какую-нибудь броскую дрянь, если только тишком не замешать в это самое народное жюри парочку профессионалов же. А украинский слэм бессмысленней и беспощадней русского, потому что Родионов, при всех моих разногласиях с ним, человек талантливый и чуткий ко всему талантливому, а украинский главный спец по этому делу – персонаж неприятный и несимпатичный… И, короче говоря, вся аура этого жадановского фестиваля была настолько благодатная, что в итоге слэм у них по-честному выиграл Дмитрий Лазуткин – нормальный, внятный лирический поэт без всякой игры на понижение. А спустя еще год или два я поехал во Львов на книжную ярмарку, у которой есть еще и фестивальная программа – огромная, с десятками чтений, презентаций и дискуссий каждый день: за счет того, что это старинный маленький город, в котором много небольших театров, галерей и прочих залов в десяти минутах ходьбы друг от друга, и люди могут быстро перемещаться. И люди – то есть по преимуществу местное студенчество – вполне перемещались, а по вечерам стекались в главное местное кафе с культурными амбициями, забивали его под завязку, на сцену выходил координатор всей огромной фестивальной программы, восемнадцатилетний поэт Грицько Семенчук и обращался к полному залу своих ровесников: вот, ребята, наш выдающийся маститый поэт, послушаем его! И выводил на сцену под белы руки местных старцев, действительно отличных поэтов, но к вечеру уже не вяжущих лыка и что-то не слишком внятное бормочущих себе под нос, и зал их слушал, потому что первичный месседж шел от своих к своим, а потом слушал таких же восемнадцати-двадцатилетних авторов, и тут уж тем более месседж от своих к своим… И все это – что харьковская картинка, что львовская, – то, чего нет, не бывает и не может быть у нас в России. Потому что их молодежь, что на сцене, что в зале, сформирована «оранжевой» революцией. Которая не тем была хороша, что привела кого-то там к власти (где они теперь?), а тем, что в результате выросло поколение, уверенное в том, что от них все зависит – и они возьмутся и сделают. Что там будет дальше, на фоне нынешнего отката, не очень ясно, но задел был очень сильный. А у нас все те же годы растили людей, у которых есть твердое понимание, что они ничего не могут изменить. И на этом фоне единственная активная и самостоятельная молодежная литературная альтернатива в России – это питерский альманах «Транслит», в кругу которого пишется и делается много интересного и осмысленного, но генеральная идея – это прямое подчинение литературы и культуры социально-политической задаче. По этим правилам, памятуя о доценте Авраменко и прочих радостях моей юности, я играть не готов.
ГОРАЛИК Что на этом фоне происходит с вашими собственными стихами?
КУЗЬМИН Мне почти нечего ответить на этот вопрос. Последние годы я пишу буквально три-четыре стихотворения в год – что в нынешней ситуации автоматически наворачивает на язык формулу «как Гандлевский» (не подразумевая других оснований для сравнения). Я ведь подряжался всего лишь останавливать мгновения своей жизни, создавать их маленькие действующие модели. Мгновения, которые хочется остановить, по-прежнему есть – но каждый раз спрашиваешь себя: так ли сильно оно отличается от остановленного пять или десять лет назад? И уже теперь записываешь только в том случае, если твердо уверен, что да, отличается сильно. Знаете, это ведь еще и вопрос уверенности в себе. А у меня с этим есть некоторая двойственность, которая со стороны, наверное, незаметна, так что публика знает только про то, какой я, значитца, arrogant. Но у меня в сознании есть четкое разделение статусов: вот тут – когда я говорю и действую только и исключительно от себя лично, как частное лицо (и автор, что для меня одно и то же), а тут – как представитель некоторого «мы» (литературного поколения, независимой русской литературы, каких-то других групп и явлений, которые определенно больше меня самого). В этом втором качестве мне совершенно несложно и самому драть глотку, и кому другому ее рвать. Но на первого меня это не распространяется. Поэтому о своих собственных стихах мне всегда говорить неловко, хотя мне кажется, что я в достаточной степени умею переключать позиции, в том числе с авторской на критическую или литературоведческую, и на свои тексты смотреть трезво и отстраненно: как на не выдающиеся, но не бессмысленные, маленький, но более или менее незаменимый фрагмент большого общего целого. Однако, скажем, по собственной инициативе куда-то их предлагать для публикации я зарекся лет пятнадцать назад. В этом смысле насчет малой премии «Московский счет», которая мне досталась за лучший дебютный сборник, я не шибко обольщаюсь: когда выпускаешь «дебютный» сборник в сорок лет – тебя должны к этому моменту знать больше, чем двадцатилетнего, да и голосуют участвующие в этой истории московские поэты зачастую больше за личность, чем за тексты; так что давняя уже премия Андрея Белого «за заслуги», то есть за организационную работу, значила для меня много больше, потому что это была легитимация: отцы литературного самиздата 80-х признали, что мы – их прямые наследники. Но примерно в тех количествах, на которые я со своими стихами, как мне кажется, вправе претендовать, мне всяких бонусов за них и досталось: я прочел об одном из них глубокий и доброжелательный анализ (в статье Марии Майофис о гражданской лирике), держал в руках десяток переводов на разные языки (в том числе один иероглифами, было забавно угадывать по количеству и относительной длине строк, какие это тексты), получил два трогательных письма от неизвестных мне людей о том, как мои стихи помогают им жить, раз в жизни сорвал овацию у большого зала (на уже помянутом львовском фестивале)… Так что со стороны моего сочинительства у меня совершенно нет претензий к жизни – вот со стороны литературтрегерской…
А вообще, по итогам этой нашей с вами беседы, у меня сильнейшее ощущение, что я и тут все сделал неправильно. Что людям, которые будут эту вашу книжку читать, не шибко нужна ни хроника некоторых литературных проектов, ни срывающийся на крик разбор проблем конфигурирования литературного пространства, и лучше бы, ей-богу, я вам рассказал о преимуществах молочного коктейля над спиртными напитками, о том, как я проехал автостопом всю Европу, о том, как удается двадцать лет прожить вместе с любимым человеком, при этом деятельно исповедуя идеалы свободной любви… Ведь идея-то всего проекта была в том, что человек, сочиняющий стихи, шире и интереснее, чем автор, literary figure, да? С другой стороны, мне про самого себя кажется, что у меня в каком-то смысле все устроено по фрактальному принципу, и мои взгляды и действия в области литературы, в области политики, в области секса и т. д. – совершенно одинаковы по сути. А значит, почему бы и не так, как вышло…
Александр Бараш «Превращаться в то, что больше тебя…»
...
Бараш Александр Максович (р. 1960, Москва). Окончил филологический факультет Московского государственного педагогического института. Работал школьным учителем, писал тексты песен для группы «Мегаполис». С 1989 года живет в Иерусалиме. Работает журналистом. Переводил с иврита. Член редколлегии журнала «Зеркало», куратор литературного сайта ОСТРАКОН. Лауреат премии Тель-Авивского фонда литературы и искусства (2002), премии журнала « Интерпоэзия » (номинация «Перевод», 2011).
ГОРАЛИК Расскажите про семью до вас?
БАРАШ Можно начать с фамилии. Фамилия – аббревиатура. Ивритская аббревиатура, по первым буквам слов. Бейт-Рейш-Шин: это значит Бен Рабби Шимон. Довольно частый способ образования еврейских фамилий. Рабби Шимон – это был, насколько мне известно, галицийский хасидский деятель где-то конца XVIII века. В иерусалимской телефонной книге – пара разворотов его потомков. Я принадлежу к какой-то весьма боковой ветви. Прапрадед пришел в город Хмельник Винницкой области будучи бродячим торговцем… Прадед Лейб был колесником, столяром, делавшим колеса для телег. У него был дом рядом с базарной площадью, внизу, в полуподвале, – мастерская, наверху, на цокольном первом, и единственном, этаже жила семья, пять детей – три брата, две сестры. Мой дед – третий брат, Шимон, то же имя, что в фамильной аббревиатуре (имена повторялись из поколения в поколение). Он рассказывал, как отец посылал его с братьями в базарный день на площадь зазывать крестьян чинить телеги. Уже в моей жизни на даче под Москвой стоял большой буфет – резные завитушки, львиные морды, – сделанный прадедом. И дед рассказывал, что вот из этого отделения доставался графинчик с наливкой: поднять рюмку по поводу сделки насчет колес. Бабушкин и дедушкин графинчик с вишневой наливкой – одно из лучших детских и отроческих воспоминаний. Может быть, тот самый графинчик? Или рецепт наливки? Такие вещи, кулинарные, бытовые, дольше всего обычно сохраняются… и сохранялись в советской унифицированной жизни. Другие предки тоже из классических мест, местечек: Мирополь Житомирской области, Бердичев, Новгород-Северский. В Мирополь меня еще привозили в середине 60-х, к прадеду и прабабке. Оказывается, родин может быть несколько. Родных у нас же несколько: папа, мама, дедушки, бабушки… У меня первая родина – Москва, вторая – Иерусалим. И дальше, но тоже как родное – Украина… и есть еще, совсем фоном… ну как коврик над постелью из детства – Германия, Страна Ашкеназ, где-то Франкфурт, Вормс… там предки жили в Средние века. Вот этот пейзаж: городок над рекой, несколько шпилей, стена, готические крыши…
Дед по отцовской линии приехал в Москву в начале 30-х. Семья решила сделать его своим красным пролетарием, представителем новой власти. Он же был третьим братом. Старший, первенец – это по традиции была главная любовь и надежда рода, он получил университетское образование еще до революции, второй брат работал с отцом в мастерской, а третьего – с этого момента Семена, а не Шимона – отправили в фабзавуч при котельном заводе, там делали котлы для сахарных фабрик. Лет в тринадцать-четырнадцать из теплого дома – в такую республику ШКИД, колонию для несовершеннолетних, при живых родителях. Они, собственно, и отправили. От ковки котлов он остался на всю жизнь глуховат, от «школы жизни» – почти клинически депрессивен, но необходимость выживания высекла из него бешеную энергию. Через несколько лет он уже был секретарем райкома. И дальше действительно несколько раз спасал отца и семью – когда их пришли раскулачивать, например. Что там было раскулачивать, когда прадед сам работал в этой мастерской и у него работали его сын и зять… На подмосковной даче он меня выводил гулять – я был подростком, – так же он гулял на заре туманной юности, обнявшись с товарищем. И вот мы так, обнявшись, гуляли, в полях, среди ржи и клевера, и он часами рассказывал какие-то совершенно чудовищные истории: раскулачивание, коллективизация, сталинские чистки. Палача и жертву там разлепить было невозможно. Рефлексии с его стороны, впрочем, в этих рассказах практически не было. Просто истории. Главный тон – выживание. Тихий рассказ, без экзальтации. В начале 30-х поехал в Москву… Там шли все время чистки, целые слои сажались… И он попал сначала в еврейскую редакцию газеты «Правда», когда оттуда как раз троцкистов вычистили. И затем пошел по этой газетно-журналистской линии. Высшая точка его карьеры – директор издательства «Рабочая Москва». Ну а затем и его смыло той же волной, которой подбросило. Виндсерфинг своего рода. С акулами. Посадили его старшего брата, того самого «первенца», большого профсоюзного деятеля, а он слетел в отдел рекламы в «Вечерней Москве»… Они жили на Арбате, в Кривоникольском переулке. Там потом встал первый дом Калининского проспекта, где был пивной бар «Жигули» в «мое» время. А теперь – не знаю. Папа родился в 35-м году. Мама тоже. Между ними разница лишь месяц. Отец матери, мой дед Иосиф, был молодым офицером-строителем на Украине. Был репрессирован. Сидел два года. В Шепетовке… типа предварительного заключения. Но не признался, что японский шпион. Потерял зубы, полюбил на всю жизнь преферанс. Мама вспоминала момент, когда он вернулся. Ей было, соответственно, четыре года – это был выпуск легкий пара такой в 39-м, какую-то часть репрессированных выпустили… Вокзал в Киеве. Они его ждут на перроне. Отец выходит из вагона, она бежит к нему, отец берет ее на руки, смотрят друг на друга… Она говорит: «Я помню: у него слезы текут, беззубый рот…» Он шестого года рождения. Вот посчитайте – тридцать лет…
Там был очень красивый момент с его женой, моей бабушкой. Всю жизнь она была офицерской женой – он так и остался офицером… полковник Советской армии, строитель. Всю жизнь такая офицерская жена, нигде не работавшая. Подушечки вышивала… А в принципе у нее был очень активный характер, но он ей не разрешал работать. Они безумно друг друга любили, но вот не дал он ей почему-то жить какой-то своей жизнью. Но эти два года, пока он сидел в тюрьме, – это был полет. Она не только не отказалась от него, но делала все что могла, и очень активно. Пробилась на прием к Калинину. Старичок обещал разобраться. Может быть, это сыграло роль в освобождении. Когда она приехала из Киева в Москву, там были его сводные братья, старшие. Открыв дверь, увидели ее – и дверь захлопнулась. Ночевала на вокзале. Отношения с братьями и их детьми остались навсегда прохладными. Но она не только не отказалась – она была настоящей такой, как в вестерне, подругой… Стилистический камертон же примерно такой. Как-то из камеры он в белье тайно передал записку. Это был момент, когда казалось, что все решено – расстрел либо отправка по этапу: «Зина, прощай! Я чист перед тобой и партией!»
И еще через пару лет – война. Многие родные погибли, в том числе в Бабьем Яру. Престарелая бабушка бабушки и еще какое-то количество родственников – в Бердичеве. Родной брат бабушки, призванный на срочную службу весной 41-го, пропал без вести в первые недели. Оба деда были на фронте. Иосиф – участник Сталинградской битвы, в частности. А двадцать второго июня, ровно в четыре часа, он и семья были во Львове, он там в это время служил. Сам, естественно, уехал тут же в расположение части, а за ними прислал машину, чтобы шофер увез их из Львова. Где-то под городом был воздушный налет. Шофера убили. Мама помнит – ей было шесть лет, – как они бежали по полю укрыться в какой-то лесочек.
И помнит лицо немецкого летчика, большие очки – он летел на уровне второго-третьего этажа, и шел пулеметный огонь… Спрятались все же… Были в эвакуации. Где-то в конце 40-х вернулись в Москву. И примерно в этом возрасте родители и познакомились. Лет в четырнадцать, девятый, кажется, класс. Тогда многие старшеклассники ходили делать уроки в Ленинскую библиотеку. Дома было и неудобно. Все жили в коммуналках… Сначала они просто друг друга «заметили». Первой поздоровалась мама. Начались какие-то отношения. И, собственно, продолжаются до сих пор, слава Богу. Их браку уже пятьдесят пять лет.ГОРАЛИК Невообразимо.
БАРАШ Да-да.
ГОРАЛИК Вы же не единственный ребенок?
БАРАШ Есть старший брат. На два года старше. Он родился в 58-м году. Между нами должен был быть еще ребенок. Поженились в 56-м, ну значит, им было по двадцать одному году. Молодые специалисты. Папа окончил геологический факультет МГУ.
ГОРАЛИК Их распределили небось куда-нибудь?
БАРАШ Папа попал в тот институт, в котором он с тех пор и работает, – Институт океанологии Академии наук. Он морской палеонтолог – такая экзотическая профессия. Температура мировых океанов – его специализация. Реконструкция палеоклиматов. В общем, роскошь: романтика морских путешествий, штормы, тельняшка, трубка… каждый год экспедиции, рейсы на несколько месяцев… Бразилия, коралловые атоллы, Гибралтар… И все это в тогдашнем, 50–60-е годы, СССР. Дома был музей с разноцветными большими кораллами, звездами, кокосовыми орехами. Он снимал много кино, слайды, постоянно приходили гости. В общем, я вырос, в известном смысле, в клубе кинопутешествий. Главное – это было окно в мир.
ГОРАЛИК Причем какое-то такое… достойное окно в мир. Не торгово-меркантильное, а из области научной фантастики?
БАРАШ Да. И вот брат родился в 58-м. А еще через год – мама опять беременна. И все их родители, вся семья были против еще одного ребенка – что все это совершенно невозможно вытягивать в тех условиях. Она сделала аборт. Через год – выясняется, что снова беременна. Это, соответственно, 60-й год. Опять все против. Муж в рейсе. Непонятно, что делать. Она приняла решение: послала телеграмму куда-то туда в океан с извещением о беременности и решила: если реакция будет хотя бы какой-то нейтральной или прохладной – делает аборт.
ГОРАЛИК Ну, когда муж полгода плавает… Она одна, с двумя детьми…
БАРАШ Да-да. И, в общем, кроме физических вещей, я обязан своим существованием…
ГОРАЛИК …телеграфу?
БАРАШ И до известной степени – правильной постановке слов. Что символично. Папа отреагировал бурно и счастливо.
Я как-то посмотрел в Сети, какая погода была ночью с девятого на десятое сентября 60-го года. Так себе была погода, градусов семь-восемь, дождь… вялотекущее ненастье. Мы жили на улице Бахрушина, рядом с метро «Павелецкая», в Замоскворечье. Дом напротив кинотеатра. Надстройка – шестой этаж (этажи, надстроенные пленными немцами после войны), две маленькие комнаты, родительская проходная, балкон из детской, страшно высоко над улицей… Когда начались схватки, маму долго возили по роддомам – ближайшие, в центре, не принимали. В конце концов ее повезли в Текстильщики. Там она меня и родила. Роды начались в лифте. С тех пор, вероятно, я так и чувствую себя во взвешенном состоянии. Одно из наиболее употребимых слов у меня в текстах, как кто-то заметил, – «зависать»…
ГОРАЛИК Каким вы были, когда были маленьким?
БАРАШ Я был таким ребенком с конфетной обложки. И лоялен, ласков. Со мной всегда можно было договориться. И, собственно, для своих близких я всегда такой… даже слишком.
ГОРАЛИК На вашего сына похожи?
БАРАШ Мои сыновья – у меня их двое…
ГОРАЛИК Я со старшим просто не знакома.
БАРАШ Да. Они похожи. Элишу – Елисея по-русски – вы видели… Вы знаете, есть какое-то исходящее тепло…
ГОРАЛИК Вот вы рассказали про то, каким были в детстве по отношению к другим. А ваш собственный мир как был устроен?
БАРАШ Я был склонен к такой сконцетрированной рассеяности… Точнее, любимое внутреннее движение – как бы раствориться в окружающем, стать частью этой природной медитации существования, если можно так выразиться. Словесный поток, которым начал жить потом, – как бы подмножество этого состояния… Ну и – возможно, это функция места и времени – с тягой к меланхолии, к опережающему ощущению одиночества, тоски. Из характерных эпизодов – я это описывал в книге «Счастливое детство»… Детский сад на улице Бахрушина. Где-то часа четыре-пять вечера. Зима, и уже темно. Мы стоим с какой-то девочкой у оградки детского сада, ждем, когда придут – а придут ли? – родители, варежки примерзли к оградке… и вот мы так тихо разговариваем, что никто за нами не придет…
ГОРАЛИК Саш, наверное, вы еврей…
БАРАШ Ну были и некоторые обстоятельства… наверное, это действовало… Старший брат меня сильно третировал все детство – до тех пор пока лет в тринадцать я не прервал с ним отношения. Живя в одной комнате. И несколько лет, пока он в юности не уехал из родительской квартиры, мы не разговаривали. Интересно, что в этом не было особого внешнего напряжения. Так нам обоим было явно легче, чем в любом контакте. Потом, уже в литературной молодости, мы сблизились, были в одной литературной компании. И еще в раннем детстве была неудачная история. Родители наняли няню, причем не особенно посмотрев, кто это и что это. Им было тяжело – они работали.
ГОРАЛИК В связи с папиными отъездами?
БАРАШ И папины отъезды… Мама – она инженер-химик по образованию – работала первые несколько лет на заводе «ЗИЛ». Потом она в какой-то НИИ перешла… Было очень тяжело, естественно. И родственники прислали няню с Украины. В какой-то момент они все-таки от нее избавились. Но длилось это, видимо, немалое количество времени. Две вещи: во-первых, в один прекрасный день они обнаружили в стене дырку глубиной в пару сантиметров. Она меня сажала на детском этом стульчике к стене и заставляла сидеть лицом в стену часами. Вот это конфетное, сладкое существо, бесконфликтное. Я это, в общем-то, помню. Я не был таким уж маленьким… Как я вот так сидел, стульчик, запахи с коммунальной кухни, и в затылке ощущение того, что не стоит поворачиваться… что как бы не надо… Состояние, я думаю, сохранилось и до сих пор… такая внутренняя неподвижность… И второе, за что я, судя по всему, должен быть ей признателен, – это сильная близорукость. Когда она выходила со мной гулять – там же кинотеатр напротив, у нее была знакомая билетерша. Ее пускали в зал, и она там сидела со мной часами. Так мы гуляли. Первые семь лет жизни – это улица Бахрушина, Замоскворечье. Из окна был виден немножко Кремль. «А из нашего окна…» И очень важно, конечно – атмосфера района, Замоскворечье, фасады XVIII–XIX веков, доходные дома начала XX, уют городской нескольковековой жизни центра большого старого города. А как бы за спиной – тогда еще на Павелецкой площади был Павелецкий рынок, огромный. А за ним вокзал. Распахивающийся мир. А потом мы переехали из коммунальной квартиры в центре в отдельную на тогдашней окраине – на Октябрьском Поле.
ГОРАЛИК Кстати, а вы дружили с кем-нибудь? Вам вообще нужны были другие дети?
БАРАШ Да… Нужны были товарищи – из той же серии, что в «Трех товарищах» Ремарка. Всегда были какие-то групповые, на отлете, на несколько человек союзы… Но социум социумом, а казенный дом другое дело. Чуть ли не самый сильный эпизод, связанный с детским садом, – это когда меня всего на одну ночь там оставили. Единственный раз. И я до сих пор помню эти тени на потолке, которые там были ночью. Насчет склонности к «забегающему вперед» страданию – почему-то существовало априорное представление о том, что это красиво и хорошо. Модель – сцена ожидания с подругой в детском саду: придут ли родители. Любовь – как ощущение близости перед апокалипсисом… держась за руки… И заря вечерняя над метро «Павелецкая» – словно ядерный гриб.
ГОРАЛИК До переезда – это до семи лет. То есть в школу вы пошли на новом месте?
БАРАШ 67-й год. Желтые хрущевки на Волоколамском проезде. На втором этаже жили бабушка и дедушка с материнской стороны, мы под ними, на первом. У нас не было телефона, и когда кому-то из нас звонили – то звонили им. Из окна их кухни в нашу провели провод с электрическом звонком. По числу звонков было ясно, кому бежать наверх. Маме, понятно, один звонок. А мне, самому младшему, понятно, четыре. Да и кто звонил в детстве? Разве что уроки узнать, когда болеешь.
ГОРАЛИК Вы хотели в школу? Вы же, наверное, читали очень много в детстве…
БАРАШ По-настоящему много читать начал в первом классе. И это было очень бурно… Оранжевого Майн Рида – сколько там было… семь томов вот такой толщины… – просто подряд… Конан Дойль, Стивенсон, Жюль Верн, Джек Лондон. Подписные советские издания, многие – из бабушкиного шкафа. Она не всегда выдавала их охотно, потому что для них это была, кроме прочего, часть декора и благосостояния, как хрусталь в буфете… И особое счастье (перед глазами картинка: мерцание целой полки в родительском книжном шкафу) – «Антология современной фантастики». Эти миры, эти улеты… Корабль прилетает на новую планету, полянка, бабочки… А полянка ли это на самом деле, а бабочки ли? Ой ли? Вот этот тоже момент начала, что сейчас произойдет…
ГОРАЛИК Вы придумывали себе миры?
БАРАШ Больше – состояния, с несколькими штрихами. Во втором классе я начал писать роман, который назывался «В путах Марса». Примерно эта же сцена, приземление на неизвестной планете, и была описана. Где-то на полторы страницы. Расклад героев: пилот – тупой мачо, исследователь – глубокомысленный лузер, девушка между ними… Продолжения не последовало – наверно, потому, что и так уже все было хорошо, все, типа, произошло. Как в стихотворениях, по жанру. Ну и примерно где-то вот с первого-второго класса я оказался вундеркиндом, который регулярно зачитывает свое сочинение перед классом.
ГОРАЛИК Что это изменило? Внутри реального Саши.
БАРАШ Вы знаете, я на самом деле, как говорил Лев Толстой, «человек об одной мысли». Собственно говоря, с этого момента никогда других вариантов того, кто я и что я, не было. Я как бы ощутил себя в этом качестве – человек, у которого это есть. А по многим другим предметам были тройки. Где-то с двенадцати начал вести регулярные дневники и писать какие-то стихи. Я увез из Москвы в Иерусалим потом несколько чемоданов этих блокнотов. И стихи… Писал по пять-шесть стихотворений в день в течение ряда лет. И это был настоящий кайф и одновременно настоящая школа, потому что – в разных родах и жанрах. Ну я прочитал там несколько основополагающих книг о том, как что происходит. Сначала Эткинда, потом Жирмунского и т. д. И пробовал все возможные жанры. Разная рифмовка, строфика… Внутренне это было больше всего похоже, наверно, на то, как напеваешь себе какие-то мотивчики, путая, придумывая слова… Счастье.
ГОРАЛИК Это ведь нечастая история – очень молодой человек, еще школьник, понимая, что он хочет быть поэтом, берется читать теорию. Большинство же считают, что… Ну, божий дар – и достаточно. Почему вы решили с этой стороны зайти?
БАРАШ А просто интересно было. Не то чтобы я даже четко запоминал саму теорию. Просто разные варианты – это оргиастическое нечто. Протеистичность… проживаешь разные жизни – в разных формах, формах существования. Много юной энергии, и блаженства, и жизни, моей жизни, в этом было. Иногда и сейчас так бывает. Вот в последней книжке, которая вышла только что, к биеннале поэтов… «Антология современной ивритской поэзии», переводы. Там есть, скажем, стихотворение Меира Визельтира. Песенка такая. Вот она идет, вылупив глаз, облизывая губы. И чего она хочет и о чем она думает. Это как бы вариация на тему каких-то одесских песенок вроде, например, «Как-то по проспекту с Манькой я гулял, фонарик на полсвета дорогу освещал…». И очень ритмизованно, рифмизованно, что для современной ивритской поэзии, как и вообще для западной, скорее всего – знак песенности, «кавычек»… И была интересная задачка, учитывая, что ивритские слова гораздо короче русских, – вернуть ивритское стихотворение, в максимально приближенной форме, в ту стихию, откуда оно черпало свою стилистику. Визельтир из России, семья уехала через Польшу в конце 40-х, когда ему было лет восемь. Так что, вероятно, тут живая память о стиле. Я получил большое удовольствие на несколько дней, как бы возвращая стихотворение в его родовую атмосферу.
Параллельно было воздействие просто чтения стихов. Шло, кажется, так: самое раннее – лет в двенадцать – «барды и менестрели», в первую очередь Окуджава, Анчаров… Тут же или сразу за этим Есенин, потом Гумилев, потом Блок, а потом, и надолго, Мандельштам. Лет с четырнадцати – Набоков (какой-то визионерский шок от «Бледного огня» по-английски), чуть позже – Бродский со свежей – это была середина 70-х – «Частью речи»… «Я пишу эти строки, стремясь рукой, их выводящей почти вслепую, на секунду опередить „на кой“, с оных готовое губ в любую…» – все эти умопомрачительные для юниорского сознания психологические, интонационные, стилистические инверсии…
Да. Еще такая вещь, с чем я вырос, что было дома. Мои родители в 60-е – начале 70-х были большие любители бардовской песни. Один-два раза в неделю дома устраивалось застолье. Компания человек на пятнадцать за столом и с некоей культурной программой. В основном – барды. Но и модные тогда экстрасенсы, гипнотизеры, тибетские врачи… иглоукалывание и все такое. Мы, дети, сидели за столом со всеми, со своей рюмочкой наливки и болгарским салатом. А потом засыпали в соседней комнате – под живых Кукина, Никитина… На этом я вырос… и, скажем так, Окуджава – это как колыбельная. Я потом своим детям и пел его песни как колыбельные. И сейчас – пятилетней Аде. Главные хиты – «Один солдат на свете жил» и «Не клонись-ка ты, головушка…». Странно, но звучит в старом арабском доме рядом с дорогой на Вифлеем.ГОРАЛИК Кроме стихов из чего состояла ваша жизнь, когда вы были в старших классах?
БАРАШ С восьмого класса года два-три я жил первой любовью. То есть со своим ее переживанием. Возгоняя многозначительную отстраненность, противоестественную бестелесность – в духе стихов Блока в своем тогдашнем восприятии. Устроил себе очень несчастный и очень уютный в этом несчастье мир, наподобие того большого, который был вокруг. Правда, по-прежнему писал большое количество стихов – на всех скамейках от «Студенческой» до «Киевской», посыпая страницы блокнотов пеплом болгарских сигарет (начал курить – как запил…). Хотя в новую школу я перешел вообще-то не для этого. Там был, среди экзотического количества разных физмат и прочих классов – восьмой историко-литературный класс. 710-я школа, на метро «Студенческая». А в восьмой класс перешел из английской спецшколы в Щукино. С тех пор английский я знаю весьма посредственно, но хорошее произношение могу имитировать успешно, и когда был пару раз в Лондоне, то чувствовал что-то вроде парамнезии, ложной памяти – как будто это город, где жил в детстве (а не в «лингафонном кабинете» в школе на улице Гамалеи). В новом классе нам на второй урок задали прочитать любимое стихотворение. И к вопросу о вкусах: «Идут белые снеги» Евтушенко я читал. Испытываю сладкий стыд: «Идут белые снеги… / И я тоже уйду. / Не печалюсь о смерти / И бессмертья не жду…» Эта первая любовь – жизнеобразующее было такое состояние, способ жизни. И весь мир был наполнен ею. Как бы все составляла она, но на самом деле – мои фантазмы. И увлечение Блоком…
ГОРАЛИК Сочетание сильной влюбленности и Блока для многих оказывалось не слишком здоровым.
БАРАШ Очень нездоровое сочетание. И мне кажется, что даже, более того, это санкционировано советской властью – такое количество Блока для вот этих вот впечатлительных советских юных интеллигентских существ.
ГОРАЛИК Как подавляющая сила? Выматывающая и парализующая?
БАРАШ Да. Потом я перешел еще в одну школу, 201-ю на «Войковской», которая была и поближе к дому. Тоже литературный класс. Там началась первая дружба и первое литературное товарищество. С одноклассником – Левой Кучаем, писавшим стихи. Мы с ним потом в ранней молодости составляли даже некую первую литературную группку еще с одним поэтом. Он покончил жизнь самоубийством в начале 90-х. Вы знаете, это классический, видимо, пример старшего друга, харизматичного общего кумира, звезды в юности, рано сгоревшей. Лева Кучай был племянником Юрия Гастева. Был такой известный диссидент Гастев. И он к этим кругам был близок, и через него пошел очень мощный поток самиздата и тамиздата. Настоящие современные и восстанавливающие связи с традицией и с миром книги, в огромном количестве. От Оруэлла, Замятина, Солженицына – до «A-Я» и главное – почти весь Набоков, американский Мандельштам, Бродский. И литературные разговоры, какие-то знакомства, вот это юное диссидентство горячее. И еврейская запульсировала линия, но она была довольно косвенной. Хотя и с яркими впечатлениями: «Мои прославленные братья» Фаста, «Эксодус» Леона Юриса, само собой… трехтомная история еврейского народа на фотокарточках, неслабая такая горка… Все это было столь же впечатляюще и вдохновляюще на каком-то личном, приватном эмоциональном уровне, сколь не слишком убедительно с точки зрения художественного качества… Общение сопровождалось сильным пьянством в старших классах школы. После школы несколько раз в неделю мы шли в винный магазин. Я выглядел наиболее солидно, с усиками и большим портфелем, и мне поручалось покупать вино. И вот этот парк на «Войковской» у кинотеатра «Варшава», все скамейки были нами обжиты. Но что мы делали – выпивали это дешевое вино, какое-нибудь молдавское или болгарское, и говорили часами о литературе. Потом повисали у телефонов-автоматов в подземном переходе у входа в метро, разбредаясь по подругам…
ГОРАЛИК Из этого периода – девятый, десятый класс – каким вам виделось будущее?
БАРАШ У меня не было сомнения, что я буду и дальше заниматься стихами. Вопрос был только в том, в какой форме это возможно в эти годы в этом месте. Что даст прожиточный минимум и социальную защищенность. Семья-то была такая естественно-научная и инженерская – и лояльная к советской власти, вплоть до бытовых вещей. И с этим было немножко тяжеловато, еще и моя лояльность ко всем и ко всему. Я поступал в МГПИ, в педагогический институт, так называемый Ленинский, на Пироговке. Умудрился во время вступительных экзаменов заболеть корью. Попал в больницу. Первый год оказался пропущен. Родители зачем-то настояли, а у меня еще не хватало революционной энергии противостояния «среде» – и двенадцатого сентября я сразу же начал работать. Зачем? Для поступления на следующий год требовалась справка, что работал, не был тунеядцем, но нужно было не более полугода. Семейный бюджет не зависел от тех семидесяти лаборантских рублей, которые я получал. Можно было еще несколько месяцев «просто» читать, писать, свободно думать… Но – попал в некий НИИ педагогический лаборантом с курьерскими обязанностями. Это была на самом деле абсолютная синекура, ничего делать не нужно было. Если я ехал куда-то передать какой-то пакет в три часа дня, то не должен был возвращаться. Но мне было ужасно плохо с этим – вместо нормальной студенческой жизни в бессмысленном казенном мире. Ощущение опозоренности какое-то и несчастья… На следующий год я сдавал на вечерний, потому что это было раньше, перебрал там несколько баллов. Решил, что потом переведусь. Но не удалось. И так все и осталось. Хотя я уже чуть-чуть был постарше и некоей борьбой и трением с семьей добился того, что примерно еще через год – в целом года два-три у меня это заняло – перестал вот так служить все-таки с какого-то момента. И уже было полегче. Ходил в университет на лекции по стиховедению и лингвистике. Встретил в коридоре свою самую большую любовь, которая поступила благополучно на филфак. И был какой-то разговор в коридоре на пять минут, после чего я долго блуждал по Ленинским, ныне Воробьевым, горам в состоянии полной прострации – что все закончилось. Примерно в это время – первый-второй курс – возникла первая литературная группка, где я участвовал. Нас было трое: поэт-диссидент Лев Кучай, о котором я уже упоминал, поэт и библиограф Александр Суетнов, с персонажным героем по имени Корнет, и я. И тогда уже начались первые литературные контакты. Помню встречу на квартире у Айзенберга – общие знакомые инициировали это как знакомство двух литературных групп. Мы-то были моложе лет на пятнадцать… Мы втроем – и Айзенберг, Пригов и Сабуров. Наиболее сильное впечатление на меня произвел Пригов.
ГОРАЛИК Каким он был?
БАРАШ Очень внимателен. Спокоен. Без позы, с доброжелательным и точным разговором по существу.
ГОРАЛИК Что это значило – появление вокруг вас людей, занимающихся поэзией?
БАРАШ Начиная лет с восемнадцати-девятнадцати друзья и знакомые – это, собственно говоря, и были поэтические люди, или «из тусовки», или из «смежных» художественных или музыкальных миров. В 79-м году Кучай познакомил меня с Байтовым. Мы к нему приехали домой. С бутылкой. Которую он сурово отставил. Пили чай. Был солидный мужчина «под тридцать» с двумя маленькими детьми. Не то что мы, восемнадцатилетние… «Был юношей, стал… Улица темна, / Насмешлива и похотлива. / Она не то чтобы с ума, / А с тихих чувств свела, и мимо…» – байтовские стихи примерно того времени. Через несколько лет мы стали близкими друзьями. И потом вместе делали альманах «Эпсилон-салон». Это была для меня очень значимая дружба. Ничего более сладкого и важного, чем литературные разговоры, на свете не бывает. Ну, кроме стихов, собственно.
ГОРАЛИК Вы говорите сейчас о людях, многие из которых в тот период всерьез работали с экспериментом в поэзии – вплоть до перформанса и паблик-арт. Это было интересно вам самому?
БАРАШ Это было самым сильным воздействием культурным в начале – середине 80-х. «Московский концептуализм», в единстве имиджей и текстов, как и было манифестировано. При всей условности термина и различиях персональных и эстетических. Главное – уровень рефлексии, интеллектуализма. Попросту говоря – умение думать. И просвещенность. Без чего вряд ли возможно сколько-нибудь значимое художественное или литературное действие, да, собственно, и чувство. Неосознанное и незафиксированное чувство, и без соотнесения с тем, что вокруг, – остается только, так сказать, явлением природы, вроде сквозняка или треска подгнившего дуба.
Я пытался что-то писать в концептуалистском ключе, как понимал это тогда. Но все выглядело довольно искусственно. Я никогда не мог отказаться от «лирического я», от непосредственного лирического порыва, прямого «драйва». Оставалось только стараться больше думать насчет того, что дано тебе.
Мы, как группа «Эпсилон-салон», близки с этим кругом тогда не были. Определенное сближение произошло постепенно. Где-то году в 84-85-м несколько раз бывали в салоне Чачко. Насколько помню, там было, видимо, первое публичное – в этом кругу концептуалистском – чтение Кибирова. Все было замечательно, но чрезвычайного впечатления на нас не произвело. И удивило необыкновенно заинтересованное восприятие Кибирова концептуалами. Они явно сразу, с ходу разглядели какой-то потенциал, который впоследствии, еще там лет через пять-семь, проявился на всероссийском уровне. Было немало всяких связей человеческих и профессиональных, но мы уже составляли с какого-то момента свой отдельный круг, хоть и пересекающийся во многом.
ГОРАЛИК Просто младше были, для начала.
БАРАШ Да. Наверно, это было одним из существеннейших моментов… С начала 80-х годов у нас был салон, вскоре альманах, так и называвшийся «Эпсилон-салон». Было еще несколько салонов. Самый близкий – Наташи Осиповой. Был некий пафос, схожий для тех, кто составлял круг «Эпсилон-салона». Пафос независимости, балансирующий на грани самосохранения или общежития. Это в принципе характерная черта андерграунда, независимо от политических условий… Из того же, что было вокруг, интереснее всего нам были именно концептуалисты. Скажем, был специальный номер «Эпсилона», посвященный Сорокину. Тогдашнему. И там были, насколько мне известно, первые публикации его текстов в России, «триалог» Монастырский – Бахштейн – Рыклин о Сорокине… Тогда же мы явно первые были, кто обсуждал «Русскую красавицу» Ерофеева, когда она была еще в рукописи… По этому поводу у нас в альманахе был раздел с несколькими рецензиями-эссе… Важным лицом для нашего круга был – не знаю, известный ли вам – Вадим Певзнер.
ГОРАЛИК По текстам – конечно.
БАРАШ Ну и тогда же примерно у меня началось сближение с рок-музыкантами. Это была волна рок-клуба, расцвет русской рок-музыки. Я всегда ее любил, ходил в конце 70-х на всякие подпольные концерты, когда там играли группы со странными такими названиями, скажем «Облачный край», «Пурпурная атака». Ну естественно, «Машина времени»… На сцену летели бутылки. В подмосковных клубах в основном это происходило – в Москву их не пускали.
ГОРАЛИК Сейчас тоже можно попытаться кинуть в Макаревича бутылкой. В Барвихе, например…
БАРАШ В середине 80-х я стал общаться с несколькими группами. И что-то пошло, совпало с группой, которая называлась «Елочный базар». Лидером был Олег Нестеров. Предложил им несколько вариантов нового названия. Среди прочих было, помнится, «Пай-мальчик». В результате остановились на «Мегаполисе». Тогда это было слово, только начавшее быть на слуху, с некоей клевостью. Что-то вроде «Лофт» или «Автаркия». Первая пластинка, вышедшая в 89-м году на фирме «Мелодия», называлась «Бедные люди». Я сформулировал концепцию: голос маленького человека в большом городе, продолжение Достоевского и всей этой линии еще с XIX века. Написал статью об этом для такого экзотического издания, как журнал фирмы «Мелодия», она называлась – молодость! – довольно манерно: «Шесть намеков на то, что такое группа „Мегаполис“»… Ну, в общем, с тех пор и до сих пор это продолжается.
ГОРАЛИК А желания оказаться на сцене не было? Это же был момент, когда граница между ролями в проекте оказывалась очень проницаемой.
БАРАШ У нас тогда была очень активная сценическая жизнь просто как у поэтов. Примерно с 86-го года. Клуб «Поэзия». Ничего другого, кроме «сцены», не было – еще не печатали. Вся жизнь воплощалась именно на эстраде. Там была такая система, что один четверг в месяц – круга Пригов и Рубинштейн, туда же Гандлевский входил, еще несколько человек, Денис Новиков… Один вечер – условно мета– и «иронистов», Искренко, Друк, Бунимович… Один вечер – круга «Эпсилон». И еще один четверг в месяц – свободные чтения… Я был куратором круга «Эпсилон» внутри клуба «Поэзия». Кроме стихов на вечерах «Эпсилона» были и другие вещи. «Синкретические» вечера это называлось. Чтение сплеталось с музыкой, в основном трио «Три „О“»: Летов, Кириченко, Шилклопер. С кино, мультипликацией, слайдами – в основном братья Алейниковы. Когда они начали издавать журнал «Сине-фантом», я редактировал первые несколько номеров с литературной точки зрения. Но это еще одна отдельная история. Мы работали все вместе – бригада вахтеров на ТЭЦ-16 на «Полежаевской».
ГОРАЛИК Отсюда поподробней.
БАРАШ В караул входили Игорь Алейников, Аркаша Кириченко, Андрей Туркин, я, Миша Дзюбенко – филолог, художник Леня Зубков… Начальником караула, который нас всех собрал, был Геннадий Кацов, поэт, прозаик и директор клуба «Поэзия». Неплохо бы сейчас обнаружить стенную газету сто первого отряда, которую мы сделали втроем с Туркиным и Кацовым… 86–87-й год. Ночь, эта ТЭЦ огромная, трубы, пустыри, поземка, я сижу на главной проходной, в наушниках – авангардный джаз, ноги в присланных с Запада (купленных там на блошином рынке) сапогах на столе, и входит работяга на ночную смену. И мы смотрим друг на друга, не понимая, кто перед кем оказался… Самое жуткое воспоминание о ТЭЦ, когда меня оставили, – это огромное производство, электричество на несколько московских районов и веток метро – на главном пульте, а под стулом пробежала крыса. Все спали или были на других далеких постах. И в течение примерно получаса с несколькими московскими районами могло произойти что угодно. Я где-то бегал по коридору… ТЭЦ, кстати, была рядом с квартирой Димы Врубеля. Буквально несколько сот метров через какие-то пути. У него был открытый днем и ночью дом-мастерская. И мы часто туда заходили, был такой маршрут – либо до смены на ТЭЦ, либо после.
ГОРАЛИК Послушайте, – вахтер, но ведь параллельно с этим всем у вас еще случились первая женитьба и первый сын.
БАРАШ Когда мы поженились, мне было двадцать, жене – девятнадцать. Через год родился сын. Я работал в технической библиотеке. Учился на вечернем. Жил у жены в Гольяново. Над прудом, у леса. Песня «Влажная ложь» «Мегаполиса» оттуда. И это была такая вот советская жизнь. Одно из страшных воспоминаний – как потерял в вечерней полутьме у овощного киоска двадцать пять рублей. Или еще. Не было денег на детскую коляску, и мы ее взяли в прокате на Уральской улице. В узком лифте я ее слегка покарябал, и год или сколько, пока благополучно не сдал, видел кошмарные сны, что ее не примут, что придется платить. Вот все эти классические советские ощущения. Первый брак длился шесть лет, что-то такое…
ГОРАЛИК Вы тогда думали хоть на секунду, что будете уезжать из России?
БАРАШ Естественно… Ну и вот где-то года с 87-го начал этим заниматься. Это занимало некоторое время.
ГОРАЛИК Как вы принимали решение?
БАРАШ С точки зрения того, что называется референтным кругом, это выглядело так: вы сидите все в клетке жуткой, клаустрофобической. И вот ситуация, что какой-то одной из категорий граждан антиутопии представляется возможность выйти. Просто встать и выйти из вольера. Можно остаться. Но ощущение такое – в духе «Египетских ночей»… челлендж… А лично – и это более глубокая и острая вещь – я хотел уйти от своего бэкграунда, освободиться в одиночестве. То есть это был отъезд больше «от», чем «в», и больше от людей, чем от чего-то «вообще». Ну и тест – как я один выживаю.
ГОРАЛИК То есть это был такой вызов себе?
БАРАШ Да. И что выясняется – и даже несколько разочаровывает. Ты на самом деле оказываешься ровно тем, что ты есть, ни больше, ни меньше. Если готов работать, чем-то для чего-то жертвовать на уровне общей вменяемости, то довольно скоро оказываешься в той же позиции, в которой был бы в любом другом сообществе. Дальше уже коррекции на страну, время…
ГОРАЛИК Как были устроены ваши отношения с этим новым окружающим миром? Вы ожидали, что в ваши тексты войдут сейчас другой язык, другие модусы речи?
БАРАШ У меня всегда был, и в России тоже, интерес к археологии, истории, этнографии. Родители в детстве много возили по древним городам, монастырям, усадьбам, я их помню тактильно, ногами и ладонями, пробегал и проползал тогдашний разрушенный Новый Иерусалим или Архангельское, офицерский дом отдыха, вдоль и поперек в младших классах школы… Ну и всегда был сантимент к еврейскому. Это не было главной частью жизни, но без сантимента в Израиле вообще трудно жить. Точнее – бессмысленно. И домашность, семейственность общей атмосферы… Ощущение похожести, родственности этой людской массы – счастливое ощущение. Это касается и экспансивности, непосредственности, которые я ощущал в другом преимущественно этносе в Москве – как свои какие-то нелепые слабости, почти клинику, – а тут все такие же… общая атмосфера…
ГОРАЛИК Что происходило с жизнью помимо работы? Где вы жили? Как вы оказались в Иерусалиме?
БАРАШ После десяти дней в Герцлии, на море, я попал в ульпан – языковые курсы для одиночек, с общежитием. В Иерусалиме. Где и хотел жить. И сейчас вряд ли выбрал бы что-то иное. Клаустрофобии точно не возникнет… метафизический астигматизм – легко… Приезд – июль 89-го года. А уже первого февраля 90-го года начал работать на радио. И до сих пор там, больше двадцати лет, «люди так долго не живут». В одной и той же комнатке с видом на мечеть Омара и Масличную гору… Почти сразу началась бурная литературная жизнь. Приехала эта волна алии, возникла критическая масса из нескольких страт – тех, кто был, тех, кто приехал. Образовался Иерусалимский литературный клуб. Это было хорошее время, потому что… ну представьте себе – раз в неделю на литературные вечера собиралось восемьдесят-сто человек, раз в месяц – несколько сот человек в зале на улице Штрауса. Там же был ресторанчик и книжный магазин. Золотой век, когда все волки и овцы ходили вместе. Потом было еще несколько периодов израильских. Альманах «Литературный Иерусалим», литературное собрание, которое мы вели вместе с Александром Гольдштейном в русской библиотеке, салон «Крыша» в Тель-Авиве – еще одно сообщество… журнал «Зеркало». Ну а последние несколько лет все поутихло. И в смысле изданий, и в смысле публичной жизни литературной.
ГОРАЛИК Про преподавание в школе расскажите, пожалуйста.
БАРАШ Я не обязан был идти в школу, поскольку окончил вечернее отделение. Я в тот момент работал в тихой технической библиотеке. Регистрировал новые поступления час в день, а в остальное время читал. Там почему-то, совершенно не по профилю, оказались какие-то структуралистские сборники… среди прочего – с участием Варлама Шаламова. И отсыпался от бессонных ночей с грудным ребенком (мы с женой делили ночь пополам). Как потом написал в сочинении один мой ученик в школе: «У Софьи Андреевны не было молока, и Лев Николевич вынужден был сам кормить младенца…» Ходил в обеденный перерыв в недалеко находившийся магазин «Поэзия» на Самотеке. Идти в школу был не обязан, но мне самому было интересно – может быть, не собственно школа, а общение литературное такого рода. И два года проработал в школе учителем.
ГОРАЛИК Это в какие годы?
БАРАШ 83/84-й – один учебный сезон и 84/85-й – второй. Потом еще год или два вел литературные кружки. Учительствовал в школе рядом с метро «Щелковская». Просто нормальная школа, где я был учителем литературы и русского языка. По всей дистанции, от четвертого до десятого класса. Один класс был выпускной.
ГОРАЛИК Не скучно это было? Наверное, много часов, много людей, много возни… БАРАШ Ну, часы можно было набирать или снимать с себя до минимальной ставки, в сто двадцать рублей. Советская школа… Худшее – быть начальником в казенном доме… да еще над детьми… «Хороша» была и учительская, это осиное гнездо. Слава богу, там стол с журналами, в учительской, был рядом с дверью. Вот эти, в искусственной «крокодильей коже»… Я приоткрывал дверь, бросал один журнал, вытаскивал другой, закрывал дверь и уходил к себе в свой кабинет литературы. Предметом моей гордости при всем при том был выпускной класс. Ну такие московские итээровские детки, которые шли в технические вузы. Я придумал кунштюк: на каждом уроке, в конце – пять-десять минут какой-то один вопрос, не обязательно сугубо учебный. Они очень сначала были недовольны. Но когда это происходит два года подряд, у людей возникает…
ГОРАЛИК …потребность?
БАРАШ Они уже умеют писать… что угодно – письма… уходит «сопротивление материала»… В конечном счете они хорошо написали сочинения вступительные в свои институты… И вообще, это с ними осталось, я надеюсь. И второе – кажется, удалось их немножко к литературе развернуть. Через такие экстремальные психологические проблемы, всем понятные и неразрешимые, которых более чем достаточно в русской литературе. Вот скажем, человек умирает, смертельно болен: помочь ему умереть или оставить жить в страшных мучениях? И сразу в глазах что-то появляется…
ГОРАЛИК Расскажите вообще про книжки и публикации.
БАРАШ: Самая первая – в начале 80-х в рок-музыкальном самиздате, в «Ухе», кажется. Было несколько подборок и статей в ленинградских самиздатских журналах: в «Часах», в сатирическом, что занятно, приложении, что-то в «Митином журнале», в «Сумерках». Немало, естественно, в «Эпсилон-салоне», что-то в «Сине-фантоме». Ну и первые неофициальные кассеты «Мегаполиса». По приезде в Израиль, в 89-м году, начались и продолжались несколько первых лет публикации в журнале «22». Первый чек за стихи, выданный мне тогдашним главным редактором «22» Рафаилом Нудельманом, – это было первое «опредмечивание» профессиональности. Большой винил «Мегаполиса» на «Мелодии» вышел через пару месяцев после отъезда – но это было такое почти абстрактное событие для меня в тогдашних условиях, и политических, и технологических.
ГОРАЛИК Внутренняя потребность в книжке была?
БАРАШ До отъезда должно было быть минимум две книжки. Это как естественный энергетический, физиологический выход. Возрастной этап. Отбрасываемая ступень ракеты. Первая – лет в двадцать с небольшим, в начале 80-х, «постакмеистическая». И вторая, частично с соцартистскими аллюзиями (моя середина 80-х) и частично с «декадирующей» прямой речью (конец 80-х) – году в 89-м. Параллельно пластинке «Мегаполиса», с несколькими совпадающими текстами: «Будущее», «В монастырском пруду»… Но первая книга вышла в 92-м году уже в Иерусалиме.
ГОРАЛИК Где она вышла?
БАРАШ Был такой частный издатель Юрий Вайс. По этому поводу циркулировала народная мудрость «Их Вайс издаст». Формально я вписал на титул издательство «Эпсилон Паблишерз», понятно почему. Книга называлась «Оптический фокус», по одному из стихотворений. Там было большое количество стихов, написанных еще в Москве, в частности «Гроза в деревне», и часть новых, среди прочих – «Встреча» («Он глядел на нее как библиофил / который вспомнил название тома / который заиграл у него знакомый / которого он когда-то любил…»)… 96-й год – вторая книжка, «Панический полдень». Тоже «Эпсилон Паблишере». 2002 год – «Средиземноморская нота» в издательстве «Мосты культуры – Гешарим». Оттуда – написанные во второй половине 90-х «Одиночка», «Мария Египетская», «Посвящение Деннису Силку», вошедшие в последний, 2010 года, диск «Мегаполиса». Четвертая, и последняя на сегодняшний день, книга стихов «Итинерарий» вышла в издательстве «НЛО» в 2009 году.
ГОРАЛИК Расскажите еще про «Счастливое детство».
БАРАШ Это автобиографический роман, издан в «НЛО» в 2006 году. Я всегда хотел писать прозу, но больше пары страниц не вытанцовывалось – западала какая-то энергия, ощущение той необходимости и непреложности, которое было в стихах. Не возникало драйва, пружины, механизма, который раскручивал бы на долгую дистанцию. А около сорока лет, вполне по слову классика о годах и суровой прозе, – постепенно началось, с заметок о приездах в Москву. Было у меня такое полуэссе-полухудожественная вещь под названием «Трип Москва». Высеклась искра из напряжения между разными мирами, в которых живешь одновременно… И вот написал роман о детстве и юности в Москве «Счастливое детство», с подзаголовком «Ретроактивный дневник». Сеанс, кроме всего прочего, аутопсихотерапии. Возвращение в эпизоды тридцатилетней давности – наподобие тех прилетов на незнакомые планеты, вроде бы выглядящие знакомыми, понятными… Выяснение отношений со временем, со своим бэкграундом, снятие слоев внутренних штампов, не потревоженных десятилетиями… Я тогда жил в Мевасерет-Ционе – пригород Иерусалима. Терраса над долиной, мангусты, гуляющие под окнами, и несколько фраз, несколько предложений за рабочий день. Это были своего рода медитации. Сначала кусочки, синтаксические периоды были короткие – на два-три предложения, потом это пространство стало увеличиваться, единица относительно цельного высказывания разрослась до нескольких страниц. Одна из любопытных задач была – написать насчет каких-то близких людей, которые это читают… сказать все, что я думаю и чувствую, и при этом сделать это так, чтобы все было как бы залакировано стилистически. Или транслировалось на тех частотах психологических и культурных, которые одни воспринимают, а другие нет.
ГОРАЛИК Чтобы не причинить боли?
БАРАШ Да. И не в меньшей степени – просто художественная задача. Результат же внутренний был очень сильный. Изменились мои отношения с ними со всеми.
ГОРАЛИК Легче стало?
БАРАШ Нет.
ГОРАЛИК Возвращаясь к жизни в Израиле, повторю вопрос: что в эти годы, после переезда в Иерусалим, с вами происходило?
БАРАШ Много сильных ощущений от Иерусалима. Это место такое, я уже говорил, астигматическое. Все время что-то происходит со зрением. Эти пространства – горы, долины – каким-то странным очень образом соединяются. Сложно, мне во всяком случае, понять, как соотносятся друг с другом перспективы в пейзаже. Будто нет ни одного прямого угла. Улица, казалось бы, идущая прямо, выводит к той же точке. Цикличность, как со временем? То же самое и с расстояниями. Накладывающиеся и сворчивающиеся плоскости, измерения… Одновременно «поля» прожитых здесь жизней, надышанность каждой точки пространства. Место, где человек жил, так или иначе заселено его присутствием. Во многих странах, и в России тоже, есть какие-то почти совсем «свободные квадраты» – места, где это ощущение довольно слабое и ты чувствуешь себя более спокойно. Ты видишь – вот была маленькая деревенька, вот это поле, которое они обрабатывали, потом лес. Очень слабый запах присутствия, ничего не «грузит»… Что касается Иерусалима – чуть ли не в любой точке несколько штук очень серьезных опытов метафизических, человеческих, чрезвычайно страстных во всех смыслах. Иудейский, исихастский, суфистский… Физически ощутимы, как перепады температуры, влажности, солнечной активности. И живое, горячее ощущение, вплоть до боязни что-то упустить, если не смотреть вокруг, не проходит. До сих пор, когда я проезжаю по дороге из Иерусалима в Тель-Авив, то жалко (а сколько за двадцать лет я ездил по этому шоссе) следить только за дорогой, а не вглядываться в эти холмы, как будто что-то очень важное не увидишь, как не поймешь…
ГОРАЛИК Вы сказали в какой-то момент, что сразу хотели жить в Иерусалиме. Он оказался таким, каким вы ожидали его увидеть?
БАРАШ Есть, в смысле современной цивилизации, ряд каких-то сожалений, скажем так. Город небольшой, не слишком убедительный в смысле современной архитектуры, не слишком богатый в смысле художественной жизни. Но при всем при том – ощущение жизни в каком-то напряженном поле. В смысле метафизики – это, что самоочевидно, одна из центральных точек мира.
ГОРАЛИК Вам хватает этого напряжения?
БАРАШ Да.
ГОРАЛИК Вы им достаточно «наедаетесь»?
БАРАШ Иногда чересчур. Я совершенно светский человек, но тем не менее… Что значит «избранный народ»? Избранный не потому, что он лучше, а потому, что должен служить. Мы солдаты. Мы служим. Шестьсот тринадцать мицвот – заповедей у верующих, и так далее. И это чувство при том, что человек светский, уже генетически заложено. И естественно, в Иерусалиме, рядом с Его Домом, это ощущение усиливается. Многие современные еврейские люди после «Гаскалы», уйдя от религии и вообще происхождения, бэкграунда, живут в другом мире – международной цивилизации… Отошли уже на несколько поколений. А модальность остается. Не направлена на служение Богу, но так же сильна. И она вживается в ту сферу деятельности, которой ты живешь. Это ощущение модальности, беспрекословной необходимости… Ты просто последний ублюдок, если чего-то не делаешь, ты вообще не человек. Ты солдат, который для этого создан, но не рубится все время, не завоевывает новые земли, не воюет за некий абсолют… Это личное, глубокое, интимное ощущение. В моем частном случае оно касается литературы. Но даже шире. Не обязательно писать – важно вот за эту единицу времени, за этот день что-то прочесть, или понять, или подумать, но ощутить какое-то внутреннее продвижение, проделанную работу и какое-то развитие. Неизвестно, во что это выльется, и выльется ли вообще. Но некая отработка… Иерусалим – это место на самом деле вполне суровое и грозное, где усиливается вызов, и это требование, челлендж.
ГОРАЛИК Это уже третий раз, когда мы говорим про «вызов себе».
БАРАШ Да, меня это мобилизует, приводит в форму, «в чувство»… Насчет места – еще такой опыт: наверно, не существует вообще плохих или хороших мест, а существует твое личное сочетание с тем, где живешь. У меня всегда было стремление находиться в максимально очищенном, без посредников и условностей, соотношении с тем, что ощущаешь экзистенциально важным.
ГОРАЛИК Чего вы сейчас ждете от себя?
БАРАШ В смысле ожиданий – очень сильное ощущение, может быть и запоздалое, можно было раньше это ощутить – я очень чувствую уже исчислимость своих дней и возможностей. Хотелось бы еще несколько книг написать – как жизней прожить. Вот только что издал книгу переводов. Есть примерно половина новой книги стихов. И сто из предполагаемых двухсот страниц новой книги прозы, продолжения «Счастливого детства». Москва – 80-е годы. Дальше должна быть третья часть цикла – о жизни в Израиле. Что касается человеческих ожиданий – конечно, очень важны проистекающие рядом события – это двое детей. Тоже ежедневная, ежеминутная какая-то работа, связь и вызов опять же – интеллектуально даже, на самом деле, и человечески, и психологически. Потому что от меня зависит в огромной степени, что произойдет с этими космосами дальше. Мы все, семья, в каком-то очень тесном и близком контакте… это ведь по-разному бывает… такой, я бы сказал, общиной существуем. Все очень напряженно, но интенсивность эта – она по-своему роскошна.
ГОРАЛИК Есть чувство, что у настоящего есть какой-то приближающийся момент инкапсуляции? Или пока что нет?
БАРАШ Вот стихотворение из сравнительно недавних, уже после книги «Итинерарий» – может быть, ответ:
Образ смерти:
тело – мельком и сбоку,
как тень на взлетной полосе.
Образ Бога:
взгляд в темя
в полдень на вершине холма.
Образ жизни:
превращаться в то,
что больше тебя.
...
Октябрь 2011 года
Алексей Цветков Отставка из рая, или Новый Холстомер
...
Цветков Алексей Петрович (р. 1947, Станислав, УССР). Учился на химическом факультете Одесского университета, на историческом факультете (1965–1968) и факультете журналистики МГУ (1971–1974). В 1975 году был вынужден эмигрировать в США. Редактировал газету «Русская жизнь» в Сан-Франциско (1976–1977). Учился в Мичиганском университете, защитил диссертацию (1983). Преподавал в колледже Дикинсон (штат Пенсильвания) русскую литературу. С 1989 года работал в Мюнхене и Праге на радио «Свобода». С 2007 года живет в США. Переводил с английского. Лауреат премии Андрея Белого (2007).
Я всегда относился к собственной биографии как к школе или, скажем, воинской повинности (хотя от последней был освобожден по инвалидности), то есть как к чему-то, через что необходимо продираться, но что совсем не обязательно помнить, когда экзамены уже позади. В результате помню действительно мало что, за исключением тех эпизодов, которые срослись с личностью и стали чем-то вроде фантомных конечностей или ауры. Именно поэтому мысль о написании мемуаров вызывает у меня примерно столько же энтузиазма, сколько перспектива клизмы или зубоврачебного кресла. И коли уж дал согласие на операцию, буду рассказывать эпизодами – только о том, без чего результат, уж каков бы он ни был, кажется мне немыслимым. Тем более что категорически не запоминаю дат и последовательности событий.
Наверное, в этом стыдно признаваться, но о собственной семье и происхождении я знаю довольно мало – тут дело даже не в уже упомянутом пренебрежении к автобио, а в том, что у нас в семье об этом говорили крайне скупо. Семья была как бы очень советская, новый мир на новом месте, а предыдущая история считалась списанной в архив, как арабская до обращения в ислам. Большая часть того, что сохранилось из этой истории, известна мне скорее от двоюродных родственников.
Мать была еврейка из Петропавловки в Екатеринославской губернии – насколько я понимаю, это в ту пору был городок с большим процентом еврейского населения. Была она младшей дочерью в многодетной семье портного и, появившись на свет уже после пролетарского апофеоза, сохранила в себе мало еврейского, какие-то обрывки идиша, но языка, в отличие от старших сестер, не знала. Вообще, надо сказать, еврейскую тему в семье избегали затрагивать – явно из-за славянского происхождения отца, чья семья отнеслась к мезальянсу более чем прохладно.
Собственно о добрачной жизни матери я знаю очень мало – какое-то время она работала в пожарной команде и у нее была фотография в чекистской форме с петлицами, пожарное ведомство было в ту пору частью МВД или как оно там называлось. Потом пошла учиться в Харьковское театральное училище, хотя я понятия не имею, как ее занесло в Харьков.
Отец был кадровым советским офицером, в те времена это была не деталь биографии, а принадлежность к сословию довольно привилегированному. Его собственный отец был часовщик из Краматорска, хотя вовсе не еврей, от него как раз и исходили флюиды антисемитизма: он видел меня только однажды, в младенчестве, и желания продолжить знакомство в себе не обнаружил. Только перед смертью, в начале 70-х, вспомнил о внуке и в попытке навести мосты прислал мне в подарок ко дню рождения золотые часы. Дело было в общежитии МГУ, часы у меня дня через два поперли.
Мать отца, кажется, была в Краматорске предисполкома горсовета или что-то в этом роде, ее расстреляли гитлеровцы. Практически белое пятно.
Сам отец еще до войны окончил военное училище и воевал на так называемой белофинской, а ту, которую они назвали «Великой отечественной», прошел от звонка до звонка, 9 мая 1945 года был ранен в Праге в голову – скользящее ранение, но шрам на всю жизнь. История их встречи с матерью от меня скрыта, она после этого бросила актерскую карьеру и долгие годы оставалась домохозяйкой, офицерский достаток позволял. Я родился в 1947 году в Ивано-Франковске, который тогда назывался Станислав. За пределы Украины мои корни не распространяются: каков бы ни был смысл понятия «родина» – это Украина.Один из самых центральных эпизодов моей жизни – с трех до десяти лет, это время я провел в Евпатории в костно-туберкулезном санатории Министерства обороны, в горизонтальном положении, – кроме последних месяцев. Если Фрейд хоть в чем-то прав и раннее детство накладывает отпечаток на всю последующую жизнь, то в моем случае это сработало: в недрах моей психологии навсегда осталось что-то от марсианского пришельца. Потому что обычная жизнь вокруг – не та, из которой я родом.
С трех лет я помню – вернее, помнил – себя практически непрерывно, а до этого сохранились отдельные картинки. Мы тогда жили в Москве, где отец учился в военной академии им. Фрунзе. Я помню комнату в коммуналке, где-то на Покровке, которая казалась мне огромной, а на самом деле была крошечной и тесной, и еще я выучил все буквы в слове «аптека» и приводил родителей в восторг чтением каждой аптечной вывески, которая попадалась мне на глаза. Другая картинка: человек, попавший под трамвай, я тогда не очень испугался, а испугался воспоминанию годы спустя. И еще: мы на параде, я у отца на плечах, на трибуне Мавзолея то ли Сталин, то ли его дубль. Эти две последние, возможно, внушены какими-то последующими впечатлениями, сверить не с чем.
И еще я помню поезд, себя в поезде, когда меня уже с диагнозом везли в Евпаторию. В последующие годы, когда я слышал или читал о жизни «ходячих», поезд был чуть ли не единственной частью этой жизни, которую я немного представлял себе изнутри.
А теперь ты лежишь, годами, все время на спине, потому что упакован в раковину из лакированного гипса и марли, это называется гипсовая кроватка, и о том, чтобы повернуться на бок, даже мысль в голову не приходит. К тому же ты привязан для страховки специальной сбруей, которая называется лифчик, и когда, по прошествии нескольких лет, ты узнаешь, что у слова «лифчик» есть и другое значение, это кажется уморительно смешным. Первые месяцы ты плачешь, потому что маленький, смотришь страшные сны и писаешься под утро, но тебя не ругают, здесь к такому давно привыкли.
Впрочем, вскоре уже не так все страшно. Лежачая жизнь полна для ребенка своих приключений, о которых вертикальные и не подозревают. Самым главным в ней были переезды из палаты в палату – например, временная эвакуация из нашей «салатной» в «нижний зал», который показался мне шедевром интерьера. В других палатах были другие шкафы, а в них другие игрушки, на стенах висели другие портреты Сталина и «Мишки в сосновом бору», а еще твою койку почти наверняка ставили рядом с кем-нибудь новым, кто знал о наружном мире что-то такое, о чем ты и не догадывался. Мы складывали мир из кусочков калейдоскопного стекла, каждый владел небольшим, но своим собственным, не обязательно имевшим полное соответствие реальности, и поэтому мир существовал во множестве непохожих вариантов, как мультивселенная Эверетта за годы до его идеи.
Путешествия бывали и посерьезнее. Например, на лето нас вывозили на веранду, оттуда сквозь перила можно было увидеть дворовую кошку, кошка была чудом и праздником, однажды нам даже принесли котенка посмотреть и потрогать. С тех пор я на кошках помешался на всю жизнь. Но были, конечно, и птицы, они вили гнезда под карнизом и иногда роняли нам прямо в койку всякую дохлую растительность – то-то было забавы ее анализировать и гербаризировать. А уж если что-то росло возле перил – так я впервые увидел паслен и тщательно объел все ягоды, до которых мог дотянуться, это я потом прочитал, что он ядовитый, а тогда съедалось все, что можно было разжевать. А зимой нам показывали и давали потрогать снег – в Евпатории он редкость, его сгребали с подоконника и даже лепили крохотных снеговиков.
Поскольку перемещения в пространстве в эти годы были незначительными, у меня совсем атрофировалось чувство перспективы – мы ведь не помним, что оно не врожденное, а дается практикой. В центре Евпатории, например, есть большая церковь, она была действующей, кажется, все годы советской власти, но поскольку я понятия не имел о церквах и их архитектуре, она с нашей веранды казалась мне игрушечным дворцом восточного падишаха, о каких нам воспитательницы читали сказки. В одной из таких сказок кто-то умер, воспитательница в замешательстве стала объяснять, что такое смерть, и соврала, что люди живут до ста лет. Меня это тогда нисколько не беспокоило, я боялся не смерти, а того страшного, который жил под койкой, куда заглянуть самому не было никакой возможности, а взрослых даже просить не пытался, трепетал услышать ответ. Вроде крысы, у них была плохая репутация, а настоящих я до той поры не видел. С тех пор как увидел, вполне к ним расположен, никаких претензий.
С веранды было видно море, но идеи горизонта тоже не было, и море казалось вертикальной полоской там, где небо упиралось в земной круг. На самом деле море было недалеко, и было видно, как в него заходят люди и плавают в нем, и приходилось ломать голову, как можно заходить в такое вертикальное, как будто в стенные обои.
Перспективы не было не только пространственной, но и временной. Не было самой идеи возраста, мы ведь там были практически все одногодки, дошкольники, и мир делился не на возрастные категории, а просто на две половины – лежачих детей и ходячих взрослых. Эти последние, впрочем, тоже делились на две части: постоянную, персонал санатория, и переменную, родителей, которые иногда приезжали с конфетами и игрушками. Отношение к этим родителям, как ни печально, было прохладное и очень потребительское, сравнивали передачи – у кого игрушки лучше. Одна нянечка, приметив мою мать, сделала свои выводы и потом при всех детях ласково поддразнивала меня – дескать, какой Алеша у нас хорошенький еврейчик. Я был симпатичное дитя и к похвалам привык, но «еврейчик» озадачивал.
Однажды какая-то из воспитательниц заговорила о возрасте, и я спросил, сколько мне лет. Оказалось четыре с половиной, но было совершенно непонятно, хорошо это или плохо и что с этим делать. Нам ведь, кстати, и рост не помню чтобы измеряли, для горизонтальных он значения не имеет. Про возраст я сразу забыл до самого начала школы.
С какого-то времени нас стали вывозить на летние месяцы к морю в открытые павильоны, тогда я понял, как оно устроено. Нас даже иногда клали в воду у самого берега, можно было там подрыгать ногами и похлопать руками. А однажды поднялась буря, самая настоящая и, как я понимаю, грозившая реальной опасностью, нас принялись в панике эвакуировать в корпус, а я ликовал, надеясь остаться на мостике последним, и под одеялом читал с заныканным фонариком «Таинственный остров».
Я, впрочем, забегаю – сначала мы пошли в школу. Читать я выучился еще до школы, собственноручно, спрашивая у взрослых про незнакомые буквы, но тогда еще по складам и был очень уязвлен, поступив в первый класс, когда там оказался один мальчик, читавший лучше меня. Мы с ним по очереди читали остальным детям вслух книжку про каких-то советских матросов в каком-то плавании социалистического труда, но мое чтение народу нравилось меньше.
Школа началась так. Первого сентября нас из нашей «салатной» палаты, то есть достигших призывного возраста, перевезли в «сиреневую» вместе с другими незнакомыми детьми, и там учительница Мария Львовна стала учить нас грамоте и арифметике. Сейчас убей не вспомню, как мы лежа управлялись с перьями и чернильницами, но как-то управлялись, и хотя мои фиолетовые мне нравились, я до зубовного скрежета завидовал МЛ – у нее были красные, которыми она нам ставила отметки.
Я страстно возжелал и себе такие, даже поставил вопрос перед родителями в ходе очередного свидания, но МЛ воспретила. Ну а дальше было как у всех, включая прием в пионеры, опять же горизонтально, до самой выписки. Я стал жадно поглощать книжки, какие попадали под руку – кроме упомянутого Жюля Верна попал еще Гаршин, я был очень впечатлен, но слово «проститутка» долго оставалось загадкой. Я завел скрупулезную тетрадку со списком прочитанных книг и, когда он превысил полсотни, ликовал как дитя, да ведь и был дитя. Одна воспитательница, видя мой энтузиазм, обещала принести мне свою любимую книгу «Это было под Ровно» – я был безумно польщен, но расслышал как: «Это было подробно» и терялся в догадках. Оказалась какая-то мутотень про партизанские подвиги, я так никогда и не сумел полюбить этот жанр.
И вот еще, наверное, о чем нужно вспомнить: о сексе. Тут тоже было не так, как у всех детей, – нас ведь держали без разделения полов, по крайней мере до моего десятилетия, мы вместе ходили по-большому и по-маленькому, анатомическую разницу наблюдали ежедневно, тем более что девочек подмывали марганцовкой, но ни о чем другом не догадывались. Однажды рядом со мной положили мальчика, только что прибывшего «с Большой земли», и он стал рассказывать небылицы о том, откуда берутся дети и какие меры для этого принимают взрослые (терминологию я освоил позже, уже на воле). Я гневно отмел его теорию как очевидную мерзость и поклеп. Я, конечно, читал про любовь в книжках, но глупостей там не упоминали (Гаршин не впрок), и вообще это было из жизни инопланетян, а из взрослых я знал только персонал и родителей, и мысль, что они, с их мудрыми серьезными лицами, способны принимать подобные позы, казалась смехотворной. Тем более что они, по их словам, тоже когда-то были пионерами, а пионер себе такого не позволит, он ходит в походы и друг пернатых.
Но затем был эпизод прозрения – в уже упомянутом приморском павильоне, там не было банного помещения, и нас мыли на топчане, установленном посреди общего лежбища. И вдруг туда положили девочку – она была ко всему прочему блондинка, что было отдельным открытием, потому что всех до второго класса включительно, а я тоже был тогда второклассник, стригли под ноль. Но у этой, третьеклассницы, волосы были уже отпущены, и она как-то угодила под солнечные лучи, показалось, что вся золотая в этих водяных крапинках. И я вдруг понял, что она не такая, как мы, и что рано или поздно с этим придется что-то делать.
Раз в неделю привозили кино, и если это не было «По щучьему велению», то наверняка «Руслан и Людмила», музыка Глинки просверлила для себя в моем мозгу специальную дырочку. Кино я любил, потому что оба фильма знал наизусть и уже ничего там не боялся. Черномор из этого «Руслана», замечательный человек и персонаж по имени Володя, теперь у меня во френдах в ЖЖ.
Апофеозом всей этой эпопеи было повторное обучение прямохождению. Мы обычно овладеваем этим искусством в возрасте, когда не умеем и двух слов связать. Мне кажется, что я еще помню, то есть, вернее, помню, что когда-то помнил: мать сидит на корточках, протянув ко мне руки, пока я пытаюсь одолеть бесконечные полметра. Но в девятилетием возрасте отдаешь себе отчет в каждом движении и преодолении – единственное, с чем я могу сравнить это воспоминание, так это с обучением полету, как во сне, только труднее, потому что во сне на обучение уходят считанные минуты, а наяву без шишек не обходится. Вон там, шагах в десяти, лежит книжка или игрушка или ползет божья коровка, которую надо взять в руки, понюхать, поморщиться и прочитать ей стандартную инструкцию, куда полететь и как там поступить. Раньше приходилось ждать милости от ходячих или бессильно плакать, но теперь ты бог. Ты подходишь к своей божьей коровке, ты даже не упал по дороге – отставляешь в сторону костыли и снисходительно гладишь насекомое по оранжевой пятнистой шкурке. Ты стремительнее его.Годы спустя я прочитал «Волшебную гору» Томаса Манна и все узнал, хотя у него, конечно, все не так – персонажи взрослые, говорят об умном и с таким балластом символизма, что челюсти сводит, съедают каждый день много неизвестного и недоступного, а иногда вступают в половые отношения друг с другом. Кроме того, все они отправились в свой семилетний космический полет из прежней реальной жизни, уже до мелочей с ней знакомые, они не были инопланетными уроженцами, как я. Но в остальном все верно, другая жизнь в другом пространстве этим здоровым и в голову не придет.
Мне как раз приходило потом в голову, какой здесь контраст с судьбой Рубена Гонсалеса Гальего и адом, через который он прошел. Очевидно, у этого потустороннего мира есть изнанка, а мне повезло угодить с лицевой стороны.
Точнее всего как раз не у Манна, а в забытом романе Уэллса об ангеле, раненом и упавшем на землю, который потом уже никогда не мог вернуться.Неудобно прибегать к затертым метафорам, но мой выход в мир вертикальных тел был похож на ситуацию, сложившуюся после грехопадения. В книжках все выглядело прекрасной фантазией, наяву каждый день стал трудом и преодолением.
Родители какое-то время жили в Симферополе, куда отец попросил советское войско перевести его ради близости ко мне, но потом его перебросили в Запорожье и там уволили в запас, явно против его воли.
Он приехал за мной в санаторий, угостил в столовой пивом, которое мне страшно не понравилось, и отвез в это загадочное Запорожье, бесконечный проспект Ленина от Днепрогэса до Южного вокзала, я увидел магазины, в которых продавали сырки с изюмом и в ту пору еще разливали молоко в бидоны, я сам ходил туда с таким бидоном, а сметану разливали в банки. И еще я увидел пьяных, о которых знал из книжек. Ходячая жизнь оказалась непохожей на настоящую, она была вся из этих книжек.
Ну и школа, конечно. Я оказался настоящим магнитом для плохих мальчиков, потому что был для них прекрасной непуганой дичью. Они сразу научили меня всему плохому, что знали, в том числе обогатили лексикон, с четвертого класса пытались приохотить к курению, но это занятие я до времени отложил. До этого я ничего плохого вообще не знал и не мог себе позволить, а тут безошибочно выбрал в друзья самых отпетых. Мать кивала мне на соседских – смотри, какие интеллигентные у людей дети. Эти интеллигентные потом все сели, практически сразу после школы, а некоторые вернулись, выпили и сели по второму разу.
Да, родители хлебнули со мной горя. Они оказались в безвыходной ситуации, потому что стали инстанцией, выносящей запреты. Я прожил семь лет в мире, где запретов практически не было, нам ведь нечего было запрещать, у нас не было сил ни на что такое, что стоило бы запрета. Нам просто кое-что разрешали, а это ведь совсем наоборот – кошки, снег, море и птицы. Родителей следовало любить, это я понимал, но не знал как и за что.
Приятным сюрпризом стал невиданный доселе младший брат, его любить было проще. Я рассказывал ему на ночь сказки и водил гулять. Однажды, когда он уже заснул, я вдруг вспомнил всю собственную жизнь с трех до десяти, в невероятных подробностях, почти день за днем. Я лежал и плакал, но радовался, что так хорошо все помню, и дал себе обещание когда-нибудь все это записать в тетрадку. Вот и верь после этого собственным обещаниям.
У родителей были друзья – вернее, это были друзья отца, бывшие сослуживцы, а друзья матери были их жены, у военных всегда так. Отставка отца была для меня вторым по силе ударом после выписки, я был в ужасе от этого штатского статуса – практически по анекдоту: теперь, мол, и строем не пройдешь. Друзья приходили в гости – на майские, на октябрьские, Девятого мая. Пили водку под шпроты, пели песни – ни единой на военную тематику, а ведь все были фронтовики. Вообще о войне как таковой у нас в семье не было ни слова. Отсюда у меня твердое убеждение до сего дня, что война – это мерзость и праздновать победу над живыми людьми позорно.
Про настоящих интеллигентных мальчиков я читал в книжках, и в какой-то момент мне надоело быть плохим, я решил тоже стать интеллигентным. Все же мать моя была из актрис, хоть и не доучилась, и каждый раз, когда по телеку давали Первый концерт или «лебединое», она объясняла, как это прекрасно, и я верил. Поход в интеллигенты я начал с подписки на полное собрание Блока, прочитал его целиком. А потом появился друг Юра, который уже был интеллигентный, у них в семье было пианино и целая куча собраний сочинений, которые я тоже прочитал, а на пианино собственными силами освоил несколько тактов «Элизе» Бетховена, обеими руками. С Юрой мы принялись слушать всякую классическую музыку, скупали, насколько позволяли средства, все, что было в этом жанре, в единственном запорожском магазине, нравилось все без исключения, с годами я стал куда разборчивее. И в областную филармонию ходили, туда однажды даже Гилельс заглянул.
И еще появился другой друг, по естественным наукам – я вдруг совершенно помешался на химии, записался в областную научную библиотеку и с увлечением читал монографии о разных замысловатых ацеталях и фенолах. И еще купил трехтомный вузовский учебник матанализа Фихтенгольца и читал его как приключенческий роман, а потом со мной стал заниматься профессор местного пединститута и я полез в топологию, матричное исчисление, теорию групп, так что наставник мой только диву давался. Пару лет спустя я встретил его на пресловутом проспекте Ленина, и когда он узнал, что я все-таки поступил на химический, у него прямо лицо упало. Эх, знал бы он, что со мной будет дальше.
Естественно-научный друг, в отличие от меня сделавший-таки карьеру в химии, оказался впоследствии сумасшедшим и подался в русские патриоты.Да, я понимаю, что у меня попросили эту исповедь вовсе не потому, что я мог стать крупным математиком или химиком, но не стал. В роли писателя я себя в отрочестве как-то не видел. Но однажды в летнем санатории (родители несколько лет покупали мне, неблагодарной свинье, путевки) я беседовал с тамошней библиотекаршей о Баратынском, и она, обрадованная вполне уже интеллигентному парнишке, рассказала мне, что есть такой Евтушенко и что слава его гремит. Евтушенки все равно не оказалось под рукой, но мысль о славе заставила задуматься. В тот же вечер я сел и настрочил тетрадку стихов. Стихи эти, насколько я помню, были чудовищны, что-то дактилическое под Никитина или Кольцова, но все были написаны правильными размерами с аккуратными рифмами. Потом я еще написал какую-то хренотень маяковской «лесенкой», а в восьмом классе один из моих шедевров, восемь строчек, был опубликован в многотиражке завода «Запорожсталь». Процесс пошел. Во дворе все уже знали, что я поэт, и даже реже выпевали вслед «жид по веревочке бежит».
Потом я еще ходил в литстудию во Дворце металлургов, и там меня журили за упадочничество. Это ободряло.
И еще я потерял примерно тогда же веру в советскую власть и коммунистический триумф. Ума не приложу, как это со мной случилось в Запорожье, где таких мыслей в ту пору не помню ни у кого – никаких местных диссидентов, ноль самиздата. И всем своим друзьям рассказывал, что советская власть плохая, они только диву давались.
Школу я очень не любил, пропускал при любой возможности, потакаемый матерью, через девятый класс перескочил, сдав экзамены экстерном, а на выпускной мать прибежала впопыхах с вызовом из химфака МГУ, и все меня поздравляли, словно я уже Менделеев. Москва мне ужасно понравилась, я ее полюбил, хотя эта любовь прошла, когда ее изнасиловал Лужков. На экзаменах я старался, но напрасно – тройка по сочинению и четверка по письменной математике обеспечили семнадцать – непроходной балл, и я уже готовился к позорному возвращению в Запорожье, когда меня перехватил в кулуарах представитель химфака Одесского университета – так я стал одесским студентом. На факультете меня очень любили, я действительно знал тогда из химии, особенно органической, много ненужного нормальному человеку, и случалось так, что меня, опоздавшего на лекцию, затаскивал к себе в кабинет декан обсудить с ним проект, который он лично мне поручил. Этого замечательного человека, к которому я не чувствую ничего кроме благодарности, я в конечном счете подвел.
В Одессе была публичка, где я накинулся на Мандельштама с Пастернаком и Ницше с Шопенгауэром, но вскоре меня вызвала директорша библиотеки и рекомендовала переключиться на научную фантастику: «У нас, молодой человек, прекрасная советская фантастика». Не тут-то было, декан записал меня еще в университетскую научную, хотя совсем не с этой целью.
Зато я познакомился с несколькими прекрасными одесситами, людьми моего возраста и склонностей, то есть тоже пораженными микробом графомании. К тому же они тоже были уже вполне сложившиеся антисоветчики, мне стало не так одиноко на свете. Вот эти ребята научили меня всему остальному плохому, в чем я тогда еще был далек от совершенства, – пить, курить, домогаться расположения девушек. Одесса была совсем не похожа на Запорожье – старый город с патиной истории, и эта патина в ту пору еще лежала на ее жителях. Меня особенно поразило обилие стариков на улицах, в Запорожье с его индустрией мы до такого возраста доживать не привыкли.
В итоге к концу второго семестра я решил, что химия – не мое, бросил факультет, перекантовался в Запорожье и через год поступил на первый курс исторического факультета МГУ. Эту историческую эпопею я пропущу, упомяну лишь, что она ничем не увенчалась, а в начале 70-х я снова оказался в Москве, на сей раз на первом курсе факультета журналистики. Тут уже выбор был совершенно циничным: рассчитал, что туда проще всего поступить, так оно и оказалось.Настоящим магнитом было уже, конечно, не высшее образование, в котором я успел категорически разочароваться, а Москва, страна была тогда устроена строго центростремительно – да и сейчас, впрочем. Именно в Москве со мной случились два важнейших жизненных перелома, то есть важнейших после уже описанной санаторной инкубации: встреча с самыми замечательными в моей жизни друзьями, а затем отъезд, бесповоротный разрыв с прежней жизнью – и, как тогда казалось, с друзьями тоже.
Я в те годы начал ходить в литературную студию «Луч» при МГУ, творческие занятия располагают к некоторой стадности, потому что ищешь единомышленников и даже поклонников своего предполагаемого совершенства, а читать стихи просто попутчикам в метро не всегда удобно и грозит ненужным диагнозом. Литстудию вел Игорь Волгин, но когда я туда пришел, его подменял Юрий Ряшенцев. Кажется, первым из них, кого я там тогда встретил и с кем уже, вопреки отъезду, никогда впоследствии не разминулся, был Бахыт Кенжеев – стройный в ту пору брюнет с романтической физиономией, читавший что-то такое про Кенигсберг с изящным подтекстом, понятным понимающим. Меня подвела к нему и познакомила Маша Чемерисская, в прошлом однокурсница по истфаку.
А затем, когда я однажды лежал в своем пенальном гнезде на Ломоносовском и, за неимением похмелиться, истреблял клетки головного мозга чтением собрания сочинений Карла Густава Юнга (этим продуктом меня снабжала все та же Маша, работавшая в ИНИОН), в дверь постучали, вошел высокий юноша в роговых очках, Сергей Гандлевский, уже ранее замеченный в «Луче», и без лишних увертюр предложил дружить. Я, надо сказать, на секунду впал в замешательство: Гандлевский был на четыре года меня моложе, как, впрочем, и вся эта компания, разница в возрасте в такие годы ощущается острее, а я на своем журфаке уже привык к ореолу «бывалого». Но именно что на секунду. Уже на следующий день мы подробно обсудили русскую литературу, некоторые избранные достоинства женского пола и попутно выпили сколько в нас поместилось. А вместе с Гандлевским в моей жизни появился и Саша Сопровский, они в ту пору были уже неразлучны.
Гандлевский в те годы был всегда как минимум в легком подпитии (что, впрочем, в нашей компании никак не делало его исключением), шумный, остроумный до приведения аудитории в истерику и обладал нечеловеческим обаянием, которое в нужную минуту мог довести до мегаваттного накала – именно так он изловил в свои сети и меня. Это, конечно, очень способствовало наведению мостов с женскими боевыми товарищами, но вот куда более убедительный (и неоднократный) пример, ставший в нашем кругу хрестоматийным. Мы сидим у кого-то в квартире, появились там в первый раз, и спиртное, как обычно, кончилось. Сережа встает, прячет весь немалый хмель в какой-то потайной верблюжий горб, делает искреннее и смущенное лицо и звонит в первую попавшуюся дверь на лестничной клетке: дескать, вот, мы тут напротив, защитил диплом, распределение в Кемь, прощаемся с друзьями, да шампанское не ко времени кончилось, еще бы бутылочку-две, не откажите в червонце. Ему практически никогда не отказывали и никогда в нем не ошибались – он всегда возвращал.
Саня Сопровский был из несколько иного теста, в черной челке под линейку, с цинично-наивными голубыми глазами, склонный к цветистой речи – временами они с Гандлевским, обычно с похмелья, срывались в эдакое, выражаясь по-американски, dog-and-pony show, наперебой километрами дословно цитируя пассажи из Достоевского, чем сразу совершенно меня очаровали. Сопровский тоже был шутник, хотя и не такого космического масштаба, как Гандлевский, смеялся своим шуткам первый и очень громко, а нас повергал время от времени в состояние измененного сознания дзенскими коанами. Однажды пригласил всю компанию на гуся, мы принесли жидкое, на какое хватило, и сидели часа два у него в комнате, недоуменно опустошая это жидкое, пока он выбегал на закулисные дискуссии с родителями. А затем объявил: «Смысл происшедшего будет мной разъяснен впоследствии» – с чем мы и разошлись, пьяные и голодные. Сам он этого смысла так и не разъяснил, но выяснилось, что родители не пожелали делиться гусем с богемными алкоголиками и справедливо съели все сами.
В другой раз у меня невесть откуда оказалась бутылка спирта, и Саня принялся звонить одной ныне очень хорошо известной поэтессе, в ту пору молоденькой и симпатичной, и заманивать ее на эту бутылку. Тонкость заключалась в том, что сам он эту поэтессу никогда не видел, а знаком с ней был только я, да и то мельком, да и вряд ли она пила что-либо кроме нектара орхидей. Но мысль о том, что кто-то может запросто игнорировать бутылку спирта и все ее социальные импликации, Сане просто в голову не приходила. Результат вышел предсказуемый, тем сильнее болели наутро наши с Саней головы.
Что же касается Бахыта, то он в ту пору хоть и был неотъемлемой частью симпозиума, двигался по удлиненной эллипсоидной орбите в силу своего тогдашнего метода ухаживания за девушками: на тех, которые ему нравились, он женился. Мы в его семейный быт, каков бы он ни был, вписывались плохо, но тем не менее он иногда мужественно нас приглашал и наливал. К тому же он был химик-аспирант и имел доступ к высокотехнологичному дистилляционному агрегату. Мы покупали в хозяйственном магазине морилку за семьдесят копеек, а Бахыт ее перегонял с можжевеловыми ягодами. Итоговый джин под фирменным названием «бахытовка» мы обычно употребляли, развалясь на лужайке перед китайским посольством, где тогда стояла стеклянная блинная и стенды с фотографиями заплыва Мао через Янцзы. Бахыт радушно председательствовал в роли подателя благ и ангела-хранителя, спиртного он в ту пору практически не пил.Никакого «Московского времени» в том виде, в каком я о нем услыхал много лет спустя, впервые прилетев в Москву из эмиграции, у нас тогда не было. Была дружба, а не литобъединение – с функциями этого последнего вполне справлялся «Луч», куда мы продолжали ходить, и хотя в частной жизни всегда читали друг другу новые стихи и изредка даже устраивали формальные квартирные дискуссии с заранее сформулированной повесткой, главными компонентами контакта были любовь к русской литературе, ненависть к режиму и конечно же обыкновенные молодежные досуги на фоне всего этого. У нас никогда не было никаких программ, кроме как научиться писать хорошо, а машинописный альманах, идея которого принадлежала Сане, был обычной в советских условиях попыткой пробиться к аудитории. Мы в ту пору были слишком увлечены друг другом и слабо ощущали присутствие других подобных групп, может быть четче оформленных и преследующих какие-то конкретные эстетические цели.
Но это не была замкнутая система. Однажды, выйдя вместе с Сережей на обычную прогулку в соображении где бы чего, я встретил старого приятеля, еще по СМОГу, поэта Аркашу Пахомова, ныне, увы, покойного, и познакомил с ним своих нынешних. О СМОГе я здесь не пишу, потому что застал это объединение уже в пору его заката, участвовал в одном-двух чтениях – ни я в нем, ни оно во мне особого следа не оставили.
С Пахомовым подружились, а впоследствии, уже после моего отъезда, к компании в какой-то степени примкнули Юрий Кублановский, Владимир Сергиенко, а также Виталий Дмитриев из Питера. Тех, кого я здесь не упоминаю, пусть меня простят, это не подробный бортовой журнал, а всего лишь отдельные стоп-кадры. Таню Полетаеву, возлюбленную Сани и прекрасного поэта, не упомянуть не могу – она по сей день остается частью нерушимой дружбы.
Ностальгия началась задолго до эмиграции. В Запорожье был опубликован инспирированный ГБ фельетон, где меня обличили как вдохновителя антисоветских сборищ, на факультет явно пришла «телега» с Лубянки, и декан Ясен Николаевич Засурский, в ту пору еще далеко не «прораб перестройки», отстранил меня от сессии «за непосещаемость» – что было чистой правдой, но раньше не мешало мне сдавать экзамены и зачеты. Такая формулировка была фактическим изгнанием из университета, единственным контрманевром могла стать только просьба о переводе на заочное отделение, что я и сделал, а за этим последовал год работы в областных газетных редакциях в Сибири и Казахстане. Ностальгия была не по городам и родинам, а по друзьям, разлука с которыми оказалась необыкновенно болезненной. Бахыт написал мне дружеское послание в эту добровольную ссылку: «Ты медленно перчишь пельмени В столовой и медленно ешь. Они что в Москве, что в Тюмени, И градусы в водке все те ж». Действительно, так оно приблизительно и было плюс интересное этнографическое открытие: в тюменской столовой у вилок зубцы торчали во все стороны света. Когда пришло время открывать бутылку, ситуация прояснилась: в этих широтах водочная пробка-бескозырка оказалась без ленточки. Впрочем, для нынешних поколений это все археология. Очень скоро стало понятно, что этот образ жизни – тупиковый. Вести с полей и производств не стали моим любимым жанром, хотя руку я скоро набил, но это-то как раз и пугало. А возвращаться было уже некуда, то есть не было способа. И тогда встал вопрос об отъезде в куда более далекие края. Перегружать подробностями незачем, они и самому скучны, но меня продержали в отказе около года, за это время я познакомился с профессиями корректора в издательстве Академии наук (выгнали уже на следующий день после получения вызова в Израиль) и ночного сторожа на Коптевском рынке (выгнали за сонливость), к концу тучи стали сгущаться, последовали арест и депортация в Запорожье к родителям, затем все-таки разрешение, но оно было аннулировано из-за отсутствия прописки по указанному московскому адресу – и наконец, когда блокада казалась уже полной, окончательное разрешение, последняя ночная пьянка с друзьями, полубессознательная процедура в Шереметьеве, где таможенники немало дивились моему имуществу, состоявшему из пары носков и томика Козьмы Пруткова. И сразу – Вена.
Шекспир назвал сон смертью каждого дня жизни, эмиграция в ту пору, когда она стала частью моих собственных, казалась смертью всех предыдущих. Я не намерен преуменьшать эйфории освобождения и первого невероятного свидания с внешним миром, но вся эта муть по поводу горечи расставания с родными березками и хороводами под гармонь обошла меня стороной. И, однако, в Тюмени и Аркалыке, как бы ни было плохо, всегда оставалась надежда на повторные встречи с друзьями и родными, а теперь надежда рухнула.
В Нью-Йорке, где я работал сперва сторожем, а затем дворником, меня настигла кассета, переправленная Бахытом через одного из интуристовских гостей – Бахыт работал в этом заведении переводчиком, пока не вскрылась его подноготная перерожденца. На кассете была запись дружеского застолья – уже без меня, но отчасти вдогонку мне, с реминисценциями и стихами. Я слушал ее, правда все реже и осторожнее, на протяжении последующих тринадцати лет, в конечном счете с нее осыпалась последняя эмульсия, пленка стала прозрачной и беззвучной. Почему-то я так и не догадался ее переписать.
Новую жизнь тем временем надо было как-то организовывать. Очень скоро я переехал в Сан-Франциско, просто потому, что остановить инерцию путешествий было уже трудно – там обосновались мои друзья, приобретенные в пору римской декомпрессии, музыканты из популярных тогда советских рок-групп, или ВИА, как они тогда назывались: Саша Лерман и Юра Валов. Чтобы не ставить на них сразу точку, упомяну, что первый, окончивший впоследствии лингвистическую аспирантуру в Йеле, много лет преподавал потом в Делаверском университете и не так давно скоропостижно скончался, а второй ныне здравствует и завершил кругосветную миграцию в Санкт-Петербурге. В Сан-Франциско я некоторое время работал в газете «Русская жизнь», которую ехидно именовал «Русской смертью» из-за обычая помещать некрологи на первой странице – платящие клиенты на меньшее не соглашались.
Эмиграция у меня рефлекторно ассоциировалась с прорывом в печать, но перспективы прорыва становились все призрачнее – если кто и реагировал, то лишь ради уведомления, что есть и более достойные. Энтузиазм мой угасал, выбор альтернативной карьеры представлялся неизбежным – ждать собственного некролога в «Русской смерти» я не собирался.
Все поменял визит в Сан-Франциско Саши Соколова, с которым мы познакомились и подружились. Он отвез мои стихи в издательство «Ардис», созданное в Мичигане Карлом и Эллендеей Профферами, там их показали Бродскому, он часть (меньшую) одобрил, а остальное рекомендовал куда-нибудь спрятать. Тогда я обиделся, но впоследствии жалел, что спрятал слишком мало. Так у меня вышла первая книга стихов, «Сборник пьес для жизни соло», а сам я по совокупности привезенных из Москвы справок стал аспирантом Мичиганского университета по специальности «русский язык и литература», и диплом Ph.D. стал первым в моей жизни, в СССР я ни до одного не дотянул.
Биография начинает выглядеть как бы форсированием болота прыжками по кочкам, я отлично это понимаю, но иначе не умею, а дальше прыжки становятся все длиннее, потому что вспоминать все скучнее – тот, о ком я пишу, все больше сливается со мной самим, я не вызываю у себя такого жгучего интереса, а писать о других так коротко – почти предательство. В начале 80-х в Монреаль прибыл Бахыт. Я тогда преподавал в небольшом пенсильванском колледже, но сумел выпросить короткий отпуск и ринулся ему навстречу. В ходе взаимных возлияний и реминисценций он сообщил мне печальную новость: у Карла Проффера обнаружили рак. Потом было экспериментальное лечение, слабая надежда на ремиссию, но смерть отговорить не сумели. Карлу было сорок с небольшим. Я приехал в Энн Арбор на его поминки, затем приезжал на собственную защиту и еще через несколько лет, уже из Европы, повидать Эллендею и кое-кого из профессуры, в особенности Эрвина Тайтуника, хозяина замечательного англо-русского поэтического салона для студентов и аспирантов – он был специалист по русскому XVIII веку, перевел на английский пушкинского «Царя Никиту» и даже писал стихи по-русски под псевдонимом «Тит Одинцов», их можно прочитать в антологии «Голубая лагуна» Кости Кузьминского. Тайтуника мы, завсегдатаи его салона, называли Тай, его впоследствии унесла от нас лейкемия.
В какой-то мере недолгие годы, проведенные в аспирантуре, стали для меня рецидивом безответственного детского рая и сбили с курса на адаптацию, хотя и в меньшей степени, чем это сделали раньше мушкетеры «Московского времени»: та же эйфория и беззаботное отодвигание непонятного будущего, к тому же новый комплект друзей, хотя и не такой долговечный, как первоначальный. Карла я потерял, с Бродским контакт не задался, потому что я не мог принять его вступительных условий. Тепло вспоминаю Лешу Лосева (старше меня на год в мичиганской аспирантуре), но встречи были слишком редкими. С Сашей Соколовым до сих пор видимся раз в три-пять лет в самых неожиданных точках планеты.
Я долго не понимал, что будущее – это сейчас, а когда опомнился, оказалось, что оно уже прошло.Вспоминать места работы незачем, работы были у всех. После Пенсильвании был Вашингтон, потом Мюнхен, Прага, опять Вашингтон, а теперь опять, и, видимо, насовсем Нью-Йорк, эллипс замыкается, только вот Москва попадает в него лишь эпизодами, теперь все реже.
На этом пути со мной произошла странная вещь: я прекратил писать стихи – на семнадцать лет, хотя в течение этих лет был уверен, что навсегда. Вопросы о том, почему я это сделал и почему потом все же вернулся к стихотворной практике, всегда ставили меня в тупик. Не то чтобы у меня не было на них ответов – наоборот, ответов было слишком много, и все вполне правдоподобные, но вот это как раз и вызывало подозрение. Последний, который я дал, когда меня спровоцировали написать то, что вы, видимо, сейчас читаете, сводился к тому, что я перестал ощущать русскоязычную аудиторию, а затем она вернулась – отчасти живьем, в связи с поездками и выступлениями в России и на поэтических фестивалях, но большей частью благодаря Интернету, о чем я еще пару слов скажу.
В протяжение первых лет эмиграции я интенсивно переписывался с Гандлевским и Сопровским, это была дерзкая попытка перекричать океан, не провоцируя в то же время штатных перлюстраторов Лубянки, письма часто добирались по месяцу. До моего отъезда у нас был обычай обкатывать новые стихи друг на друге, вот этого за границей больше всего не хватало. Я вставлял стихи в текст письма в строчку, примитивная попытка сбить постороннего чтеца с толку, друзья поступали аналогично. Но этот заряд энтузиазма постепенно угасал, слишком уж в разные стороны растекались наши жизни, и объяснить это эпистолярно не было никакой возможности: помню, в частности, как Саня сделал мне выговор на шести машинописных страницах за «отуземливание» – он, надо полагать, видел меня в каком-то абстрактном Цюрихе в ожидании пломбированного вагона, а я себя так не видел. Трансокеанское эхо резонировало все слабее, а когда началась перестройка, мои друзья всплыли на поверхность культурной жизни, пошли заграничные поездки, и мое место в их мире сужалось, а других контактов не было. К тому же я принялся в ту пору писать бесконечную (по замыслу) эпопею из жизни древнеримского офицера, а когда через несколько лет и страниц сто сорок готового текста измучился и решил ее бросить, к стихам так и не вернулся.
Первый раз я приехал в тогдашний еще СССР в 1988 году, друзья встретили в Шереметьеве, это была ситуация, аналогичная восстанию из гроба, и описать эмоциональную встряску у меня нет художественных средств. Страна была тогда еще вполне узнаваемая и сравнимая с моим прошлым, только сильно покосившаяся и в облупленной штукатурке. Попытки закупок в магазинах на советские деньги, которых у меня были полны карманы, за накопившиеся публикации оказались тщетными.
В винном отделе стояла батарея сладкого советского шампанского и уныло пахло дрожжами. В продовольственном мою попытку приобрести кусок сыра пресекла изумленная продавщица: «Вы что – есть это собираетесь?» В поисках опохмелиться мы с Гандлевским сунулись в гостиницу «Украина», где был магазин «Березка», дорогу преградил угрюмый швейцар: из какой дескать страны? На что ему Гандлевский резко отчеканил: «Соединенные Штаты Америки». Швейцар вдруг вытянулся в струнку и простер руку в приветственном ленинском жесте. В «Березке» стеллажи до потолка были уставлены матрешками и ленинскими же бюстиками, но подробный поиск вывел на несколько банок «Хайнекена».
Вообще-то эта попытка описать свою нехитрую жизнь подтверждает мою давнюю догадку по поводу намерений и целей мемуаристов: эти тома пишутся для того, чтобы заставить аудиторию разделить свою любовь к себе самому, а вовсе не с целью извлечь урок из прошлого, обычно в мемуарном возрасте любые уроки уже бесполезны. Этот возраст для меня миновал, так и не наступив, приличного капитала самолюбия я так и не нажил. Похоже, что я все время пытался разгадать какую-то встроенную загадку, но коль скоро не разгадал, то излагать ход решения бесполезно, у каждого он все равно свой. Это не значит, что жизнь плохая, – она хорошая, сравните хотя бы со смертью. Но все, что мне по-нас тоящему интересно в собственной, – это семь горизонтальных лет в начале, друзья, которых удалось сберечь на десятилетия, и момент выхода за шлагбаум. И это для стихов, а не для мемуаров, так что нечего и пытаться.
В качестве коды скажу еще несколько слов о том, как я «вернулся в литературу». Некоторые из друзей и знакомых никак не могли поверить, что я бросил писать добровольно, русское литературное сознание, пробудившееся от спячки довольно поздно в сравнении, скажем, с Европой, до сих пор забито романтическими клише – например, о том, что возраст отреза – тридцать семь лет, что вся эта лирика возможна, лишь пока играет гормон, а лета – к суровой прозе, что если человек прекращает писать, то он исписался. Убедить людей с такими стереотипами в том, что я просто сам взял и перестал, было невозможно, но сам-то знаешь наверняка, потому что в мозгу продолжает жужжать машинка, вот этот генератор всяких глупостей, которые надо потом хватать, мять и обтачивать. Все эти годы, хотя все реже, я приезжал то в Россию, то в Америку, и выступал там со своим замшелым творческим наследием, даже издавал книги, хотя все уже было опубликовано и навязло в зубах.
И вот однажды я сел и, вспомнив прошлую процедуру, написал несколько стихотворений, а потом уже остановиться было трудно. На самом деле остановиться я хотел, издав еще одну книгу, но когда этот срок наступил, возникла надежда, что я еще сумею написать то, что в молодости не давалось, – то есть все-таки показать если не решение загадки, то хотя бы попытку подкараулить его в засаде, запереть в кругу с помощью волчьих флажков. Без Интернета и живого контакта с читателями это мне никогда бы не удалось, тем более в эмиграции. Так что в каком-то смысле они мои соавторы, а тех, кто в соавторы не стремится, я и не неволю.В годы моей евпаторийской горизонтальной инкубации, лет в пять или шесть, у меня сложилось отчетливо солипсистское мировоззрение, хотя слова такого я тогда, конечно, не знал. Если я верно помню, толчком к этому философскому повороту стал сон, который я помню до сих пор: как будто я иду с отцом и матерью (что само по себе было крайне странно, ходячим я себя ни в каких других снах тогда не видел) и мы проходим сквозь какую-то небольшую дверь в высоком заборе, а там огромный луг, на котором лежат люди в цветных одеждах, весело болтают, а между ними ходят звери, медведи, тигры и еще кто-то, и люди этим зверям улыбаются и гладят их. Никакого Исайи я, конечно, ни тогда, ни еще на протяжении лет двенадцати не читал. Но гораздо раньше я прочитал потом почти идентичную историю у Герберта Уэллса, только у него там все происходило наяву.
В сравнении с этим сном реальность с ее уколами, клизмами, манной кашей и отбоем (это было еще до школы, церкви на веранде и приморского павильона) казалась довольно бледной, и тогда зародилась мысль, что все ненастоящее, просто снится, только очень неумело, хуже, чем у меня с тиграми, и все эти взрослые тоже. Я думаю, что подобные всплески подозрительности посещают в этом возрасте многих детей (ни разу не пришло в голову кого-нибудь спросить), но моя ситуация была обострена сведениями о существовании якобы настоящего мира, вот этого самого, где люди ходят ногами, покупают в магазинах маргарин и звонят друг другу по каким-то телефонам. Не то чтобы я и в этот мир верил до конца, но сама множественность и вариантность миров усугубляла подозрения. И это было страшно, еще страшнее крыс под кроватью, которые ведь тоже снились.
Если у жизни и есть урок, то это освобождение – от страха. Я все больше убеждаюсь в том, что жизнь настоящая. Вообще надо сказать пару слов о том, о чем больше нигде, кроме как, может быть, в стихах, не скажу.
Мне понравилось быть человеком. И еще живы мои замечательные друзья, без которых я бы им не стал. Только теперь, наученный горьким опытом, я надеюсь уйти раньше их, чтобы больно было не мне. Спасибо им, пока я в состоянии это сказать, а они – услышать. Дружба-хуюжба, я этих людей просто люблю – навсегда, независимо от двоичного статуса живые-мертвые. И взаимность здесь ни при чем.
И еще спасибо кошкам – за то, что первые научили меня любить всех остальных. По-моему, у меня получилось.Вера Павлова
...
Павлова Вера Анатольевна (р. 1963, Москва). Окончила музыкальный колледж им. Шнитке; Академию музыки им. Гнесиных по специальности «История музыки». В России выпустила 18 книг стихов. Лауреат премии имени Аполлона Григорьева (2000), специальной премии «Московский счет» (2003), премии «Антология» (2006), премии журнала « Октябрь » (2011).
ГОРАЛИК Расскажите, пожалуйста, про вашу семью до вас.
ПАВЛОВА Мое генеалогическое деревце не очень ветвисто. Дальше прасемейное предание не заглядывает. Что же касается пра-, то я располагаю сведениями только о трех прадедушках: прадедушка Николай был выгнан из семинарии за пьянство и стал при советской власти комиссаром по борьбе с самогоноварением; прадедушку Владимира убила молния, его закопали по народному обычаю в сырую землю на три дня, но он так и не ожил; прадедушка Григорий был портным в еврейском местечке, заезжие иностранцы взяли его с собой в Париж, он там прижился, вернулся за семьей, разразилась революция, но он не оставлял надежду уехать и заставлял своих дочерей говорить по-французски, что в нищем еврейском местечке звучало довольно вызывающе. О своих прабабушках я не знаю ничего.
Теперь дедки-бабки. Папины родители прожили всю жизнь в поселке Желябово Устюжанского района Вологодской области. Папину маму, бабушку Аню, я никогда не видела. Она родила пятнадцать детей, вырастила девятерых, работала продавщицей, в открытках, которые мы от нее получали, вообще не было знаков препинания. Когда дед Матвей ушел на фронт, ей приснилась Богородица и сказала: «Не плачь, Анна, твой мужик вернется». Вернулся – приехал на трофейном велосипеде осенью 45-го. Только от него в деревне Желябово узнали, что война кончилась.
Деда Матвея я знала: в старости он раз в год объезжал своих детей, разбросанных по всей стране. Приезжал и к нам, привозил в неподъемном чемодане клюкву, сидел на диване, разбавлял водку горячим сладким чаем, смотрел телевизор и вслух дублировал происходящее на экране («о, пошел», «о, спит»), но я его почти не понимала: диалектизмы, мат, вологодский выговор. После смерти жены (ему было под восемьдесят) взял в дом шестидесятилетнюю женщину, которая сбежала от него через месяц – не была готова к ежедневному сексу.
Это почти все, что я знаю о папиных родителях. О маминых я знаю все: они жили с нами. Дедушка Федя – Федор Николаевич Никольский – происходил из священнической династии, ему на роду было написано стать священником. Он стал политруком. Я не встречала человека добрее и мягче. Какой он был красивый! В молодости он был кавалеристом. На конно-спортивных соревнованиях он неудачно махнул саблей и отрубил лошади ухо. Ему было так стыдно, что больше он ни разу в жизни не сел на лошадь. Когда я, грудная, заболела, орала без умолку, и врачи не знали, в чем дело, дедушка подошел к кроватке и сказал: «У нее болит ухо. Она склоняет голову набок. Лошади всегда так делают, когда у них болят уши». Действительно: у меня был отит. Дедушка был чуть ли не единственным в Москве главой отдела кадров крупного завода, который брал на работу евреев. Он прожил девяносто лет без одной недели (уже были закуплены деликатесы для юбилея, а оказалось – для похорон), и жил бы еще, если бы не пошел в холодную погоду на собрание совета ветеранов. Но он пошел, в парадной форме, в орденах, и на обратном пути упал на снег и умер. Точнее, умер и упал: умер стоя.
А бабушка и сейчас с нами. Рахиль Григорьевна Лившиц. Ей в марте будет девяносто девять лет. Она вырастила всех: маму и дядю (одна, в эвакуации), меня и моего брата (ушла на пенсию до срока), моих дочек (отвезу, сдам – и знаю: они как у Христа за пазухой). На ней держалось все. Я не знаю человека сильней. Я думаю, что и сейчас, когда она сидит в кресле и смотрит целыми днями канал «Культура», на ней держится все. Бабушка, родина моя.ГОРАЛИК Родители?
ПАВЛОВА Папа: Анатолий Матвеевич Десятов. Десятый Десятов. Родился в телеге, на лесной дороге, не довезли до больнички. Ходил в школу через лес, зажигая в темноте спички: от волков. В восемнадцать лет, что твой Ломоносов, отправился в Москву, поступил в Институт стали и сплавов. Самородок. Сейчас – доктор наук. Был бы академиком, если бы у него была хоть капля тщеславия. Но у него есть только страсть к своему делу – обогащению медных руд (да еще к рыбалке и огненной воде). Любимая глава истории нашей семьи – как папа однажды засиделся на работе, помочился в реагент, извлечение меди сразу увеличилось, он добавил в реагент мочевину, получил премию в 6000 брежневских рублей, и мне купили пианино. Мама, Ирина Федоровна Никольская, тоже окончила МИСИС. В институте они и познакомились. На лыжных соревнованиях. Мама была не очень спортивная, она шла-шла пешком по лыжне, а потом подумала: «Какого черта?» – и легла на снег, к небу лицом. А мимо мчался папа. Остановился – кто это тут лежит? Недавно родители отпраздновали золотую свадьбу. Было, между прочим, что праздновать: и мама, и папа, обмениваясь в ЗАГСе кольцами, были девственниками. Молодоженов распределили в Норильск, где я и была зачата: в общежитии, на раскладушке, полярной ночью. Маме той ночью, по ее словам, было очень хорошо. Папа на мой прямой вопрос ответил: «Не помню». За несколько дней до родов мама вернулась в Москву. Свой шанс родиться за полярным кругом или, того лучше, в самолете, я упустила.
ГОРАЛИК Каким ребенком вы были?
ПАВЛОВА Мое детство было безукоризненным. Трехкомнатная квартира: в одной комнате бабушка с дедушкой, в другой – папа с мамой, в третьей – я (и через семь лет брат Сережа). Идеально сбалансированное (усилиями бабушки), стройное, нерушимое мироздание. Все вовремя, все на своих местах. Я бабушке в этом как могу помогаю – слежу, чтобы очки лежали в «очковне», часы – в «часовне» (и то и другое – на серванте). Я никогда не видела, чтобы родители ссорились (правда, при мне они и не целовались). Я – пуп земли. Меня кормят черной икрой, чтобы ножки не были кривыми (рахит, внутриутробная жизнь в условиях полярной ночи), я выедаю центр, и плоская синяя баночка превращается в амфитеатр, чернеет головами многочисленных зрителей. Полюбовавшись ожившей картиной, я съедаю их всех.
ГОРАЛИК А чего этот ребенок хотел? Как вы – маленькая – были устроены изнутри?
ПАВЛОВА Воспоминания раннего детства клочковаты и гадки: встаю ночью, ищу горшок, писаю в папин тапок; мы едем за город на нашей «Победе», шлагбаум на переезде со стуком опускается на наш капот; я просыпаюсь в чужом доме и не могу открыть глаза, потому что они загноились и слиплись; я наступаю в лесу на осиное гнездо, бегу, осы за мной, кусают, жужжат, бросаюсь в реку. Более или менее ясные и непротивные воспоминания у меня начинаются с той поры, когда в жизни какую-то роль стали играть мальчики. Да что какую-то – ключевую. Вот тут-то память и проснулась. Это и есть, я думаю, девичья память – память, которую не интересует ничего, кроме любви.
ГОРАЛИК Это когда?
ПАВЛОВА Лет в шесть. Вова Стрелков, сосед. Первое предложение выйти замуж. Принятое без раздумий. Когда мы встречались во дворе, он всякий раз спрашивал: «Ты не передумала?» А потом то ли я передумала, то ли он перестал спрашивать – не помню, это уже не важно, девичью память интересует только любовь в действии. Следующая любовь была в первом классе – пучеглазый Олег Ермаков. Далее – по тексту моей книжки «Интимный дневник отличницы». Одновременно с любовью в моей жизни появились музыка и коньки: в шесть лет меня отдали в музыкальную школу и в секцию фигурного катания. В секции фигурного катания – Измайловский парк, красное приталенное пальто с белой опушкой, «ласточка», «подсечка», «пистолетик» – прозанималась всего год, музыке училась семнадцать лет. Без коньков не могу до сих пор: когда моя жизнь распалась на два континента, первое, что у меня появилось в Нью-Йорке, – коньки (белые, в Москве – черные). Недавно, с покупкой второго пианино, жизнь окончательно стала двойной. А трусы и лифчики так и летают в чемодане туда-сюда по несколько раз в год.
ГОРАЛИК А хобби-то было? Вот собственная какая-нибудь хрень, которой ребенок занимается?
ПАВЛОВА Я делала город из бумаги. Вырезала, клеила, раскрашивала: многоэтажные дома, окошки с занавесками, вывески, цветы, газоны. Когда я первый раз увидела Нью-Йорк, я поняла, что его-то я и клеила. Мой город назывался Сириус. В нем были аптеки, рестораны, магазины, его пластилиновые жители жили полной приключений жизнью.
ГОРАЛИК А когда пошли в школу, это как было?
ПАВЛОВА Сначала были одни пятерки. Но однажды я сделала помарку, пришла в неописуемый ужас и, заливаясь слезами, написала на промокашке: «Уважаемая Ирина Александровна, не ставьте мне, пожалуйста, четыре. Я больше не буду!» Трех моих учительниц – младших классов, фортепиано, руководительницу диплома в институте – звали Иринсаннами. Но Иринсанна номер один поставила-таки мне четверку. Я чувствовала себя опозоренной навек (как впоследствии после потери невинности). С тех пор меня интересовали только пятерки с плюсом, а поскольку в школе таких оценок в заводе не было, учеба потеряла для меня всякий интерес. То есть я, конечно, была круглой отличницей, но по инерции – уж очень это было нетрудно. Сидишь на уроке, потихоньку делаешь под партой домашнее задание на завтра или читаешь, звенит звонок – и начинается жизнь! Двойная: одна – во дворе, другая – в музыкальной школе. Во дворе – шайка имени Тома Сойера (моя любимая книга, возьму ее с собой на необитаемый остров, вернее, обе – и «Тома Сойера» и «Гекльберри Финна», теперь уже согласна и по-английски), я – правая рука шефа, моя кличке Червонец (я же Десятова пока), других девчонок в шайке нет, только отпетые двоечники из нашего «В» класса. Мы лазаем по деревьям и по крышам трансформаторных будок (табличка на двери: «Не влезай – убьет!»), чертим карты местности, мастерим сигнализации, придумываем шифры и пароли и – ноблес оближ! – время от времени обливаем водой какую-нибудь отличницу, которая не дает списывать (я всегда даю, всегда и всем). Обольем – и тикать на великах! Я падаю, протыкаю чем-то ногу, бежевые колготки меняют цвет, свита испуганных мальчишек отводит меня в травмпункт, все восхищаются моим мужеством, а мне просто ни капельки не больно, но я не подаю виду.
ГОРАЛИК А что музыкальная школа?
ПАВЛОВА В музыкальной школе был класс композиции под руководством заслуженного деятеля искусств Марийской АССР (так его всегда объявляли на наших бесчисленных концертах), члена Союза композиторов Поля Мироновича Двойрина. Как мы обожали его, нашего Соль Минорыча! Как было весело болтать с ним обо всем на свете, придумывать невероятные проекты, острить без умолку (остроумие считалось в нашем кругу главной добродетелью)! И – сочинять музыку, которую, как я теперь вспоминаю, в основном сочинял за нас сам Поль. Но он умел так незаметно вставлять свои элегантные ноты в наши корявые партитуры, что мы искренне верили, что это наша музыка. Что это мы написали цикл хоровых пьес, квартет, сюиту для ударных инструментов, оперу «Бармалей». Наши опусы тотчас разучивались и исполнялись – хором, ансамблем скрипачей (гордостью нашей ДМШ № 27), струнным оркестром (на репетициях которого мы по очереди вставали за дирижерский пульт). На ударных мы играли сами. Три пьесы для ударных инструментов («Антилопа Гну», «Гибель Паниковского», «Рога и копыта») были гвоздем наших концертных программ (и были сочинены Полем от первой до последней ноты). Как было приятно кланяться! И громко переговариваться, стоя на сцене: «Ну что, девчонки, на бис сыграем?» – «Так они ж не хлопают!» Смущенная публика принимается хлопать, мы играем на бис. Нас слушают Хачатурян и Пахмутова. Мы ездим на гастроли, барабаны и бонги едва помещаются в купе. Семь лет счастья. Но настал черный день, когда мне позвонил маленький мальчик из нашего класса композиции и торжественно пропищал: «Я к Полю больше не пойду, он враг народа, он уезжает в Израиль». Первое большое горе в моей жизни. Изгнание из рая. Поль вскоре обнаружился в Америке. На письма он не отвечал.
ГОРАЛИК Подождите, подождите, но там же много еще чего происходило между восемью и пятнадцатью, кроме музыки?
ПАВЛОВА Ах да, я же рисовала! Я рисовала дистрофиков. Дистрофик – это такое существо с длинным носом и тонкими ручками и ножками (похожее существо я каждый день с ужасом рассматривала в зеркале). Дистрофики годились для всего: рисовать – и таким образом обезвреживать – учителей на уроках, портретировать персонажей книг, читаемых под партой, а также вести дневник в картинках, параллельный дневнику словесному, который был начат в двенадцать лет и сегодня насчитывает два десятка толстых тетрадей.
ГОРАЛИК Сейчас это называется «исповедальным комиксом».
ПАВЛОВА Совершенно верно. Я вообще очень много велосипедов изобрела в своей жизни, в том числе комикс. Я называла эти комиксы «дистрофильмами». Сюжетом для них служили блатные песни. Блатным песням меня научил мой дядя Боря, которого все называли – и до сих пор называют – Бобом. Боб – первое английское слово, которое я узнала (второе – Ферст: так звали собаку соседей). Амплуа Боба – необходимое для всякого счастливого детства – было «волшебник». Дроссельмайер, даритель щелкунчиков. Физик-атомщик (впоследствии героический чернобыльский ликвидатор), мастер спорта по шахматам (о, это вечное унижение: Боб нежится в ванне, под дверью на полу сидит взмыленный папа с шахматной доской, Боб играет вслепую, папа всегда проигрывает, всегда!), изобретатель перевертышей (из последних шедевров: «Вот немилая уходит, и до хуя алиментов»), смастеривший, услышав наши неуклюжие матюжки, для меня и своей дочки словарь матерных слов (школьная тетрадка, исписанная от корки до корки), неистощимый выдумщик (чего стоили ночные походы за грибами, с фонариками) и – да, вот и они – знаток блатных песен.
Рисовались и терапевтические дистрофильмы, героями которых были Вера Десятова и ее друзья. Например, «Ошибка резедента». Имелась в виду не эта, орфографическая, в названии, но гораздо более роковая ошибка: Вера Десятова (длинный нос, тонкие ручки-ножки) с подругой Наташей Котылевой отправляют письмо в Америку («Здравствуйте, дорогой Поль Миронович! Как там погодка на Миси-Писи?»), их арестовывают, они в тюрьме (там они встречают своих любимых учителей), их пытают (наиболее разработанный эпизод, на пол-альбома, пытают в основном Веру Десятову – Наташу Котылеву я слишком люблю), судят, приговаривают к казни, человек в маске снимает их с виселицы, уносит в самолет, снимает маску – да это же Поль Миронович! Самолет приземляется в Нью Йорке. Хэппи-энд.
В общем, искусство комикса процветало. Часто мы рисовали в соавторстве с Леной Рагиной, с Рагиндосиком моим бесценным, самой первой подругой в жизни (дружим с шести лет). Ленкин папа оценил наши таланты и пристроил нас в клуб карикатуристов «Литературной газеты». Но быстро об этом пожалел: там было много бородатых мужиков, а мы были очень хорошенькие и очень четырнадцатилетние. Пару раз всего и съездили. Так я не стала карикатуристом (хотя бородатые мужики очень меня к этому поощряли). Еще я не стала астрономом. Стать астрономом (и слетать в космос) было главной мечтой моего детства (в космос хочу до сих пор). Я знала о Вселенной все, исписывала толстые тетради названиями звезд и созвездий и расстояний до них в световых годах (без степеней, со всеми нолями, так мне больше нравилось). Меня отдали в кружок юного астронома при Московском планетарии. Там было так скучно! К тому же телескоп был на ремонте (сейчас-то у меня свой телескоп есть, на даче). Год проходила – и бросила.
ПАВЛОВА Где-то до конца третьего класса все мальчики были моими. Вся шайка имени Тома Сойера. Я не взяла на себя роль главы шайки, я подумала, что лучше будет уступить управление мужчинам, а самой потихоньку ими манипулировать.
ГОРАЛИК… И тут становится ясно, почему все мальчики всегда ваши.
ПАВЛОВА И они все по очереди признавались мне в любви. Иногда хором. Один раз пришли вдвоем, их обоих звали Андреями, и сказали в один голос: «Вера, мы с Андреем тебя любим». Я вскричала: «Подите прочь, бабники!» Не могла же я так распускать свою шайку.
ГОРАЛИК А вы были влюбчивым ребенком?
ПАВЛОВА Не то слово! Наверное, ни одного дня не было, чтобы я не была в кого-нибудь влюблена. Одного разлюбляла, в тот же день полюбляла другого. Но потом разразилось девичество, комплексы, гадкое утячество, уродливая одежда и обувь, вся эта дрянь. Я перестала себе нравиться. Однажды я три дня проходила в картонной маске свиньи. И по улице, и в школу. Не могла ходить в темпе шага – только бегала, не то убегая от кого-то, не то догоняя, при этом то и дело спотыкаясь и падая, особенно с лестниц. Стала социально опасна: воровала вывески и таблички и украшала ими свою комнату (табличка на двери моей комнаты: «Не влезай – убьет!»), однажды попалась при попытке украсть номер дома, еле ноги унесла. Вырезала из «Правды» фотографии Брежнева и приклеивала в особую тетрадку, смутно чувствуя концептуалистскую абсурдность этой коллекции (впрочем, песенник, украшенный вырезанными из журнала «Меховая мода» красотками в норковых шубах, тоже был, что греха таить). И все это потому, что была влюблена и не знала, что с этим делать. И вообще – что делать с этой дурацкой жизнью. А Поль – знал. Мы как-то сидели у него, и он ни с того ни с сего говорит: «Ты, Наташа, единственная из всех будешь музыкантом. (Стала, и превосходным.) Ты, Лена, везде будешь хороша. А Вера будет писать книги». Все очень удивились – я на тот момент не написала еще ни одного стишка. Однако моим родителям Поль сказал другое: «Вере надо продолжать музыкальное образование». Надо так надо: поступила в музыкальное училище им. Октябрьской революции (теперь – им. Шнитке), на теоретическое отделение. На теоретическом отделении люди оказываются потому, что не могут поступить на фортепианное. А я не могла поступить на фортепианное, потому что Иринсанна номер два плохо поставила мне руку. В училище было весело. Я была заводилой, у меня ни один сокурсник не остался без дела. На первом курсе мы написали роман, пародию на детектив, «Теоретик идет по следу», над всеми потешились – и над народниками, и над духовиками (особенно над тем народником, в которого была влюблена я, и над тем духовиком, который был влюблен в меня). На втором курсе мы написали оперу. На третьем – сняли фильм по мотивам все тех же блатных песен, куда без них. А на четвертом курсе я вышла замуж, идиотка.
ГОРАЛИК Училище – это вам лет пятнадцать-семнадцать. Что еще в этот период было важно?
ПАВЛОВА Поиски Учителя. Поль Миронович-то уехал, мы попрощались с ним навсегда, это произошло почему-то у входа в зоопарк, шел дождь со снегом, Поль взял меня двумя руками за капюшон и больно прижался к моим губам своими, крепко сжатыми. Первый поцелуй в моей жизни. Оттолкнул, заплакал и убежал.
А потом, на первом курсе училища, возник Владимир Викторович Кирюшин. Его просто невозможно было не мифологизировать! Учитель по сольфеджио. Педагог-новатор. Автор системы, с неизбежностью вырабатывающей у кого угодно абсолютный слух. На уроках он орал на нас как резаный: «Тебе только трамваи водить, бездарность!» Год орал, мы его обожали, у всех прорезался абсолютный слух, а на втором курсе его уже не было: посадили. Нам говорили, что он сел по политической статье, и в это легко было поверить: он на уроках черт знает что нес без всякой осторожности. Это потом я узнала, что статья называлась «педофилия». Мальчики. Бедный В.В.! И вот однажды он мне позвонил – из тюрьмы! Звонил по делу: велел написать сказку из жизни септаккордов (видимо, тоже проинтуичил, что «Вера будет писать книги». Или я показывала ему «Теоретик идет по следу»? – не помню). Такова была его методика работы с маленькими детьми: теория музыки, проникающая в детский мозг контрабандой сказки. И я написала. Это было мое первое (и на сегодняшний день единственное) прозаическое сочинение в жанре fiction, довольно вдохновенное. Рукопись не сохранилась, сказка была опубликована под его фамилией, как и, несколько лет спустя, мои стихотворные переложения его сказок, двадцать тысяч рифмованных строк. Рубль за строчку (мой первый литературный заработок).
Кирюшин не всегда звонил из тюрьмы. Иногда он звонил из Кремля. «Вера, я в Кремле. Мы тут беседуем с NN. И он говорит: какое там сольфеджио – у нас даже гимн до сих пор без слов. А я ему – у меня есть ученица талантливая, она напишет. Напишете? Ну что вам стоит!»
Не написала – мотив не смогла вспомнить. Тогда гимном была «Патриотическая песня» Глинки, ее мотив никто не помнил, я у многих спрашивала. Лет десять назад из статьи «Смерть педофила» я узнала, что Кирюшина убили. Позвонили в дверь, он открыл, всего истыкали ножом, ничего не взяли.ГОРАЛИК А кроме учебы происходило что?
ПАВЛОВА Концерты – почти каждый день. На которые не всегда было легко попасть. Помню попытки залезть на крышу консерватории (подняли по пожарной лестнице лестницу строительную, приставили к стене– а она не достает до крыши метров пять!) и взорвать служебный вход Зала Чайковского (бомбочка из серы и нитроглицерина пукнула, испустила тонкую струйку дыма и потухла). Сколько вечеров проведено на ступеньках амфитеатра Большого зала консерватории с партитурой в руках! И – в подвале Дома композиторов, где можно было заказывать прослушивания современной западной музыки – Кейджа, Штокхаузена, Булеза, Ксенакиса, Ноно – и чувствовать себя участниками политического заговора. И – в кинотеатрах на окраине Москвы, на полутайных показах фильмов Тарковского и Абуладзе. А тут еще и книги – перепечатанные или ксерокопированные, – которые давались на одну ночь! (Лекция по истории КПСС, слепая машинопись на коленях у подруги: «Что читаешь?» – «А, порнуха какая-то!» Заглядываю – «Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел…». «Дура, это же гениально!» – еду к ней, остаюсь на ночь, дочитываю роман до конца, открываю Набокова на год-другой раньше, чем вся остальная Россия.) В общем, скучать было некогда.
ГОРАЛИК А что за история про «вышла замуж, идиотка»? Откуда взялся этот человек?
ПАВЛОВА Училище, фортепианное отделение. Все остальные существа мужского пола были робкими сутулыми очкариками. Теоретики, одно слово. А он был пианист, к тому же джазовый (в нашем училище было эстрадное отделение).
ГОРАЛИК И что, вы хотели замуж?
ПАВЛОВА Нееет, я не хотела замуж! Я чуть не убежала из ЗАГСа. Но мое пуританское воспитание говорило мне (за кадром – хор чертей из «Фауста» Гуно): ты падшая женщина, ты опозорена навсегда, только замужество может покрыть твой грех! Вот и покрыла. И ведь даже беременной не была!
ГОРАЛИК Порядошная была!
ПАВЛОВА И осталась, что самое смешное.
ГОРАЛИК Как была устроена ваша замужняя жизнь?
ПАВЛОВА Мне восемнадцать, ему двадцать один, мы живем у моих родителей, он с ними не ладит, я ношу ему яичницу в нашу комнату, он ест ее, запершись на щеколду. Мы зарабатываем тем, что поем на клиросе (его мать – регент). Он вожделеет ко всему, что движется (за полтора года нашего брака, знакомясь на улице с девушками, трижды нарвался на моих одноклассниц. Совсем недавно: «Девушка, как вас зовут?» – попытался познакомиться с красивой молодой брюнеткой. И услышал в ответ: «Андрей, ты меня не узнал? Я твоя дочь, Наташа»). Появилась Наташа. А через две недели я попала в больницу, и он меня бросил. Пришел в больницу – у меня назавтра операция, температура 40,5 – и говорит: «Мы с тобой не сошлись характерами. Можно, я заберу самовар, который нам подарили на свадьбу?» И уехал отдыхать на море. В больнице я провела два месяца. Месяц с Наташкой была мама (взяла отпуск), месяц – папа (взял отпуск). Самовара я лишилась. И рояля. И всех пластинок. И иллюзий. Тут-то я и начала писать стихи. В двадцать лет. С открытой раной на левой груди: зашить-то зашили, но нитки были гнилые, разошлись. Так и пошла на второй курс института – с открытой раной. Бабушка настояла: «Никаких академических отпусков, Наташу я беру на себя».
ГОРАЛИК Это какой институт?
ПАВЛОВА Гнесинский. Историко-теоретико-композиторское отделение. Весь первый курс я была все более и более беременной. Это было так классно! Весь институт сбегался меня ловить, когда я на девятом месяце съезжала по перилам. А я думала: чего вы боитесь, дураки, вы что, не видите, что у меня крылья за спиной? А как после родов летала!.. Большего счастья не знаю. И вдруг «Можно я заберу самовар?» Пришлось писать стихи.
ГОРАЛИК Какими они были, эти первые стихи?
ПАВЛОВА Очень сентиментальными, очень плаксивыми, очень поэтичными и отвратительно красивыми. Я их писала цветными ручечками, каллиграфически, в дневник и все время про себя повторяла, как заклинание, катая коляску, неся Наташку к кормилице, сидя на лекциях, плача в подушку. Моя подушка год-полтора ни одной ночи не была сухой. А стихи были такие: «Как ты мог, я же так тебя люблю, почему ты так поступил?» Я ведь человек монорельсовой логики. Для меня жизненно важно свести концы с концами. Чтобы очки были в «очковне», а часы – в «часовне». А тут ничего ни с чем не сходилось. Я была на пороге безумия. Но стихи удержали. Зарифмуешь – и вроде что-то сходится, хоть что-то.
ГОРАЛИК Какая Наташа была?
ПАВЛОВА Очень яркая, с первых месяцев. Она запела раньше, чем заговорила, и начала танцевать раньше, чем пошла. Не забыть эти танцы в описанных спущенных колготках! Однажды – Натке было года полтора – баба Роза уложила ее спать днем. Натка проснулась, обкакалась и какашками на стене нарисовала узор. У бабушки тогда гостила ее сестра, она увидела Наткино художество и раскричалась: «Роза, накажи ее, побей ее!» А Розочка прищурилась и говорит: «Нет, я не буду ее бить, у нее получилось очень красиво!»
ГОРАЛИК Что с учебой в тот момент происходило?
ПАВЛОВА В институте Гнесиных было у кого поучиться. С одной стороны, там преподавали реликтовые персонажи, вроде той старушечки, что читала нам русскую музыку XVIII века и знание музыкального материала проверяла, тыкая наобум в единственную библиотечную хрестоматию и поражаясь, как хорошо мы знаем оперу Дубянского «Несчастье от кареты», потому что не замечала сослепу, что в уголке страницы нарисованы крошечные желудь и колесо. С другой стороны – незаурядные личности. Я дорвалась до Учителей!
Анализ музыкальных форм: Ростислав Николаевич Берберов. Гений. Гаспаров от музыковедения. Он написал великую книгу – вроде бы о советском симфонисте Германе Галынине, но на самом деле – о музыке как отрасли метафизики. После его лекций и индивидуальных уроков время для меня стало течь по музыкальным законам.
Эстетика и философия: Георгий Иванович Куницын. Титан. Вся Москва на его лекции ходила с тяжеленными магнитофонами. Огромный, громогласный – Зевс! Написал книгу «Общечеловеческое в литературе». Работал консультантом ЦК КПСС по внеземным цивилизациям. Видимо, был в этом вопросе специалистом (или сам был инопланетянином, что я тоже допускаю), и дыры в диалектическом материализме ему помогали латать маленькие зелененькие человечки. Меня признал за свою: поставил мне пятерки с огромными плюсами за оба курса. На всю страницу зачетки маханул! Мне одной. Весь поток меня невзлюбил, потому что каждому сдавшему Куницын говорил: «Вам далеко до Шацкой» (я все еще носила тогда фамилию любителя самоваров).
История и теория литературы: Рудольф Валентинович Дуганов. Такой красивый, такой породистый – нос, усы, – настоящий белогвардейский офицер. Развалится на казенном институтском стуле, как в кресле у камина, закурит трубочку, блеснет глазами: «Наша тема сегодня – Чехов и конец русского реализма». Главный исследователь Хлебникова в России, он похоронен на Новодевичьем, в одной оградке с Председателем земного шара. О счастье! – я становлюсь его любимой ученицей. Я отдаю ему на суд свою дипломную работу и с трепетом жду отзыва. Он возвращает мне машинопись, не говоря ни слова. Открываю, листаю – и вижу, что он исправил все опечатки, сделанные машинисткой, – на всех 140 страницах! Уже после его смерти я купила его книгу «Велимир Хлебников: Природа творчества». В ней было очень много опечаток. Я исправила их все.
История музыки и руководитель диплома: Ирина Александровна Гивенталь. Автор лучшего учебника по истории зарубежной музыки на русском языке. На полях моей работы писала: «Боже, храни Веру».
Их уже нет никого. Все мои учителя умерли. Но я до конца жизни буду стараться заслужить их похвалу.ГОРАЛИК Как вы представляли себе в институте свои будущие занятия?
ПАВЛОВА Продолжать дело Берберова, сделать наконец музыковедение наукой. Я написала довольно сильный диплом «Поздние вокальные циклы Шостаковича. К проблеме взаимоотношений поэзии и музыки». Моя защита превратилась в битву молодых педагогов с реликтовыми. Одни говорили: «Если нас волнует будущее музыковедения, мы должны поддержать Шацкую!» А другие кипятились: «Почему этот диплом защищается у нас, а не на филфаке МГУ?» Победили консерваторы – в аспирантуру меня с особым цинизмом провалили. Так я не стала музыковедом, а музыковедение в России – наукой.
ГОРАЛИК А что с текстами тогда происходило?
ПАВЛОВА Первые стихи были написаны в роддоме, от счастья. Вторые – в больнице, с горя. А потом пошли третьи-четвертые, от разнообразных сочетаний этих двух причин. Мое стихоплетство не укрылось от наблюдательного Боба. У меня есть двоюродная тетя, Лорина Никольская (псевдоним – Дымова), гордость дедушкиного рода, поэтесса. Даже в «Дне поэзии» печаталась! Боб повез меня к ней. Я не видела ее ни до этого, ни после (сейчас она живет в Израиле). Тетя прочла мои стишочки («Как ты мог, я же тебя так люблю!»), благословила меня по полной программе и позвонила Евгению Винокурову. Тот сказал: «К Волгину, в „Луч!“» Так я оказалась у Волгина. На первом для меня заседании лито Волгина при МГУ обсуждали стихи Инны Кабыш. Все на Инну очень нападали, Волгин ее как мог защищал, а в самом конце экзекуции, опоздав на два часа, вошел поддатый красавец и представился: «Виль Нерастраченный». Это был бывший муж Инны Кабыш, будущий бывший муж Веры Павловой Миша Павлов. Я тоже не осталась незамеченной – в лифте незнакомец сказал мне: «У вас глаза красивые, как у меня». (А какие красивые глаза получились у родившейся через пару лет Лизы Павловой! Прохожие, праздно заглянув в коляску, отшатывались, встретившись с этими огромными, на три четверти лица, глазами. «Не надо было так плотно пеленать», – иронизирует над материнским тщеславием моя глазастая красавица.) В тот день у него был повод поддать: он прочел свое имя в списке поступивших на вечернее отделение филфака МГУ. С этого дня лет пять я писала только от счастья. Павлов решительно входил в аудиторию Гнесинки, брал меня на руки и уносил с лекции. Он нанялся дворником, и мы поселились в студенческой дворницкой коммуналке на Суворовском бульваре, рядом с Музеем восточных культур. Он сделал своими руками альков с балдахином, со сед-художник нарисовал на кирпичной стене камин. Окно выходило на широкий карниз под самой крышей, на котором я по ночам танцевала нагишом. Гостей было гораздо больше, чем посуды, и если они не заставали дома хозяев, это не омрачало их веселья (у ключа был приличный тираж). Вот только снег заваливал зимние сессии. Павловским участком был Калашный переулок. Наутро после свадьбы я вышла – единственный раз в жизни – помочь ему на утреннюю уборку: Калашный переулок был усыпан листками разорванной в клочки книги «Молодым супругам». Расхохотались. Вымели.
ГОРАЛИК Что с вашей музыкой происходило в это время?
ПАВЛОВА Ее было полным-полно: во-первых, я аккомпанировала пьяным гостям: на Суворовском было пианино. (История моих женитьб-разводов может быть описана как история переездов моего пианино. На Суворовский пианино переехало в машине «скорой помощи», из которой на московские улицы вырывались звуки Собачьего вальса – ничего другого наши друзья-филологи играть не умели.) Во-вторых, я писала музыковедческие эссе для журнала «Музыкальная жизнь». Это были стихи в прозе. Я как-то потеряла рукопись одного из них – и воспроизвела ее по памяти слово в слово. (Этот подвиг я повторю через несколько лет, когда Кузьминский потеряет единственную рукопись моей, им сложенной первой книги стихов и я полностью восстановлю ее по памяти по сохранившемуся списку первых строчек.) В-третьих, я пела на клиросе. Десять лет пела. Регентов ал мой первый муж. Альтом пела его вторая жена, потом сопрановую группу пополнила третья. Мы очень хорошо пели! Кстати, пение на клиросе чуть не стоило мне института: кто-то настучал, за меня вступилась секретарь институтской парторганизации, еле отстояла. И, в-четвертых, я работала в Доме-музее Шаляпина экскурсоводом. Это моя единственная служба за всю жизнь. Я проработала там шесть месяцев, все более и более беременная. Потом я родила Лизу ровнехонько в день рождения Шаляпина и ушла в декрет, из которого не вернулась до сих пор. На родах – одним из первых в России – присутствовал отец. Для этого ему пришлось прикинуться журналистом газеты «Семья» и долго искать готовый на такую экстравагантность роддом. Так что роды у меня принимали три врача (для сравнения: Наташку я чуть не родила в коридоре роддома, потому что медсестра поленилась проводить меня в родильное отделение). Я расстаралась – у Павлова все руки потом были в синяках. Мне было не особенно больно, но не хотелось его разочаровывать. В родильном отделении было окно во всю стену. Лиза родилась ровно в полночь. Павлов в последнюю минуту отвел глаза и увидел ее появление на свет, отраженное в ночном звездном небе. По его словам, это напоминало известную почтовую марку, изображающую выход Леонова в открытый космос. В ту ночь я получила от него записку: «У, ты, небесное животное!» Так появилось название моей первой книги. Первой настоящей. Потому что до нее были игрушечные, машинописные. Напечатанные одним пальцем, пальцем Миши Павлова. Они назывались «Спартак – чемпион», «Отставка Бескова», «Кубок кубков». Ибо мы были спартаковскими фанатами. Не пропустили ни одного матча, сыгранного «Спартаком» в Москве, вопили на трибунах в любую погоду, Наташку с собой таскали. Но мы не только на футбол ходили, мы еще ходили в лито. Волгина мы оставили Инне Кабыш, а сами стали ходить к Виктору Ковде, в ДК «Медик». Павлов тоже писал стихи, так что меня дразнили Ахматовой, а его – Гумилевым. Мы соответствовали, как могли. На очередное заседание пришел редактор «Юности», все читали по кругу, он попросил меня принести стихи в его журнал. Я не стала его огорчать – принесла. (С тех пор это стало моим правилом: давать стихи для публикации, только если попросят, но уж если просят, то давать без раздумий). Стишки вышли. И вот еду я в трамвае и вижу: сидит человек и читает «Юность». Подхожу поближе – мои стихи! «Вот это, началось!» – сказала я себе. С тех пор людей, читающих меня в общественном транспорте, я не видела. Ни разу в жизни.
ГОРАЛИК К этому моменту Наташа уже, наверное, в школу пошла? Как это было?
ПАВЛОВА Наташа и школа – две вещи несовместные. В конце сентября Наташа заперлась в туалете и сказала: «Убейте меня, я в школу не пойду». Мы тогда не знали, что учительница имела привычку бить своих подопечных линейкой. Но история со звездочкой задела нас всех. Наташа потеряла октябрятскую звездочку. «Без звездочки не приходи», – сказала учительница. Мы – по магазинам: звездочек нигде нет. Тогда дедушка Федя, член партии с 1924 года («Раньше, чем Брежнев!» – любил повторять он), вырезал Наташе звездочку из медной пластины, Наташа надела ее и гордая пришла в школу: «Это мне прадедушка сделал, ветеран войны!» А учительница: «Что это ты нацепила, сними эту дрянь сейчас же!» Наташа опять заперлась в туалете: «Убейте меня!» А во второй класс приходит – и слышит: «Октябрятство отменили». Дети заволновались: «Как же нам теперь быть – носить звездочки или не носить?» Учительница: «Как хотите». Дети: «Будем носить, будем носить!» И носили. Что же касается Наташи, то она целый год носила звездочку в кармане фартука – на всякий случай. К счастью, кроме школы у нее были музыкалка и МТЮА (Музыкальный театр юного актера), в котором она блистала с девяти лет. Наташа стала певицей. Если есть в моей жизни счастье, то это слушать, как Наташа поет. В прошлом году, оканчивая консерваторию, она пела в Большом зале консерватории «Травиату», с оркестром, три акта. Это было четырнадцатого мая, а пятнадцатого мая Большой зал закрылся на ремонт. У Наташи у последней был шанс обрушить балкон. И она его почти обрушила: зал был набит битком, успех был огромный! Что я пережила, словами не передать. Такое же счастье, какое я испытала, когда ее родила. Моя дочь заново родилась для меня. Точнее, я поняла, что родила диву. Плакали все: публика, члены экзаменационной комиссии, старушки, продающие программки. Мне казалось, что даже оркестранты готовы заплакать. Такой голос, такая органичность, такая нежная красота!
ГОРАЛИК А Лиза – кем стала Лиза?
ПАВЛОВА Лиза окончила психфак МГУ. Когда поступила, всех заверяла: «Потерпите пять лет, я вас всех вылечу». Очень честный, разумный, красивый, добрый человечек. Спасибо Школе самоопределения незабвенного Александра Наумовича Тубельского.
ГОРАЛИК Как складывалась ваша семейная жизнь?
ПАВЛОВА В 92-м году я рассталась с Мишей Павловым по причинам, не стоящим упоминания, и вышла замуж за Мишу Поздняева. Общие друзья показали ему мои стихи, потому что, в отличие от первого М.П., поэта-любителя, он был профессиональным поэтом и литератором. Мы познакомились. Миша был моим ангелом-хранителем все десять лет нашей с ним жизни. Хороший поэт, очень хороший человек, очень-очень. Глубоко верующий. Служил иподьяконом и звонарем («Сегодня я звонил в твою честь»), был избит за свои смелые статьи на церковные темы. Поразил моих дочек необычным поведением (Лиза, трехлетняя: «Ой, простите, Михаил Константиновичу забыла жевачку перекрестить!»). Дивно пел и рисовал. Первые пять лет мы снимали домик в поселке Внуково Московской области. Там у нас появились чудесные друзья. Самыми близкими были Сережа Коковкин и Аня Родионова, в их доме собирались все-все-все. Лиза выросла на коленях у Окуджавы и Искандера, в четырехлетием возрасте пела дуэтом с Таней Куинджи под аккомпанемент Бориса Петрушанского, ей аплодировали Ахеджакова и Филиппенко. А поскольку я не работала (не считать же работой сочинение коротких стишков, пусть даже и по три штуки в день!), то у меня было достаточно времени, чтобы заниматься музыкой со всеми окрестными детьми. Мы ставили спектакли («Каменный гость», «Вишневый сад»), исполняли оперы («Волшебная флейта», «Аида», «Пиковая дама»), устраивали музыкальные вечера (Шуберт, Шуман, Перселл, Рахманинов), во всем этом участвовали и дети, и взрослые, всем находилась роль, а кто не пел, тот костюмы шил, декорации клеил, пек пирог для afterparty. Это было какое-то антикварное, усадебно-дворянское, невероятное счастье. И тогда же, в 92-м году, позвонил Кирюшин, не помню, из тюрьмы или из Кремля, и сказал: «Я тут беру новую группу четырехлетних детей и думаю, что им не помешают занятия литературой. Возьмешься?» Так начался «Зодиак»: двенадцать лет счастья, двенадцать детей, ставших мне родными, не говоря уж об их родителях. Об этом я когда-нибудь напишу, об этом нельзя в двух словах. К тому же мне жжет карман мое богатство – двенадцать полностью записавших себя детств: они ведь у меня все время писали, обо всем, прозой и стихами. Сначала даже не писали – диктовали мамам, «графомамам», как я их дразнила. Двенадцать лет «Зодиак» был позвоночником моей жизни.
ГОРАЛИК Кто были эти дети, откуда они приходили, как это все работало?
ПАВЛОВА Это был дворовый клуб. Родители приводили детей (большинство жили поблизости), мы занимались два часа, первый час литературой, второй – музыкой: мы пели хором, все, и дети, и родители, и слушали музыку. А на литературе мы читали, анализировали, сочиняли, разбирали сочиненное – и делали это без всяких скидок на возраст. У моих бедных детей, когда они пришли поступать в школу, были проблемы, потому что они, прочитав наизусть Мандельштама или Хлебникова, на просьбу прочитать «что-нибудь из Барто» отвечали вопросом: «А кто это?» Забавно, что среди двенадцати детей были две пары близнецов, мальчиков. Я долго не могла научиться различить их по виду – и могла узнать каждого из них по первой же строчке сочинения. Я не преминула воспользоваться такой редкой возможностью, когда мы ставили «Каменного гостя» Пушкина (полный текст) в соединении с музыкальными номерами из «Дон Жуана» Моцарта. У Пушкина две развернутые роли, где нужно много слов выучить, – Лепорелло и Дон Гуан. Так мы что сделали: в первом акте Дон Гуан был из одной пары близнецов, Лепорелло – из другой, в четвертом акте происходила незаметная для публики (но не для мам, конечно) двойная замена.
ГОРАЛИК Хочется вернуться назад и поговорить про ваши книги в этот период.
ПАВЛОВА Первая книга вышла в 97-м и называлась «Небесное животное». Родственники собрались и сказали: «А давайте Веркину книжку напечатаем». Боб дал денег, Сережа, мой младший брат, дал денег. (Сергей Десятов, основатель и руководитель галереи ArtPlay, горжусь им изо всех сил.) Сами сделали дизайн, сами забрали из типографии, сами разносили пачки по маленьким книжным магазинам. Но книжечка как-то умудрилась разлететься по всей стране, по всему свету. Ни одна из моих семнадцати теперь уже книжек не может похвастаться таким количеством рецензий, как эта. Однако меня это не пробрало, я не сказала себе: «Я поэт, зовусь я Цветик» и продолжала относиться к поэзии как к дилетантству-рукоделию-вышиванию крестиком, пока на какой-то тусовке не встретила Геннадия Федоровича Комарова, основателя легендарного издательства «Пушкинский фонд». Гек сказал: «Вера, давайте издадим вашу книжку». Я собрала тексты. И в тот день, когда я везла ему эти тексты, в трамвае, я вдруг не поняла – почувствовала, ощутила где-то в области солнечного сплетения: «Я поэт». И мне стало очень грустно. Какой там Цветик! Я – раб лампы, я обречена, все это веселье, вся эта игра, весь этот карнавал – все это в прошлом. Впрочем, впоследствии все оказалось не совсем так: гораздо веселее и гораздо страшнее.
ГОРАЛИК А следующая книжка?
ПАВЛОВА Она вышла в 98-м и называлась «Второй язык». Про нее есть анекдот, который я всегда рассказываю. Перед тем как сесть в тот приснопамятный трамвай, я перечитывала рукопись, подошел Миша Поздняев, ткнул пальцем в страницу: «Вот эта строчка слабая. Я бы сделал так». И я, первый и последний раз в жизни, проявила слабость, сделала правку, распечатала новый вариант, вручила его проводнику поезда Москва-Петербург. А через день звонит Комаров: «Вера, все замечательно, только одна строчка какая-то не ваша». И называет эту самую строчку, одну из тысячи. Принцесса на горошине отдыхает. Вот такой он, Геннадий Федорович Комаров.
ГОРАЛИК А что дальше?
ПАВЛОВА Дальше – я же раб лампы! – оставалось просто сидеть и писать, все остальное происходило само собой. Появляется Захаров, говорит: «Давайте мне тексты». Даю. Комаров обижается: «А мне?» Делю рукопись пополам: «Линия отрыва» – Комарову, «Четвертый сон» – Захарову. Комаров приезжает в Москву с версткой, мы с ним заходим к Захарову, я еду домой с версткой двух книг в одной сумке.
ГОРАЛИК Где-то в это время разошлись с Мишей?
ПАВЛОВА В 2001 году. Я встретила Стива. Любовь – всегда катастрофа. Это была очень большая катастрофа.
ГОРАЛИК Как вы встретились?
ПАВЛОВА Стив – великий переводчик. Великий, потому что решил для себя раз и навсегда: раз я перевожу на русский язык, я должен читать все, что на русском языке пишется, чтобы идти с этим языком в ногу. Он и правда читал все. И все помнит. Все! Прочитанное, увиденное (объездил весь мир), пережитое, несколько языков… Всякий, пообщавшись со Стивом час-другой, восклицает: «Стив, вы просто обязаны написать книгу!» И, попев с ним час-другой русские песни, отказывается считать его американцем. «За Стива – настоящего русского интеллигента», – поднимает бокал наш дорогой друг Алексей Алехин. «Стив, да какой ты американец – ты нормальный вологодский мужик», – чокается с любимым зятем папа (наконец-то я угодила отцу: вышла замуж за рыбака). Раз в неделю Стив совершал рейды в книжные магазины и скупал все новинки. Так попали ему в руки мои книжечки. Вау! – сказал себе он и позвонил в культурный отдел (Стив-то у нас не только вологодский мужик и русский интеллигент, но и в то время первый секретарь посольства США в Москве, личный переводчик посла): «Найдите Веру Павлову и пригласите на прием». И приехала под окно моей хрущевки белая машина, и вышел из нее курьер, и вручил он мне приглашение в Спаса-хаус с золотым орлом тисненым. Я, может, и пошла бы, да только в этот день мне премию Аполлона Григорьева вручали. Стив об этом не знал, он ничего про меня не знал, кроме моих стихов (которые знал наизусть). И поэтому на том приеме подходил ко всем женщинам: «Вы не Вера Павлова?» Кое-кто обижался: «Да как вы смеете!» А на следующий день вышли газеты с моими фотографиями. Стиву еще больше захотелось пригласить меня на прием. Белая машина, курьер, золотой орел. На этот раз я пошла. Стив встретил меня на лестнице. Представился. Я не расслышала имени. И когда он на другой день позвонил, переспросила: «Кто-кто?» Довольно скоро стало ясно кто: мужчина всей моей жизни. Впервые я встретила мужчину, который во всем меня превосходил: был умней меня, добрей меня, остроумней меня, опытней меня… Я пропала. Я родилась заново.
А через полгода у Стива закончился срок, и он улетел в Америку. В аэропорту мы поклялись друг другу в вечной любви. В один из последних дней Стив купил мне три огромные плитки швейцарского шоколада. Я сказала себе: буду есть по одной дольке в день и, когда съем все, увижу Стива. Шоколад был съеден за три месяца. Через три месяца мы встретились на карибском острове Сент-Люсия, безвизовом для россиян. Я впервые в жизни пересекла океан. А когда вернулась, сказала Мише, что больше не могу быть его женой. Уже десять лет мы живем со Стивом, вознаграждая себя за частые разлуки в первые годы тем, что теперь не разлучаемся ни на минуту, благо оба безработные. Слоняемся по всему миру за ручку. «Ваш ключ, мистер Павлова», – говорят Стиву гостиничные портье, когда мы приезжаем на очередной поэтический фестиваль. «Хэлоу, миссис Сеймур», – говорят мне швейцары, когда мы возвращаемся. Понимаем друг друга с полуслова. Видим одинаковые сны. Читаем вслух, слушаем музыку. Я то и дело ною: «Давай поженимся!», хотя мы официально женаты уже пять лет. Мы поженились двадцать восьмого сентября 2006 года в ЗАГСе на Бутырской улице, с видом на тюрьму (только там можно выйти замуж за иностранца) и отправились из ЗАГСа в Сережину галерею ArtPlay, где уже собрались наши друзья, человек восемьдесят, приглашенные на презентацию моей рукописной книжки «Письма в соседнюю комнату, 1001 объяснение в любви» (с номера четыреста сорок это объяснения в любви Стиву, и только Стиву). Книжку привезли в галерею прямо из типографии, я впервые ее увидела в тот день. Она вся написана от руки, даже выходные данные. Я два месяца выводила стишки парадным почерком, художники в издательстве ACT шесть месяцев сканировали мои листочки и рисунки четырехлетней Лизы – у нее в этом возрасте был период графической гениальности. На форзаце – имена дорогих мне людей, выписанные из дневников (там можно найти всех, о ком я успела рассказать, – всех до одного). Список мне очень пригодился, когда я приглашала гостей на свадьбу-презентацию.
И вот гости собрались, слоняются по галерее, пьют, болтают, вдруг – фортиссимо – «Свадебный марш» Мендельсона, под звуки которого мы со Стивом выходим из укрытия: я в розовом платье, он в смокинге, все в шоке. И такое началось веселье! Но сначала я всем подарила книжку. Подарила не без пафоса: Наташа моя пела «Письмо Татьяны», а я эту Татьяну изображала – сидела за столиком и писала. На книжках. Бросала взгляд в зал, выхватывала еще одно дорогое лицо и писала на книжке: «Люблю Володю с Ирой», «Люблю Аньку с Сережей», «Люблю Юльку», «Люблю Наташку». Сцена письма длинная, я успела подписать книги всем. И раздать. Володя Сорокин спел «Эпиталаму» Рубинштейна, и начались танцы до упаду. Все смешалось: Лиза вальсировала с Приговым, я пела дуэтом с Петрушевской, а Лизина учительница литературы Ольга Сергеевна Шавард с изумлением наблюдала, что вытворяют персонажи ее лекций. Настало время танца с отцом. Ираида Юсупова (великий композитор, я с гордостью ношу звание ее придворного либреттиста) заиграла на синтезаторе папино любимое «Утро туманное», папа обнял меня, мы сделали несколько неуклюжих па, и папа со словами «Да не умею я танцевать!» подхватил меня на руки и пять минут кружил – семидесятилетний богатырь.
ГОРАЛИК А что было самое важное за последние пять лет?
ПАВЛОВА Каждый день что-нибудь важное происходит, но это еще не биография, это пока дневник. Наверное, самое важное – встречи, хорошие люди. Нам так везет на хороших людей, у нас такие друзья появились! Не только в России. Некоторые европейские страны нами переименованы: Францию зовут Боря Лившиц, Италию – Людмила Шаповалова, Швейцарию – Галя Бови, Германию – Катя Медведева, Англию – Валентина Полухина. В Америке у нас много любимых, но и у Америки есть имя: ее зовут Елена Демиковская.
ГОРАЛИК Как Америка приняла ваши стихи?
ПАВЛОВА Похвастаться, что ли, как мы со Стивом покорили Америку?
ГОРАЛИК Обязательно.
ПАВЛОВА Охотно. Во-первых, мои стихи в Стивиных переводах вышли в The New Yorker: четыре стихотворения на одном развороте. Я очень гордилась и всем говорила: «Я жена переводчика The New Yorker!» После этого нам написали из МТА (управления метрополитеном) и попросили один стишок из нью-йоркской подборки для плакатика. Три месяца этот стишок катался в семи тысячах вагонов, его весь Нью-Йорк выучил наизусть, он запоминающийся: «Если есть чего желать, значит, будет о чем жалеть…», из ранних, кто бы мог подумать, что его ждет такая судьба. Так что издательство Knopf, предложившее нам выпустить книжку переводов, целиком поместило этот стишок на суперобложку. Книжка так и называется: «If There Is Something To Desire», и по результатам 2010 года она попала в десятку поэтических бестселлеров Америки, оказавшись единственной переводной книжкой в этой десятке. Я сейчас хвастаюсь Стивеном, я тут совершенно ни при чем! Что поразительно: люди, читающие эту книжку, даже не отдают себе отчета, что это перевод: пишут пародии, сочиняют песни, просят разрешения взять стишок в учебник для адвокатов, в пособие для молодых родителей, в качестве эпиграфа к роману, подписи к фотографии. Запросы приходят из Швеции, из Австралии, бог весть откуда. Вот что делает язык международного общения. Вот что Стив натворил.
ГОРАЛИК Чего сейчас хочется?
ПАВЛОВА Внуков. Оседлой жизни. Собаку. Чтобы родители не болели. Чтобы дочкам нашлось применение, достойное их совершенств. Чтобы ни нам, ни им не пришлось увидеть своими глазами гибель прекраснейшей из планет, глупейшей из цивилизаций.
...
Осень 2011 года
Наталья Горбаневская
...
Горбаневская Наталья Евгеньевна (р. 1936, Москва). Окончила Ленинградский университет по специальности «технический редактор и переводчик». Была инициатором, автором, редактором и машинисткой первого выпуска самиздатовского бюллетеня «Хроника текущих событий». Участница демонстрации 25 августа 1968 года против введения советских войск в Чехословакию. Подвергалась ряду арестов. Эмигрировала в Париже 1975 году. Работала в редакции журнала « Континент», была внештатным сотрудником радио «Свобода», с начала 1980-х и до 2003 года работала в газете «Русская мысль». С 1999 года состоит в редакции и редколлегии русскоязычного варшавского журнала «Новая Польша». Doctor honoris causa Люблинского университета имени Марии Кюри-Склодовской. Переводила с польского, чешского, словацкого и французского. Лауреат премии парижского журнала «Культура», польского Пен-клуба, Angelus Central European Literature Award (2008), «Русской премии» (2011).
...
Необходимое вступление. Дорогая Линор! Читаю запись мною наговоренного и удивляюсь: что за жалкий лепет. Конечно, никакая не «автобиография» – одни клочки. Спотыкаюсь, отступаю назад, и вперед, и в стороны, сама часто не могу понять что к чему – а бедный читатель разберется? Кое-где попробовала исправить положение добавкой дат, чтобы было хотя бы ясно, что в одном потоке слов речь идет не об одновременных событиях. Там, где я что-то, на мой взгляд, существенное пропустила, вставляю, но очень немного. И хотя бы разбавляю весь этот поток абзацами.
И насчет «каким хочет предстать». Я предпочла бы вообще не «представать» – просто раз уж согласилась… Надеюсь хотя бы, что не хочу «предстать» лучше, чем есть.
ГОРБАНЕВСКАЯ Нашелся биограф, такой канадский профессор, который собрался написать про меня, про «жизнь и творчество». Но, слава Богу, ходил очень много по моим друзьям и узнал очень много вещей, которые я не помню. Есть вещи, которые я помню точно, а если я не помню, то я не помню. Поэтому как-то надо не забывать об этом.
ГОРАЛИК Я затеяла эту историю не для того, чтобы «докопаться до всего», а наоборот, чтобы поэт мог предстать таким, каким он хочет предстать. Поэтому очень нормально, что что-то помнится, а что-то нет. Вот давайте я для начала попрошу рассказать о вашей семье до вас.
ГОРБАНЕВСКАЯ Семья до меня. Во-первых, надо сказать, что я очень далеко мою семью до меня не знаю. Надо сказать, что я росла без отца и моя семья – это мамина семья. Ее дед и бабушка родились у родителей, которые сами родились крепостными. Отец у меня еврей, я немножко его семью знала – его самого не знала, он погиб на фронте, мы никогда с ним в жизни не виделись. А семья вся была мамина. Мы жили с бабушкой, бабушка с какого-то момента стала жить с моей мамой (из четырех сестер). Был у них еще брат, но он умер в семь лет. Мама была второй из четырех сестер, брат был старший. Семья была родом из Воронежской губернии, и позже они как бы съехали еще более к югу России.
Сначала-то они переехали в Москву, где бабушка окончила акушерские курсы, пела у Пятницкого в церковном хоре Морозовской больницы, девочки учились в гимназиях. А в 18-м году они от голода бежали опять в Воронежскую губернию.
Одна моя тетка всю жизнь прожила в Ростове, еще одна тетка, младшая, поездила по всему Союзу, была на Дальнем Востоке и на Крайнем Севере, по специальности связистка. Она была связистка и вдобавок давала уроки фортепианной игры. Вообще семья была очень музыкальная, я в них не вышла.ГОРАЛИК Мама играла?
ГОРБАНЕВСКАЯ Мама не играла, но пели они все хорошо. Третью сестру, которая в Ростове, послали вместе с ее мужем в Московскую консерваторию учиться, они оба были вокалисты, но, поскольку жить было очень тяжело (30-е годы), спать приходилось на столах, они вернулись в Ростов и так консерваторию и не окончили, но всю жизнь преподавали в музыкальном училище. Младшая тетка ничего не окончила, но преподавала фортепиано, а по основной специальности была телеграфистка. До войны она была в Хабаровском крае, а после войны – на Колыме, где вышла замуж за бывшего зэка. Самая старшая сестра жила в Новочеркасске, потом приехала в Москву раньше нас.
Мама моя тоже из Ростова приехала, я уже родилась в Москве, я среди своих всех родных и двоюродных была первой и единственной родившейся в Москве. Сейчас у меня почти никого не осталось, есть у меня племянник, который живет в Москве, с ним связь давно потерялась, самая старшая двоюродная сестра – вон она на фотографии с моей мамой, – она несколько лет назад в Москве умерла. Из моих ростовских двоюродных братьев старший просто пропал – он жил в Саранске, работал оператором на телевидении, потом куда-то делся, и никто не мог его найти, младший брат его искал. А вот его младший брат, мой другой двоюродный брат, живет в Петербурге, он с мамой всегда виделся, когда мы уже были в эмиграции, он в Париже у меня был, и когда я бываю в Петербурге, мы видимся, очень мы с ним, его женой и дочкой в хороших отношениях – единственный, кто у меня остался из всей родни. Нет, есть еще один двоюродный брат в Москве, но с ним связь десятки лет назад потеряна.
Плюс к этому у меня есть еще приемная сестра, неофициально приемная мамина дочка, бабушкина внучка, с Украины, она была домработницей перед войной в Раменском, где мы жили (мы три года разные углы снимали, пока не получили комнату в Москве). И мама с бабушкой ее как-то взяли, устроили на завод, в вечернюю школу, потом она была на войне снайпером, имеет огромное количество медалей и, тьфу-тьфу, пока жива. И она, и ее муж – ветераны войны, я каждый раз вижусь с ними, когда бываю в Москве, но до того они были еще в состоянии прийти на мои творческие вечера, а на последние вечера были уже не в состоянии. Вот это вся моя семья.
Моя линия по отцу – я знала бабушку, правда я сначала не знала, что это моя бабушка, потом узнала, как-то разобралась. Я за отца получила пенсию как за погибшего на фронте и разобралась, что это та же самая фамилия и та же семья. Там была девочка примерно моего же возраста, я ей по секрету сказала, что мы с ней двоюродные сестры. Там были замечательные люди, я знала брата и сестру моего отца и своего двоюродного брата, который был даже у меня на проводах, когда я уезжала. Он известный историк, Владимир Кобрин, ныне уже покойный, специалист по русскому XVI веку, по эпохе Ивана Грозного. И мой приятель-историк его привел, я его не видела с очень давних времен. Как-то, в общем, в 40-е – в начале 50-х контакты были, мы у них в доме бывали. Если мама со мной в гости приходила, я обычно брала книгу и читала.
Я научилась очень рано читать, и маму все пугали: что вы делаете, ребенок так рано читает, он сойдет с ума – тогда было такое мнение. У меня отнимали книги, я залезала в шкаф, доставала. Когда началась война, на это махнули рукой. Мама сказала: «Читает – есть не просит». Вот в 35-м году моя мама с бабушкой и старшим братом – у меня был еще старший брат – приехали в Москву, а в 36-м я родилась. В 39-м мы получили комнату. Мама моя переехала в Москву, она работала в Ростове в библиотеке, хотя вообще мечтала быть врачом.ГОРАЛИК Она молодая была?
ГОРБАНЕВСКАЯ Ну, в 1935-м ей уже было тридцать три года, но в молодости совсем она мечтала стать врачом, поступить в медицинский институт. Но поскольку ее отец выбился из крестьян в счетоводы, то она считалась дочерью служащего, и доступ в институты ей был в то время закрыт. Она работала в няньках, воспитывала детей в разных семьях, и дети, как я понимаю, были к ней очень привязаны, и воспитывала она хорошо. Потом она пошла работать в библиотеку, кажется, Ростовского университета году в 23-м и до 1935 года там проработала. А тут при Всесоюзной книжной палате открылись высшие библиографические курсы, и она поехала на них учиться, окончила эти курсы и осталась работать в Книжной палате, где ее действительно очень ценили. И там же, в одном из флигелей палаты, нам дали комнату в подвале.
Это был особняк князя Гагарина, построенный, по-моему, уже после пожара в Москве архитектором Бове. Там был фасад, а потом арка, слева было замкнуто, фасад, а справа была арка, и справа от арки стоял наш флигель. Дальше через ворота была прачечная, и во вторую бомбежку Москвы горело здание Книжной палаты и горела эта прачечная, уцелел только наш флигель, ну и флигели во дворе. Книжную палату тогда перевели в другое помещение, но мама, чтобы получать не служащую, а рабочую карточку, перешла в типографию Книжной палаты (тоже в нашем дворе – ее здание и сейчас уцелело, это остатки, сейчас весьма красиво обновленные, во дворе «дома Большого театра»). Наборщицей работала, печатником работала, то есть все на ходу осваивала. У бабушки была карточка иждивенческая, у брата – «особая детская», с двенадцати лет, по которой получали так же мало, как по иждивенческой, у меня была детская, там было побольше, и мама перешла на рабочую. И наш флигель уцелел. Мама говорит: «Ну что бы ему сгореть, тогда бы нам что-то дали».
А так мы прожили в этом подвале до 1950 года. Правда, во время войны на некоторое время мы переезжали в другие флигели, в квартиры эвакуированных. Но эвакуированные начали возвращаться уже в 1943 году, и мы вернулись к себе. Вот так мы жили. Формально это был все-таки полуподвал, то есть верхние стекла окон были над землей, и сверху был парапетик, но, как начиналась весна, все к нам текло. Мы с братом скалывали лед, чтобы не так натекало, а вообще по стенам у нас текло все четыре времени года. Когда становилось теплее, бабушка белила стены, некоторое время они оставались сухими, но очень недолго, опять начинались подтеки. Так мы в этой сырости жили и росли. Для брата и для меня это было время роста, и все время в этой постоянной сырости и в темноте, все время при свете – во время войны при коптилке, которая у меня в стихах фигурирует. У нас была не настоящая русская печь, а дровяная плита, на этой же плите грели воду, чтобы мыться, – брат ходил в баню, а меня бабушка (это значит до четырнадцати лет) мыла в корыте. Квартирка была маленькая, этот подвал – мы и еще супружеская пара соседей. И у нас на две семьи были уборная и умывальник. Еще дальше в этом подвале была еще одна «отдельная квартира», то есть комната, умывальник и уборная. Никаких больше удобств не было, никакого газа не было. Когда нам в 1950 году дали комнату в коммунальной квартире на Новопесчаной, где еще было две семьи, но был газ и была ванная, отапливаемая газовой колонкой, это был рай. К сожалению, бабушка прожила там недолго – мы переехали туда осенью 50-го, а в январе 51-го она умерла. Так что недолго понаслаждалась этим.ГОРАЛИК Каким вы были ребенком?
ГОРБАНЕВСКАЯ Во-первых, я была ленивым ребенком, таким небегающим, непрыгающим. Потом стало ясно почему. Когда в одиннадцать лет у меня был конъюнктивит и пошли к глазнику, оказалось, что у меня один глаз почти не видит, а другой видит плоховато. Так что можно понять, почему я не бегала и не прыгала. И когда была игра в краски («Ванька-поп, зачем пришел? – За краской. – За какой?» – он называет и, если есть такая краска, гоняется за ней; кого поймает, тот водит), то я всегда предпочитала быть тем, который задает вопросы. Но поскольку у нас были в нашем флигеле (над нами) две девочки-сестры, и одна просто слепая, то эта роль доставалась ей, а мне приходилось бегать, и меня сразу ловили. Во всякие «салки», в «колдунчики» я играла очень плохо, меня сразу излавливали.
Я читала все время. Я выходила, как только утро, когда тепло особенно, выносила табуретку, какая-то у меня была маленькая скамеечка, на табуретку клала книжку. Когда на меня в двенадцать лет надели очки, то меня во дворе стали звать профессором, но все-таки еще и за книжки.
Когда началась война, мама меня сначала отвела на месяц на какую-то детскую площадку в Дом художественного воспитания детей, но, поскольку я никогда никаких художественных способностей не проявляла, меня оттуда турнули. Мама всегда очень переживала, что ни у меня, ни у брата нет слуха.
В детский сад попасть было очень трудно, поэтому когда маме удалось отдать меня в детский сад, мне было уже шесть с половиной лет. Почти школа. Но дело в том, что только в 1943 году стали принимать в школу в семь лет. Мне как раз исполнилось семь лет. Все девочки моего двора вернулись из эвакуации. Все мои подруги, они были на год меня старше, пошли в первый класс. А меня мама решила оставить. Тогда еще было не обязательно с семи лет. Мама оставила меня в детском саду, решив, что на следующий год попробует отдать меня сразу во второй класс. И так я пробыла лишний год в детском саду. В детском саду кормили. «В начале жизни помню детский сад…» – помните это стихотворение? Это на самом деле так, я вымазывала тарелки, надо мной смеялись. Но всегда была голодная.
Бабушка делала лапшу на воде, я съедала сначала воду, потом лапшу и говорила, что это у меня первое и второе. Голодная я была всегда, где-то до 1960-х годов, поэтому я люблю всех кормить, особенно молодежь, потому что мне кажется, что молодежь всегда голодная. Хотя сейчас уже молодежь не такая голодная, но все равно. Уже позже, когда я была в университете, моя ближайшая до сих пор подруга Ира Максимова жила в общежитии на Ленинских горах. Я, бывало, поеду к ней на пару дней, и мама дает мне с собой буханку черного хлеба и банку баклажанной икры. И вот мы с ней пировали.
А мама у меня была такая тоже – есть что, нет, но всегда кого-то накормить. Уже в более поздние времена, когда мы уехали, – мне потом рассказывала моя подруга Таня Борисова. У них четверо детей. Она говорит: «Мама твоя приходит – никогда в дом, где дети, с пустыми руками не придет. Принесет сосиски – вот удалось, случайно купила». А известно, 77-й год, ничего нет, это значит – она в очереди простояла. И привозит, Таня говорит: такое счастье, в доме шаром покати, а твоя мама привозит сосиски. Так что у нас это совершенно семейное.
А в 1944-м отдали меня в школу, сначала меня взяли в первый класс, сказали – посмотрим. На второй день я заболела, дней десять проболела, а потом пришла. А мама беспокоится, что со вторым классом-то. Пришла, а учительница, которая и не проверила особо, говорит: «А, ладно, пусть идет». И я пошла сразу во второй класс, стала в параллельном классе с моими подругами со двора. И все было в порядке, единственное – мне приходилось заниматься чистописанием. Писала я как курица лапой, грамотно, но жутко. И со мной занялась учительница и научила хорошо писать. Так что с тех пор пишу хорошо – не так хорошо, как мама, у мамы выработанный почерк еще с гимназии. Мама в 1918 году окончила, это уже называлось «трудовая школа».
Вернемся к семье. Все мамины сестры учились в государственных гимназиях, а мама была способная и училась в частной гимназии, ей дали стипендию на учебу. После войны стали требовать дипломы, и оказалось, что ее диплом Высших библиографических курсов, хотя это считалось высшее учебное заведение, не считается. Она продолжала работать во всяких библиотеках. И мама в 47-м году, в сорок пять лет, пошла на вечерний в Иняз. Она знала английский, знала французский, чуть-чуть похуже – немецкий, и за три года она пятилетний французский курс окончила. Дополнительно она еще подучила английский, а я как-то с мамой училась, я с ней изучала географию Франции – мне это было очень интересно. Так что я все реки знала, все тогдашние департаменты, а когда сюда приехала, уже забыла, но все равно департаменты переменились.ГОРАЛИК То есть вы выучили французский с мамой?
ГОРБАНЕВСКАЯ Нет, французский я начала учить гораздо раньше, потому что в это время ввели иностранный язык со второго класса, и у нас был французский. Еще у мамы была одна знакомая старушка, с которой я тоже занималась французским. Надо сказать, что до седьмого класса я была отличницей, а с восьмого начала лодырничать как незнамо что. И вот насколько я доучила французский до тех пор, настолько я его знала, чтобы потом сдавать странички в университете и иногда делать какие-то технические переводы. В общем, я его совсем забыла. Но когда я пошла здесь учить французский, меня проверили и поставили более высокий уровень. У меня пропала лексика, но осталась грамматика – дотуда, докуда я доучила.
ГОРАЛИК Когда вы оказались в школе во втором классе, и даже еще в садике, другие дети были важны? Социализация у этого ребенка была?
ГОРБАНЕВСКАЯ До школы важны были подруги во дворе. Ну, я общалась вполне со всеми, но главное – подруги во дворе. В школе… У нас так получилось, наш класс с третьего класса перевели в другую школу, и мама упросила, чтобы меня оставили в этой школе. Просто до нее было ближе. Подружки все равно были в параллельном. А вот в третий «А» я попала, там у меня сразу оказалась подруга, я ее всегда вижу, когда приезжаю в Москву. Это Нина Багровникова, она упоминается в примечаниях к моим стихам, где я говорю про «стишки-стежки». И я все время ходила к ней домой. Они жили вообще замечательно: отец, мать и три девочки, пятеро в комнате шесть метров. На Малой Молчановке, в доме со львами. Они жили на самом верху, и это, видимо, раньше была комната прислуги. И я там еще торчала, им было мало своих. Мы с ней очень подружились, мы были самые маленькие в классе. И как-то ее сестер я стала считать своими сестренками. Мы дружим и с Ниночкой, и с Мариной, средней сестрой. Младшая сестра у них погибла. Она психически была нездорова, но была очень хорошая, она покончила с собой. У нее дочка осталась, которая живет со средней сестрой. Дочка Наташа, которую в честь меня она назвала. Это была совершенно моя родная семья. Отец у них скоро умер, а мама долго еще была жива. Я виделась, когда уже стала ездить, и с ними, и они приходят тоже на мои вечера. Ниночки этой моей тоже дочка приходила ко мне на вечера, так что эти связи сохранились. А вообще в классе я как-то вполне, я была очень общительной всегда. Стала еще общительней, когда стала носить очки, стало легче жить, потому что до того что-то меня связывало, а что – я не знала.
ГОРАЛИК Учиться было интересно? Какую-то часть мира это составляло?
ГОРБАНЕВСКАЯ Ну, какую-то часть составляло. Я училась, когда мне было интересно, а когда неинтересно – нет. Учительница истории всегда говорила: «Ну вот, Наташа, то двойка, то пятерка». Но все равно потом в четверти выводила пятерку. Училась я скорее легко, хотя уроки делать надо было все время при искусственном свете, но я их делала. Конечно, с удовольствием я писала сочинения, изложения. Потом у меня была прирожденная грамотность, может быть оттого, что я много читала с детства. У нас была учительница русского языка, которая к нам пришла в пятом классе из института. Она потом всегда говорила: «Когда я колеблюсь, как надо писать, я у Наташи спрашиваю». Так что у меня всегда немножко такое ощущение, хотя я знаю, что это несправедливо, что, если человек неграмотно пишет, значит, он мало читал. Но дело в том, что это не у всех связано, я знаю, это просто у меня как бы впечатывается. Я просто на опыте других людей поняла, что это не обязательно связано.
ГОРАЛИК Как развивалась в годы пятого-седьмого класса внутренняя жизнь?
ГОРБАНЕВСКАЯ Тут, во-первых, надо сказать, что в пятом классе вторую половину учебного года я провела в лесной школе. Лесная школа – это было для детей со склонностью к туберкулезу. У меня была реакция «слабая положительная», но мама меня просто хотела вытолкнуть на две четверти из подвала. Лесная школа была в городе около Соломенной Сторожки. Это было замечательное, видимо, чье-то когда-то имение, потом перед войной там был интернат для испанских детей, потом их всех куда-то разослали и сделали лесную школу. И вот в этой лесной школе я начала сознательно писать стихи. Вообще есть четверостишие, которое я сочинила в возрасте четырех лет и которое семейная память донесла, – четверостишие, которое опровергает все положения «От двух до пяти». Во-первых, оно написано ямбом, а не хореем, во-вторых, в нем присутствуют совершенно абстрактные понятия, а в-третьих – это уже не имеет отношения к «От двух до пяти», – в нем предсказана вся моя будущая поэтика:
Душа моя парила,
А я варила суп,
Спала моя Людмила (кукла),
И не хватило круп.
То есть поэтика по принципу «в огороде бузина – в Киеве дядька», совершенно точно. Вдобавок я предсказала свое любимое занятие 1990–2000-х годов: варить супы. Как говорит мой старший сын: как только рухнула советская власть, мать начала варить супы. Это совпало. С тех пор я их варю, и всем нравится. Были ли еще какие-то стихи – может быть, и были, но семейная память не донесла. Потом я должна сказать главную вещь: как я обнаружила, как слова, которые не стихи, превращаются в стихи. Нам с братом подарили Брэма, и там был такой разворот, я читала подписи под четырьмя картинками – и вдруг вижу, что это стихи:
Датский дог
Немецкий дог
Ирландский дог
Шотландский дог.
И еще «ирландский – шотландский» рифма, а «датский – немецкий» ассонанс, это вообще гениально. Я все узнала про стихи. Потом, когда я была в лесной школе третью и четвертую четверти, январь – май, в феврале приходит учительница и говорит: «Поднимите руки те, кто умеет писать стихи». Надо было написать стихи к Дню Красной армии. И масса мальчиков и девочек, которые подняли руку (эти две четверти я училась в смешанной школе). Я руку не подняла, но подумала: я могу попробовать. Я написала стихи про Александра Матросова, а все написали стихи типа «Да здравствует славная Красная», и все. А мои стихи были конкретные и всем понравились.
Наш полк занимал деревушку,
Мы бились всю ночь напролет,
Добили последнюю пушку,
Но тут застучал пулемет.
Дальше рассказывается про подвиг, а кончается:
В глубоком молчанье мы шапки
Сняли с своей головы,
Мы комсомольца хоронили,
Сына прекрасной Москвы.
Конец был уже намного хуже, чем начало. Но всем понравилось. Я была незаметная, поскольку я маленькая, плохо видящая, еще без очков. Я была незаметным ребенком, а тут я сразу стала звездой. Я писала в каждый номер стенгазеты, и тут стихи были уже гораздо хуже. Но когда я вернулась в школу, я тоже стала писать, писала какие-то басни – не помню, но все время что-то писала. А Ниночка моя тоже писала стихи, кстати, гораздо лучше, чем я, очень живые, очень милые. Но она потом это бросила. Ее папа-художник издал ее книжку «Нинины стежки», потом «еж» зачеркнуто и надписано «иш». Мы с ней сидели за первой партой, так как были самые маленькие, тем не менее мы все время на уроках играли в стихотворную чепуху. Например, берем тему «Жил на свете рыцарь бедный» и играем. И играли целые уроки напролет. Так что какая-то техника, видимо, вырабатывалась. Я уже считала себя стихотворцем.
ГОРАЛИК Каково было оказаться в лесной школе?
ГОРБАНЕВСКАЯ Ну, очень интересно, конечно, потому что все пришли из раздельных школ. Там начались романы невероятные, записки. Я была только переносчиком записок, на большее претендовать не могла. А было очень хорошо, кстати, вполне дружно было. Но масса романов была. Еще же с какого-то времени меня мама отправляла в пионерский лагерь.
ГОРАЛИК Вам нравилось?
ГОРБАНЕВСКАЯ Кормили – это было очень важно. Какие-то подружки у меня там бывали. У меня дикого восторга не было, но чтоб терпеть не могла – нет.
Во втором классе принимали в пионеры, с девяти лет. Мне девяти еще не было. Мне очень хотелось в пионеры, и меня приняли. Так же точно потом в седьмом классе, когда в мае нас принимали в комсомол, я очень боялась, что меня не примут, потому что мне не хватало десяти дней до четырнадцати лет. Я была нормальным советским ребенком.
Еще во втором классе у меня была совершенно замечательная история. Тогда родители что-то платили, и нам выдавали бублики и ириски. Я не знаю что: то ли я не принесла деньги, то ли я плохо себя вела – в общем, в какой-то момент мне сказали: «Завтра в школу без матери не приходи» – и вообще выгнали с уроков. Я не могла маме сказать. Что мне делать? Ну что – ясно что: бросить школу и поступать на работу. Мне не было девяти лет, в пионеры меня еще не приняли. А была совсем еще зима, февраль. Вообще в войну зимы были очень холодные, очень многоснежные, Садовое кольцо – мы жили на Новинском бульваре – было покрыто снегом, смерзшимся в лед. Машин было очень мало, мальчишки к ним прицеплялись и ехали на коньках – так один мальчишка с нашего двора погиб. Я вышла на крыльцо школы и думаю: что делать? Пойду работать.
А моя мама как раз сменила работу. Она работала в библиотеке Тимирязевской академии, все-таки ушла из типографии, ее давняя приятельница по Книжной палате уговорила перейти в академию, где эта приятельница уже работала. Был 1943 год. А потом маму переманили в Фундаментальную библиотеку общественных наук. Я знала, что они еще не нашли никого на мамино место, а поскольку я, с тех пор как научилась читать, читала, в частности, каталоги, умела писать библиотечным почерком, и что такое каталоги, понимала очень хорошо, то я решила, что пойду устраиваться на мамино место. Я не знала, что мне делать. Учебники все были выданы в школе, часто был один на несколько человек, и я свою сумку с учебниками спрятала за совком и метлой, которыми счищали снег, и пошла думать. А когда вернулась, не было ни лопаты, ни совка, ни сумки с учебниками. Вот тут я поняла, что мне домой идти нельзя и что я пойду устраиваться на работу.Школа была на Большой Молчановке, я пошла сначала попрощаться к детсадовской подруге в Плотников переулок, потому что я теперь буду работать и не смогу к ним ходить. Потом дальше пошла – окрестности я знала очень хорошо в обе стороны. Я помню, в три года меня бабушка забыла в аптеке – это было на другой стороне площади Восстания.
Я обнаружила, что я одна, пошла, дошла до перехода и какого-то дяденьку попросила меня перевести, и он меня стал переводить, а навстречу уже бабушка бежит. Где-то года в четыре с половиной я ушла гулять, немножко заблудилась, ушла в район Бронной. Хорошо очень помню, как я шла по Вспольному. Но оттуда я выбралась сама и дошла до дома. Для такого маленького ребенка это большое расстояние, но я весь район Спиридоновки, Малой Никитской – я все это знала. И в другую сторону от дома знала, тем более меня маленькую часто сажали на троллейбус, отправляли к тете, которая жила на Таганке, и я сама доезжала. Потом с мамой ездила много раз на всякие ее работы, знала, куда и на чем доехать.
Я дошла до метро «Парк культуры», с пересадкой доехала до «Сокола», откуда шел трамвай, и поехала в Тимирязевку. Но я не доехала до самой Тимирязевки, потому что решила еще «попрощаться» с нашим участком, где мы сажали картошку, и забрела в совершенно непролазный снег. Притом я все равно сориентировалась и вышла к Тимирязевке, но я была вся мокрая, по грудь в снегу. Я пришла, кто-то меня спрашивает: «Девочка, ты что?» Я говорю: «Я пришла поступать на работу». Потом кто-то меня увидел и говорит: «Да это ж Евгении Семеновны дочка». И тут прибежала тетя Шура, которая знала меня с рождения, но она была чем-то занята, она не могла меня везти, и попросили уборщицу отвезти меня домой. А уборщице надо было сначала к себе домой. Она привезла меня домой в двенадцать часов ночи. Дома мама и бабушка уже сошли с ума, поэтому в конечном счете мне сошли с рук пропавшие учебники. Но маме пришлось какие-то жуткие деньги отдавать за эти учебники, это все было ужасно. Так что я была ребенком инициативным.
Но, надо сказать, с мамой я всегда бывала на всех ее работах. Я очень много ездила по Москве и очень много ходила кругом. Я действительно спокойно добегала безумно далеко и возвращалась. Москву я очень хорошо знала, старая Москва – действительно мой город. Я ее потом всем показывала. Я начала с того, что показывала Москву ленинградцам, потом американцам, а потом москвичам. А один раз я ее показывала Юрию Михайловичу Лотману.
Честно говоря, я не помню каких-то различий: третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой.
ГОРАЛИК Стихи писались?
ГОРБАНЕВСКАЯ Да, после лесной школы, до самого конца школы какие-то стенгазетные стихи. Писала по заказу, не было внутренней потребности писать, а как-то себя показать, поскольку ничем другим я не могу взять.
ГОРАЛИК Что-то менялось со взрослением, с переходом в старшие классы?
ГОРБАНЕВСКАЯ Я в восьмом классе начала жутко лодырничать, еще потому, что как раз, когда была в восьмом классе, мы переехали и я в школу ездила. Я ехала с «Сокола» на двух троллейбусах обычно. И стала опаздывать, иногда прогуливать. Чем голова была занята – не помню.
ГОРАЛИК Были мысли о поступлении?
ГОРБАНЕВСКАЯ Ну, как-то я всегда думала, что пойду на филологический, хотя, когда мы уже оканчивали, наша математичка очень переживала, что я не иду на мехмат. Хотя с математикой у меня проблемы начались, когда началась стереометрия. Может быть, это со зрением связано, но стереометрия не идет у меня. Я представить себе могу, но какие-то операции производить совершенно не могу. Поэтому у меня по геометрии четверка в аттестате. А по алгебре у меня пятерка. Алгебра мне особенно нравилась. И вообще я потом кому в жизни завидовала, так это музыкантам и математикам – очень красиво. Гармония, чистота. Со словами уже все что-то не то. У моей подруги Иры Максимовой дочка – крупный тополог.
Выбор был в пользу филологического. Причем это было очень смешно. Я хотела – почему, не знаю – поступать на чешское отделение. Что-то мне нравилось, не знаю что. Пришла, и мне говорят: «У нас на славянское отделение год прием на польское и сербское, год – на чешское и болгарское. В этом году прием на польское и сербское». Я говорю: «Тогда я пойду на русское». На польское (что смешно, учитывая мою будущую биографию) никак не хотела.
И я оказалась русским филологом. Филолог я, конечно, липовый, поскольку я ж в своей жизни столько видела настоящих филологов. Предел моих филологических подвигов – это мои примечания к своим стихам. Если я видела многократно Лотмана и даже дружила с ним, если я видела два раза в жизни Топорова – то как я могу говорить, что я филолог? Поступать было ужасно, потому что мне поставили четверку за сочинение и дали посмотреть, и я увидела, что ошибки, которые были исправлены, исправлены неверно. И еще было написано «хорошая работа». А проходной балл был двадцать пять, а у меня было двадцать четыре. Когда я доказала, что исправили неверно, мне сказали: «Ну, тут же написано „хорошая работа“, значит, на „хорошо“, а не на „отлично“». У нас работала агитатором, когда мы жили на Чайковского, замечательная женщина Елена Викторовна Златова, жена поэта Степана Щипачева. Мама к ней пошла, Щипачев им написал и попросил еще раз пересмотреть это сочинение. Таким образом, я была принята.
После школы это было опять женское царство, мальчиков почти не было, были какие-то фронтовики вне конкурса, но живых мальчиков у нас на курсе было мало. Тут мы очень скоро где-то в аудитории снюхались с Ирой Максимовой. Она была самая младшая на курсе, окончила школу в шестнадцать лет с золотой медалью, но должна была сдавать экзамены, потому что, пока разбирались с разрешением допустить к собеседованию шестнадцатилетнюю, собеседования прошли. Она сдавала экзамены, набрала свои двадцать пять очков и поступила. И мы с ней с тех пор дружим, с осени 1953 года, уже почти шестьдесят лет. Потом я ее устроила в Книжную палату, где я работала. Потом много позже она поступила на работу в Информэлектро, куда брали уволенных из всех других мест. Она там работала уже до пенсии.ГОРАЛИК Каково было учиться?
ГОРБАНЕВСКАЯ Интересно, потому что русский язык и литература. Но это было совсем не то что в школе. Я вдруг узнала о существовании какого-то старославянского или современного русского языка. Учиться было интересно, училась я, в общем, неплохо, троек не было, а четверок было много. На втором курсе было еще интереснее, были семинары. Но кроме того, я тут действительно начала писать по внутреннему убеждению. Я влюбилась, с человеком этим я не была знакома, но это не важно. Но начала писать. Писать, писать, а кругом был всякий народ, который тоже писал, и когда я была уже на втором курсе, мы вместе с первокурсниками решили устроить литобъединение. Время все-таки было уже такое живое, это уже был учебный год 1954/55-й, и я помню, чуть ли не с первого раза кто-то к нам привел, чтобы он читал стихи, Алика Вольпина – ни больше ни меньше. Я не могу сказать, что я тогда была в восторге от его стихов, но вот сейчас я вынула из Интернета, перечитала – замечательные стихи. В общем, это было как-то живо. Мы в стенгазетах свои стихи печатали. И очень быстро на нас напали. Мы были первый-второй курс, ребятишки. И тут в факультетской газете «Комсомолия» появилась огромная статья с карикатурами, написанная аспирантами, на нас пустили тяжелую артиллерию. Больше всего на меня, заголовок был взят из моих стихов – «Под фары и во тьму». Самих стихов я не помню. Я вообще потом много лет занималась тем, что изымала у других людей свои стихи или в крайнем случае зачеркивала, если не давали изымать. Я действительно очень не хочу, чтобы выброшенные стихи где-то фигурировали.
ГОРАЛИК Как формулировалась претензия?
ГОРБАНЕВСКАЯ Декаденты. Упадочническая поэзия.
ГОРАЛИК Как переживался этот день?
ГОРБАНЕВСКАЯ Ой, весело было, что на нас такую тяжелую артиллерию выпустили. Мы ходили по факультету героями. Чувства опасности не было. Я думаю, я еще многого не понимала. Я ходила еще тогда в университетское литобъединение, еще с первого курса. И там была такая история, которую я гораздо позже узнала. Там приходили два поэта: Миша Ярмуш, психиатр, и Миша Ланцман. Я после узнала, что произошло. Кто-то из них к слову стал говорить об очередях за хлебом в Подмосковье, и одна баба, которая там была, курса с четвертого, на них настучала. И были у них какие-то неприятности.
Но я ничего этого не понимала и не чувствовала, потому что я вообще про репрессии знала очень мало. До войны у мамы была приятельница по Книжной палате, у которой муж был арестован. Мама в доме говорила: лес рубят – щепки летят.
Потом гораздо позже я узнала другую историю про маму, ее мне рассказала Люся Улицкая уже после маминой смерти. Мама мне всегда говорила: «Я тебя никогда ни в какую сторону не толкала: в комсомол ты сама рвалась, и на площадь ты сама выходила». И вот, когда я уже была в эмиграции, мама что-то стала говорить типа: «Ну что ж Наташа, она ведь понимала». Люся говорит: «Она не могла иначе». Мама говорит: «Но у Наташи было двое детей». И одновременно ей рассказывает, как в 1937 году у них проходит собрание и начинают разоблачать как троцкиста чуть ли не замдиректора, притом человек специально приехал на это собрание из НКВД. Моя мама встает и говорит: «Послушайте, мы месяц назад Моисею Абрамовичу (допустим) выносили благодарность за работу, а теперь говорят, что он…» А Люся ей: «Но у вас же тоже было двое маленьких детей, что ж вы думали?» Такая была мама.
А потом мы как-то в школьные времена стояли в очереди за учебниками (их выдавали в школе, иногда один учебник на несколько человек), мы с мамой спокойно стоим, и приезжают какие-то важные родители и лезут без очереди. И мама моя пошла и говорит: «Ну что ж вы, дети стоят». А мне девочки говорят: «Твоя мама молодец, справедливая».
Еще в доме было принято всегда правду говорить. Не помню по какому поводу, гораздо позже мне Ирка моя говорит: «Я тебя не понимаю, мы с возрастом учимся врать все лучше, а ты как будто наоборот».
Про репрессии узнала, когда в 1954 году моя колымская тетка со своим мужем, еще не реабилитированным, но ухитрившимся получить на Колыме чистый паспорт, возвращались, они ехали к нему в Ереван, и он ночью, чтобы дети не слышали, рассказывал. Что-то я дослышала, но так, в принципе, я действительно ничего не понимала.
Анна Андреевна говорит: «Я боюсь тех, у кого нет страха». Вот я дура была без страха.
И в том же году, когда была статья в стенгазете против нас – а я человек была совершенно неспортивный – мне не поставили зачет по физкультуре. Мне говорят: «Мы не можем вас допустить к сессии». И тут я совершила поступок, достойный марта 1944 года. Я говорю: «Тогда я лучше заберу документы». И я забрала документы и поехала в город Советск поступать в кинотехникум. Кинотехникум не киношников, а киномехаников, которые крутят ручку. Продала часы, маме оставила записку.
У мамы всю жизнь была нескучная жизнь. В эмиграции, когда дети прошли все самые тяжелые периоды, я все думала: за что мне даны такие хорошие дети, когда я была таким плохим ребенком? Ни за что, а для того, чтобы мама была за меня спокойна, пока она была жива. У нас с мамой были очень похожие характеры, и мы дико сталкивались.
Потом я из города Советска написала маме, мама написала мне «возвращайся», я уже понимала, что я не там, где надо, и я вернулась. На факультете осенью общефакультетское комсомольское собрание постановило просить восстановить меня. У меня было очень много друзей и на старших курсах. На собрании выступила Инна Тертерян, она испанист, латиноамериканист. Мы жили в одном квартале, она была замужем за Леней Козловым, это один из главных людей в киноархиве, где Музей кино, где Наум Клейман. А я дружила с Непомнящим, с Аннинским, Козловым, с Инной. Непомнящий был на один курс старше меня, Анненский, Козлов и Инна Тертерян – на два. У нас очень много знакомств завязывалось, когда мы ездили в колхоз. Это был 1955 год, осень, но вспомним, что «Оттепель» Эренбурга была напечатана не в 56-м, а в 54-м. Обстановка была другая. И Инна выступила, все собрание ее поддержало, но меня не восстановили. Конечно, приятно, что все люди заступаются за меня. И я решила поступать заново.
До тех пор было еще одно приключение, опять приключение для моей мамы. Когда мы учились на первом курсе, у нас, как я сказала, было очень мало мальчиков. Среди них был один, который потом бросил Москву и уехал к себе на родину, в Грузию (но русский). Женился. Потом, как выяснилось, разошелся. Приехал в Москву, познакомился со мной и увез меня в Тбилиси. Не помню, еще кто-то из друзей был на вокзале, меня просто из маминых рук вырвали и сунули в вагон. Ну, я там со своими бумагами ходила в Тбилисский университет, меня не брали. Потом я вернулась в Москву, поехала туда снова, побыла-побыла, потом поняла, что опять, как в городе Советске, и уехала из Тбилиси. А это уже был февраль 1956 года, XX съезд, уехала накануне того, как в Тбилиси начались волнения. Я уехала двадцать пятого февраля, а они начались пятого марта. Слава Богу, что он был не разведен, поэтому у меня никакого штампа в паспорте не осталось и больше никогда не появилось.
После этого мама меня устроила на работу на полставки. Сектор сети научных библиотек Академии наук, дают библиотекарей во все институты. И это был около зоопарка Институт физики земли и Астросовет. И я на них на двух работала. Я делала описания на иностранных языках. Это была весна, и это было на полставки, чтобы готовиться и поступать в институт.
На этот раз у меня было двадцать четыре очка, но двадцать четыре был проходной. Я встретила Игоря Виноградова и говорю: «Мне четверку поставили за сочинение». Он говорит: «Ты знаешь, лучше ничего не поднимать, поскольку двадцать четыре – проходной». Поступила. Начала учиться, назначили меня – или сама я как-то выбралась – в редакцию курсовой стенгазеты. Мне что-то зачли, что-то не зачли. Я продолжала учиться нормально, я поступила на первый курс. Это был курс Аверинцева. И мы, поскольку вокруг стенгазеты пишущие люди сплачивались, то с Сережей мы быстро познакомились, я бывала у них дома. Знаменитого Аверинцева я уже в Москве не видела. Один раз потом тут встретила.
Потом была еще одна замечательная девочка, про которую нам сказали: «Вот смотрите, она верующая». Она тоже писала стихи. Мы как-то с ней сразу подружились, тоже я у них дома бывала, пока не родила Ясика. И я позвонила и говорю: «У меня сын родился». А она говорит: «А я не знала, что ты вышла замуж». А я говорю: «А я не вышла замуж». И тут каким-то на меня из телефонной трубки – что, может быть, было моей фантазией – повеяло холодом, и я перестала у них бывать.
Но этот дом был для меня очень важный. Я только здесь узнала, кто был ее отец. Ее звали Маша Андреевская. Ее отец был в эмиграции. Я не знаю, ушел ли он с немцами из оккупации и попал в перемещенные лица, но потом был долгие годы профессором в Америке, тоже как-то по линии литературно-религиозно-философской, по-моему, был профессором Свято-Владимирской академии, но я не знаю точно. Весьма известный тут человек. Тогда я этого не знала, и мне этого не говорили.
В их доме где-то в конце 1950-х я познакомилась с Юдиной, они с ней очень дружили. Мария Вениаминовна Юдина – знаменитая пианистка, очень религиозная, в молодости дружила с Бахтиным, Пумпянским. И мне Мария Вениаминовна сказала: «А хотите, я покажу ваши стихи Пастернаку?» Я говорю: «Да ну, что вы, зачем…» – и не дала ей. А я очень любила тогда Пастернака. Но все было правильно. Я тогда любила Пастернака и Цветаеву, а теперь я Пастернака люблю мало, а Цветаеву на дух не переношу. Все было правильно.
Теперь надо вернуться к стихам, а чтобы вернуться к стихам, надо вернуться к XX съезду. Поскольку 1956 год. Что такое 1956 год? Как я говорю всегда, я никакая не шестидесятница, мы поколение 56-го года. Как говорил Бродский, «мы поколение 56-го года». Но мы не поколение XX съезда – мы поколение Венгрии.
Доклад читали везде на открытых партийных собраниях, но поскольку я в тот момент еще нигде не работала, я его не слышала, но слышала мама и все мне подробно рассказала.
Тогда у очень многих были большие надежды. У меня надежд не возникло. У меня тому есть документальное подтверждение, но документально о нем знала только я, потому что это выброшенные стихи.
Я могу их процитировать – не как стихи, а как документ.Чижи поют рассвет,
Но почему же совы
Летают, как во тьме,
Раскинув серость крыл?
Ах, этот яркий свет
От ламп дневного освещенья,
А солнце кто-то скрыл.
Плохие стихи, лобовые образы, но – свидетельство… Сдала я экзамены, поступила, и тут же в факультетской стенгазете «Комсомолия», разгул оттепели, я напечатала стихи, которые назывались «Цветные сонеты» и все были «оппозиционные». В сонете под названием «Белый» описывался побег из лагеря.
ГОРАЛИК Вы говорите, что до этого не знали, не понимали… Что переменилось?
ГОРБАНЕВСКАЯ То, что на XX съезде рассказывали, и то, что люди начали друг другу все рассказывать, все поднялось, все между собой только об этом и говорили. Когда я поступала, я познакомилась с мальчиком, который поступал на факультет журналистики, и он мне рассказывал о репрессиях в его семье. И мы с ним сидели на скамеечке, и я помню, как я для себя сформулировала: он антисоветчик с советских позиций, а я антисоветчик с антисоветских позиций.
Я не помню, в чем это заключалось, но, в принципе, доклад Хрущева меня не убедил – кроме того, что действительно много людей выпустили, что это не повторится. Я не формулировала этого так, но чувствовала природу этой власти тогда уже. Мой приятель был не из «линии партии», но все-таки в советских рамках. Я себя в советских рамках уже не чувствовала. То, что я для себя это сформулировала, было мне интересно, раз я до сих пор об этом помню, хотя я только об этом подумала. Я это тогда и много лет, пока мне не пришлось действительно рассказывать о своей биографии, никому и не говорила даже.
И вот тут стихи мои эти («Цветные сонеты») мне принесли очень большую популярность. Устраивалось очень много вечеров поэтов. Нас, филологов, позвали на факультет журналистики, мы там выступали. Я познакомилась с толпой ребят с факультета журналистики и с их друзьями-поэтами из геолого-разведочного института. Они на много лет стали одной из моих компаний.
У меня еще что было – у всех были свои компании, а у меня было всегда несколько. Потом тоже как-то через стихи я познакомилась с математиками. Подружилась очень с Юрой Маниным. Юрий Манин – лауреат Ленинской премии по математике, алгебраист. Потом я очень хорошо помню времена перестройки, а его не выпускают за границу – лауреата Ленинской премии.
Вот идет у всех эйфория, что можно все говорить. Выставка Пикассо, которая была огромным событием, которая была в Москве до Венгрии, а в Ленинграде уже после. Все это было связано. В то время поэзия, искусство, условно говоря, политика – все было связано одним словом «свобода». Жажда свободы, скорее. В 1955-м начали как грибы расти всякие театральные студии, и я в одну из них поскакала с Непомнящим, где он познакомился со своей будущей женой Татьяной. И одна девица из этой студии познакомила меня с Сашей Корсунским, через которого я познакомилась с московскими поэтами Красовицким, Чертковым, Хромовым. Это был конец 1955 года. И мы, в частности, начали ходить вместе на концерты, но до того я пошла на концерт первый раз в жизни.
Это была осень 1955 года, я пошла в Большой зал консерватории с таким убеждением, что культурный человек должен слушать музыку, а я ее не слушаю. Пошла с Непомнящим на то, на что он шел. Там был какой-то датский или норвежский композитор, еще что-то, а потом было «Болеро» Равеля. И меня скушало с потрохами. После этого я прониклась и начала бегать на концерты. Я сдавала кровь, чтобы покупать билеты, бывало так, что я в одно воскресенье ходила и на дневной, и на вечерний концерт.
А с этими ребятами я попала на премьеру квинтета Андрея Волконского. Играла как раз Юдина. Тогда я ее увидела в первый раз. Потом я много раз слушала ее сольные концерты, потом слышала, как они с Деревянко играли Двойной концерт Стравинского, которого у нас почти тогда еще не исполняли, – но это было позже. Квинтет был совершенно невероятным, удивительным. И я как-то так сразу врубилась в эту музыку – при моей собственной немузыкальности я в нее страшно врубилась. И с этими ребятами я ходила.
Я сказала бы, что их круг был, как и я, аскетически настроен, не поддавался эйфории. Они все были немножко старше меня, но почти ровесники. Потом я, скажем, только после стихов Стасика начала читать толком Пастернака, до того я его не чувствовала, а тут у меня новые ключи появились к стихам. Потом, скажем, Леня Чертков подарил мне том «Неизданный Хлебников». Я все свое отрочество увлекалась Маяковским, поэтому я, естественно, знала, кто такой Хлебников. Чтобы готовиться к сочинениям, я ходила в Библиотеку Маяковского на Таганке. Я не была таким совсем непросвещенным ребенком. Кто такой Хлебников, я знала, стихи его я знала, что-то я представляла и чувствовала. Но у Стасика были другие стихи, совсем другой подход. То, что я через Стасика начала понимать Пастернака, не значит, что его стихи похожи. У тех же ребят я взяла и переписала «Столбцы» Заболоцкого и «Второе рождение» Пастернака. «Столбцы» – это, конечно, было открытие, очень я это приняла.
Где-то еще лет в восемнадцать (это, значит, 54-й год) мы уже читали Гумилева – у кого-то были книжки, в букинистических можно было найти Гумилева, не самиздатского еще. И Гумилева все читали, все кругом меня по крайней мере, не только те, кто писал стихи. И потом, что еще я читала в восемнадцать лет? В восемнадцать лет я читала Уайльда, Пруста. Настолько я была продвинута. Пруст в переводах с французского – это было совершенно замечательно. Я тут, в эмиграции, выяснила, что я по-французски Пруста читать не могу: того наслаждения, которое получала от перевода, я не получаю. Но Заболоцкий был, конечно, да… Если бы не было ребят вокруг с этими стихами, тогда я бы, может, и в Заболоцкого бы не врубилась.
Стихи были очень важной частью жизни, может, и самой важной. Но жизнь вообще – свобода, музыка. Музыка для меня и сейчас важнее стихов. Я уже на концерты не бегаю, слушаю с дисков, а это не одно и то же.
Ладно, вот у нас осень 1956 года, октябрь. На мехмате вышла стенгазета. Вообще, если посмотреть историю того времени, то очень много прочитать по стенгазете можно. Есть знаменитая история о стенгазете «Культура» Ленинградского технологического, которую издавали Бобышев, Найман, Рейн. Много всяких историй. А я продолжала дружить с математиками, благодаря чему в будущем году познакомилась с Наташей Светловой, ныне Солженицыной. Газета, в которой, во-первых, была напечатана статья о только что впервые переизданной книге Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Десятки лет не издавалась – и вот только что была напечатана. Самиздатский текст обсуждения «Не хлебом единым» Дудинцева. И уже в ноябре на мехмате устроили большое комсомольское собрание факультета, на которое я проникла, поскольку обзавелась билетиком корреспондента многотиражки «Московский университет». Самого главного обвиняемого, Мишу Белецкого, выгнали с собрания, поскольку он не комсомолец и не имеет права слушать. Кончилось тем, что его, аспиранта, и еще одного пятикурсника выгнали из университета. Я Мишу Белецкого видела недавно, он живет в Киеве, я была в Киеве, мы виделись. До этого он меня нашел через мэйл, я так обрадовалась.
Дело в том, что газета вышла до Венгрии, а обсуждение было после Венгрии, когда вовсю пошли закручивать гайки. В начале декабря 56-го года я написала те три стихотворения, которыми отныне открывается каждое мое «Избранное». Вот это ощущение того времени.
И дальше со мной произошла совершенно жуткая и позорная история. Арестовали Леню Черткова, и меня предупредили, что именно нужно говорить, потому что мы были вместе у Шкловского и Леня там высказывался как хотел, – похоже, что старик сам настучал. И я была готова к этому: вызовут – я знала, что говорить. В феврале меня берут с занятий, это еще первый курс, говорят: «Вас просят в деканат к замдекана». Меня берут под белы ручки и везут на Лубянку. И говорят: «Вы знаете, почему вас вызвали?» Ну, я начала с глупости: вместо того чтобы сказать «не знаю», я сказала: «Знаю, потому что мой друг Леонид Чертков арестован». Они говорят: «Нет, нас это не интересует». (В конце они все-таки про него допросили, и тут я сказала все правильно.) И я начинаю думать. Меня отводят во внутреннюю тюрьму, переодевают в тюремное и оставляют. И полтора дня я держусь, а потом… Чем это было особенно позорно – тем, что это был чистый самообман. Я начинаю думать: что же я, комсомолка… Это было хуже всего. И начинаю рассказывать, что, когда, где я говорила, что при мне кто говорил. Потом мне показывают, как я потом узнала, листовку, но показывают только стишок. Они, видимо, подозревали, что это мой стишок. Я говорю: «Нет, это не я написала, это написал Андрей Терехин».
В общем, история была такова. Когда подавили революцию в Венгрии, Андрей Терехин (мой бывший сокурсник) и Володя Кузнецов (на курс моложе) сделали и разбросали на Ленинских горах листовки. Напечатали они их на машинке Иры Максимовой и ее мужа. Молодостью я ничего оправдывать не хочу, потому что мне было двадцать один, а Ира и Витя были моложе, но они держались. А я потекла. И я начала характеризовать ребят. Причем, чтобы отмазать Володю, я говорила: «Ну, он человек слабый, он, наверное, под влиянием…», что он потом в своих воспоминаниях очень недовольно фиксирует. Есть его воспоминания об этом.
Через три дня меня выпустили, а ребята сели: Андрей на пять лет, Володя – на два. А я на суде была единственным свидетелем обвинения. Вот так. Не надо меня жалеть, я сама себе это устроила. Когда я потом крестилась, я выясняла, что все грехи снимаются. Но я себе это все равно не простила. И я несколько замкнулась после этого.
Я рассказала тем ребятам из компании Черткова, что было, я старалась, чтобы при мне никто не говорил на политические темы. Но стихи оставались, стихи распространялись, стихи мы друг другу читали, но уже не было творческих вечеров, а по компаниям мы продолжали читать стихи и писать. И с Юрой Галансковым, с которым мы познакомились в ноябре или декабре 1956 года.
Чертков и Красовицкий нашли клуб «Факел», где можно было выступать. «Пойдем с нами!» – говорят. Мы пришли, а там замок (напоминаю, уже после Венгрии, и эти «самозваные» клубы прикрыли). Я говорю: «Знаете что, у нас сейчас организовано литобъединение на курсе, давайте выступите там как представители клуба „Факел“». А руководил литобъединением переводчик Владимир Рогов, племянник Романа Михайловича Самарина, мрачного человека и доносчика, которого в свое время исключили из Союза писателей. Он был деканом филфака, потом директором Института мировой литературы. Пришли ребята, были Красовицкий, Хромов и Чертков, еще по дороге мы встретили Игоря Куклиса, художника, который прочел стихи Рейна. Там было полное ошеломление, потому что на такой тихий филфак Горбаневская привела страшных людей. Я не хочу сказать, что Рогов куда-то настучал, но, во всяком случае, записано за мной это было.
Еще до того я побывала с этими ребятами в литобъединении при «Московском комсомольце»; что в этот вечер Валя Хромов вступал в члены литобъединения. И там народ собрался в основном действительно комсомольцы. И они страшно критикуют Валины стихи – со своей комсомольской точки зрения. И вдруг встает молодой мальчик, на первый взгляд совсем уж комсомольского вида, и начинает защищать Хромова, говорить о Хлебникове и т. п. И мы с ним тоже подружились. Это был Юра Галансков. И вот с Юрой мы дружили все это время. Юре я тоже рассказала, что было. Но никакой мало-мальской общественной деятельности я себе не допускала. И так продолжалось несколько лет. Стихи я писала, многое выкинула, но кое-что и осталось.
И в начале 1961 года раздается звонок: «Здрасьте, меня зовут Алик Гинзбург. Я хотел бы с вами познакомиться. Я знаю ваши стихи». Я иду к Алику, узнаю, что он уже издает «Синтаксис». Я говорю: «Я готова перепечатывать». Вместе мы готовим четвертый номер «Синтаксиса», я его знакомлю с Галансковым, все это закручивается. Уже практически готовый был у Алика третий, ленинградский номер – тут приезжает из Ленинграда то ли Илья Авербах, то ли Юра Губерман и привозит стихи Бродского. И мы готовим с Аликом четвертый номер, после чего я уезжаю в археологическую экспедицию.
А, я же не рассказала, как я опять вылетела из Московского университета. 1957-й, осень, у меня целый ряд предметов был перезачтен. И тут меня вызывают и говорят: «Мы вас отчисляем за пропуски занятий». Я говорю: «Это те занятия, за которые у меня уже стоят оценки». – «Все равно обязаны ходить». Дело в том, что все, кто был причастен к делу Терехина и Кузнецова, вылетели: и Витя Сипачев вылетел, попал в армию, потом пошел в химию и стал доктором химических наук; Ирка вылетела на год. Я была на втором курсе по второму разу. И я опять вылетаю. И тут опять комсомол за меня заступается. Комсомольское бюро нашего курса, Оля Карпинская (Ревзина ныне), еще девочки и мальчики. А секретарем бюро был отвратительный мальчишка Мулярчик, карикатура Рогова, но, поскольку все остальные за меня заступились, опять та же формулировка: «Мы не можем лишиться такого талантливого человека». Пишут письмо. Мулярчик им говорит: «Это не поможет, вы же понимаете, что ее не за это отчислили?» Это действительно не помогло, но я на всю жизнь запомнила это. Встретила Олю Ревзину в Польше, в Сейнах, когда Томасу Венцлове присудили звание «Человек пограничья», после того как мы с ней не виделись сорок четыре года, и просто душой сливались.
В 1958 году я поступала на заочное отделение Ленинградского университета, филфак, опять все заново. Набираю 20 из 20. Я тот человек, который трижды поступал в университет и трижды поступил. Возвращаюсь, мама меня устраивает в Книжную палату. Она в самом конце опять работала в Книжной палате, перед тем как ушла на пенсию, ее очень помнили и любили, и меня взяли. Пока я была три дня на Лубянке (это февраль 57-го), дома был обыск. Мама не знала, где я, что я, – ей ничего не сказали. Все можно вынести, но не мысль, что за тебя выносят твои родные. И мама своему директору тогда рассказала это. Но на работу он меня взял.В общем, работала я потом в Книжной палате, долго, до 1964 года, пока не окончила университет. За это время было важнейшее событие в моей жизни – знакомство с Ахматовой. Я же тогда совсем не понимала, что такое Ахматова. Я знала очень мало, я помнила совсем с детства: где-то в начале войны мы с мамой приходим к знакомым, и я у них открываю то ли «Звезду», то ли «Знамя», довоенный номер, и он начинается «Сказкой о черном кольце». Это я на всю жизнь запомнила, а потом я вообще ничего не знала. В 54-м я читала антологию Ежова и Шамурина «Русская поэзия XX века» (вышла в 1925-м), но я читала там в таком навале впечатлений. Это я читала у своей другой бабушки, и это было для меня потрясением, кроме Блока, которого я полюбила еще раньше, в одиннадцать лет, тоже в гостях.
Я приходила с мамой в гости и читала все подряд, все сборники стихов, драмы. Я вообще в детстве обожала читать драму, теперь не могу. Как я любила «Незнакомку» и «Балаганчик» тогда, а вот лет двенадцать-пятнадцать назад увидела тут спектакль, привезенный из Москвы, и никак не могла понять, что меня так раздражает. И я поняла, что меня раздражает не постановка, а текст.
Ахматову я знала очень мало. У меня была ее красная книжка, вышедшая в 1958 году, но по этой книжке мало о чем можно было судить. Ну, поэт, более или менее великий. Я узнала потом мнение Анны Андреевны о ней и никогда не решилась ее дать на подпись.
Впервые меня повез в Комарово Дима Бобышев в июне 1961 года, когда я была в Ленинграде на экзаменационной сессии, а в сентябре я родила, то есть я была уже очень сильно с брюхом. Мы приехали в Комарово, а там никого нет на даче, и соседи говорят: «А Ахматова в Москве». Ну ладно, в другой раз. А тут еще надо рассказать, как я с ними со всеми познакомилась.
Познакомилась я со всеми ленинградскими поэтами через Бродского. Как-то получалось, что поэты ездили из Ленинграда в Москву и наши – Красовицкий, Чертков, Хромов – из Москвы в Ленинград (нет, не Чертков, он в то время сидел). Какое-то время у меня вообще не было телефона, и меня не могли предупредить о приезде ленинградцев, а они уже были все между собой знакомы (тоже кроме Бродского, он же был младше). Вообще в ту пору не было ничего удивительного, что один из поэтов звонит другому и говорит «хочу познакомиться».
И вот мне позвонил Бродский, осенью 1960-го. Я знала, кто такой Бродский, по «Синтаксису». Мы встретились и ходили гуляли, разговаривали. В статье о Бродском я пишу, что он на «ты» говорить не решался, мне было двадцать четыре года, а ему двадцать, а в этом возрасте это огромная разница. А на «вы» ему гордость не позволяла. И он говорил со мной на польский манер: «А каких поэтов Наташа любит?» Мы договорились, что я приеду в январе на сессию и он меня со всеми познакомит. Иосиф еще не был уверен, что он среди этих поэтов действительно вполне авторитет, и он меня решился познакомить только с Бобышевым, с которым он больше всего тогда дружил. Кто бы знал, чем это кончится.
Он меня познакомил с Бобышевым, который меня принял сразу с распростертыми объятьями. Что касается Рейна, Иосиф дал мне его телефон и сказал: «Вот тебе телефон, позвони им и скажи, что ты знакомая Сергея Чудакова». Мы потом много лет это вспоминали и ложились все со смеху. Рейны были тогда Женя Рейн и его жена Галя Наринская, ныне жена Наймана. Я позвонила и сказала тогда: «Здравствуйте, это Наташа Горбаневская, я знакомая Сережи Чудакова». Галя мне говорит: «Да мы знаем, кто вы». Они меня лично не знали, но прекрасно знали, кто я такая. И все, я пришла в эту компанию.
Не застали мы тогда Ахматову с Димой, и я поехала обратно в Москву, потом рожала, потом на зимнюю сессию я не поехала, договорившись, что сдам зимние экзамены вместе с летними. И в мае 62-го года захожу в «Литературную газету», где тогда работал Непомнящий. И там всегда народ собирался. Там я с Максимовым познакомилась, с Войновичем, который приезжал на мотоцикле и заходил в шлеме. Валька сидел в отделе критики, и рядом в отделе поэзии сидела Галя Корнилова, с которой я там познакомилась. И я говорю: «Я скоро поеду в Ленинград, и я пойду к Ахматовой». Наверное, я все-таки уже начинала понимать, что такое Ахматова. Галя мне говорит: «Ахматова в Москве, позвони по этому телефону и иди к ней. Позвони и скажи, что ты хочешь прийти и почитать ей стихи».
«Почитать стихи…» Ко мне, например, в те же годы почитать стихи пришел человек под псевдонимом «Юпп», Миша Юпп, и зачитывал меня стихами. А я ему все время говорила: «Потише, а то у меня ребенок никак не засыпает» – у меня Ясик тогда был маленький. И тогда Юпп его «усвистал». Он насвистывал ему песенку, Ясик заснул, а Миша читал стихи дальше. Я помню, точно так же я была у Наташи Светловой, а ей позвонил Губанов, говорит: «Я хочу прийти к вам читать свои стихи». Я сидела в другой комнате, потому что мне его стихи не нравились, и не нравятся, и я только слышала, как он орет. Но это уже было СМОГовское время.
Возвращаемся в май 1962-го. Я позвонила, Ахматова мне назначила, когда к ней прийти. Но тут история такая: почти за год до того, когда мы с Димой ездили в Комарово, у меня был очень плохой период, у меня были жуткие стихи. В книге у меня всего одно стихотворение 1961 года. У меня был много стихов, даже поэму я начала писать, но это было совершенно… Годилось только на выброс.
А вот к маю 1962-го уже были написаны «Концерт для оркестра» и «Как Андерсовской армии солдат» – было что читать. Я, кстати, за пару месяцев до этого была в Переделкине, в Доме творчества, с Мишей Марьямовым у его отца, который был членом редколлегии «Нового мира», и ему ужасно понравились. К нему зашли Чуковский и Татьяна Максимовна Литвинова. Чуковского я видела первый и последний раз, а с Татьяной Максимовной мы до сих пор дружим. И Марьямов заставил меня им прочесть, и они с большим удовольствием слушали, какие-то хорошие слова сказали. Я думала, может, Чуковский записал что-то в дневник. Нет, не записал. (У меня Чуковский откликается в стихах, не раз. Я помню, сама я не заметила, стихотворение «Новая волна» 1974 года, Санька Даниэль мне говорит: «А ты знаешь, откуда у тебя „иссохшие души на суше“?» – «Летучие мыши на крыше». Ну конечно! А я потом Тименчику говорю: «А знаешь, откуда „иссохшие души на суше“?» Он сразу сказал.)
Я ей читала стихи, и ей вроде бы понравились. С Ахматовой, я говорю, чем больше я ее знала, чем фамильярнее она со мной обращалась и ждала от меня того же, тем больше я становилась навытяжку, внутренне. А когда она мне на работу звонила, прося перевезти ее из дома в дом, то надо мной на работе смеялись, что я у телефона стою по стойке «смирно». Вот я ей прочитала. Она меня похвалила, но ведь никогда же не знаешь, а вдобавок везде в воспоминаниях читаешь, что, когда Анна Андреевна не была чем-то увлечена, а обидеть не хотела, то говорила: «У вас хорошее чувство того-то или этого». Она уезжала в Ленинград, я ей сказала, что и я еду в Ленинград, она пригласила меня в Комарово. И я вернулась домой.
Чуть ли не в тот же день звонит мне Галка Корнилова и говорит: «Анне Андреевне твои стихи очень понравились». Я приезжаю в Ленинград, иду на этот самый филфак, где я заочница, где у меня почти нет знакомых. Я там познакомилась с одной девочкой в коридоре. Поскольку я курила болгарские сигареты Femina, она мне сказала: «Не поделитесь ли?» Я с ней поделилась, и мы подружились. Это была Ася Пекуровская, первая жена Довлатова, живет в Америке, была первая красавица Ленинграда.
Я подхожу к филфаку, на меня кидается народ с криками: «Говорят, Ахматовой понравились твои стихи». После чего в Москве, в Ленинграде, везде все знают «Концерт для оркестра». Когда один человек к другому, ничего плохого не думая, обращается: «Послушай…», и ему отвечают: «.. Барток». В записках Лидии Корнеевны об Анне Ахматовой есть описание того, как Бродский ночевал у Корниловых и как они с Володей отчаянно ругались, чуть не подрались. Только не написано, из-за чего, а они поругались из-за моего «Концерта для оркестра»: Бродский был за, Володя был против, но наизусть знали оба. Что называется, в один прекрасный день проснуться знаменитой. Кстати, есть прекрасный перевод «Концерта для оркестра» на французский язык. Вероника Шильц перевела. Вероника Шильц – это мадемуазель Вероника из стихов Бродского. И недавно замечательно перевел на польский Адам Поморский.
ГОРАЛИК Про сына расскажите?
ГОРБАНЕВСКАЯ Ну, я вообще очень долго хотела ребенка, была у меня такая идея. А поскольку у меня мама была мать-одиночка с двумя детьми, меня это не волновало, поэтому я полагала, что… Ну, как полагала, так и родила. Имя я для Ясика придумала года за два до рождения. Я тогда считала что, если родится мальчик, то Ярослав, а если девочка, то Анна. А следующий раз, когда Оська должен был родиться, я считала, что девочка родится, и уже не Анна, а Александра. А для мальчика никак не могла придумать, и когда он родился, никак не могла дать ему имя. Сидели, один приятель говорит: «А давай ему дадим какое-нибудь хорошее еврейское имя: Марк, Иосиф или Давид». И я из трех выбрала Иосиф. Марк я очень люблю имя, но я картавлю – почему у меня не Ярик, а Ясик. Так что замечательно. Хотя опять большая часть забот на маму пала.
ГОРАЛИК Каким ребеноком он был?
ГОРБАНЕВСКАЯ Во-первых, когда он был совсем грудной, мама очень боялась, чтобы не мешать соседям, поэтому ночью его все время прикачивала или меня заставляла прикачивать, и поэтому он очень долго у нас всегда засыпал. Я сидела ему часа два пела. Так было лет до пяти, наверное. Но вообще ребенок был хороший, только очень рано начал болеть, потому что, когда ему было восемь месяцев, у меня совсем кончилось молоко, и мама говорит: «Иди тогда на работу, а ребенка отдавай в ясли». И в яслях детей накормили клубникой, и пол-яслей заболело колиэнтеритом. И он у меня попал в больницу восьмимесячный с колиэнтеритом в довольно тяжелой форме, месяц там пролежал, мама все время ходила, учила его ходить, держась за загородочку. Конечно, по-настоящему он еще долго не пошел. Потом года в два у него был ложный круп, потом была дизентерия в среднетяжелой форме, и он попал в детскую больницу, и там был карантин по какой-то другой болезни, там его не выпускали, и его перевели в другую, реабилитационную больницу. Кончилось тем, что мы его забрали домой и сидели с ним. Детскими болезнями он никакими не болел. У него был очень сильный диатез, который перешел в нейродермит. За этим диатезом можно было проглядеть ветрянку. Во всяком случае, когда у меня Оська потом заболел ветрянкой, Ясик сидел дома на карантине, поскольку он или не болел, или считался не болевшим. Он у нас очень рано начал ходить на пятидневку, поскольку у мамы не было сил, а я тоже все время дома не сидела, бегала везде.
ГОРБАНЕВСКАЯ Когда Ясик родился, мы с мамой все время купали его вместе: она мне не доверяла, а я боялась. Пеленала его мама, потому что я боялась ему руки-ноги поломать, такие маленькие. И я помню, Ясику было что-то уже полгода, и ванна была уже приготовлена, и мама вдруг ушла. И я выскакиваю на лестничную площадку, кричу: «Мама!» – а напротив открывается дверь, и мне соседка говорит: «Что кричишь „мама“? Сама мама!» И тяжело было, и боялась, что руки-ноги поломаешь. Зато потом замечательно, Оська родился, я его крутила как хотела. Семь лет прошло, а оказалось, что все навыки остались. Мы же тогда детей пеленали, правда, у Оськи уже были двое отданных резиновых трусиков, и я его все лето не пеленала. Вообще интересно. Интересна разница между детьми и сходство. Когда Ясик был маленький, меньше года, как-то он ел и поперхнулся, и я ему постучала по спине. А у меня рука тяжелая. И ему ужасно понравилось, и он начал специально кашлять. И ровно та же история почти семь лет спустя повторилась с Оськой: тот же задорный взгляд, то же удовольствие от того, что похлопали по спине.
ГОРАЛИК Похожие характеры?
ГОРБАНЕВСКАЯ Вообще нет. Оська более ласковый. У нас вообще в семье ласки не были особенно приняты, мама меня целовала только маленькую. Я сейчас прощаюсь с семьей Ясика, со всеми целуюсь, а с ним почти никогда, ну разве что когда надолго уезжаю. Но это еще и от мамы моей зависело, хотя она его и ласкала, но Оську больше. И у обоих ей совершено не нравились имена, потом только привыкла – все-таки внуки. И вообще Ясик говорит, что я их не воспитывала, их воспитывала бабушка. Но это не совсем так, потому что, когда Ясику было, после того как он отболел, пять-семь лет, мы с ним очень дружили. Хотя он был на пятидневке, но уже вечер пятницы и субботу, воскресенье мы с ним все время проводили. Была одна зима 1967/68 года, когда я снимала комнату на Сивцевом Вражке, я его туда к себе забирала. Мы очень много там ходили по окрестностям, он научился различать старые и старинные дома «Этот дома, – говорил он, – старый. Но не старинный». Когда он был уже в первом классе, мы с ним пошли в мой любимый «Наш дом» – эстрадную студию МГУ – смотреть спектакль «Сказание о царе Максимилиане». Но я его смотрела четвертый раз. Мы с Ясиком там очень веселились, громче всех в зале смеялись, а потом пошли пообедать в ресторан «Националь». И с нами за столик села пообедать какая-то пара, муж с женой, и они стали расспрашивать Ясика: «Где учишься?» – «В первом классе». – «А кто твой лучший друг?» – «Мама». Он сейчас этого уже не помнит. Поскольку он Дева, у него и память девичья, он массу вещей забывает и какие-то вещи важные совсем не помнит.
ГОРАЛИК Что стало происходить со стихами? Что-то изменилось?
ГОРБАНЕВСКАЯ Я не знаю, я думаю, что это все-таки не с тем связано. Я говорила, что стихи 61-го года были все плохие, но они были и конца 60-го. Прямой связи нет, зато одно стихотворение 61-го года, которое осталось, я очень люблю.
Когда родился Ося, мне было тридцать два без двенадцати дней. Мне назначили роды на мой день рождения, а я его родила на двенадцать дней раньше. Но в тот год я действительно мало писала стихов, но я думаю, что это не из-за Оськи, а из-за занятости общественными делами.
До 1964 года я активно, вполне постоянно самиздатом заниматься не могла, поскольку у меня не было машинки, хотя на чьих-то машинках печатала, в частности «Синтаксис» или «Реквием» Ахматовой. А потом мне мама подарила машинку, чтобы я могла писать диплом. И после этого я очень интенсивно занималась, все перепечатывала.
Я никогда не была на Маяковке или на демонстрациях на Пушкинской площади – не потому что я чего-то боялась или отошла от общественной деятельности. Когда был «Синтаксис» и меня вызвали на Лубянку по делу о «Синтаксисе», я оттуда вышла вполне идеально. Когда я пришла туда третий раз, по делу Гинзбурга и Галан скова, мне следователь сказал: «Ну, вы уже человек опытный». Но для меня площадь была неестественна, демонстрировать – неестественно, читать стихи на площади неизвестно кому неизвестно в какой компании – неестественно. Если я потом вышла на Красную площадь, то это потому, что это единственное, что можно было сделать, все другие способы – слишком слабо.ГОРАЛИК Как для вас звучала эта страшная фраза – «вы человек опытный»?
ГОРБАНЕВСКАЯ Нормально, ведь к этому времени уже это было нормально: всех вызывают, всех допрашивают. Мне, перед тем как я шла на допрос, подруги говорили: «Может, ты какой транквилизатор выпьешь?» Я говорю: «Зачем? Чтобы я там уснула?» Единственное, что могло быть – от транквилизатора я могла на допросе уснуть. Как говорила Наташа Светлова: «Наташа у нас никого не боится, ни КГБ, только свою маму». Маме я не говорила, что иду на допрос.
ГОРАЛИК Было чувство, что где-то существует и ваше дело?
ГОРБАНЕВСКАЯ Предполагалось, конечно, но голову я этим не забивала. Это как бы нормально, это их дело за нами следить. Слежку на улице за собой я обнаружила только после демонстрации, когда они уже начали следить внаглую.
Вернулся из лагеря Алик Гинзбург, ну и я, конечно, постоянно бываю у них в доме (как бывала и без Алика, у его матери Людмилы Ильиничны). Многие приходили знакомиться с Аликом после его лагеря, и тут я, в частности, познакомилась с Гариком Суперфином, а потом все мои филологические знакомства пошли через Гарика. У меня появились знакомые на девять-десять лет младше меня.
Тут у меня завелся круг друзей, в котором появились Дима Борисов (уже нет в живых), Таня Борисова, которая еще не была Борисова, Машка Слоним. Колю Котрелева я узнала раньше у Алика, но я его еще не воспринимала как филологического знакомого. Он на пять лет был младше. У меня были какие-то немногочисленные друзья старше меня, такие как Лариса Богораз, Таня Великанова, или совсем уж почтенные друзья, как Лотманы, с Зарой мы потом перешли на «ты», а Юрия Михайловича я звала «Юрий Михайлович», а он меня все-таки стал звать Наташей.
В 1964 году Гарик поехал учиться в Тартуский университет, потому что в Москве ему учиться не давали, и мы все решили, что будем его навещать. Большой круг его друзей – вокруг Гарика всегда был большой круг – это был и мой круг. Эти компании частично пересекались, частично нет. И осенью 64-го я поехала в отпуск в Тарусу к Надежде Яковлевне Мандельштам, она меня быстро выставила, поскольку жить там было особо негде, и тогда я поехала в Ленинград, а оттуда автостопом в Тарту.
Впервые я была у Надежды Яковлевны в 63-м году во Пскове (меня с ней познакомила в Москве Анна Андреевна). Я ехала тогда мимо Тарту, у меня в Тарту никого еще не было. Я вернулась в Ленинград, проехав по треугольнику Ленинград – Таллин – Псков, и оттуда поехала домой. А в Тарту я поехала в 64-м году в октябре. Даже можно точно дату узнать, потому что, когда я села в первую машину, мне шофер сказал, что сняли Хрущева. И вот в Тарту, мимо которого я в свою первую поездку в Эстонию проехала, с тех пор я там бывала много раз, а последний раз в прошлом году. Я была на конференции в Таллине и не могла удержаться и на один день поехала в Тарту, конечно.
В Тарту тогда поступил учиться Гарик Суперфин, и мы все обещали ему, что будем его навещать, чтоб ему не было скучно и одиноко. На самом деле ему там ни скучно, ни одиноко не было, там была замечательная компания. Я приехала, вот тогда мы познакомились с Сеней Рогинским, которому было семнадцать лет, он был на втором курсе.ГОРАЛИК Вы были для него взрослые люди?
ГОРБАНЕВСКАЯ Как-то я, по-моему, никогда не была ни для кого взрослым человеком. Ну, мы очень подружились с ним, с Леной Душечкиной и, естественно, с Лотманами. С Лотманами, с Габовичами. Вообще там все очень дружили. Там было принято, чтобы студенты бывали в гостях у своих преподавателей-профессоров. Единственное, что Юрий Михайлович и Зара Григорьевна всех их величали по имени-отчеству: Арсений Борисович, Габриэль Гаврилович… Ну, надо сказать, по-моему, под моим влиянием через пару лет всех все-таки стали называть по именам. И Зара Григорьевна со мной очень быстро, ну тоже не в первый приезд, но во второй-третий, она мне сказала: «Наташа, давай по имени и на ты». С Юрием Михайловичем я, конечно, всегда была на «вы» и «Юрий Михайлович» (и даже за глаза до сих пор никогда не говорю «ЮрМих»), я все-таки была для него «Наташа». А тем более я очень не люблю быть «Натальей Евгеньевной». Я побывала тогда на двух лекциях Лотмана. Одна по XIX веку, причем по его, так сказать, коронному, преддекабристскому периоду, а вторая – по «Слову о полку Игореве». Те идеи, которые он развивал на этой лекции для, кажется, второкурсников, можно найти в его статье о «Слове», и я их действительно вполне разделяю. Но тогда я их услышала впервые.
ГОРАЛИК Какое это было время года в эту поездку?
ГОРБАНЕВСКАЯ Октябрь. В середине октября я выехала из Ленинграда на попутках, о чем у меня написан цикл «Три стихотворения, написанные в дороге». Там в каждом из трех стихотворений обыгрываются три названия города: Юрьев, Дерпт и Тарту.
ГОРАЛИК Что было зимой?
ГОРБАНЕВСКАЯ Ой, я так не помню.
ГОРАЛИК Хорошо.
ГОРБАНЕВСКАЯ Я не помню все подряд. Ну, во-первых, 64-й год – у меня уже была машинка, которую мне мама подарила перед тем, как я должна была писать диплом. Так что я безусловно занималась распространением самиздата, потому что до того я занималась только на чужих машинках и тем, что раздавала – где-то напечатаю, раздам, говорю: «вернете мне мой экземпляр и еще один». Так я распространяла «Реквием», когда у меня собственной машинки не было, но я своими руками все равно напечатала не меньше пяти закладок по четыре экземпляра (думаю, даже больше) и очень много раздавала вот так, с возвратом. А тут я уже сама вовсю, конечно, занялась печатанием самиздата, потому что это было самое увлекательное занятие в те годы.
ГОРАЛИК Я вас все время спрашиваю, и в той беседе спрашивала, про страшно – не страшно. Страшно было или нет?
ГОРБАНЕВСКАЯ Печатать самиздат?
ГОРАЛИК Ну и вообще. Вы мне тогда уже объяснили, что это не просто было не страшно, а вы сказали фразу, которая мне была очень важна: «Это их было дело за нами следить, а наше дело было…»
ГОРБАНЕВСКАЯ Да-да. А потом, это было очень интересно, потому что ведь в чем самая суть самиздата? Нет, машинисток, которые печатали за деньги, – этого было очень мало, а добровольцев, которые выбирали, что печатать. Тиражи…
ГОРАЛИК Что вы выбирали?
ГОРБАНЕВСКАЯ Ой, если б я щас вспомнила! Я уже не вспомню. Потом, бывало, что я и не могла печатать, если что-то дают на одну ночь. Я лучше помню, что я печатала уже позже, в это время не помню, но очень много, конечно.
ГОРАЛИК А позже? Что помните?
ГОРБАНЕВСКАЯ Позже? Ну вот, например, очень хорошо помню, как распечатывали книгу Толи Марченко в 67-м году. Ее распечатывали, я получила только кусок, роздали друзьям, нескольким людям на распечатку, и я довольно долго так и не читала книгу целиком. Где-то я ее прочла году, наверное, в 69-м, но до посадки еще. А так, я перепечатывала, мне было ужасно интересно, и мне было интересно, что же там еще, поэтому я, видимо, это особенно сильно запомнила. Ну что перепечатывала? Помню, я перепечатала письмо старому другу, которое я получила, дай Бог памяти, от Наташи Светловой, и отнесла Алику Гинзбургу для его книги, которая у него называется «Дело Синявского и Даниэля», которая с легкой руки «Посева» получила название «Белая книга». «Феникс-66» я для Галанскова не перепечатывала, но зато нашла для него бумагу, которая давала семь экземпляров очень хорошего качества, потом Павлик Литвинов эту бумагу называл фенологической – от слова «феникс». А я ее для чего-то своего нашла, я уж не помню для чего, но я ее Юрке посоветовала.
ГОРАЛИК Про 68-й.
ГОРБАНЕВСКАЯ Все это уже есть. Есть мои тексты про «Хронику», естественно, про демонстрацию. Как раз это меньше всего требует…
ГОРАЛИК Я-то как раз хочу спросить не про факты и не про историю, а про вас: что вы чувствовали все это время, как оно внутри вас было? Про это ничего, конечно, нет.
ГОРБАНЕВСКАЯ Ощущение, что делаешь то, что очень нужно и чего очень хочешь. Вот делала я эту «Хронику», первый выпуск, которая, я об этом тоже писала, идея носилась в воздухе, а в конце концов, я ее осуществила. Со мной сейчас переписывается Алеша Костерин. Поскольку знаменитое совещание в Долгопрудном, как его вспоминает в насквозь лживых воспоминаниях Виктор Красин, оно проходило, что я уже и забыла, на даче у его деда, и Алеша говорит, что есть много свидетельств о том, что именно там было принято решение о выпуске «Хроники». Я на это могу только сказать, что если оно было принято, то оно было принято без меня. Я, видимо, в этот момент была в другой комнате (там действительно большая дача). И что «Хроника» начала выходить не по этому «решению». А очень может быть, что люди с вождистскими замашками, то есть в первую очередь Красин, во вторую Якир, действительно приняли решение что-то выпускать. Тем не менее их решение выполнено не было, если оно было. Там был Григоренко, там был Костерин, я, как всегда, где-то там со своей, как мне всегда хочется верить, незаметностью, не находилась там, где был центр принятия решений. Очень может быть.
Но «Хронику» (то есть нечто, какой-то информационный бюллетень – названия еще не было), как только я вышла в декретный отпуск и поняла, что у меня появилось время, я действительно решила выпускать. Я попросила благословения у друзей. Мы были на Автозаводской у Юлика Кима и Иры Якир, и были Илюша Габай и Павел Литвинов. И они меня благословили. Такая была техника «принятия решения», которое-таки привело к выпуску «Хроники».
Уточню: я ее назвала «Год прав человека в Советском Союзе», а «Хроника текущих событий» было подзаголовком. Потом это сместилось. Взят был этот подзаголовок из передач ВВС, у них была такая программа – «Хроника текущих событий». И действительно все это повторяли, очень может быть, что когда-нибудь Красин сказал: «Вот когда-нибудь будем выпускать, пусть называется „Хроника текущих событий“». Очень может быть. Но это тоже не его уникальная идея.
И я стала собирать материалы для первого выпуска. У нас было очень много самиздата вокруг суда над Галансковым и Гинзбургом, были какие-то сведения о внесудебных репрессиях, были сведения от Марченко о положении в политлагерях. Я совершила еще объезд по сбору материала, я поехала в Ленинград.ГОРАЛИК К кому?
ГОРБАНЕВСКАЯ К Юре Гендлеру. Это группа ленинградцев, в которую входили Файнберг, Гендлер, Лев Квачевский, еще кто-то, с кем мы познакомились по письму-отклику на обращение Богораз и Литвинова «К мировой общественности». Вообще это обращение вызвало отклики в самых разных городах и создало нам знакомства по всей стране. Ну, более или менее. Но все-таки если считать Куйбышев, Горький (мне все хочется сказать: Самара), Нижний Новгород, но они тогда так не назывались, Украина, украинское было письмо, вот ленинградцы были, новосибирцы, еще из каких-то городов отдельные люди… Что касается Украины, было такое общее украинское письмо, где говорилось и о преследованиях, что были на Украине в предыдущие годы, и плюс к этому было отдельно еще харьковское письмо: Генрих Алтунян и… десять человек их там было, харьковчан, подписано. Так что появились знакомства. И я поехала в Ленинград. Я попала в Ленинград на окончание второго процесса ВСХСОНа. ВСХСОН – это Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа. Лидеров его – Огурцова, Вагина, Садо и, если правильно помню, Аверичкина – судили осенью 67-го, и им дали пятьдесят восемь-один, то есть семьдесят вторую тогдашнего кодекса статью – «измена Родине». У них в уставе было написано «свержение советской власти вплоть до вооруженных методов», и нашли один какой-то старый сломанный наган. Огурцов получил пятнадцать лет, остальные меньше, Садо в лагере стучал, про Вагина не скажу, но что-то такое тоже слышалось мне, не уверена, поэтому лучше не будем. Про Аверичкина вообще ничего не знаю. А весной 68-го судили (уже не по семьдесят второй, а по семьдесят-один, «антисоветская агитация и пропаганда») еще семнадцать человек: те были вожди, а эти – просто члены. Причем организация была действительно до семидесяти человек. И судили их по такому принципу: если человек хоть кого-то завербовал в организацию, он шел как подсудимый, а если нет – как свидетель. Один из этих свидетелей пришел к Гендлеру и рассказывал, и это все я потом записала. Из Ленинграда я поехала в Тарту.
ГОРАЛИК Можно один вопрос? Вы сказали, что отклик на это письмо «создал нам знакомства по всей стране». Мне хочется вас спросить: вот по ощущениям – кто такие были «мы»?
ГОРБАНЕВСКАЯ Мы были какой-то такой складывающийся кружок московских правозащитников. Как раз с одной стороны – вокруг Богораз и Литвинова, с другой стороны, хотя это был один и тот же примерно круг, – вокруг начавших проявлять вождистские замашки Красина и Якира. Но, в общем, все были еще друзья. И Красина я считала одним из ближайших друзей тоже. Но известно, с какого момента я перестала так считать, – с разговора с ним после демонстрации, когда он мне сказал: «Если б я был в Москве, я бы вашу демонстрацию запретил». Это есть в «Полдне», и теперь там есть сноска о том, что это Красин. Человек для меня как друг перестал существовать, когда он о своих же, о наших друзьях отозвался как о функционерах. Но дело в том, что действительно через эти московские круги информация из республик, из провинции шла на Запад.
ГОРАЛИК Вот это было главной работой?
ГОРБАНЕВСКАЯ Нет, это не было главным – важным, но не главным, и я сама передачей на Запад не занималась, у меня просто не было никаких каналов. Этим занимался Андрей Амальрик, этим занимался Петр Якир.
ГОРАЛИК Вы сказали про «Хронику»: «это было очень нужно». Каким было ощущение этого «нужно»?
ГОРБАНЕВСКАЯ Для меня важнее было, чтобы это все пошло в самиздат. Но, с другой стороны, самиздат не всюду достигает, поэтому рассчитываешь, что какие-то копии самиздата попадут на Запад, будут переданы и их услышат гораздо больше людей. Не надо забывать, что этому ничтожному меньшинству помогали не только западные радиостанции, еще и помогала эмиграция. Поскольку я сама с декабря 75-го года в эмиграции, я знаю нашу роль, роль эмиграции. И польские оппозиционные какие-то первые зачатки группировок тоже начинались с меньшинства. Они взращены парижской «Культурой», и, я думаю, может быть, не настолько, мы начались гораздо позже, все-таки очень большая роль «Континента». Причем «Континент», который был средоточием не только русской, не только советской, но и восточно-европейской эмиграции и оппозиции, играл еще особую роль как бы связного между этими народами. У нас же можно было прочитать и поляков, и чехов, и украинцев, и кого хочешь. Я понимаю, это опять ничтожная горстка доходивших сюда экземпляров, тем не менее они доходили и передавались из рук в руки. Читателей у них было гораздо больше, чем самих экземпляров.
ГОРАЛИК Сейчас это называется «вирусное распространение».
ГОРБАНЕВСКАЯ Да-да-да.
ГОРАЛИК Так. 68-й – Тарту. Вы поехали после Ленинграда в Тарту…
ГОРБАНЕВСКАЯ В Тарту. Я поехала – у кого я даже жила, не помню, у Лотманов или у Габовичей – на несколько дней. Но моя главная задача была встретиться с Марком Никлусом, о котором мы все узнали как раз из книги Марченко «Мои показания». Он сидел в Мордовских лагерях и потом на какой-то, я уже не помню на какой, остаток срока был отправлен во Владимирскую тюрьму. И незадолго до того, как я туда ехала, ну сравнительно незадолго, он освободился. И я у него собрала сведения о политзаключенных Владимирской тюрьмы, и у него же, по-моему, – об особой зоне Мордовских лагерей. В общем, я приехала в Москву с дополнительными материалами, кроме того, что происходило вокруг дела Гинзбурга – Галан скова, иначе получалось: что мы уже знаем, про то и пишем. Конечно, мы знали очень мало, и надо было еще много узнавать.
Первый выпуск «Хроники» был небольшой, это было, по-моему, двадцать одна страница на машинке, а может быть меньше, через один интервал, но… по-моему, двадцать одна. И я чувствовала, что делаю то, что нужно, и, более того, то, для чего я гожусь, пожалуй, лучше других. Потому что к тому времени меня оценили как редактора, потому что то же, скажем, «Обращение к мировой общественности» Лариса мне показала: «Наташа, посмотри». Что-то мы с ней, вместе глядя, подредактировали. Потом когда писали коллективные письма, то было такое письмо, под которым было больше всего подписей, я была одним из его составителей и, собственно, главным окончательным редактором. И меня стали ценить как редактора. И я действительно думала: машинка у меня есть, печатать я умею, редактировать умею. Вот и составляла «Хронику». Мне потом, уже осенью наверное, кто-то сказал: «Наташка, ну так же нельзя, читаешь „Хронику“ – и слышишь твою интонацию». А поскольку я вообще человек интонационный, естественно, это переходило. Или моя любимая история, как я приятелю, уже году в 73-м, говорю: «Ты „Полдень“ читал?» Он мне говорит: «А я вообще не люблю прозу поэтов». Я говорю: «А ты „Хронику“ читал? Хорошая проза?» – «Хорошая». Я говорю: «Вот это и есть моя проза». И это верно: «Хроника» – это моя проза. Не могу сказать, что там все идеально удачно, но, между прочим, если сравнить первый, второй, четвертый, пятый и т. д. – и третий выпуск, который редактировали Якир, Габай и Ким, – я собранные заранее материалы до демонстрации отнесла… Не тот стиль, да. Но, надо сказать, я действительно старалась, чтобы было безэмоционально. Я изгоняла эти «ахи», «охи», возмущения. Я считала, и до сих пор считаю, что сухие факты действуют гораздо сильнее. И это стало главным достоинством «Хроники» на многие годы. Иногда местами, моментами, конечно, нарушалось, но в целом стала безэмоциональной, безоценочной.
ГОРАЛИК Тяжело? Это же очень тяжело – делать про такие близкие вещи безэмоциональный, безоценочный текст, особенно поэту.
ГОРБАНЕВСКАЯ Да. Там есть два знаменитых текста, которые можно просто включать в мои собрания сочинений, один текст этот знаменитый «Как написать в „Хронику“», им кончается, по-моему, пятая «Хроника». «Если вы хотите передать информацию в „Хронику“, передайте ее тому, от кого вы получили экземпляр… – и т. д., – только не пытайтесь пройти всю цепочку целиком, чтобы вас не приняли за стукача». Вот. А второй текст – это у меня был в рубрике «Обзор самиздата», это уже 69-й год, по поводу появившегося в самиздате памфлета на арестованных и посаженных в психушку главарей неонацистской организации. Памфлет назывался «Своя своих не познаша»: что-де советская власть должна была раскрыть им объятия, а она их посадила. И тут я написала, что «Хроника», как известно, воздерживается от всяких оценок, но в данном случае мы считаем нужным указать, что, каковы бы ни были взгляды этих людей, они сидят. Они политзаключенные. И нельзя над ними издеваться, будучи на воле. Вот эти два текста можно вставлять в любое мое собрание сочинений.
ГОРАЛИК Про ожидания: вы лучше всех понимали, что вокруг происходит. Вы лучше всех понимали, что, издавая «Хронику», вы приближаете некоторый сценарий развития событий…
ГОРБАНЕВСКАЯ Да. Но вот интересно – вот, скажем, Павлик Литвинов говорит, когда он говорит про демонстрацию: «Я знал, что меня не за то, так за другое посадят все равно». Но у меня этого не было. Я, в общем, считала, что главное – чтобы посадили как можно позже, главное – успеть как можно больше. Но, когда произошло вторжение, я не могла, я пожертвовала даже «Хроникой», полагая, что меня, естественно, посадят сразу после демонстрации, никто не знал, что они меня временно оставят на воле. А когда меня оставили, я возобновила занятия «Хроникой» и стала составлять книгу «Полдень». То есть сначала мы составили после процесса все эти последние слова и защитительную речь Ларисы, и потом… Ну, составляла с помощью людей, которые были на суде. Это чудо было – очень много родственников пустили. И тут мне было очень важно успеть, потому что я понимала, что теперь я точно знала, что меня арестуют, знала когда, что надо успеть. Вот тут я боялась не успеть и боялась обыска. Обыски мне снились по ночам. Я пишу это в предисловии к московскому изданию книги: был такой момент, когда у меня под кроватью лежали половина оригинала «Полдня» и все семь перепечатанных экземпляров этой половины. Как только я отдала, докончила «Полдень» к двадцать первому августа 69-го и раздала экземпляры, мне обыски сниться перестали. После чего ко мне стали приходить с обысками, но мне уже было не важно. Вот тут я знала, что они ждут, чтобы на Западе про меня забыли, чтобы мой ребенок прилично подрос.
ГОРАЛИК В этих событиях участвуют три Наташи: Наташа-правозащитник, Наташа – живой человек и Наташа-поэт…
ГОРБАНЕВСКАЯ Да я одна.
ГОРАЛИК Вот расскажите, как это – «я одна»? Вот живой человек готовится, что его посадят. Сын, семья… Что нужно сделать было, что успеть? И что в это время с поэтом Наташей происходило?
ГОРБАНЕВСКАЯ Нужно было найти нового редактора «Хроники», но с этим так до конца ничего и не вышло. Известно, я ее передала Гале Габай, и к Гале сразу пришли с обыском, потому что в этот дом и до ареста Ильи, и после ареста Ильи приходили с обысками как ни к кому.
И Галина мама материалы к одиннадцатой «Хронике» утопила в кастрюле с супом. Так что их не забрали. А я договорилась с Володей Тельниковым, что он ко мне придет вечером двадцать четвертого декабря, я ему передам материалы и покажу, как что делать. Он должен был прийти вечером двадцать четвертого декабря, а утром двадцать четвертого декабря ко мне пришли с обыском и, как оказалось, уже с ордером на арест. Тем не менее… Опять это все можно найти, я это рассказываю, каким чудом у меня уцелели две разные пачки материалов одиннадцатой «Хроники». Все уцелели и достались в руки Иры Якир, а она уже их передала, уже стали делать «Хронику» без меня. И одиннадцатая «Хроника» открывалась сообщением о моем аресте. А материалы к «Хронике»…
Дело в том, что у меня делали-делали обыск, поняли, что слишком много, собрали все в один мешок, запечатали и сказали, во время следствия составим протокол. И никогда, конечно, никакого протокола, только я этот мешок и видела… И у меня было впечатление, что конверт с материалами к одиннадцатому номеру остался у меня в письменном столе. Но я не была уверена. А раз протокола не сделали, я не знала, попал он в мешок или нет. Узнала, только когда вышла. Он уцелел. У меня была на обыске Ира Якир, и я, когда меня уводили, во-первых, глазом показала на карман зимнего пальто, в котором лежали накануне записанные материалы от жены политзэка Валерия Айдова, которая возвращалась из лагеря. Там были материалы о голодовке, все это. А кроме того, я, целуясь с Иркой, шепнула ей: «Прошмонай письменный стол». И когда я вышла: «Ирка, ну что, были?» – «Были». Они нашлись. Потому что это не только потеря материалов – это черновики, написанные десятками почерков. Это материал – улика на массу людей. То есть это чудо, меня просто… Вместе со мной еще многих людей судьба уберегла. Но это было единственное, в чем я готовилась. А так в чем я еще могла готовиться?ГОРАЛИК Семья ваша же тоже понимала, к чему идет?
ГОРБАНЕВСКАЯ Ну, в общем, да. Да. Потом только, когда сидишь, понимаешь, что хуже всего приходится нашим мамам.
ГОРАЛИК О да.
ГОРБАНЕВСКАЯ Хуже всего. Вот у меня сейчас как раз гостит моя давняя подруга Вера Дашкова. В Париже. И вот мы с ней об этом говорили. Нашим мамам, им пришлось хуже, чем нам. Мы-то сами в петлю лезли.
ГОРАЛИК Как справлялась (если про это можно спросить вообще; если нельзя – не говорите) ваша мама?
ГОРБАНЕВСКАЯ Ну как она справлялась? Во-первых, у нас могли быть очень сложные отношения с мамой, всякие пререкания, даже ссоры, но, когда наступал трудный момент, мама становилась всегда просто героическим человеком, стоявшим на моей защите, слова плохого обо мне никогда не сказавшим, ни когда ее на экспертизе спрашивали у психиатра, ничего. Везде говорила только хорошее. Хотя обо мне можно, особенно в семейном плане, и плохое сказать. Нет, мама – нет. И потом, конечно, ей все время угрожали тем, что, если она будет пускать моих друзей в дом, у нее отнимут опекунство. Ей и так с трудом оформили опекунство, тем более что жена моего брата говорила, что матери нельзя доверять опекунство, что детей надо забрать в детский дом. То есть органы опеки оказались куда более гуманными, чем эта самая моя невестка, в ссорах которой с моей мамой я когда-то становилась на ее сторону. Я себе этого простить не могу.
ГОРАЛИК Я думаю, что ваша мама все понимает.
ГОРБАНЕВСКАЯ Мамавсе – да, все понимала, все понимала. Более того, брат ей сказал после моего ареста: «Выбирай» (то есть меня или его). Ну, считаю: какая мать выберет не того ребенка, которому плохо? Я такую мать себе не представляю. Они очень переживали, как из-за нее Мишка не поступит в университет на археологию, куда он хотел. Племянник мой. Он поступил в Университет дружбы народов, куда для поступления, простите, требуется характеристика райкома комсомола. Ну и процветает до сих пор. Знаменитый у вас человек. Ну, не важно.
ГОРАЛИК Наташечка, про арест…
ГОРБАНЕВСКАЯ Ну, арест. Арест… Во-первых… Есть вот «Как я порезала следователя» рассказик. Ах, как они обрадовались, как они забегали звонить Людмиле – забыла, как ее отчество, – Акимовой, следователю городской прокуратуры. То есть, думаю, сейчас дадут статью «терроризм». Дали статью «нападение на представителя» чего-то там. Следователь-то, он пришел… Нормальный следователь районной прокуратуры, района не моего. Он приходит, с ним приходят два не названных гэбэшника, оба они у меня были на предыдущем обыске. Один наглый, другой так, потише. И другой, как я тогда заметила, оставил у меня на полке западный том Мандельштама. Ну, западные издания изымали не всегда, не то чтобы он пропустил из чувства, но он… нет, не подвиг совершил, но прошел мимо, решил: ладно. А вот этот вот мордатый страшно обрадовался и побежал звонить Людмиле, кажется, Сергеевне. Ну вот, повезли меня, а дальше все написано в моем стихотворении, как же оно начинается… но кончается оно «в участковой КПЗ / Ленинградского района / нашей родины Москва», и в примечании к нему. Это все есть в «Полдне», есть в приложении к «Полдню», так что можно не пересказывать. Потом привезли меня оттуда, совсем промерзшую, в Бутырку. Еще мне принесли туда на следующий день из дома то самое зимнее пальто. Я ушла в куртке именно потому, что в кармане пальто лежали бумаги. Мне принесли зимнее пальто, я вся закутана. Там где-то нас выпускают в Бутырке, то, что называется «вокзал». Кто-то там кричит – спрашивает, какого года, я говорю: «36-го». – «А выглядишь старушкой». Я-то привыкла, что меня всегда девчонкой считают, а тут меня в этом старомодном зимнем пальто, еще в каком-то платке закутанная, за старушку приняли. Ну ничего, потом, как всегда, обычный прием в Бутырке, обыск, фотографирование, шлепанье пальцев, оттисков, потом камера.
ГОРАЛИК Чем были мысли заняты?
ГОРБАНЕВСКАЯ Мысли у меня были заняты одним и тем же: собираются они меня признать невменяемой или нет. Это был мой основной страх. Дело в том, что незадолго до ареста вдруг засуетились мои психиатры, где я состояла на учете, и сказали: «Вы знаете, поднимается вопрос о том, чтоб снять вас с учета». Я говорю: «Давайте». И они разбирали, какой-то был главный психиатр города Москвы. В общем, они написали так в конце концов: «данных за шизофрению нет, но временно оставить на учете». И мне было непонятно – может быть, есть решение отправить меня в лагерь, и я очень радовалась. Я боюсь, что в камере на спецу, где я сидела, я сама как дура говорила, что боюсь только Казани, только спецбольницы, и что это донесли. Я не знаю, я не уверена, что это так, я не могу быть уверена. Но я этого действительно боялась. Я вот тут кому-то вчера рассказывала: «Я сегодня утром вдруг почему-то вспомнила и попробовала себе представить Казань, но увидела ее не такой, как видела и помню, а такой, как видела во сне в Бутырке». Такие высокие своды, такое все темное, не столько страшное, сколько мрачное и… В общем, пустое все. Где я? Я даже не могу сказать, что я среди этих сводов или среди этих каких-то полулестниц-получего. В общем, на самом деле это был правильный сон, потому что все мое пребывание в Казани – это черная дыра. Я, выйдя из Казани, до самого отъезда в эмиграцию никому никаких подробностей об этом не рассказывала. Я говорить об этом не могла, я говорила: ребята, черная дыра. Говорить стала только в эмиграции, только потому, что надо было спасать других. Только потому. Вот как я встретила недавно Славика Игорунова и говорю: «Вот человек, которого я спасала». Он говорит: «И спасла!»
ГОРАЛИК Когда вас оттуда перевели?
ГОРБАНЕВСКАЯ Меня – сложным путем. Меня еще перевели сначала в Институт Сербского, где окончательно решалось. Был большой шум на Западе. Была же документация Буковского об использовании психиатрии в политических целях, общая, где он излагал всю историю вопроса плюс шесть отдельно документированных случаев. И мой случай был документирован подробней всех благодаря Софье Васильевне Калистратовой. И шум был страшный. Я помню, когда меня уже везли из Казани в Институт Сербского, привезли в Бутырку, где я как бы транзитом пробыла еще три недели. Я говорю, я не рассказывала, как было, но когда я при людях сказала, что… когда приехала из Казани в Бутырку, то входила, как в родной дом. Потом Краснов-Левитин привел это мое высказывание. По сравнению с Казанью – да, Бутырка выглядела домом.
Выпустили меня (уже из Института Сербского) двадцать второго февраля 72-го года, и просидела я два года и два месяца без двух дней. Никогда эта цифра «два», ни раньше, ни позже, ничего в жизни не значила, а тут она повторилась двадцать второго, второго, 72-го, два года, два месяца, без двух дней. То есть фантастика какая-то.
Вот я вышла, мама меня встретила, повезла домой. Я узнала, что рядом у Иры Уваровой Лариса Богораз, что она там лежит болеет, побежала сразу туда. Значит, у Иры Уваровой и Юлика Даниэля. Побежала бегом туда, перепила кофе сразу. Детей увидела до того, как бежать в гости, разумеется.ГОРАЛИК Можно спросить, как они это все воспринимали? Понимали, знали?
ГОРБАНЕВСКАЯ Ясик знал. Ясику, во-первых, я рассказала о демонстрации, после нее. Только сказала: «Разумеется, ни с кем об этом не говори». И вообще с Ясиком я обо всем разговаривала.
У нас была замечательная сцена. Накануне ареста я была с Ясиком у Арины Гинзбург, вот как раз там я взяла эти материалы от Леры Айдовой. Я давала кому-то, Арине или Верке, свою машинку и должна была ее забрать у Арины, и мы стали спускать в лифте, с нами едет какой-то мужик – ну, можно догадаться, какой мужик, – я говорю: «Ой, Ясик, машинку-то я забыла, подымаемся!» Мы забираем машинку, едем в лифте, Ясик говорит: «Я теперь на ней буду самиздат печатать».
Но Ясик был такой человек – он никогда никому, он и сейчас такой, ни о чем не проговорится. А Ося был не такой. Я это выяснила очень быстро. Я вернулась, мы едем – мы ездили в гости к друзьям – по Хорошевскому шоссе, поперек висит плакат. И Ясик маленький спрашивал: «Мама, это что такое?» Я говорю: «Если видишь белыми буквами на красном что-то написано – это все глупости». И то же самое происходит, и то же самое я отвечаю Осе, и он тут же рассказывает бабушке. Он совсем другой. Поэтому я ему ничего больше не рассказывала…
И вот мы прилетаем в Вену в декабре 75-го года, я даю большое интервью радио «Свобода», мы сидим и слушаем это интервью, и вдруг Ося говорит: «Мама, это я тот ребенок?!» И с тех пор как он усвоил, что он тот ребенок, он этим необычайно гордится, конечно. Вот «тот ребенок» – как раз папа моей внучки московской.
А Ясик всегда был в курсе, мои друзья были его друзья. Для Оськи они, когда приходили, – это были все-таки тети и дяди. Вот приходят там, та же Вера Лашкова, его крестная, Таня Великанова приходила, Нина Литвинова… Мама все-таки их всех пускала, хотя ей и угрожали.
А потом я посмотрела: для этого опекунского совета из школы должны были приходить и составлять отчет о том, как живет старший ребенок. Если почитать этот отчет, можно было подумать, что ребенок живет во дворце, такой они писали замечательный отчет, и что в бабушках у него просто Василиса Прекрасная и Премудрая вместе взятые. Что, может быть, так и было, но… Люди сострадали. Люди не разделяли моих взглядов, но они сострадали. Это были не сталинские времена. Это были не те времена, когда переходили на другую сторону.ГОРАЛИК Сколько им было, когда вы вышли? Сколько мальчикам было? Ясик ведь большой?
ГОРБАНЕВСКАЯ Оське должно было скоро исполниться четыре, в мае, а Ясику в сентябре исполнялось одиннадцать. Они побывали оба у меня в Бутырке на свидании. Но Оська ничего это, конечно, не усвоил. А Ясик был, кроме того, один раз – мама его привезла и в Казань на свидание. И он потом присылал мне письма с картинками, рисовал казанский кремль. Нет-нет, Ясик все знал и все понимал.
ГОРАЛИК Что начало происходить? Вы вышли в 72-м. Ожидания, сценарии будущего, планы, – какими они были?
ГОРБАНЕВСКАЯ Ну что было? Во-первых, я садилась – никакой эмиграции не было. Я вышла – эмиграция была вовсю. У всех был главный вопрос: ехать – не ехать? Для меня было ясно – не ехать. И никуда я не собиралась.
ГОРАЛИК Почему?
ГОРБАНЕВСКАЯ Да нипочему. Как-то так. Поехала на весенние каникулы, я вышла в конце февраля, с Ясиком в Ленинград. (Нет, это был уже 73-й год, в 72-м мы с Ясиком на весенние каникулы ездили в Вильнюс.) Взяла с собой Митю Русаковского, сына Майки Русаковской, жены Павла Литвинова, с собой, и там были тоже зэковские дети – Димка Йоффе и Мишка Зеликсон. Эти дети безумствовали, купались в Зимней канавке, в марте, во льду, страшные дети. А я как-то тоже виделась со всеми. Куда-то мы пошли с Димой Бобышевым, он говорит: «Ты видела, за тобой едет машина?» Я говорю: «А я никогда не вижу». И мы туда зашли, посмотрели в окошко, увидели, что она стоит и, видимо, слушает. Ну, ездят и ездят – мне что? Когда я вернулась, меня вызывают в психдиспансер и сразу задали вопрос: «Зачем вы ездили в Ленинград?» Они не спрашивают меня, где я была, они это уже знают, только спрашивают зачем. Я говорю: «Как – зачем? Я поехала на каникулы школьные». В общем, до самого отъезда никогда никуда меня не вызывали, кроме как в диспансер… «Вы должны устроиться на работу». Я говорю: «Хорошо, постараюсь». А у меня к тому времени уже назревала работа, но я им не сказала: боялась, что они помешают. «Если у вас не будет работы, мы вас посадим на инвалидность». На инвалидность я садиться не хотела. И поэтому я понимала, что могут помешать. У меня назревала там какая-то работа, она была временная, тем не менее. И до самого отъезда никогда никакого КГБ, никакой прокуратуры, никого не видела. Видела только психиатров. Все угрозы мне объявлялись только психиатрами. А главная угроза была инвалидность.
ГОРАЛИК Многие сейчас уже не понимают, почему это была «угроза»…
ГОРБАНЕВСКАЯ Инвалидность означала, что в любой момент меня могут забрать снова в психушку, без всякого дела. В обычную, конечно, не в спец, просто положить, и все. И я этого никак не хотела. Я, в общем, все эти годы так или иначе работала. Какие-то у меня были временные работы, потом я нашла даже довольно постоянную в Библиотеке им. Пушкина. Постоянную, но на полставки. Меня это устраивало, потому что у меня было много работы договорной. Я делала переводы, рефераты, я этим жила. На полставки на эти я прожить не могла, но у меня было прочное место. Это Библиотека им. Пушкина Бауманского района. Меня взяли туда делать карточки, иностранное описание, потом описание нот, а я этому не только со времен, как я сама работала в Книжной палате, но с самого маленького детства, когда еще моя мама работала в Книжной палате, я уже знала, что такое каталог, что такое – тогда еще был – библиотечный почерк. Теперь я делала эти карточки на машинке. У меня была машинка с латинским шрифтом, и я могла иностранный каталог делать, перепечатывать тот, который был рукописный у них. Тоже часть работы делала дома. И могла все время зарабатывать. Я зарабатывала в Институте информации при Министерстве сельского хозяйства, куда меня когда-то послали, еще до ареста, и потом там стали меня как-то очень ценить, и тут я опять к ним вернулась. Плюс я зарабатывала рефератами в ИНИОНе. Но дело в том, что когда я первый раз пришла туда с рефератом, то одна баба, потом, кстати, эмигрантка, сразу по начальству настучала, кто такая Горбаневская. Они бы прошли, ну Горбаневская и Горбаневская, но когда им сигналят, они уже не могут. Поэтому мне надо было на чье-то имя это делать. Я уже не помню сейчас на чье. В общем, я делала со всех славянских языков рефераты, вплоть до македонского, которого у меня не было словаря, и я делала при помощи сербского и болгарского. К счастью, это был не перевод, а реферат, поэтому все-таки я думаю, что все изложила правильно, я совсем не халтурщик. Потом у меня все-таки внезапно, вот как у меня было «не ехать», так у меня резко, в один день стало «ехать».
ГОРАЛИК И вот в один день стало «ехать»…
ГОРБАНЕВСКАЯ Ну, день я так точно назвать не смогу, но это был 74-й год, сначала была высылка Солженицына, то есть был сначала арест Солженицына, и я поехала к Наташе, была там, сидела на телефоне, я еще не была такая глухая, как сейчас. И потом звонило там какое-то канадское радио, и Андрей Дмитриевич сказал какой-то текст им, и мы все, кто были кругом, много народу у нее собралось, как бы подписали его. Потом следующим шагом было письмо, которое я подписала в защиту Плюща. Я знала, что это такое – спецбольница, Плющ сидел в тяжелейших условиях, и просто меня-то оттуда спасли, и я не могла не подписать в его защиту. Но я понимала, что еще шаг сделаю – и все, и решила, что пора сваливать. И попросила, мне прислали приглашение из Франции.
Прислали мне приглашение из Франции, дальше все было очень смешно. Приглашение на год, а в конце у них там есть такое белое место: «Хотите ли вы еще что-то написать?» Я написала, что поскольку здесь я не обеспечена работой по специальности, то если я во Франции найду работу по специальности, буду просить, чтобы мне дали паспорт на постоянное жительство. Отдала документы и живу себе. Вдруг мне звонят: приезжайте срочно в ОВИР. Я приезжаю срочно в ОВИР. Мне говорят: «А вот если вы так пишете – не хотите сразу подать на постоянное жительство?» Я говорю: «С теми же документами?» – «Да, с теми же документами». Я говорю: «Почему нет?» Подаю на постоянное жительство, иду домой. Через два месяца мне отказывают. Приглашение у меня было на год, тем не менее они мне отказывают. Очень забавно: это было в период, когда была введена поправка Джексона-Вэника, когда Америка боролась за желающих эмигрировать, и буквально на следующий день после того, как мне отказали, была такая маленькая заметочка от Телеграфного агентства Советского Союза: какие-то там власти сообщают, что вот за границей очень борются за желающих выехать из Советского Союза на постоянное жительство, а на самом деле число желающих выехать на постоянное жительство все время снижается. Я оказалась в числе тех, кто не хочет выехать на постоянное жительство. Зачем это все надо было, я не знаю.
После этого я решила не валять больше дурака и поехать «обычным путем», то есть с израильским вызовом. Заказала Майке Улановской, нашей всеобщей «двоюродной сестре», которая всем присылала вызовы. Заказала… Пока я собрала документы, пока что. За это время, когда я собиралась во Францию, чтобы не подводить свою эту библиотеку, я от них уволилась. А потом прихожу, говорю: «Вы знаете…» – «Ну, давайте мы вас снова возьмем». И потом я, значит, собираюсь-собираюсь-собираюсь, подаю документы в Израиль, мне нужна характеристика с работы. Опять. Я им написала какую-то плохую характеристику: в профсоюзе, мол, не состояла, общественной работой не занималась. Они даже обиделись: «Да зачем, не нужно так!» – написали нормальную характеристику.
Подала документы – не отвечают, не отвечают – нормально, и потом я оказываюсь в больнице. Мне делали операцию. И в это время происходит одна вещь, о которой я не знала до 90-го года, пока не приехала одна моя подруга из Москвы и не рассказала мне. Звонят моей маме, говорят: «Вы что, с ума сошли, куда вы вашу дочь и внуков отпускаете?» А требовалось же разрешение от родителей. То есть не разрешение, формально это было так: «материальных претензий не имею».ГОРАЛИК Она уже не была опекуном в этот момент?
ГОРБАНЕВСКАЯ Нет-нет-нет. Значит, «куда вы свою дочь и ее детей отпускаете? Они же там погибнут». Заботливые какие нашлись. Для мамы это была трагедия – с нами расставаться, а ехать она не хотела. Она говорит: «Моя дочь достаточно взрослая, чтобы решать сама за себя». Через два дня приходит разрешение.
ГОРАЛИК Это, видно, была последняя попытка надавить.
ГОРБАНЕВСКАЯ Да. Приходит разрешение, я лежу в больнице, потом выхожу и говорю: «Вот у меня разрешение, но я сейчас после операции и ехать не могу, так что вы мне продлите». «Ой, вы знаете, мы одним продлеваем, другим не продлеваем, позвоните тогда-то». Я решила так: не продлят – не еду, все, черт с ними, остаюсь, что бы ни было. И еду прощаться в Ленинград.
ГОРАЛИК Прощаться или на тот случай, или на другой?
ГОРБАНЕВСКАЯ Ну, на всякий случай поехала прощаться. Побывала, кстати, у родителей Бродского тогда. Мне тогда Мария Моисеевна рассказывает, говорит: «Иосиф нам прислал приглашение, а нам в ОВИРе говорят: а мы его в Америку не посылали, мы его в Израиль посылали». Тогда мне его отец подарил фотографию семнадцатилетнего Иосифа, она есть теперь на сайте «Вавилона».
И как раз в Ленинграде пришло время мне туда звонить. Я звоню, говорю: «Ну как?» – «Вот когда будете в состоянии ехать, тогда и приходите за визой». Ну, я прогуляла – в общем, получилось от разрешения до отъезда я прогуляла три месяца. Чего ни с кем не бывало. Галича выкинули в пять дней, а я прогуляла три месяца.
Замечательные у меня были проводы, с утра субботы до утра понедельника. Ким пел, все приходили, я стихи читала, естественно. Пришел в один день, а потом пришел на другой день отец Сергий Желудков, говорит: «Очень понравилось, пришел еще раз». И тогда же он сказал замечательную фразу: «Стихи, все это, конечно, прекрасно, но главное – она мать „Хроники“». Вот так. И так мы уехали на таком взлете.
Конечно, с мамой прощались. Мама – это самое тяжелое. Ну, как-то я была уже вперед, я всегда вперед устремлена. Вообще на самом деле я живу сегодняшним днем, но сегодняшний день, который быстро превращается в завтрашний. И детям, конечно, было страшно интересно. И, конечно, понимали, что с бабушкой прощаются навсегда. Вот это тоже понимали. Насколько они это понимали, чувствовали, это их надо спросить, но все-таки понимали.
И мы приземлились в Вене, сошли, у меня во время моих путешествий автостопом бывало такое ощущение: когда долго идешь, а потом снимешь рюкзак и тебя земля начинает подбрасывать, – и вот тут я почувствовала это. Я сняла рюкзак, и меня земля подбрасывает. И тут же в аэропорту на меня кинулись журналисты, их привел Лева Квачевский, один из тех ленинградцев, которые сели в августе 68-го, еще до нашей демонстрации, они сели за то, что собрались писать письмо в поддержку чехов. И их взяли за этим письмом. Витьку Файнберга тогда отпустили, но он приехал к нам и с нами участвовал в демонстрации.
Вот Лева Квачевский навел на меня всю австрийскую прессу, потом всякая другая набежала. Но потом, правда, все это прервалось, потому что мы попали в Вену ровно в те дни, то есть буквально через два-три дня после нашего приезда был налет террористов на ОПЕК. Так что все эти журналисты кинулись туда. В общем, мы пробыли почти месяц в Вене, пока нам оформляли какие-то документы во Францию. Мы уезжали – не знали, куда мы поедем. Но я получила от Максимова, то есть не от него, а от какого-то фонда, но он устроил мне это, приглашение в Париж. И мы туда поехали, по дороге на неделю задержались на радио «Свобода», была такая идея, не взять ли меня в штат радио «Свобода», слава Богу, не взяли. Слава Богу, не взяли, потому что это была действительно банка с пауками. Там даже были люди, которые «издавали „Хронику“». Возьмем это в кавычки. В общем, доехали мы до Парижа и живем-поживаем, добра не очень много наживаем, а благо – в широком смысле, не в смысле как по-русски говорят «благА», – вот благо, я думаю, как-то так или иначе наживаем. Живем очень легко. На самом деле привыкание легче всего пошло у меня, менее легко у Ясика, а еще труднее у Оськи.
Но главное, мы сам Париж сначала увидели довольно мрачно. Нас поселил Толстовский фонд в какой-то жуткой гостинице, это на самом деле то, что называется по-французски hotel dé passé.ГОРАЛИК Что это значит?
ГОРБАНЕВСКАЯ Это значит, куда проститутки приводят на час, на два своих клиентов. Но потом нас быстро разобрали, нас с Оськой забрали в один дом, Ясика забрали в другой дом. А потом мы должны были идти подавать на беженство, оформлять документы. Я уже знала, куда и как мы пойдем. И я с детьми приехала в префектуру, а тогда в парижской префектуре был выход из метро прямо во двор префектуры, и я их вывела из метро во двор, мы с ними оформили документы, подали на беженство, а потом я их вывела в ворота, которые выходят прямо напротив Notre-Dame. Мы так встали, и Ясик говорит: «Это Нотр-Дам? А это я? А это Нотр-Дам?» Потом мы нашли квартиру. Правда, первые два года мы прожили в пригороде, так что ребята Париж видели мало. Ну, когда мы в церковь ездили, к кому-то в гости ездили, но все-таки по-настоящему Париж не видели. А я ездила все время. Потом они пошли в школу обычную, но в классы для иностранцев. И Оська у нас, значит, ему семь с половиной лет, а он всегда такой был – если он чего-то не умеет делать совсем хорошо, он лучше не будет, и поэтому у него очень тяжело шло с языком. Он говорил: «Да, ты думаешь, хорошо, когда тебя вызывают, а ты стоишь и ничего сказать не можешь?» У Ясика шло через пень-колоду. У меня как-то более или менее начал восстанавливаться французский, который я когда-то учила в школе. А потом я своих детей отправила на месяц летом в русский лагерь… и они у меня вернулись, прекрасно говоря по-французски.
ГОРАЛИК Дети, конечно, говорили на языке того места, где живут.
ГОРБАНЕВСКАЯ Да-да. Ну конечно, потому что я помню, я как раз была в церкви у нас, а у нас церковь, я и сейчас туда хожу, Введенская, приход РСХД. И было окончание учебного года, и было объявлено, что на ежегодном конкурсе, который проводится по всей Франции по всем школам, первые места по русскому языку по таким-то классам заняли такая-то, такая-то и такая-то девочки Ельчаниновы. Сестры. Их вообще пять сестер и два брата. В тот момент три сестры были школьного возраста и заняли эти самые места. Ну, я стою во дворе, а потом выскакивают на крыльцо эти девочки Ельчаниновы и, разумеется, щебечут между собой по-французски, хотя они и победили по-русскому. Но надо сказать, это семья все-таки, в которой действительно русский язык сохранен, это дети Кирилла Ельчанинова, то есть внуки священника Александра Ельчанинова. Семья, с которой я очень дружу, Кирилл умер уже. С его вдовой я дружу. Она очень уже тоже старенькая и больная. И с детьми, особенно с мальчиками. Шура Ельчанинов, который занимается тем, что называлось раньше «помощь верующим в России», а теперь это просто называется ACER-помощь. Они помогают в основном бездомным и детским приютам в России. И Миша Ельчанинов, который работает в Сорбонне и кроме того редактор журнала «Философия». Вот. И девочки все замечательные.
ГОРАЛИК Когда появились внуки?
ГОРБАНЕВСКАЯ Ой, внук же первый у меня появился, я не знала. Внук родился от польской девочки у Ясика, она была здесь в Париже осенью 81-го года и потом уже, по-моему, во время военного положения уехала домой. Она Ясику написала, но Ясик мне ничего не сказал и жил вообще… Девочку я тогда не знала.
ГОРАЛИК Какой это был год?
ГОРБАНЕВСКАЯ Родила в 82-м. В 81-м году приехало очень много молодых поляков, и все они… Масса их толклась у нас в доме, потом многие их них жили в Монжероне, мы туда, например, ездили. Не помню, на Рождество или на Новый год ездили туда праздновать. В общем, вся эта вот компания молодых поляков из Независимого союза студентов (Независимого объединения студентов, не важно). Вот она была из этой компании, но ее лично я не знала как раз. Как-то она промелькнула мимо меня. А Ясик у меня тогда… Помню, мы с ним пошли в Польскую библиотеку на вечер, где показывали фильмы об Армии Крайовой, о польских войсках на Западе, об Андерсе, все это. Мы стоим с ним внизу, ну и подымается толпа, разного возраста дамы, и Ясик так глядит и говорит: «Нет, все-таки польские женщины – это гибель для русского мужчины». Двадцать лет ему тогда было. И, в общем, выяснилось, что, когда он узнал, что у него родился сын, он по молодости этого толком не осознал. А потом, уже в 90-м году, у нас – в конце 89-го и самом начале 90-го – гостила бабушка. И после ее отъезда Ясик мне показал письмо, которое он получил из Польши. Бабушке он показал раньше. Письмо, что вот, может быть, ты все-таки забыл, но вот у тебя есть сын, и фотография. Стоит маленький Ясик просто. И тут уже он отнесся к этому серьезнее. Он в мае 90-го поехал туда, и я как раз по другим совсем делам тоже туда поехала. Мы встретились все в Кракове, потом они летом к нам приехали, потом уже стали ездить, потом уже позже Артур уже стал сам ездить. В общем, мы все время, все время видимся, и они очень дружат. Вот Нюська тут как раз говорила: «Как мне хочется повидаться с Артуром». Она так обрадовалась, что у нее старший брат. Вот. Это один внук.
Следующая внучка у меня тоже появилась отдельно от своего папы. Значит, стали приезжать из России девочки и мальчики, в том числе дети друзей. Первым, по-моему, приехал Ян Черняк, сын Андрея Черняка. А потом приехала Дуся Красовицкая, дочка моего друга юности Стаса Красавицкого. Это уже 92-й год. А потом Дуся уехала, и в ноябре 92-го года она родила Нюську. Анну, мою внучку, которой вот на днях уже будет девятнадцать лет.
Потом Ясик и Ося нашли себе уже постоянных и устойчивых подруг жизни. Ясик с Мари несколько лет назад наконец поженились и венчались. А Оська с Эльзой на самом деле до сих пор не женаты, и старшая из их двух общих дочек говорит: «Мама, ты должна выйти замуж за папу. Что такое, мы все Горбаневские, одна ты не Горбаневская». Но вы знаете, во Франции уже на это, по-моему, никто не смотрит.ГОРАЛИК Уже, по-моему, нигде. Только юридические если дела.
ГОРБАНЕВСКАЯ Да, совершенно. Вот. Ясик родил еще одного мальчика, а Ося родил еще двух девочек. У нас по такой линии получается.
ГОРАЛИК У Вас пятеро внуков?
ГОРБАНЕВСКАЯ Пятеро внуков, да. Артуру уже двадцать девять лет. Я его каждый раз спрашиваю: «Артур, я еще не прабабушка?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «Ты же можешь не знать».
ГОРАЛИК Тем более что примеры есть.
ГОРБАНЕВСКАЯ Ну да, примеры есть. А потом еще замечательная история. Я всегда знала, что я буду свекровью, что у меня будут невестки. И поскольку у меня был действительно очень мрачный пример отношений моей невестки с моей мамой, я всегда считала: я должна быть по отношению к ним сдержанна и нейтральна, каковы бы они ни были, что бы они ни делали. У меня два сына, четыре невестки, всех я их люблю, все они меня любят, никаких усилий прилагать не приходится. Просто везение.
Вообще, я всегда говорила: «За что мне такие хорошие дети? За мамины мучения». Вот мама со мной намучилась, а мне за ее мучения достались хорошие дети. Вот она намучилась с действительно гнусной невесткой, которая, прошу прощения, на следующий день после демонстрации позвонила мне и начала говорить: «Мало того что ты блядь…» На чем я повесила трубку. Что дальше она хотела сказать, я так никогда и не узнала. Зато врачам из Института Сербского она чего только про меня не наговорила…
Это я помню французских психиатров, я с ними встретилась, когда только приехала, мы разговаривали, все. А потом мы встретились еще через год, потому что к проведению конгресса Всемирной психиатрической ассоциации в Мехико из СССР прислали документы на нас. И присылают, значит, документ. Заключение экспертное, которое начинается: «…не будучи замужем, родила двух детей». Французы лежат. Просто лежат. Потом, когда кончили со мной беседовать, один из них говорит: «Знаете, мы должны ехать на выучку к советским психиатрам, потому что перед нами чудесный случай излечения шизофрении». Самое главное, что мы сидели с ними час или полтора над этим актом и половину времени хохотали. Это было настолько несостоятельно с их психиатрической точки зрения.
Вообще, на самом деле, вот сейчас нужно сказать важную вещь, я все «я» да «я», «Наташа» да «Наташа», да, на самом деле моя история – это история меня среди моих друзей. Причем у меня всегда было несколько разных компаний, я людей сводила, эти компании пересекались, сливались. И рассказать вот, когда, с кем и как я познакомилась, как эти круги появлялись. У меня есть текст, который я писала к 65-летию Гарика Суперфина, вот я его, может быть, найду и пришлю. Но вот это вот очень важно: я никогда не одна, я всегда среди друзей. Известно, что я всегда всех со всеми знакомила. Сначала москвичей с москвичами, потом москвичей с ленинградцами, потом я знакомила даже ленинградцев с ленинградцами, приезжала и знакомила, и т. д. Вот это была одна из моих, можно назвать, функций. Это была не функция, а просто так я устроена. Мне хочется всех со всеми познакомить, чтобы все со всеми дружили.ГОРАЛИК Наташ, тут очень слышно, что это не «про Наташу», а про гораздо большие вещи.
ГОРБАНЕВСКАЯ Вот про Гарика, я не помню, написала все-таки прямым текстом, но для верности скажу: вот когда Гарик сидел и давал показания, он давал показания, ну вот просто тек, давал массу показаний. Когда он отказался от всех данных показаний, тогда людей стали вызывать и предъявлять им те показания. И все на воле узнали, что Суперфин дает страшные показания. Но о том, что он отказался от всех показаний, стало известно только через несколько месяцев, когда его вызвали свидетелем на суд Хаустова, он сам назвал свои показания гнусными. Но я потом обнаружила одну вещь, которая мне показалась еще более страшной. Когда человек вот так течет, он уже как бы почти невменяемый, но было несколько людей, на которых Гарик не давал показания: я, Машка Слоним, Дима и Таня Борисовы. Значит, если он держал какую-то границу, почему же он не мог ее держать раньше? Ну, не нам судить. Я Гарику все равно… И вот, когда всем его показания предъявляли, а мы ходили, его ближайшие друзья, и чувствовали себя виноватыми. Мы Гарика любим, мы виноваты. И я чувствовала, не помню, говорила ли: если мы не будем верить, будет обратная связь, и ему поможет. Потом оказалось, он еще раньше отказался от своих показаний. Там в этом тексте выписаны все стихи, которые к нему имеют отношение, времени вот этого страшного года, 73-го.
Федор Сваровский
...
Сваровский Федор Николаевич (р. 1971, Москва). После школы работал администратором на киностудии. В 19 лет эмигрировал из СССР в Данию, где получил политическое убежище. С 1997 года живет в Москве. Лауреат малой премии «Московский счет» (2008).
ГОРАЛИК Давайте начнем с вашей семьи до вас.
СВАРОВСКИЙ Ну, мои родители – журналисты. У меня типичная советская смесь такая гремучая. Со стороны отца, с одной стороны, значит, дедушка мой, фамилию которого я и ношу, – он из Сибири. Считается поляком, но это неверно. На самом деле мои предки Сваровские – мороване, которые жили в Речи Посполитой, в Смоленске, и после присоединения Смоленска к России они уехали в Сибирь. Мой предок Остафий Бартош Сваровский приехал в местность, находящуюся где-то возле города Томска, и построил свой острог. Это означает, что у него были деньги и была какая-то челядь. Потом Сваровские конвертировались в православие и очень сильно размножились. Было даже село Сваровское в Томской области.
Со стороны бабушки – тоже либеральная такая смесь, мезальянс. Мой прадед со стороны бабушки, матери моего отца, – из семьи крепостных вольноотпущенных, а мама – дворянка малороссийская, из Белоруссии. При этом мой прадедушка был человек образованный и деликатный, а моя прабабушка была суровой деревенской женщиной. Например, могла курице шею сломать. Запросто. Сельский человек.
Соответственно, прадедушка был либерал, приветствовал революцию. Ну, потом передумал, но было поздно. Интересно, что семья моей бабушки пережила всю Гражданскую войну на Украине. Буквально все эти события на их глазах происходили. И Буденный. И Врангель. Они были люди зажиточные, прадедушка был управляющий шахтой английской, и им казалось, что жизнь стабильна и все наладится. И они никуда не уехали. Поэтому прадедушку арестовывали большевики, махновцы с обыском приходили. Бабушка моя видела Дикую дивизию, сидя на заборе. Они попадали под обстрелы, лежали на полу, прятались в погребе. Моя бабушка всю Гражданскую войну пережила. Еще, к счастью, она умудрилась во время этой самой Гражданской войны, особенно когда пришел Врангель, большую часть учебного курса пройти в гимназии, в Харькове, и получить какое-то образование, несмотря на войну. Еще бабушка хорошо пела. Папа мечтал ее отправить в Милан, но не успел. Наступила советская власть.
А со стороны мамы у меня – казаки. Ну, наполовину, конечно же. Соответственно, моя бабушка – казачка, в ее роду казаки, донские казаки, которые жили на Кубани. Тот, кто разбирается в типажах, увидев мою маму, сразу бы сказал, что она представляет ярко выраженный хазарский тип. Есть такое мнение, что донские казаки – они генетически больше хазары, чем русские. Широкие скулы, округлые надбровные дуги, выдающийся, хоть и небольшой, нос. И характер у нее казачий. Вот. Она женщина активная, очень любит делать добро всем. И иногда, даже если ты не хочешь этого добра, она все равно его тебе сделает.ГОРАЛИК Такая еврейская мама.
СВАРОВСКИЙ Да это похоже на еврейскую маму, но отличия есть. В еврейских мамах есть такая душная ласковость манипулятивная, да. Но здесь этого нет. Но в принципе это гиперопека, конечно, все равно. Моя бабушка, мать моей мамы, – наполовину турчанка. Наполовину турчанка она потому, что прадедушка участвовал в походах на турок, взял в полон турчанку, крестил, женился. И действительно моя бабушка – ярко выраженная турчанка и с соответствующим восточным характером. Веселая, решительная.
А вот дедушка с маминой стороны – совсем не казак. Дедушка – из Воронежской губернии, крестьянин. Из большой крестьянской многодетной семьи. Существует почему-то мнение, что в роду были греки. Не знаю. Но, в общем, они были не совсем русские, конечно. Потому что, если верить фотографиям, русских лиц я там не видел. Они представляли собой мягкий такой балканский тип внешности. Например, мой двоюродный брат покойный, он был как сефард какой-нибудь, ужасно смуглый. И старший брат моего дедушки, двоюродный дедушка, он тоже был черный совсем.
Так что мой нерусский типаж обусловлен вот такими странными смешениями генов. Плюс еще, конечно, не надо забывать, что сибирские Сваровские женились на сибирских татарках. Например, моя двоюродная прабабка сибирская – она была совсем раскосая. Сибирские татары – они весьма монголоидные. Мой родной дядя – тоже ярко выраженный тюркский типаж.ГОРАЛИК Когда вы появились, родители молодые были?
СВАРОВСКИЙ Нет, я поздний ребенок. Ну, там, маме было сорок лет.
ГОРАЛИК А вы один, да?
СВАРОВСКИЙ Да.
ГОРАЛИК Каким вы были, когда были маленьким?
СВАРОВСКИЙ Я был субтильный блондин с мягким характером. Во дворе говорили: «Странно, вся семья евреи – один Федя русский». В общем, совсем белые-белые волосы были и такие светло-зеленые глаза. Потом это изменилось. Ну, это в маму. Мама тоже была блондинкой лет до двадцати пяти, может быть.
ГОРАЛИК Как вы были устроены? Вот когда вы говорите «с мягким характером» – это как?
СВАРОВСКИЙ Да я вообще порядочная мямля был, мне кажется. Ну, я вообще очень плохо адаптируюсь к жизни, это моя главная проблема. Мне нигде не уютно. Все не нравится. А меня еще в детский сад зачем-то отправили в детстве.
ГОРАЛИК Вам не нравилось?
СВАРОВСКИЙ Это просто был фильм ужасов каждый день. И ужас этот не кончался, пока не закончился детский сад. Школа – это тоже был ужас, но к тому моменту я уже научился себя с людьми вести, я понял свои сильные стороны, слабые стороны. Я уже научился как-то манипулировать людьми, на них влиять, чтобы выживать. Я понял, что я должен вести себя как лидер, и тогда мне будет легче. Если я буду всеми командовать и манипулировать, то смогу держать дистанцию с людьми. Так что в школе я всегда был лидером.
ГОРАЛИК Когда ребенок так устроен, он часто пытается чем-то сам себя занимать…
СВАРОВСКИЙ Ну чем я мог заниматься в детском саду? Я лежал, отвернувшись все время лицом в стенку, допустим. Ну, то есть я старался минимально участвовать во всяких мероприятиях.
ГОРАЛИК Чего вам хотелось? Что вы любили?
СВАРОВСКИЙ У меня были любимые вещи. Например, заболеть и сидеть дома и рассматривать альбомы по искусству какие-нибудь. Это было самое-самое любимое занятие. Иероним Босх, конечно, был самым любимым. В нем была какая-то надежда. У него же то ад, то рай. И очень это было важно – видеть и то и другое. Потом у меня был прекрасный альбом итальянский на русском языке про Леонардо да Винчи. Ну, потом книги про животных. У меня была «Жизнь животных», многотомник. Со зверями. Про динозавров книга была. Еще я почему-то очень любил Левитана. Я уходил мыслями в картины и пытался там остаться. Поскольку мои родители такой туристической направленности были, всегда и меня куда-то таскали, я пытался, искал подобные пейзажи, где что-то подобное есть наяву.
ГОРАЛИК Вы в этом участвовали ребенком?
СВАРОВСКИЙ До моего рождения родители часто ходили в походы. У них даже байдарки были. Только, к счастью, они песен не пели под гитару. Это делали другие люди. У меня папа все-таки больше любил джаз. Визбора, к счастью, я дома у нас не слышал.
ГОРАЛИК Вы успели маленьким с ними поездить?
СВАРОВСКИЙ Ну, во-первых, какие-то такие детские для меня походы устраивались, во-вторых, папа считал, что я должен быть настоящим мужчиной, поэтому он меня таскал по десять-двадцать километров на лыжах зимой куда-то. Куда-то за город, далеко мы уезжали, там Клязьма какая-то и прочие удаленные места.
ГОРАЛИК Вы это любили?
СВАРОВСКИЙ Я ненавидел это абсолютно. Я абсолютно ненавижу спорт и любые физические усилия с тех пор. Из-за детского сада и школы я ненавижу коллектив, ненавижу спорт и вообще ненавижу какие-либо усилия.
ГОРАЛИК «Ненавижу» – раз, «ненавижу» – два. Есть еще какие-то «ненавижу»?
СВАРОВСКИЙ Ну, я не очень люблю джаз, особенно блюз. Что еще…
ГОРАЛИК В школу не хотелось?
СВАРОВСКИЙ Ну, школу, конечно, я не любил. Мне в школе не было страшно, потому что я где-то ко второму классу понял, что, в общем, всех их можно обмануть. Учиться было несложно. Учителя в большинстве своем были люди ограниченные. А сама школа у меня была очень странная. Там, например, были учителя-идиоты и совершенно какие-то выдающиеся преподаватели. Дело в том, что получилось так, что в 70-е годы район, это был Юго-Запад, он стал довольно модным среди интеллигенции. Потому что там вроде как бы и воздух есть, а вроде уже и метро ходит. Поэтому, собственно, мы и переехали туда из центра. И часть учащихся в школе, например, были чудовищные гопники – те, кто и прежде в этом районе жил, а другая часть – дети из хороших семей.
И с одной стороны, у нас в районе все было достаточно благополучно, а с другой стороны, было, конечно, как везде – поножовщины, изнасилования, какие-то парни на мотоциклах, пиво на веранде детского сада.
И школа была странная, потому что в ней где-то, может быть, четверть учащихся – это были дети кагэбэшников. Просто рядом было несколько домов, где, как я теперь понимаю, жили семьи сотрудников службы внешней разведки. И, собственно, я всю школу был влюблен в одну девочку, которая была дочерью какого-то там майора или полковника.ГОРАЛИК Они были как-то иначе устроены?
СВАРОВСКИЙ Ну, девочка была явно иначе устроена. Она была прекрасно устроена. Она жила за границей. Она была красивая, ухоженная и умела нормально разговаривать с людьми. Она не была какая-то сверхумная, но прекрасно умела по-человечески себя вести. В советской реальности это было редкостью. Она была естественно вежлива. Улыбалась всегда. Зубы у нее были ровные и белые. Но были и другие дети кагэбешников. Например, некий одноклассник на меня настучал завучу по внеклассной работе, что я что-то такое плохое про пионерскую организацию сказал. Теперь этот мальчик, кстати, очень большой бизнесмен и начальник. И дальше была жуткая разборка с участием моего папы, у которого на тот момент один друг сидел, а другой в Америку уехал, какие-то парткомы, хренкомы, какие-то угрозы. Но папа мой с ними все же как-то разобрался. Он работал в журнале «Молодой коммунист», поэтому ресурс был. Знаете, журнал «Молодой коммунист» – рупор комсомольской организации. Хотя там несколько человек из него все равно сели за политику. Неоднозначный такой рупор был у комсомольской организации. В школе моей были замечательные преподаватели. Это все были какие-то университетские люди, которые просто там жили рядом, и им нужна была наработка, практика, отработанные в качестве педагога часы. Они писали учебники, какие-то курсы, исследовали что-то. У нас был гениальный историк абсолютно, чудесная учительница английского языка. И одновременно на этом же фоне были совершенно какие-то убогие недосущества, бессмысленные и несчастные. Помню, была одна учительница английского, которая вообще практически не знала английского.
ГОРАЛИК Вы очень похожи на человека, который придумывал для себя в детстве миры. Вы истории себе рассказывали?
СВАРОВСКИЙ Нет, я рисовал.
ГОРАЛИК Воображаемое?
СВАРОВСКИЙ Я рисовал себе дома.
ГОРАЛИК Чтобы жить?
СВАРОВСКИЙ Да, я брал лист бумаги A4 и рисовал дом, в котором я хочу жить. Обычно я приходил из школы, включал там себе какую-нибудь передачу по радио. В три часа дня, помню, была передача – детские какие-то там спектакли, Гайдар там, «Голубая чашка»… Не важно, что звучало. И вот под этот аккомпанемент я рисовал дом. Каждый раз новый.
ГОРАЛИК Что-нибудь про эти дома помните вообще?
СВАРОВСКИЙ Конечно, они должны были быть все разноуровневые, сложные по структуре.
ГОРАЛИК С деревьями?
СВАРОВСКИЙ Нет. Это не важно. Они были многоуровневые, на скалах стояли, и еще там вода какая-то была. Очень сложные были дома.
ГОРАЛИК Вы рисовали вид снаружи?
СВАРОВСКИЙ Нет, в разрезе, чтобы там было видно, где кровать стоит, где собака сидит, то есть во всех подробностях.
ГОРАЛИК У вас звери жили?
СВАРОВСКИЙ У меня был хомяк, попугай совсем в детстве. Хомяк – тупая тварь, с ним неинтересно. Ссытся все время. С ним сложно, он грыз провода. И я его потом подарил девочке-соседке, она любила животных. Он у нее сразу ручным стал. А потом мне завели собаку, в семь лет. Скотч-терьера. Точнее – смесь скотча и фокстерьера.
ГОРАЛИК Скотч-терьеры бойкие такие, злые собаки, нет?
СВАРОВСКИЙ Нет, они сложные, они такие немного психопатичные. Они очень тихие дома и ходят такие вдоль стенки. Но если есть какой-нибудь повод чего-нибудь учинить – тогда да, тогда вдруг энергия появляется. Очень удобная собака, потому что когда она нужна – она есть, когда не нужна – ее нет.
ГОРАЛИК А тексты вы писали тогда?
СВАРОВСКИЙ В шесть лет я стал этим заниматься. Это были какие-то ужасные стихи детские.
ГОРАЛИК Чем вы развлекали себя вне школы?
СВАРОВСКИЙ Мои родители хотели, чтобы я был всесторонне развитым ребенком. Поэтому я ходил в кружок рисования, потом в художественную школу, в музыкальную школу по классу фортепиано. У меня был преподаватель, который приходил ко мне заниматься. А поскольку моя бабушка в некотором роде была оперная певица, то эта пытка продолжалась и в отсутствие преподавателя.
ГОРАЛИК Она занималась с вами все время?
СВАРОВСКИЙ Нет, но по несколько часов в день бабушка меня дрючила.
ГОРАЛИК Значит, вы и пели тоже?
СВАРОВСКИЙ Ну, сольфеджио, естественно, было. У меня всегда была проблема с музыкальной памятью, поэтому сольфеджио – это было мое проклятие.
ГОРАЛИК Вам нравилось вообще играть?
СВАРОВСКИЙ Нет. Нет, ну потом, когда мне стало пятнадцать лет, я мечтал сколотить рок-группу и стал пользоваться этими знаниями. Я научился играть на гитаре.
ГОРАЛИК Где вы ее взяли для начала? У каждого же есть эпопея, откуда он взял гитару.
СВАРОВСКИЙ Ну, когда ты уже подросток, тебе дарят какие-то деньги, и это не три рубля. Первая гитара стоила, по-моему, двадцать четыре рубля, очень плохая, на ней я учился играть.
ГОРАЛИК …И сколотили группу?
СВАРОВСКИЙ Да, но это позже случилось, конечно же, когда я был старше. Самое потрясающее, что я ничего толком не умел. Конечно же я сочинял песни. Но играл я жутко, пел жутко. Но почему-то со мной зачем-то решили иметь дело несколько профессиональных музыкантов, я до сих пор не могу этого объяснить. За красивые глаза, наверное.
ГОРАЛИК Вы по-прежнему были блондином с голубыми глазами?
СВАРОВСКИЙ Я выглядел по моде тех времен. Это были 80-е годы. У меня были такие крашеные волосы, ну как тогда полагалось, светлые. Я ходил в драных джинсах, как тогда полагалось. В группе была настоящая альтистка, была дама – теоретик, дирижер, которая понимала в нотах, был бас-гитарист, он же контрабасист.
ГОРАЛИК Как эта группа сложилась вокруг вас?
СВАРОВСКИЙ Ну, это надо как-то припоминать. У меня есть друг, очень старый, он и по сей день мой друг. У него был приятель – профессиональный флейтист. Я ему рассказал, что хочу группу. Он сказал: «Ну, давай попробуем что-нибудь сделать». Нашел вот альтистку. Потом еще кого-то. Честно скажу, я совершенно не помню, откуда мы взяли басиста, совершенно сумасшедшего человека, который постоянно занимался музыкой, по восемь часов в день. Он был очень целеустремленный. Он и притащил эту дирижершу. Я совершенствовался. Я купил хорошую гитару, потом электрогитару.
ГОРАЛИК Это Вам сколько было?
СВАРОВСКИЙ Ну, уже семнадцать… шестнадцать-семнадцать лет.
ГОРАЛИК Что вы пели и где? Вы как-то пытались выступать всерьез?
СВАРОВСКИЙ Нет. Ничего из этого не вышло в конце концов. У меня была мечта детства. Я лет в одиннадцать или двенадцать прочел Сэлинджера «Над пропастью во ржи». До этого я читал только научную фантастику. И когда я прочел, то я решил, что я должен быть хиппи. Это было решено бесповоротно. Причем я ничего про это толком не знал, я просто понял, и все. Ну, базовая информация какая-то у меня была, конечно. Дело в том, что сын друзей нашей семьи – он был довольно известный хиппи. Он еще и художник довольно известный был. Вот он для меня всегда был идеалом. Мне было шесть-семь лет, а он ходил такой с волосами, с трубкой, в длинной шинели. И бабушка моя все время про него рассказывала: вот такие и такие безобразия Митя все время устраивает. Мне это казалось прекрасным невероятно. И я в одиннадцать лет сделал даже себе хипповский костюм и поздно вечером ходил по своему району Беляево, делая вид, что я хиппи.
ГОРАЛИК Вас никто не трогал?
СВАРОВСКИЙ Нет-нет-нет. Я же местный был. А потом я там увидел настоящих хиппи. А потом как-то я узнал у ребят из параллельного класса (это уже классе в седьмом, наверное, было), что эти хиппи где-то в конкретном месте собираются. И я пошел туда в этих своих бутафорских прикидах. Это мне было тринадцать-четырнадцать лет. А когда мне было пятнадцать лет, я даже поехал по-настоящему, как взрослый, с хипами на Гаую, на Рижское взморье, где была огромная хипповская колония. Поехал без денег. Бедные родители, как они это все стерпели. Вот. Но я довольно быстро разочаровался в хиппи.
ГОРАЛИК Почему?
СВАРОВСКИЙ Ну потому что это все-таки убожество очень сильное. Когда тебе четырнадцать, это кажется забавным, а уже в шестнадцать не кажется забавным. Поэтому я со всем этим завязал. Оставил себе косичку. Я оставил себе тонкую косичку и стал общаться с какой-то богемной молодежью.
ГОРАЛИК А как вы ушли из дома?
СВАРОВСКИЙ А просто я повстречал даму некую. Я был очень глупый и решительный молодой человек. Мне было шестнадцать, это все выглядело смешно совершенно. И я ушел к ней жить.
ГОРАЛИК Герой.
СВАРОВСКИЙ Да нет, безмозглое существо. Но в итоге мне все это не понравилось. Через год я вернулся к родителям.
ГОРАЛИК Что было у вас в голове в этом возрасте? Что интересно было?
СВАРОВСКИЙ Литература. Ну, конечно, я хотел быть рок-звездой, понятное дело. Но, честно говоря, рок-культура по большому счету меня немножко отталкивала вот этой своей некоей тупизной и театральностью. Поэтому, конечно, меня по-настоящему влекла литература. Где-то лет с шестнадцати я понял, что нужно работать. Работать – в смысле не деньги зарабатывать, а что если мне действительно это нужно, то надо делать что-то постоянно и относиться к этому серьезно. Когда я так решил – все, я как безумный стал строчить. Какие-то невероятные тома понаписал.
ГОРАЛИК Какой виделась цель? Стать великим русским писателем? Великим русским поэтом?
СВАРОВСКИЙ Ну наверное, хотелось… Ну нет, нет.
ГОРАЛИК А как?
СВАРОВСКИЙ Хотелось, чтобы было что-то новое. В основе моих исканий на тот момент, при ограниченной эрудиции, наверное, наибольшее значение имели Маяковский и Бродский. Такое смешное сочетание. Конечно, я не знал никакой Лианозовской школы, ОБЭРИУ толком не знал. Но искал какой-то свой стиль. И, в общем, должен сказать, что, глядя сейчас издали, мне кажется, я его даже нашел. С чем сравнить? Ну, из русских авторов похожих найти сложно. Да, я забыл сказать, что для меня большое значение имели, конечно же, американские авторы. Мне кажется, что это в чем-то, может быть, было похоже на битников, на Чарльза Симика. То есть мне очень хотелось, чтобы то, что я делаю, было бы чем-то глобальным, вписанным в мировую культуру. Вся эта зацикленность, вполне естественная для той поры, на русской литературе, на мысли о том, что у нее свой путь – мне это все претило ужасно, как, собственно, и теперь претит. Ну, естественно, в том, что я писал, было очень много эпатажа.
ГОРАЛИК Какого рода? Литературного или чисто социального?
СВАРОВСКИЙ Да нет, ну какой-то физиологии, цинизма, всяких вещей, которые на самом деле драматургически, стилистически не были оправданны.
ГОРАЛИК Для кого вы писали? Кто это все читал?
СВАРОВСКИЙ У меня была определенная среда. Во-первых, среди всяких неформалов были люди одаренные, какие-то сборники там выпускали и прочее, несколько человек. К сожалению, все эти люди не состоялись настолько, чтобы мы знали их имена. Часть из них занимается каким-то бомбизмом-терроризмом, ну левые в основном. Кто-то просто не знаю чем занимается, кто-то практически не занимается литературой, как Паша Хихус, например. Паша вообще-то был поэт, а теперь, как мы знаем, он комиксами занимается. Еще была сугубо литературная среда. Я ходил на какие-то семинары даже, помню.
ГОРАЛИК Это вам сколько лет было?
СВАРОВСКИЙ Шестнадцать-семнадцать лет. Это мне, честно говоря, не очень все нравилось. Все эти семинары. Еще у меня была замечательная учительница литературы. Не в школе, а наемная. Я не знаю, зачем это родители сделали, но они мне наняли учительницу литературы, видимо, понимая, что школа у меня совсем убогая, хотя в моем классе учительница литературы, кстати, была хорошая. Но они мне наняли учительницу такую суперизвестную, бывшую жену Анатолия Якобсона. Она у Дмитрия Быкова была учительницей, кстати. Она уже тогда не преподавала в школе, потому что у нее был больной позвоночник. Слава Богу, до сих пор жива. Она просто очаровательная, очаровательная женщина, очень умная. Думаю, она оказала на меня большое влияние. Тогда я этого не понимал, но теперь понимаю, как важно было для меня с ней заниматься. Мы просто с ней общались, что-то обсуждали. Она меня познакомила со своим сыном-поэтом. Она меня познакомила с прибалтийской поэзией, о которой я ничего не знал, познакомила с литературоведением в каких-то минимальных объемах, доступных подростку.
ГОРАЛИК Вы же в это время, наверное, думали, куда поступать, что делать?
СВАРОВСКИЙ Нет, я никогда об этом не думал. Мне, честно говоря, было абсолютно все равно, что я буду делать в будущем. Я похож на современную молодежь, видимо, в этом смысле. Мне на все было наплевать, кроме литературы. Но не в Литинститут же было идти.
ГОРАЛИК Они твердо знают, что они будут делать: они получат Нобелевскую премию и будут на нее жить.
СВАРОВСКИЙ А, ну в этом смысле, может быть, да. Про Нобелевскую премию я не думал, но я два года честно отходил на подготовительные курсы философского факультета МГУ, что было тоже немаловажно. Потому что мне папа сказал: «Раз ты такой умный, вот и иди на философский».
ГОРАЛИК Это в какие годы?
СВАРОВСКИЙ Сейчас скажу. Тринадцать-четырнадцать-пятнадцать лет. Три года я отходил, ну там неполных три. Там была у меня компания какая-то сионистская.
ГОРАЛИК Вы там младшенький, получается, были?
СВАРОВСКИЙ Да, я был младший в группе. Но там как-то мне не чинили препятствий. И там было очень интересно, потому что оказалось, что по крайней мере часть преподавателей совершенно не твердолобые люди и действительно знают, что говорят. 84–86 годы. Я с удовольствием ходил туда сам, без принуждения. Мне было интересно. Я там какие-то конспекты писал и прочее. И вообще, прямо скажем, наверное, больше всего полезных знаний я там и получил. Плюс я там увидел первый раз в жизни действительно нормальных, образованных людей, уверенных в том, что они говорят. То есть эти люди действительно были специалистами в какой-то области. Не как в школе, короче говоря. И еще, как я сказал, у меня была сионистическая компания очень смешная там.
СВАРОВСКИЙ Да, они были такие молодые сионисты, собирались ехать в Израиль.
ГОРАЛИК Из тех, кто учил иврит, или не настолько?
СВАРОВСКИЙ Кто-то учил, кто-то нет. Они очень были смешные. Один там был действительно всерьез настроенный юноша – учил иврит и довольно много знал. Остальные – так себе. Мы встречались у синагоги. Еще там был мальчик, который подошел, помню, к нашему такому сионистскому лидеру и говорит: «Антон, – а это все прямо у синагоги происходит, – а евреи детей крестят?» А тот задумался и в ответ говорит: «Ну, вообще да, но только после этого они евреями не считаются». Ну, конечно, они все разъехались.
ГОРАЛИК Вы собирались поступать на философский?
СВАРОВСКИЙ Да, но для этого надо было вступить в комсомол. И меня родители переломили. Они сказали: давай иди и вступай. Это было совершенно несложно на первый взгляд, потому что секретарь комсомольской организации был мой самый главный кореш в школе, человек абсолютно разбитной, который в свободное от школы время ходил весь в цепях, заклепках и шипах. И я понимал, что приду – максимум три минуты, хоп-хоп, все подпишут бумажки, и все. Но проблема оказалась в том, что поскольку я в этот момент уже прослыл антисоветчиком, фашистом и пацифистом одновременно, то на собрание явилась Яна Яковлевна Маргулис, комиссар наш, то есть завуч по внеклассной работе, тот человек, который в школе за идеологией следит. И она сказала: а какой тут комсомол? Вы что? Сваровский-то кто у нас? Цвет-то у него коричневый вообще-то, мы же все знаем про это. Я говорю: да идите вы в жопу с вашим комсомолом, и ушел. Поэтому в комсомол я не вступил. Честно пытался, но не взяли.
ГОРАЛИК Мне кажется, вы единственный человек, который попытался – и не взяли.
СВАРОВСКИЙ Нет, ну я просто как бы и не готовился и серьезно не относился к этому. Секретарем был мой друг, а его замом была его девушка. То есть там было все схвачено. И если бы эта Яна не пришла, вопрос был бы решенным. И вот такая пакость вышла. Поэтому мне стало понятно, что философии никакой не предвидится. Я родителей успокаивал: какой комсомол уже, посмотрите, что происходит, ну подождите два года, ну хорошо, чуть позже поступлю, все равно уже конец всему. СССР развалится скоро. Но они мне не верили. Расстраивались.
ГОРАЛИК И как в результате складывалось?
СВАРОВСКИЙ Ну, потом я стал собирать группу уже. Мы репетировали. А потом я понял, что с группой у меня не выходит. Дело было в том, что все те люди, которые были вокруг меня, – они все были серьезные музыканты, в том числе они собирались деньги этим зарабатывать. Басист сказал: «Ты понимаешь, что нам, для того чтобы работать, нужно найти место, нам нужна аппаратура, она должна быть наша, вот, давай возьмем взаймы аппаратуру и поедем на гастроли». Я говорю: «Ты чего, с ума сошел? Откуда у нас возьмутся гастроли?» А он нашел человека, какого-то майора КГБ, что ли, который уже тогда, вот удивительные времена были – перестройка, он был заодно еще и музыкальным продюсером. И мы встречались с ним. Он был очень доброжелателен, с бородой, что вообще как-то нетипично, мне кажется, для этой организации. Симпатичный вполне человек. Еврей. Почему-то мы в болгарском посольстве встречались. Странное место. Он почему-то мог свободно заходить в болгарское посольство. Видимо, работа позволяла. И он предложил нам невероятную вещь: мы едем на гастроли в Туркмению, в Ашхабад. А там практически всякий, кто угодно, если выходит на сцену, встречает лишь бешеный восторг. И поскольку там денег у людей очень много, потому что там рабство и хлопок, и прочее, а тратить эти деньги некуда, то есть возможность заработать десять или двадцать тысяч рублей. И это при том, что он себе еще что-то брал. Невероятная сумма. За эти деньги мы любой там «Роланд», любые гитары могли купить и прочее. Но и не очень-то мне хотелось, как-то мне было страшно.
ГОРАЛИК Вы же маленький были. Сколько вам было? Шестнадцать, семнадцать?
СВАРОВСКИЙ Семнадцать мне было. Нет, а что маленький? Басист был старше меня всего на год. Но он был очень самостоятельная личность. Остальные были старше. Но с ним, с этим гэбэшником, что-то случилось вдруг. Кто-то в него стрельнул или что-то такое. В общем, все это сорвалось. А басист наш давно уже был недоволен мной, что я так пассивно ко всему отношусь. Он мне высказал все, что у него накопилось, и ушел в другую группу. Кстати, в довольно тогда известную. И я подумал, что, видимо, он прав. Музыка не для меня.
А в то время появилось новое модное искусство – видеоарт. О как. Это уже 88–89-й годы.
И я решил, что буду заниматься видеоартом. И здесь мне опять повезло. Я пришел в гости к незнакомым людям. Они были знакомыми знакомых. И оказалось, что женщина, жена хозяина – моя родственница. Какая-то очень дальняя, но у нее фамилия такая же, девичья. И поэтому она как-то очень тепло ко мне отнеслась, стала меня всячески рекламировать своему мужу, рассказала ему, чем я хочу заниматься. А он был режиссером в компании «ВИД», которая «Взгляд» делала. А это была самая вообще дикая крутизна. Он, значит, посмотрел мой сценарий роликов и сказал: «Мы не можем просто как продукцию „Взгляда“ это сделать, но мы можем сказать, что ты молодое дарование и мы снимаем про тебя передачу. А заодно мы снимем клип. Два клипа». И мы сняли два клипа. Это были обработки песни «Там вдали за рекой догорали огни». В одном случае это было очень смешное такое массовое шествие, снятое где-то в Тушино. Половина там была графика, а половина – реальное изображение. Суть была в том, что там просто люди идут и поочередно падают, а во рту у них там папироски горят. И поется это таким семитским красивым женским голосом хриплым. И потом под конец показывают певицу – ее невероятное семитское лицо. Эффект был комическим. Вдруг выбегает из темноты носатая еврейка с длинными волнистыми волосами. А вторая серия была… Это было очень интересно, потому что я организовал настоящие большие съемки, собрал кучу народу в квартире моего приятеля. Это была любовная история, очень примитивная. Юноша и девушка познакомились, а потом чего-то там не срослось. Но этот сюжет развивался тоже под эту песню, которую совершенно комическим образом с эстонским акцентом исполнял мой приятель-певец.ГОРАЛИК Это тоже под «Там вдали за рекой»?
СВАРОВСКИЙ Та же самая песня с эстонским акцентом. И все это под барабаны. Там никакой музыки не было, только барабаны. И самое смешное, что главную роль играл Женя Гиндилис, который теперь кинопродюсер, муж Жени Лавут.
ГОРАЛИК Это сохранилось?
СВАРОВСКИЙ Где-то есть какие-то VHS-кассеты, и у него, может быть, сохранилось, у режиссера. А, это еще не все. Эти ролики я отправил на фестиваль видеоарта в Копенгаген. И они даже вошли в какой-то шорт-лист, что для меня совершенно непонятно. Но я об этом уже узнал лишь в Дании у одного телепродюсера, через несколько лет после всей этой истории.
ГОРАЛИК Но вы в тот момент твердо верили, что видео-арт – ваше будущее?
СВАРОВСКИЙ Ну, немножко это все по-шарлатански выглядело, но да. То есть я на полном серьезе собирался наниматься на работу на «Видеофильм». Там тоже модное место было, это в Ростокино. Еще я как зверь стал писать киносценарии. Все тогда мечтали снять кино. И я был единственный человек, который писал сценарии. И каким-то образом моя мама, а она очень общительный человек, нашла какого-то ростовского предпринимателя, который прочел один из сценариев и сказал, что это очень круто – и он просто дает деньги, то есть вопрос решен. Но тут я решил зачем-то жениться и под давлением жены и друзей уехать в Данию. И я все эти возможности выкинул в помойку.
ГОРАЛИК Где вы работали до отъезда?
СВАРОВСКИЙ Я работал, например, на Центральной студии документальных фильмов администратором киногруппы. Еще я работал до этого в одном совершенно замечательном месте. Когда началась вся эта кооперативная деятельность, приятель моей мамы из Литвы открыл свою небольшую кооперативную фирму – фильмы на заказ. Оказалось, что это очень востребованно. Мы снимали что-то такое про энергетику. В Москве в том числе, но в основном в Прибалтике. Мы объездили всю Прибалтику. И поскольку это было кооперативное все, то у меня были какие-то сногсшибательные суточные совершенно. Я ходил по каким-то роскошным барам и вообще чувствовал себя господином, а лет мне было семнадцать.
ГОРАЛИК А как случился отъезд? Все, что вы сейчас рассказывали, совершенно не ведет к Дании.
СВАРОВСКИЙ Да, вообще-то, по идее, я должен был остаться и, скорее всего, заняться кино. Я хотел этого. У меня был друг. Называть я его не буду, но он довольно прославленный в определенных кругах человек, ультраправый деятель. Он армянин, человек очень загорающийся. У нас была большая компания. И этот человек мечтал увезти в Индию. Это была такая мечта. Все хотели «уехать в Индию». Но в Индию, конечно, никто не стремился.
И в результате он выправил большому количеству, ну то есть изначально четверым, какие-то приглашения, а в конце концов он вывез, если всех подсчитать и связать между собой, человек сто.
Но проблема в чем – оказалось, что все люди очень разные, и, в общем-то, там никто особо между собой общаться не хотел. И мы через два месяца по приезде с этим товарищем поссорились. Поскольку он нас вывез, он от нас хотел какого-то поведения, каких-то ответных шагов и стал просить каких-то таких вещей, которые нами воспринимались как контроль над нашей жизнью. И мы расстались.ГОРАЛИК Вы планировали отъезд насовсем, надолго, на сколько?
СВАРОВСКИЙ Насовсем. Это была эмиграция, мы бежали. Я женился незадолго до этого.
ГОРАЛИК Вы же были очень молоды по-прежнему.
СВАРОВСКИЙ Мне было девятнадцать уже, да. В восемнадцать лет у меня было такое прекрасное путешествие по Крыму, месяца на два с половиной, без денег, без всего, где много чего произошло. В частности, я повстречал женщину, которая произвела на меня сильное впечатление. Я и женился. Но она была с Украины, и она очень хотела уехать. Как-то люди с Украины гораздо сильнее хотели уехать. В Москве все-таки казалось все как-то довольно весело. Получилось так, что я очень не хотел уезжать, но все очень хотели, чтобы я уехал. Кроме родителей, наверное. Но они понимали, что так тоже, наверное, лучше.
ГОРАЛИК Тем более в Данию.
СВАРОВСКИЙ Ну, Дания – это было вообще непонятно что. В общем, уехали мы в Данию. И приехали в Данию, и мне сразу не понравилось. Прямо на вокзале. Я понял, что здесь будет плохо-плохо-плохо.
ГОРАЛИК А из чего это состояло?
СВАРОВСКИЙ Вот какой-то запах жизни там мрачный. Мрачная страна, невеселая.
ГОРАЛИК Вы знаете, что они считаются одними из самых счастливых людей в мире?
СВАРОВСКИЙ Это потрясающе, потому что в тот момент, когда я приехал, она была одной из самых несчастных, по-моему, там самоубийств было больше всего в мире.
ГОРАЛИК Это не обязательно противоречивые вещи…
СВАРОВСКИЙ Нет-нет. Просто на самом деле потом, когда случилась технологическая революция и все эти интернет-проекты, стартапы, там действительно стало веселее. Плюс там случилась эмиграция, которая, как бы датчане к этому ни относились, я считаю, их спасла. Тот факт, что туда приехали сербы, боснийцы, поляки и прочие, значительно изменил атмосферу.
ГОРАЛИК Появилась рабочая сила?
СВАРОВСКИЙ Нет, появились люди с другим подходом к жизни. Веселые, бодрые, красивые, умеющие пользоваться деньгами. То есть они стали заражать датчан нормальным подходом к жизни. Ну, в общем, мы приехали и сразу сдались в лагерь.
ГОРАЛИК Что это значит?
СВАРОВСКИЙ Вот мы приехали утром на вокзал. Пошли к знакомому. Поели. Он нам все объяснил – что, куда. Мы сели на электричку и поехали в центральный лагерь Сандхольм. Знакомый этот сказал: «Если хотите избежать волокиты, не ходите в полицию. Потому что вы будете сидеть в полиции, они будут составлять протокол, будут с вами развлекаться, дурацкие вопросы задавать. Поезжайте в лагерь центральный, подойдите к двери, постучите и объясните там, что вы беженцы». Ну, мы и поехали. Собственно, двое, я и Паша Хихус. А человек, который нас привезу него уже был фиктивный брак, и ему это было не нужно. Мы пришли в лагерь такие стыдливые, такие изношенные, советские. Мне казалось, что я был одет шикарно для заграницы. У меня были замшевые ботинки, какие-то джинсы, сшитые вручную одной приятельницей, мне казалось, что все у меня такое крутое. А потом где-то дня через три я понял, что вот то, что носят арабы-беженцы, – это круто, а я вообще в каких-то обносках страшных хожу. Когда мы сдавались в лагерь, были выходные, и мы попали в изолятор и два дня просидели в тюрьме. В датском изоляторе не страшно. Нас кормили вполне нормально, то есть по сравнению с советской едой это было что-то прекрасное, это была ресторанная еда. Сидели вместе с арабским террористом. Я еще Пашу постоянно подкалывал. Я ему говорил: «Паш, я ему сейчас скажу, что ты еврей. Так что ты у меня заложник». Тонкая шутка, не правда ли?
ГОРАЛИК То есть Паша провел два дня в тюрьме в заложниках у арабского террориста?
СВАРОВСКИЙ Ну да. И ему очень не понравилось. И мне. Скука ужасная. Ну а потом что? Потом первый допрос. Но это все рутина. Единственное интересное из общения со всеми этими чиновниками в лагере было то, что во время очередного интервью там был дяденька переводчик, который прекрасно говорил по-русски, и был полицейский, майор, судя по погонам, который вел допрос, и вот где-то в середине нашей беседы я понял по поведению переводчика, что чин переводчика гораздо выше. И он, конечно, переводчик, но вообще он не переводчик. То есть он был как минимум подполковник, явно совершенно. Он был из натовской разведки, судя по всему, а тот был просто полицейский. И переводчик его просто затыкал. Он просто разговаривал со мной, игнорируя полицейского. Тот лишь печатал. Полицейский пытался вредничать, придираться, а тот его всячески затыкал, потому что офицер разведки понимал, что в Советском Союзе ужасно, и ему было меня жалко. В общем, смешно было убедиться на практике в том, что вовсе это был не переводчик. Хотя там работали в том числе и обычные переводчики. Мой датский приятель, например, потом там работал.
ГОРАЛИК Что происходило с момента, когда вас приняли?
СВАРОВСКИЙ Оформили, выдали нам кружки, ложки, постельное белье, отвели в многокоечную палату, где потом к нам вечером заселили человек семь румын. Мы были в ужасе, честно говоря. Но вообще румыны не так уж плохи. Например, многие из них очень хорошо говорят по-английски, по-французски, они вообще какие-то все были довольно ученые. И мы поняли потом, что большинство из них очень симпатичные, очень свои. Мы даже вместе с этими румынами стали исследовать окружающую реальность, это было очень интересно. Зашли на территорию военной базы. Там же лагерь центральный, а кругом военная база. Старая база. Нас там арестовали военные. Помнится, как-то мы ходили куда-то, и румыны, человек пять, шли немного сзади, а мы с Пашей впереди, и Паша, глядя на румын, говорит: «Тебе это не напоминает неореалистический фильм?» А кругом такой мягкий закатный свет, лето. Я говорю: «Да, „Похитители велосипедов“». Что еще было интересного? Как-то утром меня разбудил дедушка, пожилой украинец, который пришел в лагерь в день, когда он освободился из этого лагеря. Он, оказывается, в день выписки из лагеря всегда сюда приходит, разговаривает с местными. Дедушка был бандеровцем. И он стал рассказывать, как было в этом лагере в 1945-м. И это, конечно, было для меня откровением. Это лагерь очень старый. После войны это была английская оккупационная территория, и по договору Сталина с англичанами НКВД разрешалось делать что угодно на всех этих территориях. И приехали несколько «виллисов» с пулеметами и стали всех беженцев расстреливать. А тут жили русские и украинцы. И люди побежали. А там такая долина за лагерем, довольно большая. И они бежали, а за ними ехали машины и расстреливали всех из пулеметов, а дедушка этот просто спрятался каким-то образом за кочкой или еще где-то. И выжил. А так их всех почти перебили, все население лагеря. Вот в таком месте мы жили, оказывается.
ГОРАЛИК Чего вы ждали?
СВАРОВСКИЙ Я ждал ада, я знал, что это будет очень плохо и что жизнь моя кончилась. То есть, конечно, ты же молодой человек, ты думаешь, что надежда какая-то все-таки есть, но было тяжело. Я хотел в Россию. Как проводили время? Ну, напивались. Я некоторое время провел там с писателем с одним, эмигрантом. Он был запойный человек. Он работал на ВВС, получал гонорары и их пропивал. Вот мы вместе пропивали его гонорары. В китайском ресторанчике сидели.
ГОРАЛИК Вот лагерь – он на сколько мест вообще? У вас же было сколько-то людей вокруг?
СВАРОВСКИЙ Сколько угодно.
ГОРАЛИК И как вам представлялось будущее? Как развивались обычно такие истории?
СВАРОВСКИЙ Когда мы приехали, русских было в лагерях сорок человек. Я, даже если не был знаком с каждым человеком, но знал, что он есть, знал, как его зовут. Поэтому появление в Копенгагене в каких-то сообществах нового человека воспринималось с интересом, с восторгом. Потому-то какой-то писатель русский и согласился со мной пить, потому что ему вообще-то и пить было особо не с кем. Была еврейская эмиграция, которая частично тоже соприкасалась с нами. Конечно, звучит нелепо, но лучше всего в лагере было быть гомосексуалистом. Некоторые так и сделали. Человек говорил: «Я гомосексуалист».
ГОРАЛИК Почему?
СВАРОВСКИЙ Это же Дания, это же страна, которая первая разрешила однополые браки. Там был один товарищ из русских, в одном из лагерей, где я жил. И ему прописали какую-то там зарядку странную, какие-то походы к врачам. Ему полагалась дополнительная еда, фрукты, сок, льготы. Было не совсем понятно, чем это обусловлено. Только потом мы догадались, что он заявил себя гомосексуалистом для надежности. Гомосексуалистов не высылали. И ему за это еще всяких льгот надавали.
Что еще рассказать? Сперва мы жили в этом первом лагере в корпусе, который был за оградой. У нас не было пропускной системы. В главном корпусе было все очень сурово, потому что там были настоящие арабские террористы. Наркотики. Люди с ножами. Довольно жутко. Поножовщина происходила каждый день. Сомалийцы дрались с арабами, иранцы – с иракцами. Сидишь в столовой, и вдруг кто-то бежит по столу – «розочку» делает и пошло-поехало. Помню, кого-то в окно выкинули.
Потом в другом лагере жили. Там были сплошные арабы. Эксцессов много было. Сложно с ними. При всей моей искренней приязни к арабам, вынужден признать, что палестинцы – это ужас какой-то. Там еще персы были. Вот это нормальные люди, симпатичные. Даже Борхеса читали. А еще иракские летчики. Там было несколько человек. Прекрасные ребята. Это те, что от Саддама улетели. Но в лагере все время из-за палестинцев были проблемы, драки, поножовщина. Когда зарезанного человека бросили в комнату моему приятелю, как-то мы решили подумать о смене дислокации. И поехали. Наш приятель переехал в другой – в Ютландию. В Дании считается, что Ютландия – это страшная дыра. Мы решили попробовать в эту дыру. Съездили посмотреть сперва. И я был совершенно очарован, потому что, во-первых, там были горы, чего в Зеландии не встречается, во-вторых, когда мы подъехали к лагерю, из окна высунулась еврейская женщина и закричала: «Ромочка, иди скорее есть вкусные сосиски!» Небольшой дом на пятьдесят человек, что само по себе уже прекрасно. Флигель и такой трехэтажный дом. Это был гостевой дом замка. Владельцы замка его отдали в бессрочную аренду Красному Кресту, чтобы налоги не платить. И мы переехали туда. И самое удивительное, что обычно в Красном Кресте если что-то просишь, то это стараются не выполнить. Если ты, например, просишь переехать в какой-то конкретный лагерь, тебя точно переведут в другой. Кафкианские такие дела. А здесь я написал заявление – хоп, и перевели. И мы счастливые переехали. Большая отдельная комната в старом доме. Можно входить не через центральный вход, а по винтовой лестнице старой. На кухне можно самому готовить. В общем, очень все мягко. Сотрудники Красного Креста – ютландские люди. Они хоть на людей похожи, добрые. Не какие-то такие чиновники, функционеры. Состав жителей в лагере был такой: половина евреи местечковые, город Енакиево, немножко москвичей, две пары из Питера, люди из Эстонии, очень приличные, симпатичные люди. Даже были знакомые московские – человек, которого я знал еще по Москве, художник с женой и детьми, еще один человек, который поехал за нами, потому что мы ему рассказали. Еще поляки, частично русскоязычные, частично совсем польские были. Там был один очень интересный тип. Он сбежал из французского иностранного легиона. Такой огромный бугай-громила. Он там охранял каких-то негров в зиндане, и ему приказали их расстрелять. А он их просто отпустил и сбежал. Но потом он абсолютно рехнулся – каждую ночь рыдал, бился о стены. Потом были румыны, очень тихие и спокойные, которые потом совершенно сошли с ума и разгромили весь дом. Был замечательный человек Салах, которого я никогда не забуду. Это человек с потерянной идентичностью. Папа араб, а мама еврейка. С израильским паспортом. Абсолютно свихнутый. Он пытался все время шутить, пытался со всеми пообщаться. Не очень удачно. А когда у него был перегруз в мозгу, он шел и покупал пиво, там был магазинчик. Ему хватало одной бутылки, чтобы дойти до состояния абсолютного безумия. Тогда он начинал все громить, почему-то ругаясь по-польски. Грязно ругаясь по-польски. И его в конце концов увезли в какой-то другой лагерь, потому что наблюдение медика ему нужно было.
Еще некоторые там самогон варили. Воровали на кухне сахар, ставили брагу и перегоняли.ГОРАЛИК Какого вы ждали будущего?
СВАРОВСКИЙ Не было никакого будущего. Что-то происходит такое, катастрофа, ну и живешь как-то. И начинаешь ценить текущий момент. Все происходит сегодня. Надо сказать, что я был такой типичный измученный дачей московский ребенок, который любил город и ненавидел природу. Там я очень сильно полюбил природу. Я уходил один часами гулять. Там природа потрясающая. В лесу грибов – море. Ведрами их носили. Уже не знали, что с ними делать. В общем, гулял я много. Сидишь на холме. Коровы для красоты по пейзажу разбросаны, в речке форель водится. Никого нет вообще. Идешь – и пустой мир такой вокруг. Все эти сельские люди только по делу из дома выходят, коров загнать и дальше опять в дом. Там было очень вольготно, в этом ютландском лагере. Мы загорали, летом в бассейн нас возили открытый. Зимой – закрытый бассейн. Ну, в общем, как-то они старались, чтобы мы с ума не сошли, как-то нас развлечь пытались. Только проблема в чем: народ стал подворовывать в магазинах, махинации всякие, гешефты. Там были литовцы, они были настоящие бандиты. Обворовывали магазины. Да вообще все воровали. Кстати, более вежливых и милых бандитов, чем эти литовские, я не встречал. Слова плохого никогда не слышал. Матом? Ни за что. Они мне говорили: «Федя, какой язык русский грубый, зачем вы так грубо друг с другом разговариваете?» При этом они жуткие люди были абсолютно.
ГОРАЛИК Чем вы занимали голову в это время?
СВАРОВСКИЙ О… Я занимал голову оккультизмом. Это очень развлекает поначалу, когда делать нечего. И сходил с ума. Какие-то книги идиотские читал. Я занимался астрологией, Господи прости. Эфемериды себе выписал для вычислений. Пропорционально увеличению времени отсидки у всех начинала портиться голова. Там кто-то заводил какие-то романы, естественно. Свальный грех какой-то у кого-то начинался. Я тогда придумал делать дискотеки, чтобы напряжение снимать. Просто совсем уже, совсем с ума сходили. Я как-то говорю: «Ребят, давайте, что ли, танцевать хотя бы будем». Брали много алкоголя, много гашиша. Специально посылали гонца в город. Он привозил три килограмма травы. Потом брались в офисе Красного Креста весы для писем. Ну, они понимали зачем. И, значит, полная укурка, некоторые, собственно, никогда не приходили в сознание. Самогонку, как я уже упоминал, гнали.
ГОРАЛИК Что страна собиралась с вами делать?
СВАРОВСКИЙ Международная конвенция. Они и сами не знали, что делать. Тех, кому убежище давали, селили в таких коммуналках для беженцев. Пособие платили. А дальше – сам. Учишь язык. Работу ищешь. Можно пойти учиться. Можно на пособии бездельничать. А если не дают убежища – сидишь в лагере, безумствуешь.
ГОРАЛИК То есть они от вас вообще ничего не хотели? Они готовы были просто держать вас там?
СВАРОВСКИЙ Угу. Нет, многие уезжали, не выдерживали. Кто-то в Швейцарию пешком ушел, кто-то во Францию уехал. Кто-то в Англию отправился.
ГОРАЛИК Чем лагерь кончился для вас?
СВАРОВСКИЙ Нам с женой дали отказ. У нас было единое дело вместе с Пашей Хихусом. И ему дали убежище, а нам дали отказ. Нелогично как-то. Дальше процедура – суд.
ГОРАЛИК Отказ – это значит, что вас не признали беженцами?
СВАРОВСКИЙ Да. Не признали. Потом был суд в Копенгагене, был адвокат, которого для нас оплачивало государство. Как выяснилось, адвокат был бездарный. Мне это было сложно понять. Здесь просто сыграл роль тот факт, что там собрались немолодые люди гуманитарной направленности, правозащитной такой направленности – судьи, присяжные. Судились мы за право остаться, оспаривали решение Директората для иностранцев. Наверно, я им рассказал такие невероятные вещи, что они мне полностью поверили. Судья был мужчина такой в очках, пожилой, седой, очень серьезный, – так пристально на меня смотрел. Одна тетенька заплакала. В общем, большинством голосов, за исключением, естественно, представителя Директората для иностранцев, они решили нам убежище дать. Но это еще не все. За нами шел мой друг Сережа, который шел по еврейской теме. Он был такой уже не совсем молодой человек, лет тридцати, наверное. Выглядел внушительно. Называл себя художником. Это у него в лагере тяга к живописи проснулась. И он суду говорит: «Я художник, а художнику вообще нигде спокойно дышать не дают». А у судей за спинами для красоты такие дешевые репродукции разных картинок висят, такие большие, как в офисах любят вешать. И Сережа, глядя им за спину говорит: «А когда ты одновременно и художник, и еврей, то жить становится совершенно невыносимо. Вот, например, Шагал». И рукой так показывает на стену. Они оборачиваются, а там действительно – Шагал. Еврей со скрипкой по небу летит. «Шагалу пришлось эмигрировать. Пришлось бежать и мне», – закончил свою речь Сергей. В результате позитивное решение суда – «автоматом». Они были зачарованы. При том что эту морду казацкую надо было видеть. Значит, получили мы убежище. Поселили нас в квартиру. Вызывает меня социальный советник, так как теперь из рук Красного Креста я поступаю в руки датского государства. Оно должно нам платить пособие, давать квартиру, следить, чтобы я интегрировался. Ну, мы с этой дамой-советником все обсудили. И она под конец говорит: «Можно я вам задам личный вопрос?» Я говорю: «Ну, задайте». – «Вот вы молодой человек, вот вам сколько лет?» – «Двадцать». – «Почему у вас статус „К“?»
ГОРАЛИК Что такое «статус „К“»?
СВАРОВСКИЙ Я объясню. Большинство беженцев, которые уезжают в другие страны европейские, получают так называемый статус «Д», то есть получают убежище «де факто», то есть признается, что им не надо никуда возвращаться, но они не признаются настоящими страдальцами или борцами за свободу, Нельсонами Манделами. Ну, вот разбомбили у тебя дом в Армении. Не поспоришь. Война. Ну, живи тогда. Но ты – не герой. А статус «К» получают люди, которые бились на баррикадах, сидели в тюрьме в кандалах. И статус «К» отличается тем, что его нельзя отобрать. То есть его можно забрать, только для этого надо собрать Женевскую конференцию. Вот такой мне дали подарок. Я говорю советнице: «Извините, я ничего не знал. У меня статус „К“?» Она говорит: «Ну да, у меня в документах написано. Вы настоящий правозащитник?» Получается, что эти добрые люди, несчастные, которые слушали мои излияния битый час, – они посчитали меня политическим борцом. Та женщина не зря плакала. И мне, и моей жене выдали статус «К» как диссидентам настоящим.
ГОРАЛИК Что происходило дальше?
СВАРОВСКИЙ Мы переехали в город Орхус, на окраину. Это было ужасно, как под водой жить или в космосе. Мы называли свою квартиру космическим кораблем. Комнаты называли отсеками. Представляли себя героями Star Track. Это такие коммуналки, все между собой знакомы. Там на улицу страшно было выходить, потому что там никогда никого нет. Пустота, чайки летают и «ааа» кричат. Естественно, все мечтали в Копенгаген уехать. Там я очень много писал – прозу, сценарии. Собственно, только этим и развлекался. Причем из-за полной этой изоляции и тишины я полностью уходил из реальности. И это, увы, потом, к сожалению, во многом сдвинуло мне голову, как мне кажется. Я перестал ощущать грань между реальным и нереальным, а это очень плохо. Но тогда мне сперва нравилось.
ГОРАЛИК Вы очень много писали – прозу, сценарии, – кто это читал тогда?
СВАРОВСКИЙ Никто. Не, ну читала жена, знакомые.
ГОРАЛИК Но вы не отправляли тексты никуда?
СВАРОВСКИЙ Я отправлял другу – режиссеру. И он говорил: клево, клево, снимем. Да, но только я-то здесь, а он там. Я написал сценария три, наверное, тогда полнометражных.
ГОРАЛИК Про что?
СВАРОВСКИЙ Всегда что-то такое апокалиптическое, катастрофическое. Для примера? Один сценарий был про то – потом этот сценарий воплотился в реальности, только не в России, а на Балканах – про то, как молодой человек работал на радио ведущим, наступила война, и он там стал пулеметчиком. А он был большой меломан, его только музыка и интересовала. И он там все время музыку слушает, все время с плеером, и это всех очень раздражает. И эта сторона, на которой он воюет, она проигрывает. И их задача – удержать некий окраинный район, за которым аэропорт, чтобы максимальное количество войск и людей успело улететь. И он попадает случайно в свой дом. Многоэтажный дом, обычный советский такой, где он прожил жизнь с родителями, а потом с бывшей женой. И там его коллекция пластинок, все, что он бросил. И для него это потрясение, конечно. Например, они зачистку производят, поднимаются по лестнице, все напряжены, – и вдруг во время зачистки он достает ключ и просто открывает дверь. Ну, его напарник ужасно пугается. А он ходит по своей квартире, трогает вещи, а на следующий день встречает там свою бывшую жену. Этот фильм весь построен на популярной музыке, которую он слушает, которую он раньше по радио крутил. И вот встречает он свою бывшую жену. Она ему объясняет, что ей некуда пойти и что она пошла туда, где жила раньше. И у нее даже ключи были. Ей помочь некому. А тут хоть дом уцелел, и он близко к аэропорту. Ну, и у них начинается разбор прежних отношений. Он ее прячет от начальства. А параллельно они ставят огневые точки на крыше, параллельно отражают какие-то атаки. И он решает всех подбодрить. И устраивает им танцы на крыше. А в это время начинается бой. В конце все погибают. Ностальгический такой фильм. Оказалось, что всего через год Бахтиер Худойназаров снял свой чудесный фильм «Кош ба кош» – по сути, ровно про то же самое.
ГОРАЛИК Про учебу расскажете?
СВАРОВСКИЙ Я учил датский, естественно. Ну, датский язык никто учить не хотел. И датчан почему-то русские не любили. Как говорили местные эмигранты: хорошая страна Дания, если бы только здесь не было местного населения.
ГОРАЛИК То есть учеба вас не привлекала?
СВАРОВСКИЙ Я к тому моменту вообще не понимал, что меня привлекает, я совсем с ума сошел.
ГОРАЛИК Это вам было сколько лет?
СВАРОВСКИЙ Двадцать-двадцать один. Лагерь – это год и семь месяцев, или шесть. А остальные – некоторые по три года сидели. Но те совсем уже обезумели в основном. Либо уехали куда-нибудь в другую страну, либо совсем свихнулись. Кого-то выслали. Датский я учил, и на самом деле мне было интересно в каком-то смысле.
ГОРАЛИК А вы его знаете в результате?
СВАРОВСКИЙ Ну как знаю? У меня же практики нет. Например, кино я могу перевести. Я пытался, кстати, это делать в кризис за деньги, но тогда это было еще старое датское кино. Мерзость редкая. И я переключился на английские переводы, хоть за датский язык и больше платили. Это сейчас очень много хорошего датского кино, а тогда в каждом фильме обычно все друг друга изнасиловали, а потом разрезали ножами, удавили-удушили и накакали налицо. В датском кино насилие – это главная тема. Для них важна тема подавления человека человеком.
ГОРАЛИК Жизнь в маленьких сообществах.
СВАРОВСКИЙ Да, протестантизм такой жесткий.
ГОРАЛИК Вы планировали работать или вас устраивал модус, когда вы можете писать?
СВАРОВСКИЙ Нет, я совершенно стал деградировать. Когда я приехал в Копенгаген, у меня появилось какое-то общение. Ну, и я православным стал. Это было интересно и хорошо, потому что там не было никого, народу мало, и ты нужен, востребован.
ГОРАЛИК В смысле – вы выбрали приход?
СВАРОВСКИЙ Там был один приход.
ГОРАЛИК И вы участвовали в жизни прихода?
СВАРОВСКИЙ Да, потому что понятно, что если не ты, то никто другой ничего не сделает.
ГОРАЛИК Приход, наверное, был небось крошечный?
СВАРОВСКИЙ Церковь большая и торжественная, а прихожан постоянных десять-пятнадцать человек. В приходе учишься как-то с людьми общаться. Раньше же мне казалось, что есть вот какой-то рабочий класс, есть всякая богема, и между людьми – пропасть. Оказалось не так. Я научился с самыми разными людьми разговаривать по-человечески, понимать их. Уважение к людям появляется.
ГОРАЛИК Терпимость и снисхождение?
СВАРОВСКИЙ И, в общем, мне это понравилось.
ГОРАЛИК Приход давал это?
СВАРОВСКИЙ Конечно. Плюс когда ты задействован, когда ты кому-то нужен… Это здорово. Поскольку русские люди ведь такие, они же делать ничего не хотят, они же хотят, чтобы все за них сделали. Поэтому ты всегда при деле. Потом я подружился со священником. А отношения с женой, которая, кстати, тоже обратилась, окончательно расстроились. И я даже переехал жить в церковь, прожил там года полтора.
ГОРАЛИК В церковь буквально?
СВАРОВСКИЙ Ну, там были помещения жилые.
ГОРАЛИК При церкви?
СВАРОВСКИЙ Да, я жил там.
ГОРАЛИК А то я себе представила, что вы там спали на скамьях.
СВАРОВСКИЙ Нет, я спал в кровати. У меня был друг-священник, очень интересный человек. Он наполовину серб, наполовину венгр, немного русский, а по паспорту канадец.
ГОРАЛИК Он не был русским?
СВАРОВСКИЙ У него фамилия «фон Бирон», из Биронов. Но не из тех, из которых регент, а из тех, что в Малороссии жили. У них были имения в Крыму, дом в Киеве.
ГОРАЛИК Но он никогда не рос в России?
СВАРОВСКИЙ Нет, он из Белграда. Его мама венгерка, а папа наполовину серб, наполовину русский. Приход был русский – Русской православной церкви за границей (РПЦЗ). Но среди прихожан там были греки (у нас была греческая литургия), были сербы, естественно, что мне очень нравилось, потому что с сербами я дружил с удовольствием. Собственно, сербы и мой друг-священник научили меня готовить, например. Мне очень понравилось готовить. Что я делал еще в церкви? Ну, я там полы мыл, убирал, прислуживал в алтаре какое-то время.
ГОРАЛИК Вы готовите с большим удовольствием, я помню.
СВАРОВСКИЙ Здесь, конечно, Бирон сыграл роковую роль. Настоящий балканский мужчина должен готовить. Это у них очевидность. Если готовит женщина – это не важно. Ну, готовит, и ладно. Но если ты мужчина – должен обязательно уметь готовить. И я очень проникся этой мыслью, понял, что меня это как бы защищает. Потому что, когда я готовлю, я создаю свой мир, свою реальность и чувствую себя гораздо увереннее.
ГОРАЛИК Что он учил вас готовить?
СВАРОВСКИЙ Разную еду, поскольку он жил в разных странах – в частности, докторскую диссертацию он защищал в Италии, то он и итальянские блюда знал. И первое, что он научил меня готовить, – pasta pomodori и pasta marinara.
ГОРАЛИК Большое дело, между прочим!
СВАРОВСКИЙ Ну да, особенно в те времена, когда ты советский мальчик и ты совершенно не представляешь, что такое вкусное в природе бывает и что так просто это сделать. Барашка мы с ним запекали. По барашку он вообще был большой специалист. Греческие бобы я научился готовить, и по сей день готовлю. Это безумно вкусная еда. Что еще делали?.. Кино мы с ним смотрели.
ГОРАЛИК Какое? Какое кино смотрят в Дании?
СВАРОВСКИЙ Ну, мы смотрели всякое модное кино, естественно. И не только с ним.
ГОРАЛИК Я имею в виду – какой страны кино? Голливуд?
СВАРОВСКИЙ Он любил Голливуд, потому что он был человеком скрытых гомосексуальных наклонностей, ему нравились такие сентиментально-гламурные дела. А я как раз не очень любил. Но он всякое изящное кино тоже смотрел. Датское кино я, конечно, смотрел, которое тогда нарождалось, фон Триера, которого никто не знал, а в Дании знали. И «Королевство» смотрели, конечно. Шикарная, кстати, вещь, думаю, лучшая вещь фон Триера.
ГОРАЛИК Что вы там читали все это время и откуда брали книги?
СВАРОВСКИЙ Мне привозили из России безумное количество книг. Я и сам возил. У меня библиотека была огромная, книг двести-триста. В основном это была церковная литература… ну и всякая другая.
ГОРАЛИК Вы уехали как раз в тот момент, когда в России стали появляться книги, которых никогда до этого не существовало.
СВАРОВСКИЙ Ну вот их и привозили. Плюс были американские книги. И при церкви была библиотека, она не идеальная была, конечно. Мы как раз каталогизировали библиотеку – массу трогательных вещей нашли там: мы находили, например, оставленные специально в книгах (представляете, люди прятали документы в книги в библиотеке) закладные, например. Датские банки выдавали кредиты под имения, которые под большевиками находились. Верили датские банки, что это ненадолго. Скажем, имение какое-то под Евпаторией человек заложил, причем получил значительную сумму денег под залог. Или еще какие-то письма находили: «Дорогая Лялечка, я в Галлиполи…» Фотографии. У меня даже какие-то фотографии есть, я их забрал себе. Все равно непонятно чьи.
ГОРАЛИК Вы полагали, что останетесь в Копенгагене навсегда? Переезд не планировали?
СВАРОВСКИЙ Нет, я планировал все только на завтрашний день, у меня не было будущего. Я жил вне времени, времени не было. Я не знал, что будет, вообще ничего не планировал. Единственное, я ездил в Россию, в Израиль.
ГОРАЛИК «Ездил в Россию, возвращался в Данию»… Как это ощущалось вообще? Вы же приезжали каждый раз в несколько другую страну, тогда быстро все менялось.
СВАРОВСКИЙ Да. Я когда первый раз приехал, это было довольно скоро, в 92-м году, это был шок. У меня же паспорта русского не было, но кое-где и границы не было русской. Я поставил эстонскую мультивизу в свой датский проездной документ, просто сел на поезд, купил СВ (это стоило один доллар) и приехал на Питерский вокзал, где мой друг меня встретил на старом «москвиче» и повез к себе домой. Я домой не поехал, мне было страшно. Я приехал, две недели помыкался, потом пошел в милицию, сказал, что я потерял паспорт. Они говорят: «Штраф сто тридцать рублей». Я заплатил.
ГОРАЛИК Сто тридцать рублей – это тогда сколько центов было?
СВАРОВСКИЙ Не помню. Нисколько. Тогда так все быстро менялось, но это были копейки. Я помню, тогда поменял тридцать долларов и жил на них месяц. Два раза в год ездил в Россию, на Новый год и летом. К друзьям, к родителям.
ГОРАЛИК Чисто человеческое ощущение от этих поездок было каким?
СВАРОВСКИЙ Очень страшно было, но интересно. Конечно, я понял, что дом потерян. То есть я уехал из одной страны, а это уже другая, и все, ничего не вернется. Никакого ощущения дома от Москвы. И даже дома у родителей не чувствовал себя дома. Помню, когда я первый раз приехал, я через четыре дня набрался смелости и поехал к папе, мама тогда была в командировке. Я позвонил ему и сказал, что я в Москве, сел на такси, приехал. Уже вечер был, там еще лампочки были такие тусклые, двадцать пять ватт, везде вкручены почему-то – ужасно темно. Мы сели пить чай, и тут стали стрелять из автомата. И он говорит: «Ну да, вот теперь у нас так». Мне очень нравилось в Киеве, я через Киев часто ездил. Я завел русский паспорт, но мне тогда нельзя было показывать свои датские документы в России. Поэтому я часто через Киев летал. Я через Вену прилетал в Киев, а потом на поезде – в Москву. В Киеве мне жутко нравилось. Там было тоже очень страшно, наверное, но там какой-то уют был, ну юг все-таки. Еще ездил в Крым. В Германию я ездил по разным делам, но поскольку я в монастырь там ездил или к знакомым, как-то туристом я себя не чувствовал.
ГОРАЛИК А когда вы начали писать, вы привозили сюда тексты? Вы пытались здесь кому-то их показывать?
СВАРОВСКИЙ Нет, я перестал писать. С тех пор как воправославился. С 92-го и по 97-й я не написал ни строчки.
ГОРАЛИК Этому есть какое-то объяснение?
СВАРОВСКИЙ Да, потому что я не понимал, как это увязать с нынешним своим мировоззрением, потому что все-таки очень много гордости и самолюбия раньше в этом было у меня лично. И я не знал, как это совместить. А потом понял, что не получается не писать, и тогда я стал писать снова. Но я изменился. Я понял, что то, что я пишу, – это не манифестация моей личности, а попытка делать красоту. Это другое дело. Это было философски приемлемо. Я пытался что-то религиозное сперва писать, но потом понял, что это можно делать редко. Часто такое не выходит. Часто – это будет профанация.
ГОРАЛИК Религиозную эссеистику или прозу?
СВАРОВСКИЙ Нет, стихи.
ГОРАЛИК До этого момента вы почти не писали стихи? Вы все время упоминали прозу, роман…
СВАРОВСКИЙ Нет, до отъезда я в основном писал стихи. Я даже какой-то конкурс выиграл, даже где-то пропечатали, то есть все было довольно успешно. Ну то есть в узком кругу любителей мои усилия ценились. Потом я от всех этих стихов отрекся. У меня, кажется, даже ничего их тех стихов не осталось. Ах да. Надо сказать, что я заболел же психически в 94-м году, у меня психоз начался. И я в острой фазе пробыл года где-то до 97-го.
ГОРАЛИК Это в Дании?
СВАРОВСКИЙ Это произошло в Дании, а лечиться я поехал в Россию. Это связано с датской психиатрией. Это одна из худших психиатрий, которые существуют на свете. Там, грубо говоря, все решается через электрошок и убойные медикаменты. У меня там друг полежал в больнице: шесть электрошоков. Он потом мне писал письма: «Здравствуй, Федя, я Илюша, ты меня, наверное, не помнишь, а мне рассказали, что мы дружили». То есть в датский дурдом лучше было не попадать. Там, правда, тебя прекрасно кормят, на каждого пациента по семь санитаров, которые будут там с тобой в игрушечки играть, но это ужас. Но здесь мне тоже с психиатром не повезло, прямо скажем. Мне ничего не помогало. Но я же верующий и оптимист, я надеялся, что все как-то устроится, что я выкарабкаюсь. И, действительно, болезнь не получила развития, а, наоборот, какая-то положительная динамика началась. Но, естественно, я приобрел в наследство от психоза массу недугов, то есть я действительно настоящий невротик с большими проблемами. А в 97-м году я вернулся в Россию, потому что решил жениться. Наши отношения с первой женой полностью разрушились уже давно. Я ее, видимо, довольно сильно обидел. Не срослось. Тут дело еще в том, что, поскольку я прислуживал в церкви, а священник был один, ему было невероятно тяжело. Человек он был очень добросовестный, совестливый, балканский человек, очень бурный, эмоциональный, поэтому он очень искал какой-то поддержки. И он мне сказал: «Пожалуйста, давай ты будешь у меня дьяконом. Я тебе доверяю, мы друзья. Давай вот мы будем вместе служить». Я говорю: «А что я должен для этого сделать?» Он говорит: «Ты должен либо жениться, либо в монахи». Я говорю: «Жениться не получится. Это не поможет». Я сейчас не буду вдаваться в подробности, но по ряду канонических причин единожды женатый человек, оставивший свою жену, принять священный сан не может. А он: «А давай тогда мы тебя в монахи пострижем». Я говорю: «Ну, это же совсем другое дело, я никогда об этом не думал». – «Ну, поезжай в монастырь». Ну, поехал я в монастырь в Мюнхен, пожил две недели или, может, даже месяц. Потом еще поехал и еще. Местный архиепископ готов был меня рукоположить. Но я колебался насчет монашества. В общем, я правильно, по-моему, поступил – я понял, что не могу. Не мое это – монашествовать. Дело в том, что я был человеком довольно распущенным всегда, и мне было очень стыдно, что так вышло. И я понял, что поврежденность моя – ее восстановить нельзя, я все равно таким и останусь. Я просто могу ничего этого не делать, от всего воздерживаться, но я уже навсегда такой, ущербный, и этого не исправишь, пока я не помру, будет так. И меня ужасно это мучило, вся моя прошлая жизнь. И я поэтому стал думать о монашестве, о сане как о возможности искупить свои поступки. Но я вовремя понял, что это же не игра, это служение, и тут по натуре просто надо быть другим. Не вышел бы из меня дьякон, священник. Тем более и с головой у меня были проблемы. Я все упирался-упирался, думал-думал, а потом появился какой-то шведский парень женатый, который давно хотел быть священником. Там много православных шведов, на самом деле. Шведы вообще все русское любят. Ну, вот его рукоположили, а через полгода он нашел себе какую-то девчонку, расстался с женой – и привет. И я подумал: «Слава Богу, что это не моя история!» Хорошо, что вот так легкомысленно я по этому пути не пошел.
ГОРАЛИК А год это какой?
СВАРОВСКИЙ Это все решалось в 95-97-м. И тогда, когда я отказался рукополагаться и постригаться, я думал: буду так жить, без жены. Сам по себе. А мне мой духовник немецкий сказал: «Я против того, чтобы ты вот так, сам по себе жил. Если в монахи не идешь, давай женись. Все эти люди, которые одни живут, на самом деле эгоисты. На самом деле, очень легко лишить себя сексуальной жизни, это не так сложно, как кажется. Сложно с людьми разговаривать, какие-то проблемы решать, смиряться. Поэтому надо жениться и страдать в браке, а может, и получать удовольствие. Все зависит от тебя». И я собрался жениться, поехал в Москву. Понимаю, как это глупо выглядит для современного неверующего человека, потому что ты же ведь ни в кого не влюблен, а тебе нужно принять какое-то решение, сделать предложение, что ли. С чего начать-то, собственно? А главное, я от себя оттолкнул всю эту сферу, и я вообще даже не понимал, как теперь за девушками ухаживать, что говорить нужно. Раньше-то я знал, как это делается. Но я же так, как раньше, не мог себе позволить себя вести. Я все прежнее возненавидел. А потом я вспомнил такую вещь: в 94-м году, когда я уже заболевал, накануне своего сумасшествия, я был на крестинах в Москве. Наши общие друзья разродились двойней, и мы крестили их детей. И там была девочка лет пятнадцати, на которую я невольно обратил внимание, еще спросил у своего друга, кто она такая. А он еще меня обсмеял: «Да она же ребенок, как не стыдно тебе!» И тут я приезжаю на дачу к друзьям – и вижу эту девочку, только ей уже, к счастью, восемнадцать. Я думаю: «Ну, если она мне тогда так молниеносно понравилась, может быть, это какой-то вариант?» А потом просто мы сидели за столом, и мне не хватило вилки, и она пошла помыла вилку и дала. А я за годы жизни в Дании привык, что за мной никто никогда не ухаживал. Я всегда все сам делал. И почему-то меня это как-то очень задело. Друг мой это увидел и шепнул: «Может, это вариант?» И почему-то это очень сработало. Я почувствовал с этой девушкой общность, близость какую-то. Но я, конечно, полный идиот и сделал довольно глупую вещь: я позвал девушку погулять, таскал ее битый час по бульварам и зачем-то в самом конце прогулки, уже в метро, говорю: «Слушай, я не умею ухаживать, я очень рассеян, но я точно собираюсь жениться, это серьезно. Можно, я на тебе женюсь, можно? Пойдешь за меня? Потому что мне кажется, что это очень даже перспективно». А она меня спросила: «А если бы это была не я, а моя подруга, ты бы тоже вот так ей сказал?» А я очень смущался и говорю: «Да». И она чуть не в слезы. Я говорю: «Да нет, конечно! Наверное, я все же тебя позвал, потому что именно ты мне нравишься». – «А почему, – говорит, – ты такое дурацкое место нашел – станция метро? Шумно, поезда ходят». Я говорю: «Я не знаю, я просто долго не решался – может, это надо было сделать в парке?» Говорит: «Почему ты это сделал в первый день, когда можно было еще походить, пообщаться?». Я говорю: «Потому что я не знаю, как себя вести с девушкой». А она говорит: «Ну ладно, давай попробуем». Так мы и попробовали. Четырнадцать лет вместе.
ГОРАЛИК Итак, вы оказались, во-первых, опять москвичом, во-вторых, женатым человеком. Делать что-то надо было…
СВАРОВСКИЙ Да. Я на работу и приехал. Моя приятельница из Копенгагена уехала в Москву, очень близкая моя подруга, у которой я прожил два года, собственно. Вместе с ней и ее мужем. Она уехала, с мужем рассорилась и уехала в Москву, потому что ее приятель, и мой, собственно, знакомый, стал начальником на телевидении и сделал программу. Там нужна была рабочая сила, а на телевидение тогда брали всех, включая собак с улицы, потому что все равно никто не знал, как это все делается.
ГОРАЛИК А вы умели многое.
СВАРОВСКИЙ Да ничего я не умел. Но складно написать мог. Все-таки гуманитарий. Тогда я просто приехал и пошел на эту работу, на канал НТВ. Сперва был корреспондентом, потом я быстро понял, что корреспондентом работать – это ад, и попытался как-то переквалифицироваться. Женился как раз весной и решил стать редактором межпрограммного эфира. Это все равно была невероятно тяжелая работа. Это как на заводе работать. Вообще телевидение – это ужасно. Причем за какие-то копейки, как я теперь понимаю. Вообще тогда люди очень странно жили, я был потрясен. Москва меня в шок полный повергла, потому что люди зарабатывали пятьсот долларов, а потом шли в ресторан и спускали все за два дня. А как они потом жили, я, честно говоря, не понимаю.
В общем, меня эта жизнь совершенно потрясла, потому что все дорого, все плохо, ужасно, и я очень быстро понял, что очень хочу отсюда сбежать. Но, конечно же, не в Копенгаген. У меня какие-то бредовые мысли рождались. Например, мы в свадебное путешествие поехали в Грецию. Там у меня был знакомый монах один, старостильник, и мы к нему в монастырь поехали. Это рядом с Афинами. А нас там так приняли роскошно: кормили, поили, возили и прочее, потому что мы понравились митрополиту. Митрополит тоже совершенно очаровательный человек. Так у меня была мечта, например, к ним туда переехать. Ну, действительно переехать туда, выучить греческий. Там было очень симпатично. Там нас познакомили – специально, чтобы мы не терялись, – с местными прихожанами, с молодым священником, который там служит, с его женой. Очаровательные люди, какие-то совершенно очаровательные!
Вот и мечтал я об этой Греции, но тут кризис наступил, поехали мы в Иерусалим на месяц, приехали – а тут такое. Успели только остатки денег потратить. Потом Катя моя давала уроки французского за десять долларов. А я переводил фильмы для телеканалов разных, сериалы. В основном с английского.ГОРАЛИК Что происходило с вашими текстами?
СВАРОВСКИЙ Вот тогда я начал писать немножко. Вообще так, вот так чтоб писать-писать, я начал в 99-м. Потому что какая-то такая потребность оформилась. Но когда я стал изучать ситуацию с литературой, и особенно с поэзией, в современной России, я пришел в ужас. Как, наверное, и многие. Несмотря на то что некоторые люди сейчас как-то ностальгически вспоминают те времена, в принципе была довольно хаотическая ситуация. И мне очень хотелось, чтобы была какая-то такая литература, чтобы я мог ее прочесть и было бы мне ничего, нормально или даже хорошо. Я подумал, что, наверное, придется мне такую литературу написать хотя бы для себя самого. Вот таким образом начал писать.
ГОРАЛИК Это был 2000-й год, кризис кончился. Чем вы занимались?
СВАРОВСКИЙ Я пошел сразу после кризиса ответственным секретарем в один журнал маленький и оттуда сразу вылетел через два месяца, потому что, конечно, я не мог быть ответственным секретарем, и я сразу с первого момента спрашивал у главного редактора: «А зачем вы меня взяли?» Он мне отвечал: «Вы мне нравитесь. Я считаю, что не обязательно человеку все уметь. Он научится». Ну да, да. Потом он сказал: «Старик, извини, ты не справляешься». А когда мы расстались с этим работодателем, там была девушка, которая статьи для нас писала, и она сказала: «А чего, ты без работы, что ли? Давай приходи к нам в журнал „Компания“». А там народу не хватало тогда. Казалось бы вроде, работы нет, кризис, а на самом деле никого нигде не хватало. Я стал там работать. Проработал, может быть, месяцев семь.
ГОРАЛИК Что вы делали там?
СВАРОВСКИЙ Тогда это называлось «обозреватель». Писал. Так я стал писать про бизнес. А смог я писать про бизнес, потому что я работал на телевидении в передаче, которая занималась потребительским рынком все-таки. Я кое-что про это понимал. И нужно отдать должное редактору, который со мной работал, потому что он научил меня принципам каким-то основным.
ГОРАЛИК Вам хорошо было в журналистике?
СВАРОВСКИЙ Да не знаю. Работа есть работа.
ГОРАЛИК Это была вторая ваша попытка работать журналистом; первая вам тоже не нравилась. Вы упоминали, что в молодости пытались работать репортером и вам было противно…
СВАРОВСКИЙ А, не в молодости, но на телевидении. Да. Это было за несколько лет до этого. Нет, ну репортер – это адский труд, это не для всех. Это для молодых людей, которым интересно попадать в истории. Есть тип такой людей, которые действительно все это могут делать с удовольствием, а все остальные стремятся в редакторы, тем более что денег за активный образ жизни, как правило, больше получаешь. А потом вышло так, что я стал писать о вещах, о которых вообще не писали в России – о трудовом праве, об управлении персоналом. И мне позвонили из «Ведомостей» и предложили у них работать. И я пошел в «Ведомости». Была огромная зарплата – тысяча долларов. Это сразу после кризиса. Шикарная была работа. Дальше я в «Ведомостях» проработал почти девять лет. То есть я где-то три с половиной года работал корреспондентом, потом меня позвали в «Коммерсантъ», в издание одно, мелким начальником. И тут почему-то мой непосредственный руководитель и главный редактор – обе тетеньки – переполошились и не знаю почему, но вдруг решили меня удержать. Короче, под меня создали должность, под меня создали проект, и это было чудесно. Я делал свой журнал, сам. Это было аналитическое приложение к газете «Ведомости», называлось «Ведомости Форум».
ГОРАЛИК А сейчас вы где?
СВАРОВСКИЙ Сейчас я работаю в книжном издательстве Paulsen. Нас всего пять человек, поэтому я там делаю и то и се. Редактирую книги, отбираю книги, предлагаю, что в дальнейшем делать. Часто на выставках и всяких мероприятиях торгую книгами, занимаюсь пиаром, выступаю чем-то вроде менеджера проектов. Ведь каждая книга – это как отдельный проект. Найти автора, редактора, сверстать, напечатать. До этого я неудачно работал у Саши Гаврилова, как известно, в несостоявшемся проекте Мамута со товарищи. А к Гаврилову я ушел из «Ведомостей».
ГОРАЛИК А можно вернуться к куску про депрессию? Про то, на что остаются силы, а на что не остаются?
СВАРОВСКИЙ Ну, проблема, собственно, в том, что сил очень мало остается, и с возрастом их все меньше. Это звучит смешно, потому что мне всего сорок лет. Но я вынужден признать, что если была какая-то положительная динамика раньше в моем анамнезе, то теперь болезнь прогрессирует. Я обратился к новому врачу, пью таблетки, хочу заменить алкоголь целиком на таблетки. Это моя мечта. И, возможно, появятся силы. Я оптимист. Но бывает сложно. Психика – она как погода. В какие-то дни мне кажется, что мне прописали прекрасные таблетки, а сегодня, например, мне кажется, что это хреновые таблетки.
ГОРАЛИК Что еще хочется рассказать о себе, что мы упустили?
СВАРОВСКИЙ Что еще можно о себе сказать? А! Но это не о себе… Меня окружает определенное количество, в том числе и близких мне, людей, которые чувствуют себя несчастными, в том числе и я такой. Но я совершенно не могу понять, почему так. Это какая-то глупость. Это какой-то изъян сознания. Мы все время чего-то хотим дополнительного, а на самом деле и так все очень хорошо. У меня был спор такой философский с моей женой. Я пытался ей объяснить, почему я такой пассивный. Говорю: «Понимаешь, я был болен тяжелым довольно психозом, депрессией. Как бы у меня не было жизни вообще. И вот болезнь сошла на нет. И мне теперь все очень нравится, просто любая данность мне кажется прекрасной». Она говорит: «Это меня и мучает в тебе, потому что надо к чему-то стремиться». Я говорю: «Ну, я в принципе-то к чему-то стремлюсь. Я хожу на работу, пишу стихи, общаюсь с людьми. Иногда без всякой на то охоты, но делаю что-то, живу как-то». То есть я понимаю, конечно, как прекрасную молодую женщину может раздражать толстый увалень, который ничего не хочет, кроме того, чтобы вкусно поужинать и съездить в отпуск. Но, с другой стороны, если ты не болеешь психозом – это же так само по себе хорошо. Это уже стоит того, когда просто ничего не болит. Наверное, это касается и остальных людей, у которых был инфаркт, но он выжил и выздоровел, или инсульт, а он восстановился. А в общем, по большому счету, вся жизнь – это некий ущерб. И слава Богу, что этот ущерб не смертельный и можно еще что-то делать. Моя бабушка, она умерла в сто три года. У нее было три инфаркта. К сожалению, умерла от инсульта, но это было уже возрастное. У нее случились две отслойки сетчатки, атрофировался желчный пузырь и прочее, но я могу точно сказать: до того момента, пока у нее не случился инсульт и она просто не перестала ориентироваться в реальности, она получала огромное удовольствие от жизни. Вот мне кажется, что это правильно. Я честно скажу: я не умею про себя говорить. Ну что про себя сказать еще? Есть, наверное, несколько вещей таких, краеугольных, которые я про себя понял, и они мне кажутся важными. И они управляют мной, влияют на все остальное. Первое – уехав в Данию, я стал совершенно другим человеком. Вернувшись в Россию, я стал опять совершенно другим человеком. Что-то в глубине осталось общее, но вообще я очень сильно поменялся. Сейчас со мной происходит какая-то третья история. Второе важное – это то, что я уже сказал: самое большое удовольствие – это не болеть. Третье важное – я женат и очень люблю свою жену. Она – моя жизнь. И я рад этому. И четвертое – литература. Как хорошо, что она у меня есть. Я не умею радоваться по-настоящему своим успехам, не могу определить свое место в литературе. Я про себя плохо понимаю. Что делать с этой публичностью, которая сопутствует литературной деятельности, мне тоже непонятно, потому как я человек не самый общительный. Но есть вещи, которые действительно приятны и важны. Ко мне недавно на одном мероприятии подошел дяденька лет шестидесяти, протянул мою книжку и сказал: «Здравствуйте, я Иван Иванович Петров из Сибири, подпишите мне книжку, пожалуйста». Мне было удивительно, что этот пожилой дяденька из Сибири, какой-то инженер, или кто он там, но явно не гуманитарий, по собственной воле купил мою книжку и просит подписать. Или второй случай. Я увидел где-то в Интернете, не помню, почему, где и как, я увидел какую-то ссылку, а там девочка лет пятнадцати написала: «Мы с папой читали Сваровского на ночь». Вот это действительно приятно. Это не про успех. Это про чувство, что ты приносишь пользу кому-то, про какое-то нежданное взаимопонимание. Ради этого стоит писать. А еще стоит писать просто ради того, что, вот, закончишь какую-то вещь – и понимаешь, что вроде получилось, вроде реальность там настоящая, вроде это точно то, чего ты хотел. Чтобы как Пушкин после написания «Бориса Годунова»: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» Только, конечно, это редко бывает. Я только пару раз такое чувствовал. Пушкин, наверное, часто такое переживал. С другой стороны, я же все-таки не Пушкин.
Сергей Гандлевский Бездумное былое
...
Гандлевский Сергей Маркович (р. 1952, Москва). Окончил филологический факультет МГУ. Работал школьным учителем, экскурсоводом, рабочим сцены, ночным сторожем. Один из основателей и участников поэтической группы «Московское время», группы «Задушевная беседа». Преподавал в Российском государственном гуманитарном университете, Институте журналистики и литературного творчества. Член жюри ряда литературных премий. Переводил с английского. Премия «Малый Букер» (1996), « Антибукер » (1996), «Северная Пальмира» (2000), малая премия Аполлона Григорьева (2002), премии «Московский счет» (2009), « Поэт » (2010).
Начну с оговорки. Мне уже случалось рассказывать о себе – в автобиографической прозе и в нескольких интервью. И, конечно, у меня в памяти сохранно некоторое количество более или менее складных «топиков» на заданную тему… Дело даже не в том, что мне скучно повторять их, – здесь другое: я не очень уверен, что от пересказа к пересказу не шлифовал собственные (или даже не собственные) воспоминания. Как латаешь сон, сочиняя сюжетные перемычки между разрозненными эпизодами, а после неоднократного пересказывания забываешь, что вообще-то эти связи тобой же домыслены. На этот раз постараюсь вспоминать как бы наново, а не сбиваться на обкатанные версии. Хотя факты есть факты.
Я родился двадцать первого декабря 1952 года. Времена меняются, и все реже, узнав эти число и месяц [1] , мои собеседники делают большие глаза и издают особые звуки. Еще сравнительно недавно и мимика, и междометия гарантировались. Первый свой крик я издал в роддоме имени Грауэрмана. Некогда название славного медицинского заведения было своего рода знаком московского качества и даже шиком – поводом для шутейного гранфаллонства [2] . Первый крик я издал запоздало: был придушен пуповиной, что имело кое-какие последствия в будущем, например освобождение от армии.
Семья, откуда я родом, кажется мне типичной советской семьей, в том смысле что такие социально чуждые друг другу люди могли породниться только благодаря историческому катаклизму. Скажем, именно меня, каков я есть, наверняка бы не было на свете, не случись октября 1917 года, – и нас таких миллионы. Парадоксально, что все члены нашей семьи были настроены в большей или меньшей степени антисоветски.
Лет полтораста назад мой прапрадед по отцу был купцом второй гильдии (по-польски «гандлевать» и означает «торговать»), «Мойсеева закона»; его сын, мой прадед, был врачом с университетским образованием. Недавно нашелся его послужной список, из которого явствует, что в 1904 году Дувид (так!) Гандлевский призван из запаса на действительную службу медиком в Маньчжурскую армию и командирован в Харбин. (Мой дед рассказывал, что, когда его отец, воротясь с Русско-японской войны, склонился, небритый и в шинели, над его кроватью, маленький Мозя не узнал его и заверещал: «Поцилейский, поцилейский, заберите этого городового!») После революции оба сына Давида Гандлевского, мой дед Моисей и младший брат его Григорий, оставили родительский дом в Черкассах и приехали в Москву. Они были интеллигентными – образованными, трудолюбивыми и порядочными – людьми. И один, и другой сделали честную карьеру: Григорий стал химиком и впоследствии лауреатом Сталинской премии, а Моисей, инженер, в войну дослужился до уполномоченного наркома вооружения Д.Ф. Устинова. Есть семейное предание, что Устинов, ценя деда, раз-другой спасал его от ареста, накануне чисток отправляя в долгосрочные командировки в какую-нибудь глухомань.
Женитьба деда была совершенным послереволюционным мезальянсом: моя бабушка Фаня Найман – уроженка местечка Малин под Киевом; ее отец был законченный шлимазл, наплодивший прорву детей. Некоторые из тех, что выжили (а не погибли от болезней по недосмотру старших или от рук погромщиков), естественным образом шли в революционное движение и оказывались, своим чередом, в Сибири, где по окончании срока ссылки и осели. Уже на моей памяти в квартире дедушки и бабушки наездами жили раскосые и скуластые потомки якутских Найманов. Это – что касается отцовской родни, о которой у меня кое-какие отрывочные сведения имеются. Куда туманней происхождение моей матери, Ирины Иосифовны Дивногорской, потому что она была по обоим дедам из попов, то есть «лишенкой», по советским понятиям. Отец ее, ветеринар и попович Иосиф Дивногорский, умер, когда маме было четыре года. Маминого деда с материнской стороны, Александра Орлова, отправили в лагерь на Соловки, видимо, в самом начале 30-х. А потом, по слухам, перевели в Казахстан, где он и сгинул. Сколько-то лет назад я познакомился на Соловках с Юрием Бродским, историком-петербуржцем и специалистом по Соловецким концентрационным лагерям. Вскользь я рассказал ему о своем предке – попе и здешнем узнике. Через два-три дня мы случайно встретились с Ю. Бродским на причале за полчаса до моего отплытия в Кемь. И он сказал, что после нашего разговора порылся в архиве и набрел на одно-единственное упоминание о моем прадеде: «Справляли Пасху в священнической роте. У Александра Орлова нашлась банка шпрот».
По легкомыслию и молодой занятости самим собой я почти не расспрашивал маму о ее родне, а она помалкивала – десятилетия социального изгойства приучили ее поменьше распространяться о собственном порочном происхождении. Я морщусь от жалости, когда представляю себе десятилетия пугливого существования этих трех пораженных в правах, уязвимых и беспомощных женщин – вдовы-попадьи, вдовы-поповны и девочки Иры: хамские коммуналки, пытка трудоустройства с бдительными кадровиками, анкетами и проч. Так что с материнской стороны – белое пятно. Лежат у меня в картонной коробке из-под допотопных конфет несколько поздравительных – с Пасхой и Рождеством – открыток с предусмотрительно вымаранными адресами и подписями; осталось несколько фотографий больших священнических семейств, расположившихся на лавочках вокруг родоначальников-батюшек перед деревянными одно– и двухэтажными домами, но кто есть кто на этих снимках, спросить уже не у кого. В памяти засели названия провинциальных городов – Рязань, Тамбов, Моршанск, Мичуринск (Козлов), к которым этот поповский клан имел какое-то отношение, но я – последний, в ком эта тусклая полупамять еще как-то теплится. Мама, когда они в 1980 году с отцом ехали в отпуск в Карпаты, по дороге наводила справки в одном из этих городов, но ей сказали, что в войну перед приходом немцев архивы уничтожались.
Отношение к советской власти моей родни по отцу похоже на отношение нашего круга к нынешней власти. В конце 80-х – начале 90-х мы приветствовали новые веяния сверху – сейчас снова, как и во времена СССР, не хотим иметь с государством ничего общего. Но тем не менее я вступаюсь за энтузиастические 90-е, когда кто-нибудь поливает их грязью, хотя бы из уважения к собственным былым надеждам. Так же реагировал на мой антисоветский нигилизм и дед (отец куда в меньшей мере). Но родственники-то с материнской стороны, тихие провинциальные попы, вообще были здесь ни при чем, жили как бы вне истории – просто попали под раздачу. Да еще как попали!
Так что, будучи полукровкой, а по еврейскому закону – русским, я жил и воспитывался в почти исключительно еврейской семье и среде. Вот одно дурацкое свидетельство. После очередного байдарочного похода (большая родительская компания из года в год плавала по русским и карельским речкам и озерам) я – было мне лет десять – спросил отца, почему у всех интеллигентов волосатая грудь. (А то, что мы интеллигенты, я знал из разговоров старших.) Отца мой вопрос озадачил. Но из этой детской и фантастической причинно-следственной связи понятно, что никаких иных интеллигентов, кроме еврейских, с семитски-обильной растительностью, я тогда не встречал. Впрочем, и семья, и родительские друзья-знакомые были людьми вполне – и сознательно – ассимилированными. Интерес к собственному еврейству, разговоры на эту тему считались дурным местечковым тоном и вообще дикостью.Первое мое воспоминание довольно страшное. Женщина в белом, видимо няня, ведет меня за руку, одетого в форменный халатик и колпак, перелеском снаружи изгороди детского сада, подводит к глубокой яме, на дне которой… притаились на корточках мама и папа. Я обмираю, меня тетешкают, тормошат, по-домашнему зовут Ежиком, а женщина в белом нервничает и поторапливает. И когда время свидания вдруг истекает, я поднимаю вой и отказываюсь возвращаться в казенный дом. Меня уводят силой. (Это родители правдами и неправдами уговорили нянечку вывести меня за территорию заведения, неожиданно закрытого на карантин.) Помню, что там я откликался на прозвище «Нездоровится»; наверное, это употребленное мной домашнее слово развеселило персонал: «Нездоровица, куда лопатку подевал?»
Но вообще всякой такой душераздирающей диккенсовщины было в моем детстве совсем немного, иначе бы моя память не кружила всю жизнь вокруг да около. Я замечал, что память людей с трудным и безрадостным детством нередко как бы обнуляется, чтобы вести отсчет с более приятных времен.
Не то у меня. Почти еженощно, лежа ни спине в считанные секунды отхода ко сну, я с убедительностью галлюцинации воскрешаю какую-нибудь малость полувековой давности: идеальную белизну и изгиб сугроба, выросшего за ночь напротив нашего первого этажа на Можайке; обивку родительского дивана, на котором нельзя было прыгать; счастливый запах псины и могучую побежку Рагдая – немецкой овчарки из углового подъезда… (Иметь собаку было idee fixe. Я даже вставал на час раньше, чтобы до школы – зимой! в утренней темноте! – побродить хвостом за каким-нибудь соседом, выгуливающим своего барбоса. Заодно влюблялся и во владельца.)
Повезло и с ежегодным каникулярным летом. Ужас пионерского лагеря ограничился для меня всего одной сменой классе во втором – в третьем. Мало, как сейчас говорят, не показалось. Знал бы отец, до какого немыслимого градуса разом подскочило сыновнее обожание, когда папина рубашка-бобочка мелькнула у административного корпуса, кладя конец моему многодневному отчаянию! И с тех пор были только дачи, бабушки, прекрасные поездки всей семьей: на байдарках либо в какую-нибудь российскую или украинскую глухомань и т. п.
Своей дачи не было (дед, когда был в фаворе, по принципиальному небрежению отказался и от дачи, и от машины); поэтому снимали то в подмосковных деревнях (теперь это та самая Рублевка), то в профессорском поселке недалеко от Болшево. Велосипед, Уча, Клязьма, Москва-река, подростковые шашни, чтение – все как полагается. Плюс собака. Мне было девять, когда родители поддались на мои мольбы и купили щенка. Так что к моему нынешнему предпенсионному возрасту на вопрос, люблю ли я собак, я, скорее всего, пожму плечами: ей-богу, не знаю. Но за пятьдесят лет вошло в привычку, что какая-нибудь трогательная и уморительная тварь живет с тобой под одной крышей, требует жратвы в урочный час и понуждает к прогулкам в погоду и непогоду. Вспомнил, кстати, одно маленькое сбывшееся пророчество. Мне не было пяти лет, когда мать, на сносях, спросила: «Ты кого хочешь – брата или сестру?» – «Бульдозера», – ответил я, имея в виду бульдога, вернее, боксера. В сорок лет я и обзавелся боксером Чарли, а теперь у меня семидесятикилограммовый недотепа Беня, бульмастиф.
С братом в детстве и отрочестве мы не больно-то ладили. Я изводил его как мог, например прикидывался мертвым и наслаждался его горем. Он тоже в долгу не оставался – вредничал, зная, что родители почти наверняка возьмут его сторону. Детская жестокость объясняется, может быть, тем, что человек заново и на ощупь, как слепой в незнакомом помещении, осваивается с душой, испытывает обнову так и этак, в том числе и пробной жестокостью.
До школы я был тихим, упитанным и задумчивым. Родители вспоминали, как, забирая меня из детского сада, всякий раз спрашивали: «Ежик, ты что такой грустный?» – «Я не грустный, я веселый», – отвечал я скорбным голосом. Однажды мы шли с отцом, он оступился в лужу и ушел в нее с головой – лужа оказалась перелившимся через края открытым канализационным люком. «Папа, ты куда?» – спросил я.
Отцовскими стараниями годам к пяти-шести я стал читать. В чтение я не с ходу втянулся. Сперва отец мне пересказывал «Робинзона Крузо» и всякое такое. Первой самостоятельно прочитанной книжкой была «Борьба за огонь» Жозефа Рони-старшего – про уламров каких-то, – потом пошло-поехало: Купер, Майн Рид, Вальтер Скотт, Дюма, Стивенсон…
Расскажу о нашем жилье. Но для этого придется снова говорить о временах, когда меня еще на свете не было. Отец до женитьбы жил в родительском доме – добротном сталинском строении на Большой Пироговке. Там сейчас живет семья моего дяди, Юрия Моисеевича; квартира эта и поныне воспринимается мною как фамильное гнездо. Перед самой войной, когда ее дали деду, это было – на общем жилищном фоне, – конечно, роскошью. Но жили в этих трех маленьких комнатах по возвращении из эвакуации, по существу, вповалку: дед с бабушкой, два лба – отец с младшим братом – и бабушкина местечковая сестра Неха с дочкой-подростком Инной, отца которой по обычаю той эпохи расстреляли. Домашняя атмосфера, судя по рассказам, была специфической, хотя и показательной. Дед-начальник дневал и ночевал на службе, появлялся редко, внезапно и внушал трепет. Жизнь с верховной подачи мыслилась как нечто, приводимое в движение силой воли и движущееся по колее долга. А поскольку соответствие спущенным сверху идеалам превышало меру человеческих возможностей, домашние, дети в особенности, чувствовали себя виноватыми в собственном несовершенстве и в свой черед упражнялись на детском уровне в административно-командных взаимоотношениях. Такой получался классицизм – в тесноте и обиде. Понятно, что привести сюда молодую жену мой двадцатипятилетний отец не хотел и въехал в коммунальную квартиру на Можайке, где жила мама со своими социальнопредосудительными матерью и бабушкой в двух одиннадцатиметровых комнатах-пеналах.
Мама рассказывала, что первое время после свадьбы ее озадачивали внезапные кратковременные исчезновения отца – это он с непривычки и по застенчивости бегал через Можайку (будущий Кутузовский проспект) по нужде на тогда еще дикий берег Москвы-реки. Или такой анекдот. Еще в пору ухаживаний отец с букетом ждал мать на Можайке напротив ее дома. Мать опаздывала: политинформация на службе все не кончалась и не кончалась. Минут через пятнадцать отцовского топтания на одном месте двое в штатском препроводили его в кутузку для выяснений: трасса-то правительственная…
Коммуналка была не из легендарных (тусклое ущелье коридора, огромная кухня, с десяток семей и проч.) – в такой я бывал, навещая нашу с братом названую бабушку, Веру Ивановну Ускову, бездетную вдову (муж, разумеется, расстрелян), подругу умершей в середине 50-х маминой мамы. В доме Веры Ивановны позади Музея изящных искусств теперь начальные классы 57-й школы. Коммунальная квартира по Студенческой улице, 28, где я скоротал первые пятнадцать лет жизни, была всего лишь четырехкомнатной. Две комнаты – наши, за стеной – еще четверо: родители и две дочери. Глава семьи – кухонный демагог, изнурявший моего отца прочувствованным и скрупулезным пересказом газетных передовиц, тот еще фрукт. А в четвертой комнате, стиснув зубы, сожительствовали разведенные супруги с фамилией-палиндромом Ажажа. Оба симпатичные люди. Он был океанологом и братом знаменитого в свое время энтузиаста-уфолога, читавшего полуподпольные лекции об НЛО. Магнитофонные записи этих лекций расходились в интеллигентских кругах наравне с бардовскими песнями. Я слышал одну такую пленку, где в конце концов прения сторонников и противников существования внеземных цивилизаций прервал ор уборщицы, чтобы расходились, не то она пустит в ход швабру.
Но меня, подростка, влекли в комнату Эрика Ажажа главным образом не заспиртованные морские гады, не уфология и бардовские песни («Сигаретой опиши колечко, / Спичкой на снегу поставишь точку…») – был магнит попритягательней: подшивки чехословацкого фотожурнала с голыми женщинами.
А в предшествующие, более невинные годы мне немало крови попортила музыка. Почему моих вовсе не привилегированных родителей, живущих в самой гуще советского спартанского быта, потянуло именно на этот атрибут старорежимного воспитания – ума не приложу?! Может быть, именно в противовес бытовому минимализму? Лучше бы отдали в английскую школу по соседству. Год я учился скрипичной стойке и возил туда-сюда смычком по струнам, потом пересел за пианино, держал кисть руки «яблочком», барабанил через не хочу этюды Черни и Гедике. Коту под хвост. Теперь я люблю музыку, но нынешняя моя привязанность не имеет никакого отношения к тем истязаниям. Просто в приданом жены оказалась коробка с «Бранденбургскими концертами», и я уже ближе к сорока понемногу вошел во вкус.
А обязательное среднее образование я получал до середины девятого класса по местожительству – в районной школе номер восемьдесят (потом она сменила номер на семьсот десять). Совершенно случайно школа оказалась сносной, а в старших классах даже хорошей, впрочем именно в старших я подался в другую. Но об этом потом.
Не помню отчетливого рубежа, но годам к двенадцати-тринадцати я из тихони превратился в подростка с норовом – мой дневник ломился от дисциплинарных замечаний вроде «На уроке географии бросал тряпку в Казакевича» и т. п. (Как бы для симметрии, лет через пятнадцать, в недолгую пору уже моего учительства жизнь свела меня с подобными отроками. Приятного мало. Такие юнцы знают кое-что, по сравнению с большинством, не знающим вообще ничего, но ведут они себя – будто знают все, и умерить их апломб непросто.)
Есть байка и в связи с помянутым Феликсом Казакевичем. Он был моим одноклассником, славным мальчиком из более основательной и традиционной, чем наша, еврейской семьи. Они и жили побогаче – в отдельной квартире по соседству. У него был велосипед, который он однажды не без опаски дал мне на пятнадцать минут. Когда я залихватски вырулил в Феликсов двор часа через два, я застал весь клан Казакевичей в сборе у подъезда, и горбатая бабушка-родоначальница, столетняя, как казалось мне тогда, глянув на очкастого «похитителя велосипедов», изумленно пробормотала: «Аид?»Советское детство рано научало дипломатии. Была семья со своим словарем, укладом и интересами. Довольно скоро ты овладевал азами двойного сознания: одна и та же тема или деятель истории (Ленин, к примеру) могли совершенно по-разному оцениваться в домашних стенах и в школе, но в школе полагалось держать язык за зубами. Но это еще не все. Был двор, куда всех детей ежедневно отправляли гулять. Но прогулки были далеко не пасторальными: случались жестокие избиения, истязание бездомных животных было в порядке вещей, и, разумеется, в ходу были самые барачные представления об интимной жизни. Весь дворовый опыт следовало держать при себе под родительским кровом, прикидываться наивнее, чем ты являлся в действительности. Царило раздолье для душевной неразберихи: благородный до выспренности круг домашнего чтения и «Мальчик из Уржума» на уроке; дворовый переросток Шурик, с комментариями мастурбирующий напоказ перед мелюзгой; приправленные политической крамолой семейные разговоры, плохо стыкующиеся с мажорной гражданственностью школы; показательная казнь кошки и проч. Было от чего уму зайти за разум, и остается только дивиться прочности детской психики. Хотя совсем без фобий не обошлось: шпана и кошки по сей день постоянные действующие лица моих кошмарных сновидений. Интересно, отдавали себе отчет наши родители, участниками какой заочной педагогической баталии они являлись, подозревали ли об истинном раскладе сил?
Было еще одно привходящее обстоятельство моего детства – постоянные головные боли, почти вошедшие в привычку. Вдобавок лет с девяти до четырнадцати у меня случилось несколько припадков с потерей сознания и судорогами. Светила медицины, к которым мама водила меня, объяснили мой недуг родовой травмой. В итоге я был освобожден от прививок, уроков физкультуры и получил дополнительный свободный день и мешок пилюль. Этой своей неочевидной хворью я попользовался сполна. Я не опускался до примитивной симуляции – я мастерски изображал сборы в школу на последнем пределе сил и терпеливо добивался, чтобы решение о пропуске занятий исходило от отца с матерью. Лишь покуражившись вволю, я сдавался на милость победителей, мама инструктировала меня насчет обеда – какую кастрюлю подогревать и на каком огне, – и встревоженные родители уходили на службу. Мне кажется, что именно в один из таких срежиссированных прогулов я испытал первый приступ отроческой графомании.
Вообще-то в семье я не был белой вороной: стихоплетством, особенно на случай, баловались все Гандлевские – дед и брат его, отец и мой дядя. Вот, например, славный детский опус моего отца:Ходили на каточки мы,
Катались на коньках.
Гонялись за девочками
В оранжевых портках.
Долгие годы я считал неверное ударение в третьей строке поэтической вольностью, пока не напоролся на такое же у Державина. Первым моим сочинением была поэма о любви. Она так и называлась – «Поэма о любви». Причина для написания была самая уважительная: красивая строгая девочка, которая мне нравилась, перевелась в другую школу. Но в эту историю я подмешал всяких красот из книжек: зловещего соперника, дуэль, внезапную смерть возлюбленной по истечении десятилетий [3] , да и собственную в придачу – в двух последних строках поэмы:
Мгновение! И дрожь в ногах!
И я безжизненный упал!
То, что смерть автора описывалась от первого лица, меня не смутило. Эта бредятина и по прошествии полувека кажется мне милой, и я ее не стесняюсь. Но уже через год-другой в моих опусах появился душок стенгазеты и подростковых сатирических потуг. Они и написаны маяковской «лесенкой». Ну их.
Детское сочинительство длилось недолго и годам к тринадцати сошло на нет. А тем временем родители стали думать, кем мне стать. Поскольку я любил собак и жалел дворовых кошек, решено было, что у меня есть склонности к биологии. Мама, человек дела, все разузнала и отвела меня в КЮБЗ (так неблагозвучно сокращался Кружок юных биологов зоопарка). Я вызвался и написал к одному из занятий реферат о модных тогда дельфинах. Зачем-то по сей день помню, что у человека в мозгу одно специфическое ядро, а у дельфина – два. И еще, что кожа дельфина – толщиной 10 мм, за счет чего гасятся турбулентные завихрения. Дело за малым: вспомнить, что все это значит. И в свои нынешние на сон грядущий «пятиминутки памяти» я изредка отчетливо воссоздаю осень, темень, безлюдье после закрытия – и ты, тринадцатилетний, но посвященный, вдыхая роскошную вонь зверинца, опасливо бредешь к служебному выходу мимо клеток и вольер, за которыми оживляются, посапывают и порыкивают четвероногие зэка. За каждым «кюбзовцем» «закрепляли» какого-нибудь зверя, мне достался бамбуковый медведь Ань-Ань, тот самый, воспетый Юзом Алешковским.
Я было согласился на предложенное мне отцом и матерью будущее. Прошел конкурс в математический класс своей же школы и на четверки брал задницей точные науки, исправно почитывал книжки по предстоящей профессии, стал ходить по соседству к учительнице английского (мы уже переехали в Сокольники – в отдельную квартиру от отцовского предприятия). Но что-то точило меня изнутри, будто я собираюсь сделать нечто хорошее, но не совсем правильное и… непоправимое. (Сравнение с женитьбой по расчету здесь кстати.) К тому же дядя, отцовский брат, подливал масла в огонь. Я дядю люблю, уважаю и ценю. Он не такой эффектный и плакатно-волевой человек, как его старший брат, мой отец, но, получается, именно дядины тихие советы подталкивали меня к некоторым решительным поступкам, о которых я после не жалел, – спасибо ему. Юра соблазнял меня не столько литературным трудом, сколько литераторским образом жизни: сладким утренним сном, пока простые смертные сломя голову несутся к проходным заводов и НИИ, богемными нравами, посиделками заполночь без оглядки на скорый подъем по будильнику и прочим сибаритством, которого он сам, инженер, был лишен, но знал не понаслышке, дружа с талантливыми выпускниками МГПИ – Визбором, Ряшенцевым и другими. Я, сообразно летам, имел о писательской доле более возвышенные и драматические представления; оно и понятно для уроженца России и выходца из книжной семьи! Но я ничего не писал в эту пору – абсолютно ничего!
И как-то зимним вечером я шел с частного английского урока, прокатился с разгона по длинной черной ледяной проплешине на тротуаре, а когда ступил на асфальт, решился – раз и, получается, что навсегда: буду-ка я писателем. В сущности, на пустом месте.
Это решение стало неприятной неожиданностью для родителей. С моей стороны было всего лишь хотение с привкусом – иногда и для меня самого – бреда. С отцовской – целая череда здравых доводов против: гуманитарий в СССР обречен на вранье; творческие профессии легко уживаются с положительными родами деятельности (врач Чехов, композитор Бородин и др.); посредственный писатель, в отличие от среднего инженера или рядового экономиста, – печальное зрелище, и т. п. Но я упорствовал, потому что сразу прикинул на себя и всем сердцем свыкся с обликом свободного художника, возможно даже с трубкой в зубах, и ну ни в никакую не соглашался расстаться с полюбившейся мечтой. И родители отступились. По существу, как я теперь это расцениваю, я тогда предал семейный – причем нескольких поколений – идеал жизни как волевого усилия и преодоления и предпочел облегченный вариант – жизнь в свое удовольствие. На склоне лет соглашусь, опустив глаза: такая жизнь, несмотря ни на что, сладка.
Поскольку прямо по курсу теперь маячил не биологический, а филологический факультет, я наспех перевелся в школу неподалеку – в гуманитарный класс. Это стало бы большой ошибкой (общий интеллектуальный уровень моих одноклассников-гуманитариев оказался куда ниже, чем в оставленном математическом классе), если бы в новой школе литературу не преподавала Вера Романовна Вайнберг, ифлийка со всеми возвышенными добродетелями, присущими выпускникам этого учебного заведения с репутацией советского «Лицея». На фоне разных, но стилистически на удивление однородных людмилочек николавен тогдашнего педсостава она смотрелась чудно. Странное дело, но мы, шушера противного переходного возраста, сидели на ее уроках тише воды, ниже травы, хотя она, в отличие от иных коллег, не орала на нас до вздутия жил на лбу и шее, не грохала журналом об стол и не стращала вызовом родителей в школу. Она ко мне благоволила – я перед ней благоговел. Вера Романовна сверх всякой меры расхваливала мои ответы и сочинения, а поскольку я уже знал, что буду освобожден по состоянию здоровья от выпускных экзаменов, то внаглую бездельничал на большей части предметов. Словом, я с подачи учительницы в щенячьем возрасте подцепил постыдную звездную болезнь. Но – пусть в некрасивых и безвкусных формах – я, будто во сне, дивясь и робея, поверил в свою звезду.
Июнь по окончании девятого класса я провел в доме отдыха под Москвой. За мной приглядывал сосед по комнате, отцовский сотрудник, но большую часть долгого дня я был предоставлен себе. Месяц, отданный всяческим грезам и бумагомаранию, стал первым опытом замечательного одиночества. О стихах речи не шло: я начисто утратил детское умение более или менее связно говорить в рифму – я готовил себя в прозаики. Но все сюжеты были с чужого плеча, поэтому я смирился и начал упражняться в описаниях природы, вешая по два-три эпитета на одно существительное (реку, дерево, облако). Еще я косился за вырез платья официантки Раи. Больше ничего не помню.
В выпускном десятом классе мое самомнение уравновешивалось плохо скрываемым отцовским разочарованием и отборной бранью бой-бабы – репетитора по русскому и литературе. Она костерила меня за отсебятину, ту самую, за которую хвалили в школе, и заставляла зубрить признаки романтизма, соцреализма и проч. Ко времени поступления в МГУ я был окончательно сбит с толку. Правы оказались обе учительницы: «признаки» действительно на экзаменах спрашивали, но совершенно случайно принимала у меня устный экзамен и авансом завысила оценку жена поэта Всеволода Некрасова Анна Ивановна Журавлева, наслышанная о моей отсебятине приятельница Веры Романовны. Я чудом и впритык набрал проходной балл и в 1970 году поступил на русское отделение филфака Московского университета.На старшие классы и вступительную пору пришлось мое страстное увлечение Достоевским. В зрелые годы, когда я с опаской перечитываю его, я испытываю вину и неловкость. Несколько лет назад я все-таки свел концы с концами – примирил страсть молодости с последующим охлаждением. Достоевский, на мой вкус, – гениальный писатель для юношества. «Юность невнимательно несется в какой-то алгебре идей, чувств и стремлений, частное мало занимает, мало бьет…» – сказал Герцен. Именно такому возрастному душевному строю Достоевский приходится особенно впору. Молодого человека с запросами он заряжает самым крайним знанием, причем под надрывный до невозможности аккомпанемент, на который так падка молодость. Психологизм Достоевского резонирует с молодой страстью к самокопанию и увлечением собственной сложностью и противоречивостью. Его трясет – но и тебя лет до двадцати пяти трясет!
А после, когда «алгебра идей» принята к сведению, наступает пора «арифметики», «частного», наблюдений и подробностей – природы, социальных повадок человека, любви, семейных хитросплетений, старения; пора отношения к иным проявлениям своей и чужой сложности как к распущенности; время чувств, а не страстей. Ив один прекрасный день твоя рука как бы сама собой, минуя Достоевского, снимает с полки Толстого.
Страстью к Достоевскому я во многом обязан знакомством и двадцатипятилетней дружбой с Александром Сопровским. Мы виделись с ним мельком на «сачке» – под спиралевидной лестницей на первом этаже нового гуманитарного корпуса на Ленинских горах. Там, на батареях и около, курили и рисовались кто во что горазд нерадивые студенты.
И как-то вскользь мы с Сопровским обмолвились заветными цитатами из «Легенды о Великом инквизиторе», и нас дернуло электричеством духовной близости. В школе я не знал дружбы – мне вроде бы хватало и приятельства. Я человек общительный, но закрытый и непростодушный.
А Саша, наоборот, был очень открытым и простодушным, но букой. И он тотчас взял меня в такой дружеский оборот, что я поначалу опешил. Мало того что я впервые столкнулся с таким напором, я впервые почувствовал, каково это – быть другом человека по-настоящему самобытного, от природы наделенного даром свободы. Он часто поражал, иногда раздражал и всегда выматывал меня. Лучше всех, по-моему, сказал о Сопровском сорок лет спустя Михаил Айзенберг: «Этот мешковатый, не слишком ловкий человек в этическом отношении отличался какой-то офицерской выправкой; еще в юности он скомандовал себе „вольно“, но с такой строгостью, что вышло строже любого „смирно“». Под обаянием личности Сопровского мои представления о мире если не зашатались, то расшатались. («Мои» – сильно сказано; своими я толком и не успел обзавестись, а Саша успел.) Но главным и для него, и для меня было, что он писал стихи; и школьный товарищ его Александр Казинцев – тоже, и их приятель Давид Осман – тоже. Так я, еще только мечтавший о писательстве, сошелся с людьми, уже считающими себя поэтами, и начал «торчать по мнению». (Эту идиому я узнал от Петра Вайля. Она означает – самому не пить, но хмелеть за компанию.) Заодно с ними я стал время от времени посещать университетскую литературную студию «Луч», возглавляемую и по сей день Игорем Волгиным. Прочел там свой – единственный! – рассказец, над которым аудитория позабавилась всласть. Я много нервничал, что у меня нет таланта, старался скрыть от одаренных друзей свои опасения, от чего нервничал еще больше, и в разгар нервотрепки и мук уязвленного самолюбия влюбился без памяти и в числе прочего забыл, что не умею рифмовать, и написал первое стихотворение – ночью двадцать второго июня 1970 года.(Наверное, это одно из самых приятных чувств, доступных человеку, – превзойти свои же представления о собственных возможностях. Когда вдруг оказывается, что вода держит тебя на плаву, и внезапно понять, что в действительности означает слово «плавание».)
«Теперь это от тебя не отвяжется», – пообещал мне Сопровский – и оказался прав: в течение нескольких лет я писал в среднем стихотворение в неделю. И теперь не только я, представляя кому-нибудь моих друзей, говорил «такой-то, поэт», но и они величали меня этим неприличным до смущения словом.
От восторга перед новыми горизонтами голова моя пошла кругом, я как с цепи сорвался. Родители считали (и у них были на то веские основания), что меня будто подменили. В первую очередь их многолетние терзания сильно омрачают мою память. Оба давно умерли. Отец делается мне с годами все ближе и дороже – по мере того как я становлюсь таким же, как он, тяжеловесом, во всех значениях. А штамп «мать – это святое» представляется мне непреложной истиной.
В 1971–1972 годах дружеский круг определился окончательно: мы с Сопровским и Казинцевым сошлись с двумя звездами университетской студии – с Бахытом Кенжеевым, вылитым восточным принцем, человеком большого таланта и добродушия, и с Алексеем Цветковым, байронически хромающим красавцем с репутацией гения. Цветков и Кенжеев с полным правом, во всяком случае по отношению ко мне, вели себя как мэтры. И здесь – одно из главных везений моей (тьфу-тьфу-тьфу) везучей жизни. С одной стороны, превосходящими силами четырех друзей мне был навязан очень высокий темп ученичества, а с другой – возрастной расклад (два «старика» на трех «юнцов») осложнял психологическую «дедовщину»: хотя бы количественный перевес молодняку был гарантирован. Я это к тому, что, когда молодой новичок вступает в сложившийся круг старших, это сперва способно польстить самолюбию, но по прошествии времени у него могут сдать нервы: годы идут, а он все, по собственному ощущению, в подмастерьях. Я знал примеры таких срывов. Не исключаю, что предсмертные вздорные годы превосходного поэта Дениса Новикова объясняются чем-то подобным, хотя никто из старших друзей-поэтов его за мальчика не держал.
Подробности первого знакомства с Кенжеевым я запамятовал, а начало дружбы с Цветковым помню. Я набрался смелости, позвал его в гости и обрадовался легкости, с которой он принял приглашение. Родители были извещены о важном визите. Мама накрыла на стол, отец разлил по бокалам сухое вино и по ходу несколько скованного обеда завел литературный разговор.
– В мои времена считалось (о, эта самолюбиво-настороженная неопределенно-личная конструкция!), что есть три великие эпопеи: «Война и мир», «Тихий Дон» и «Сага о Форсайтах».
– Ну, Голсуорси вообще не писатель, – сказал, как отрезал, мой кумир, уписывая за обе щеки. Так без лишних антимоний я был взят в учебу.
Если называть вещи своими именами, учеба приняла форму самого кромешного национального пьянства, чуть не сказал – застолья. «Застолье» было бы словом совсем иного стилевого регистра – стол имелся далеко не всегда. В какой-нибудь грязной сторожке, подворотне или котельной, опорожнив стакан омерзительного пойла, Цветков мог сказать в своей ядовитой манере: «Сейчас внесут трубки» или «Где наша еще не пропадала?» Так совместными усилиями создавалась дружеская атмосфера отверженности и веселой безнадеги.
Есть мнение, что круг поэтов «Московского времени» из корысти в последние двадцать пять лет преувеличивает меру своего социального отщепенства: почти у всех из нас, кроме, кажется, Сопровского, имелись считанные (по две-три) публикации в советской печати. Я не вижу здесь двурушничества. Все мы – пусть в разной мере – были поэтами традиционной ориентации. Помню, как через третьи руки мы перво-наперво передали экземпляр своей машинописной антологии Арсению Тарковскому, наиболее для нас авторитетному поэту из современников.
Он вернул ее, поставив Цветкова выше прочих. (Вот ирония – Цветков и тогда, и по сей день единственный из нас совершенно равнодушен к Тарковскому.) Но ведь и лучшие образцы печатной поэзии той поры (Мориц, Межиров, Кушнер, Чухонцев и проч.) встраивались в классическую традицию. Мы понадеялись, что наши стихи тоже могут быть напечатаны, оказалось – не могут. Кстати, пятнадцать лет спустя, когда вверху началось какое-то потепление и брожение, я для себя решил, что было бы позой и надрывом проигнорировать «ветер перемен», и методично разослал по редакциям московских журналов свои стихи. И получил отовсюду дремучие отказы («Стихи вас учить писать не надо, но вы пишете черной краской…» и т. п.) и успокоился, и зажил, как жил всегда, пока те же редакции сами не стали мне предлагать печататься.
Лучшим поэтом в нашей компании по праву считался Алексей Цветков, но главным, если не единственным, из нас деятелем культуры был Александр Сопровский. Ему и Казинцеву принадлежала мысль выпускать антологию «Московское время». Мне-то по разгильдяйству и инфантилизму вся затея казалась «игрой во взрослых». Боюсь, что Кенжеев и Цветков относились к этому начинанию сходным образом. Тем досадней, что сейчас мы, живые участники былой группы, оказались в каком-то смысле на культурном иждивении нашего покойного товарища, а ему при жизни не перепало ничего. Если не ошибаюсь, именно редакционная тактика «Московского времени» стала первой в ряду причин, приведших к разрыву школьной дружбы Сопровского и Александра Казинцева. После эмиграции Цветкова в 1974 году Казинцев убедил своего друга и соредактора не включать стихи эмигранта в очередные выпуски антологии. Сопровский скривился, но послушался этого «здравого» совета; следом за ним – и мы с Сашиной женой Татьяной Полетаевой и Кенжеевым. Саша был человеком безрассудной смелости и неосмотрительности, но, как сказал один знакомый, «всякий раз, когда я веду себя не как интеллигентный человек, я веду себя хуже интеллигентного человека». (В справедливости этой истины многим интеллигентам еще предстояло убедиться на собственном опыте двадцатилетие спустя, в «перестройку», когда мы почему-то, возомнив себя «политиками», перестали мерить людей и события на свой сословный аршин – мерой вкуса.)
Я помянул отвагу и неосмотрительность Сопровского. Вот, к примеру, очень сопровский случай. Антисоветчиками и «пещерными антикоммунистами» были мы все. Но основательный Саша решил ознакомиться с первоисточником и толком проштудировать Ленина. Темнокрасные тома из полного собрания сочинений приносил сыну отец из библиотеки Центрального дома Советской армии – он работал там шахматным тренером. В указанный срок Александр Зиновьевич сдавал их обратно, но уже с красноречивыми – вплоть до матерщины – сыновними пометами на полях. Кто-то из очередных читателей-ленинцев остолбенел и забил тревогу. Установить авторство маргиналий было делом техники. По-моему, это ребячество стоило Сопровскому высшего образования: его, отличника и старосту группы, отчислили с последнего курса исторического факультета МГУ под предлогом троекратно несданного экзамена по… истории партии.
Произошло это изгнание в 80-е годы, а в 70-е мы с Сопровским из-за невинной «аморалки» (невинной до смешного – когда-нибудь, может быть, опишу) вылетели соответственно: я – с дневного на заочное отделение, а Саша – с заочного вообще на улицу.
А помимо литературной жизни с диссидентским душком была и собственно жизнь: страсти-мордасти, разъезды, набиравшее смысл отщепенство. Разъезды вспоминаю с удовольствием и даже не без некоторой гордости. По семейному воспитанию я не должен бы впасть в «босячество», а вот поди ж ты…
Я был на Мангышлаке со стороны Казахстана и любовался зеленым прибоем Каспийского моря. Я в одиночку объехал на попутках «подкову» Памира, как она видится на карте. Я мельком проехал весь Северный Кавказ и готов засвидетельствовать, что строка «И солнце жгло их желтые вершины…» применительно к Дагестану не романтическая выдумка. С одной из таких лысых желтых вершин я однажды свесился: снизу доносились тихие, но звонкие звуки аула, а вровень со мной, паря и косясь на пришлеца, скрежетала оперением какая-то огромная птица. В течение нескольких месяцев я был рабочим сцены Театра им. Моссовета и вплотную наблюдал театральный быт: одна гардеробщица жаловалась другой, что с Фаиной становится невозможно работать. (Имелась в виду Раневская.) Ездил с этим театром на гастроли в Новосибирск и Омск. Одичав за три месяца на Чукотке от матерной мужественности, я чуть было не расчувствовался вслух перед напарником по маршруту, когда мне показалось, что и его пробрало от вида сопок, тундры и снова сопок – аж до Аляски. Но он опередил меня возгласом «Как же я соскучился по пиву!». С закадычным другом Алексеем Магариком мы, в забвенье техники безопасности, скатились к Вахшу, и нас развеселило и обнадежило название приречного кишлака – Постакан. И всякое такое.
Чего в подобном времяпрепровождении, растянувшемся на десятилетие, больше – плюсов или минусов? Не знаю. С одной стороны, я мало читал, потому что занимался низкоквалифицированным трудом, вместо того чтобы провести целое десятилетие за книгой. Но я надеюсь, что есть и другая сторона. Мне нравится, когда наш литературный треп с профессором Жолковским за кофе у меня на кухне перебивает сдавленный звонок с зоны: это от нечего делать надумал попиздеть мой приятель-уголовник, который жмет «отбой» не простясь, потому в бараке начался шмон. Моя похвальба требует пояснения. Я прожил жизнь в ширину, а для глубинного измерения в моем распоряжении был я сам – с меня и спрос. Для писателя, каким я мечтал бы стать, такой образ жизни, может быть, и неплох. Все, что я повидал «в людях», я повидал в роли дилетанта. Мою прямую работу – таскать тяжести, разбивать лагерь, рыть землю и бурить ледник – профессионалы-ученые делали лучше меня. Но в таком стороннем, не вконец профессиональном взгляде, мне кажется, тоже что-то есть. Мне кажется, я научился чувствовать и ценить это и в литературе, как примету какой-то человеческой и правильной уязвимости и незавершенности.
А в зимние и демисезонные месяцы я сторожил или дворничал. Мой участок, вернее полтора, находился на Трифоновской улице. Полтора участка я взял из простых арифметических соображений (как-никак год проучился в математическом классе): за полтора участка платили 90 рублей, а штрафовали за неубранную территорию на десятку. Нет, все-таки я не отпетый свидригайлов, каким иногда хочу казаться, – кое-что я делал. Симпатичная разбитная тетка, техник-смотритель, при моем появлении по месту работы приветствовала меня: «Явление Христа народного!» С сотрудницами ЖЭКа мы ходили с получки в ресторан-стекляшку «Звездочка» на ВДНХ. Но через какое-то время я оставался за столиком в одиночестве: моих раскрасневшихся от красненького коллег увлекали в пляс чернокожие студенты. Помимо заработка, я польстился на жилье «по лимиту». Будто бы дворникам полагалось. Но после неоднократных моих напоминаний меня привели в барак с прогнившим полом и без удобств… Нет, не такой виделась мне мансарда поэта!
Жарким летним днем 1974 года наша подруга, поэтесса Маша Чемерисская, Цветков и я шлялись по Москве в соображении выпить. Последней слабой надеждой оставался пивной подвал в Столешниковом переулке. Обычно туда было не пробиться, время от времени в давке на лестнице случались потасовки, но на этот раз народ валил в обратном направлении: в пивной прорвало водопроводные трубы. Мы окончательно сникли, и вдруг Алешу в толчее обозленных выпивох очень по-свойски окликнул забулдыга-бородач в расстегнутой на груди рубахе, простецких штанах и сандалетах на босу ногу. О неправдоподобном (умело подчеркнутом мужицкой бородой) сходстве с Емельяном Пугачевым я догадался позже, а пока довольствовался вполне идущим к облику незнакомца именем собственным. Аркадий Пахомов.
Он умер прошлым маем, неполных шестидесяти семи лет, в беспросветном бытовом запустении, никого своей горькой долей не донимая. Я очень любил и ценил его. Мы тесно дружили десять лет, пока невозможность совмещать слишком лихую дружбу с бытом семьянина не понудила меня в явочном порядке свести ее на нет. Удивительно не мое поведение – оно как раз элементарно: инстинкт самосохранения не нуждается в объяснениях; удивительны Аркашины великодушие и гордое достоинство, с которыми он, видимо, раз за разом уходил с пути своих более приспособленных к выживанию товарищей, избрав одинокую участь сродни многолетнему свободному падению.
Эпитет «гордое» привел мне на ум сам Аркадий. Трижды или четырежды, показывая мне фотографию четверых смогистов в молодости, он неизменно добавлял, что за миг до съемки смахнул с плеча дружески-покровительственную руку то ли Алейникова, то ли Губанова. Думаю, что именно гордыня предопределила его трагическую судьбу. В отроческом максимализме, вероятно, имелось в виду, что Его Жизнь будет прожита на «десятку» по пятибалльной системе, в худшем случае – на «семерку». А когда оказалось, что не задается, гордость в обличье русской забубенности велела вообще уйти в минус, лишь бы остаться самым-самым. Вместе с тем он был талантлив, весел, зверски обаятелен, здравоумен, верен в дружбе, пренебрежителен к собственному успеху / неуспеху, насмешлив к чужому. Смолоду он чуть-чуть посидел в Бутырке за маленькую пугачевщину: прошел по улице Горького от Красной площади до Пушкинской, круша витрины справа по ходу. «Чуть-чуть» – потому что отец-телевизионщик подключил свои связи.
Его стихи сильней всего действовали в его же исполнении и через стол, уставленный бормотухой: в них много таланта – и мало расчета. С присущим ему размахом он делился друзьями, хотя здесь осмотрительная ревность не менее распространена, чем слепая ревность любви. Он сдружил меня с поэтом и химиком Владимиром Сергиенко – и через тридцать пять лет мы с ним бок о бок шли за Аркашиным гробом. Познакомил с Леонидом Губановым. Знакомство продлилось считанные часы, но этого оказалось более чем достаточно, чтобы заночевать в милиции. Он свел с Александром Величанским, одним из самых страстных и самоотверженных авторов русской поэзии конца XX столетия. Сблизил с Юрием Кублановским. Это знакомство оказалось продолжительней и содержательней, чем с его коллегой по СМОГУ Губановым. В 1975 году мы с Юрой сезон проработали гидами в Кирилло-Белозерском монастыре, а в 2007-м Кублановский сводил меня на кладбище Булонь-Бьянкур на могилу Владислава Ходасевича. После чего мы поехали почти наобум в северном направлении, и Юра внезапно велел своей жене свернуть по дорожному указателю на Бель-Иль. Из его коротких объяснений спутники поняли, что по картине Клода Моне «Скалы в Бель-Иль» Кублановский лет сто назад писал то ли курсовую, то ли диплом. Красиво жить не запретишь.
И все это как-то связано с Аркадием Пахомовым, земля ему пухом.Не промолвлю я ни слова
и к руке не припаду,
в Новый год и в Старый Новый
не приеду, не приду,
с плеч твоих не сброшу иней,
чтобы таял он в горсти,
никакой во мне гордыни —
что ты, Господи прости…
Я свою гордыню прожил,
как в ангине, как в бреду,
как во сне прожил и все же
не приеду, не приду,
лучше будет или хуже —
не положишь на весы,
слишком сам себе не нужен
я в последние часы [4] .
Летом 1974 года уехал Цветков. А мог и не уехать, если бы не случилось чуда, к которому и я приложил руку. Мы с Сопровским поджидали Цветкова, когда он вышел из центрального ОВИРа в Колпачном переулке с портфельчиком бумаг, необходимых для пересечения границы. Оказалось, что после уплаты пошлины и прочих сборов осталась немалая сдача. Мы втроем распорядились этой суммой так хорошо, причем совсем неподалеку, в окрестностях Покровки, что уже в сумерках хватились портфельчика. Для того чтобы достоверно описать состояние Цветкова, нужны куда большие литературные способности, чем мои. Но нашел портфельчик я! В темноте! Во дворе за углом! За лавочкой у песочницы!
На проводы Цветкова я заявился в пионерском галстуке. Мне это показалось смешным, но кто-то из присутствующих попросил меня убрать эту гадость с глаз долой, и я не стал упорствовать. Пионерский галстук был у меня при себе тем летом, потому что для восстановления на заочном отделении филфака я должен был трудом загладить свою вину. Я поработал три смены пионервожатым, получил хорошую характеристику, вину загладил. Но вскоре провинился снова, и сам виноват.
В отрочестве я совершил, помимо прорвы обычных подростковых грехов, два по-взрослому шкурных поступка: стал русским по паспорту и вступил в комсомол. Меня в какой-то мере извиняет, что и то и другое я сделал, вовсе не имея в виду облегчить себе карьерный рост, а по понятному желанию недоросля казаться старше. А тогда носилось в воздухе, что старше – это циничней. С тем же намерением я через силу заставлял себя курить, материться и звать на «ты» и «командиром» седоголового таксиста. Но оба «конформизма» вышли мне боком – «выбор свободен – последствия предопределены», как говаривал Сопровский. За мою расторопность с национальной самоидентификацией я получил словесную пощечину от любимой учительницы. А за принадлежность к ВЛКСМ – оплеуху вовсе не чувствительную в нравственном отношении, но чуть не притормозившую мой «карьерный рост». Дело в том, что я сильно задолжал комсомолу: не платил членские взносы несколько лет. А когда вопрос встал ребром, вежливо попросил факультетское комсомольское начальство отпустить меня подобру-поздорову: зачем-де им такой член, который ни холоден, ни горяч. И в ответ мне глянуло такое глумливое хулиганское изумление, такой меня одарили широкой дворовой улыбкой – включите телевизор: мимика и повадки национального лидера избавят меня от многословия. И дали мне знать комсомольцы, что от них по доброй воле не уходят, а горе-добровольцев вроде меня они исключают с треском и со всеми вытекающими… [5] И шестерни пришли в движение, и несчастные мои родители из последних сил на одном из оборотов застопорили этот кафкианский агрегат [6] . Словом, я снова вышел сухим из воды, восстановился на заочном, и подошла пора писать диплом.
Как и полагается студенту-заочнику, я работал. Причем на этот раз профессия была вовсе не люмпенская, а традиционно чтимая. Почти два года я был школьным учителем словесности и уже не понаслышке преисполнился искреннего уважения к этому труду, в том числе и потому, что он мне не дался.
За полтора года учительства я сделал кое-какие умозаключения, которые и поныне при мне. На тридцать-сорок человек в классе считанные единицы от природы хороши или плохи. (Один маленький антисемит, которому я в назидание сказал, что и я еврей, испуганно заморгал глазками и пролепетал: «Сергей Маркыч, я евреев сильно уважаю. Они в войну во как жили!» – и поднял большой палец кверху.) Почему тогда плохие взрослые встречаются чаще, чем скверные дети? Жизнь укатывает?
И еще одно наблюдение, которое хочется распространить и на взрослый мир. В учительской только и разговоров – какой ужасный 6 «А» и какое золото 6 «Б». Но и умниц, и шпаны, и серединки-на-половинку и в том и в другом классах примерно поровну. Видимо, в одном классе погоду делают умницы, а в другом – шпана, а остальные приспособились к уже существующему климату.
Диплом, однако. В детстве родители думали приписать меня к биологическому ведомству на том основании, что я неравнодушен к животным; будто нельзя любить собак и при этом совершенно не интересоваться устройством их желудочного тракта. Так и здесь. Никаких особых литературоведческих интересов за мной тогда не водилось. Просто мне нравилось читать, а потом развилась собственная литературная «железа», чья жизнедеятельность для меня довольно темна. При чем здесь филология?
И я спросил совета у своего гуру Сопровского.
«Пиши про символизм, – сказал он, – у них с образностью что-то не так, и вообще приятного мало».
Мы были сторонниками наглядной поэзии: зелены щи с желтком, темное стадо грачей, роза в кабине «рольс-ройса». А всякие смутные паренья, напевы встающих теней и прочие вихри враждебные нас бесили.
И вот с таким смутным Сашиным напутствием я стал ходить в библиотеки: сперва в Ленинскую, потом – в Историческую, а после осел в Театральной на бывшей Пушкинской улице. Читальня была малолюдной, но бедной не была. Там я сидел неделями, листая и почитывая «Весы», «Аполлон», «Мир искусства». Понемногу вошел во вкус, тетрадь моя за 90 копеек сделалась пухлой и рыхлой от частого перелистывания в поисках нужной цитаты. И страницы, густо исписанные шариковой авторучкой, приобрели несколько гофрированную на ощупь фактуру. Сейчас слабо верится, что я одолел «кирпич» «Символизма» Андрея Белого, а заодно братьев Шлегелей, «Столп и утверждение истины» о. Павла Флоренского и много чего еще… Словом, я увлекся всерьез, и мне мои штудии доставляли радость. Я уже видел с досадой, что превышаю объем чуть ли не вдвое, но остановиться было выше моих сил. И название мне сильно нравилось – «Некоторые противоречия этико-эстетической концепции символизма». Коротко и ясно. Научно.
Дипломная работа уже давно запропастилась куда-то. Думаю, филология эту потерю переживет. Но меня, помню, радовало, что это не школьная рутинная критика символизма слева, а критика с позиций стоящей поэзии – взгляд живых цветов на бумажные.
От исследовательского азарта я не удосужился поинтересоваться, как их, эти дипломы-то, у них принято писать. Совершенно не помню руководителя. Но я славно потрудился, сдал увесистую машинопись в срок и чувствовал себя молодцом. И, чего уж греха таить, держал в уме, что случается, редко, но случается, когда дипломная работа приравнивается к диссертации. Но как-то в факультетском буфете за несколько дней до защиты я поймал на себе странный взгляд декана (он брал кефир с подноса, а я стоял в конце очереди). Так непрязненно-внимательно вряд ли смотрят на восходящую звезду науки. Такой взгляд скорее предполагает словосочетание «ну и ну…». И я начал с тревогой заглядывать в библиографии сокурсников, вернее – сокурсниц: филфак как-никак. А там во главе списка – Маркс, Ленин, Горький. Энгельс, Ленин, Луначарский. Маркс, Горький, Метченко. А у меня, умника, – Шлегель, Флоренский, Шестов.
На защите царила загадочная атмосфера. Меня трепали, но как-то вполсилы, будто другая половина негодования висела в воздухе, но предназначалась не мне. Так отец, воротясь домой, жучит ребенка, уделавшего манной кашей ему компьютер, но ноздри раздувает в адрес жены, прилипшей к телевизору в соседней комнате. И после вялой выволочки меня отпустили во взрослую жизнь с четверкой и формулировкой «оценка снижена за порочную методологию».
Вероятно, половина раздражения предназначалась себе самим и друг другу. За недосмотр. За головотяпство и халатность. Телега из милиции была? Была. История с комсомолом имела место? Имела. Хвосты и пересдачи тянулись за ним с курса на курс? Еще как. Неужели за семь-то лет трудно было избавиться от этого гуся лапчатого? А теперь что? Ставить ему «два» прямо на защите? А это уже ЧП. Да и тройка за дипломную работу – на свое дерьмо с топором, как говорится.
Но может быть, я демонизирую этих людей и они злились действительно на себя, но по другой причине. Прогульщик-то оказался неглупым, трудоспособным малым, а мы не сумели найти к нему подход – обучить верной методологии… Ведь во время изгнания меня из комсомола после положенных речевок (За этот билет! на Даманском! наши ребята! и т. п.) прозвучала фраза, от которой я немножко охуел. Как бы снимая с меня часть ответственности за случившееся, кто-то из-за стола под зеленым сукном сказал: «Вообще на филфаке комсомольская работа поставлена из рук вон плохо». Эти белоглазые ребята, что и вправду думали, будто увеличение количества и качества политзанятий, слетов и юморин перевесили бы детство, отрочество, юность, маму-папу, Достоевского и Сопровского? За кого они нас держат?! Кто же нами правит?! Всякий раз после считанных моих встреч с работниками зловещего ведомства я испытывал чувство стыда за собственный трепет и какого-то разочарования: ждал иезуита, а наткнулся на дурака.
Лучше надо было читать Федора Михайловича. Иван Карамазов был оскорблен в гордости и эстетических чувствах – какой пошлый ему достался черт!
А тем временем мы с Сопровским пришли ко мне домой к накрытому столу, а там уже были в сборе родня и друзья семьи, и все меня тискали и мяли, и ближе к вечеру перебравший на радостях отец перебивал и перебивал галдеж застолья горделивым восклицанием: «За порочную методологию!» А мама светилась.Как-то по касательной я поработал гидом в московском музее «Коломенское». Запомнилась идиотка, написавшая на меня донос, что я читаю и распространяю порнографическую книгу «Лолита». Дело замяла директор музея Юлия Серафимовна Черняховская. Там же я сдружился с искусствоведом Галей К., очень добрым, тонким человеком и талантливой художницей. Она написала удачный портрет Сопровского: точно схвачена Сашина гримаса – смесь ума и шкодливости. Она пила по-мужски и нехорошо – оставляя себе на утро. Ее уже нет в живых.
Вообще на моей памяти пили – и серьезно – все: обшарпанная богема, рабочие сцены, экспедиционные рабочие, научные сотрудники музеев, столичных и провинциальных… С кем бы я ни знался, помню черное пьянство, при своем, само собой, участии. Сейчас, когда я застаю наутро после сборищ моих взрослых детей бутылки с недопитыми водкой и вином, я искренне недоумеваю. Все спиртосодержащие жидкости, включая одеколон, истреблялись подчистую. Нам с Сопровским чудился какой-то апокалиптический пафос в этом повальном алкоголизме «от Москвы до самых до окраин», и роль забулдыг пришлась нам по вкусу. Нам нравилось, какие мы отпетые: скверно одеты, неухоженны, умеем часами изъясняться исключительно матерными междометиями и прибаутками, способны пить что попало и где попало под мануфактуру. Позже выяснилось, что мы своим умом дошли до эстетики панков. Как-то мы с Сашей брели по улице: ноябрь, слякоть, многодневное похмелье, ни копейки денег. У служебного входа в продуктовый магазин нас окликнули, поманили и без вступлений и «пожалуйста» показали, какие ящики надо сгрузить с машины, куда занести и где составить. За труды дали по трояку, что ли. Мы вышли, переглянулись и польщенно рассмеялись. Когда я совсем одурел от этой эстетики, мне дали адрес литовского хутора Лишкява, двадцать минут автобусом от Друскининкая. Шел декабрь.
Хозяйка, старуха Антося Вечкене, в несезон привечала всяких неприкаянных художников от слова «худо». Они и передавали ее по цепи – наблюдался симбиоз. Была она по-крестьянски неглупой, нежадной, любила выпить по маленькой и поговорить с акцентом. Она звала меня паном Гандлевским. Я натирал ей больную жирную спину каким-то снадобьем, мы в четыре руки ставили клизму «поросенке» (оказавшемуся здоровенной свиньей) – жили душа в душу. Из вечерних ее россказней я узнал, что муж-покойник благодаря субтильному сложению всю войну проходил в женском платье, чем спасся от мобилизации (а в какую армию – советскую или немецкую, – я забыл), но пострадал за связь с «лесными братьями». Нагрянувший на выходные сын Йонас был уже совершенно понятный советский болван: нажравшись и желая показаться цивилизованным современником, а не литовской деревенщиной, орал «Че-е-ервонец в руку и шукай вечерами…» – портил мне изгнанническое настроение. Как-то я уехал в Вильнюс к приятелям на два дня, а вернулся через пять, помятый, и хватился паспорта. Антося вынесла мне его из подпола в жестянке из-под леденцов – рефлекторно прикопала сразу по моем исчезновении. Я подивился партизанским навыкам добродушной хозяйки.
Там и сям по хутору слонялись неразговорчивые деды. Изредка мы с ними угощались за сельпо ромом Havana-Club, деды делались разговорчивей, а когда я хвалил их русский, хмыкали: «В Сибири хорошо учат». Я делал понимающие глаза и вздыхал. Звали их всех Саулюсами.
Хутор стоял на высоком берегу Немана. Зима была бесснежной, и я впервые узнал, что ледоход не только весеннее, но и осеннее явление природы. От нескончаемого шествия разнокалиберных льдин трудно было оторвать взгляд. Большой костел XVIII столетия белел на отшибе, усугубляя приятное чувство чужбины. Короткими зимними днями я шлялся и рифмовал, а в темное время суток читал или болтал с Антосей за кальвадосом – отвратительным пойлом, которое я покупал исключительно за мужественную красоту названия. Раз я брел сосняком и споткнулся о камень, торчащий из схваченного морозом мха. Заметил, что похожих камней густо понатыкано вокруг. Присел около одного и узнал буквы еврейского алфавита. Кладбище. Вечером Антося сказала, что до войны хутор был смешанным – литовско-еврейским. «И всех немцы?» – спросил я. «Зачем немцы? – ответила она. – Свои. С которыми ты выпиваешь». У меня целая коллекция таких идиллий с похабным секретом внутри.
По возвращении из Литвы я уволился из «Коломенского», филонил до апреля, а в апреле устроился экспедиционным рабочим в Памирский гляциологический отряд при Академии наук и до осени работал на леднике Медвежий в верховьях Ванча.От тех лет осталось еще одно чудесное воспоминание. Бахыт Кенжеев, Алексей Магарик – виолончелист, мачо и преподаватель иврита, – ну и я надумали обогатиться и поехали в октябре в Карелию – собирать бруснику на продажу. Запаслись на почте картонными коробками для посылок, чтобы доставить в Москву ягоды в целости и сохранности, и поехали. Сошли за Медвежьегорском на станции Сег-озеро – я бывал там уже. Местный мужик за небольшую плату на моторке с плоскодонкой на прицепе свез на один из островов, весельную лодку оставил нам и распрощался на неделю. Я опасался подвоха от Кенжеева, которого считал совершенно городским и не приспособленным к дикой жизни человеком. Но обманулся: Бахыт ловко стряпал, собирал ягоды куда лучше меня и вообще пришелся кстати. Подвел главный ковбой – Магарик, слегший на второй день островной жизни с ангиной и высокой температурой. Так он и провалялся всю неделю в щелястой охотничьей избенке на нарах у железной печки. Правда, когда накануне отъезда в сумерках мы с Бахытом подплывали к острову, увидели на берегу нашего заливчика Магарика. Он стоял почти в беспамятстве рядом с полным ведром брусники. Было хорошо: кроткое немолчное всхлипывание воды в прибрежных валунах, крикливые караваны гусей высоко в небе, славные товарищи, уединение… Вечерами при свете керосиновой лампы читали вслух «Записки русского путешественника» – не Карамзина, а Владимира Буковского, нашего тогдашнего кумира.
Но таких просветов становилось все меньше; то ли мы делались старше и мрачней, то ли снаружи сходили на нет последние признаки жизни. Когда я вспоминаю рубеж 70-80-х, мне вспоминается все больше не объективное время года, а сплошной ноябрь – месяцев десять в году стоял ноябрь.
В эту пору у нас у всех – и ближайших товарищей, и шапочных знакомых – начались треволнения с карательными органами. Здравый Пригов объяснял наше попадание в поле зрения госбезопасности тем, что главные сорняки-диссиденты были уже прополоты: отправлены в лагеря, психбольницы или выдворены за границу, и настал черед поросли помельче – вольнодумцев из дворницких и котельных. Поподробней скажу о Дмитрии Александровиче Пригове, раз уж я упомянул его.
В эти годы особую для нашего дружеского круга притягательность обрела съемная квартира Бахыта Кенжеева. Здесь можно было разжиться «тамиздатом» (жена хозяина, Лаура Бераха, была иностранкой); здесь же по преимуществу завязывались и новые знакомства: это уже благодаря общительности и добродушию самого Бахыта. Иногда его общительность и добродушие выходили боком, например, он приводил К., румяного боксера тяжелого веса и филолога, исключенного из Тартуского университета чуть ли не за воровство библиотечных книг, а в описываемое время – ленинградского репетитора, предпочитающего натаскивать по родной словесности старшеклассниц поромантичней да подоверчивей.
О нем ходили нехорошие слухи. Когда мы с Сопровским спрашивали Кенжеева, что тот в К. нашел, простофиля Бахыт горячо вступался за нового приятеля и сравнивал его с Митей Карамазовым. Митя так Митя. Как-то мы с ним спешили в ноябрьских (!) сумерках за спиртным. Не помню уже, о чем шел разговор, скорей всего обычный параноидальный о КГБ – о чем же еще, но вдруг «Митя» приобнял меня и сказал: «Какая сила, а? Как, наверное, тянет быть с ними». Впоследствии выяснилось, что К. и впрямь был «с ними»; сейчас он вроде бы уже умер. Но, если не считать единичных курьезов, благодаря радушию Кенжеева перезнакомилось немало всякого народа, иногда экзотического. Однажды я застал на его квартире Евгения Рейна, Пригова и… Якова Маршака, известного ныне нарколога (Клиника Маршака). Подробностей вечера не помню, но недели две спустя отец постучал в мою комнату (мы жили тогда на «Юго-Западной») со словами: «К тебе». С недоумением я вышел в прихожую, в дверях стоял Пригов. Мы стали приятельствовать, тем более что жили по соседству; мне, собачнику, хочешь не хочешь приходилось гулять, а он любил пешие прогулки и со своей хромой ногой делал большие концы чуть ли не ежедневно.
Сказать про него, что он был сильный человек, – ничего не сказать. Из него, если вспомнить образ Николая Тихонова, получились бы отменные гвозди. Человек нечеловеческой воли. Вот маленький пример. Сын его вернулся из школы и рассказал, что один одноклассник умеет отжаться от пола сколько-то десятков раз. Через полгода Пригов (с детства очень нездоровый человек!) отжимался сто четыре раза! Я запомнил цифру, потому что увязался за ним, но дальше тридцати отжиманий у меня не пошло. И так во всем, особенно в деле всей жизни – в искусстве. Он рассказывал, что, когда решил стать автором, перво-наперво прочел в Библиотеке Ленина всю доступную поэзию. Пугающая серьезность. А наряду с этим – завидный артистизм. Его внук (речь идет уже о XXI столетии) не любил, когда ему читают стихи, зато интересовался древними ящерами. Но дед убедил его, что не все стихи безнадежно скучны, есть и любопытные:Богат и славен динозавр.
Его луга необозримы;
Там табуны его коней
Пасутся вольны, нехранимы —
и так до конца поэмы. Или:
Мой птеродактиль, честных правил,
Когда не в шутку занемог…
Я помню двух Приговых. Первый – частный человек, сама корректность. Именно поэтому его, а не Сопровского я попросил в 1983 году стать свидетелем на моей свадьбе (Сопровский мог и подвести, как проспал он отлет Цветкова). Протестантская бытовая этика: они с женой воспитали с младенчества и поставили на ноги чужую девочку. Бессребреничество и готовность помочь деньгами. Сдержанность анекдотическая. Можно было столкнуться с ним лицом к лицу в парадном N, но бессмысленно было задавать (бессмысленный, впрочем) вопрос, не от N ли Дмитрий Александрович идет. «Обстоятельства привели, Сергей Маркович», – ответил бы он. И, вероятно, как следствие – решительное неучастие в знакомстве между собой людей из разных компаний, при том что он был вхож в самые разные круги артистической Москвы, и не только Москвы. (Та же странная особенность, как я узнал из мемуаров, была присуща Иосифу Бродскому.) Зато Пригова не могли заподозрить в распространении сплетен. Изо дня в день он как на работу ходил по мастерским, домашним чтениям, кухням, салонам и т. п., расширяя свою культурную осведомленность и методично внедряясь в современный «культурный контекст» (говоря о нем, я и перенял оборот его сухой наукообразной речи). А в оставшееся время суток писал свою норму «текстов» и рисовал – тоже норму, а не наобум. Не пил, не курил или бросил курить. И так из года в год. Такое у меня сложилось впечатление.
Второй Пригов появился внезапно – с внезапным появлением новых соблазнов и возможностей в конце 80-х. Дмитрий Александрович шел к цели в забвенье кружковых сантиментов, вкусов и традиций. Щепетильный в этих вопросах и прямой Сопровский с недоумением охладил с ним отношения, я – следом.
Годы спустя, когда я спохватился, что главная досада моей жизни не в том, что кто-то из моих близких не соответствует созданному мной образу, а в том, что меня такого, какого хотелось бы, нет и уже не предвидится; когда заявило о себе пристрастное отношение к своему поколению; когда у меня стало изредка получаться смотреть на людей с поправкой на нашу общую стопроцентную смертность, я попробовал, правда без особого результата, наладить с Дмитрием Александровичем подпорченные отношения.
Еще в пору приятельства в разговоре у него на кухне он сослался на притчу Кафки о страже костра (не помню такой) – и сравнил себя с этим стражем. Думаю, что эта «аскеза» кое-что объясняет. Он, в отличие от многих, меня, например, ни на йоту не верил в кривую, которая сама вывезет, и вообще был абсолютно убежден, что само никогда и ничего не получается – это против природы вещей, и удача берется только натиском. «Время – честный человек» – мудрость явно не его арсенала. Успех был для него не суетой, а делом жизненной победы или поражения.
Теперь Дмитрий Александрович лежит на Донском, по случайному стечению обстоятельств в десяти шагах от стены с нишей, где покоится прах моих родителей. Два-три раза в год по дороге к ним я задерживаюсь у его могилы.Я начал рассказывать о нервотрепке с КГБ. Я намеренно употребляю такое прозаическое слово, потому что по большей части дело ограничивалось щекотанием нервов. Или порчей крови, если говорить о реакции моих родителей. Но не всегда. Арестовали знакомого прозаика Евгения Козловского. Кое у кого проходили обыски. (У меня обыск был в мое отсутствие. Родителей, детство которых пришлось на террор 30-х, удивило, что шофер орал на кагэбэшников, когда те не уложились в его рабочий день.) Человек десять-двенадцать литераторов, включая всю нашу компанию, вызывали на Лубянку подписывать прокурорские предупреждения – было такое средство острастки [7] . В аэропорту в Тбилиси подбросили наркотики, судили и посадили Алешу Магарика. Сперва в сравнительно опереточный лагерь в Цулукидзе. А потом – в чудовищный, в промзоне Омска. Начальник грузинского лагеря разрешил мне свидание при условии, что я достану ему «заебательские записи Высоцкого». Но уже в Омске у жены Магарика не приняли сгущенное молоко, потому что оно… полезное. С одной стороны, преследования страшили, с другой – придавали значимости в собственных глазах, и сообща, и врозь. Одержимый бесами культуртрегерства и протеста, Сопровский поехал на переговоры к Виктору Кривулину в Ленинград. На обратном пути Сашу задержали: оцеплен и прочесан был весь Ленинградский вокзал. Дотошный Кенжеев подсчитал, что операция по задержанию грузного похмельного бородача встала КГБ в восемь тысяч рублей, при том что сам задержанный от случая к случаю зарабатывал семьдесят рублей в месяц. И с деньгами, и с этим самым «от случая к случаю» тоже была беда: разрыв трудового стажа более четырех месяцев квалифицировался как тунеядство. Тунеядство каралось законом. В общем – обложили.
Заработок и социальную защищенность могло обеспечить занятие поэтическим переводом. Людям молодым или в возрасте, но далеким от этого ремесла, возможно, понадобятся кое-какие разъяснения. Чтобы перейти от слов к делу, официальной доктрине дружбы советских народов нужна была целая индустрия художественного перевода. С языка переводили редко – чаще по подстрочнику. Подстрочники поэтов: армянских, туркменских, якутских и прочих распределялись издательствами, в каждом из которых существовал определенный план по выпуску национальных литератур. Рядовому редактору важно было иметь трех-четырех «своих» переводчиков, на профессионализм которых он мог положиться; среди них в первую очередь и распределялись заказы. Естественности авторы ревниво и бережно относились к работе, потому что, вообще-то говоря, она была синекурой: жить вольным художником и попутно зарабатывать очень неплохие деньги. Поэтому протиснуться к кормушке перевода было совсем не просто. Ни о каком выборе для новичка не могло быть и речи: бери что дают и говори «спасибо». Перевод вообще, по умолчанию, считался зоной имморализма. Тихий лирик мог переводить вирши, исполненные казенного оптимизма, до которого он не опустился бы как оригинальный автор и в страшном сне. Оправданием служило, что это всего лишь перевод. Чтобы не тратить лишних слов на опровержение этой демагогии, сошлюсь на Евангелие: «надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, чрез которого соблазн приходит». Нынешний уровень начитанности позволяет назвать такое положение вещей банальным злом, пусть и довольно мелким. (И здесь у меня рыльце в пуху: один раз под моей фамилией вышли какие-то осетинские агитки 20-х годов.)
Но это каверза именно советского промышленного перевода поэзии. Была, есть и будет и другая трудность, почти непреодолимая и присущая поэтическому переводу как таковому. Всякий пишущий человек знает, насколько велика доля наития и даже случайности в поэтической удаче. Не в последнюю очередь как раз авторское изумление перед «сюрпризами» собственного труда и делает предсказуемые куплеты поразительными стихами; трепет поэта передается и чуткому читателю. Вероятность, что переводчик вручную и сознательно воспроизведет однократное счастливое стечение языковых обстоятельств, исчезающе мала. Поэтому сильных переводных стихотворений на порядок меньше, чем оригинальных. В отличие от политики, полноценный поэтический перевод – искусство теоретически невозможного. И вот в эту-то и без того далеко не бесспорную, тонкую и зыбкую область словесности советское издательское дело вломилось, будто слон в посудную лавку, – с прямолинейностью и слепотой, характерными для утопии. Требования, округленно говоря, упростились донельзя: наловчиться излагать гладкой силлабо-тоникой любое содержание, по большей части навязшее в зубах. Девять десятых произведенной таким способом рифмованной продукции можно было, минуя книжные магазины, отправлять в цех по переработки макулатуры – для участия в новом полиграфическом цикле [8] .
Но и здесь были свои артисты и ремесленники. Маэстро перевода Семен Израилевич Липкин рассказывал, как какой-то национальный поэт попросил Липкина перевести его. «Но ведь вас переводит N?» – сказал Семен Израилевич. «Он как-то без огонька переводит», – пожаловался поэт. «Не любим мы проституток – блядей любим!» – развеселился Липкин.
Мне кажется, что из меня с годами могла бы получиться неплохая поблядушка. С домами творчества, «жигуленком», продуктовыми заказами (венгерская курица, растворимый кофе, салями и гречка) и проч. Да карта легла по-иному.
С версификацией у меня наблюдался полный порядок: традиционный семейный навык был многократно приумножен буднями казарменного стихоплетства. Похабщина в рифму высоко ценилась в «Московском времени». Сопровский с Цветковым как-то увлеклись и исписали сверху донизу ЖЗЛ-частушками стены одной коммунальной кухни: «У литератора Панаева / Дала Некрасову жена его…» и т. п. Оставалось только найти применение этому нехитрому умению.
Здесь помог единственный до времени лично знакомый член Союза писателей Юрий Ряшенцев, тезка и старинный друг моего дяди. Он поделился подстрочниками и связями. Бахыт Кенжеев с тех пор во всеуслышание считает меня племянником Ряшенцева; перечить бессмысленно.
Решительно, как и с зоопарком в отрочестве, вмешалась мама. Она посетовала на беспутного пишущего сына сотруднице, женщине прелестной и с гуманитарными запросами и знакомствами. Та навела справки и достала телефонный номер профессионального переводчика Юрия Петрова. Дверь мне открыл обаятельный еврей, скорбными складками у рта и крупными ушами напоминающий большую грустную обезьяну. Сразу после приветствия он спросил, согласен ли я выпить водки без закуски, поскольку до холодильника из-за ремонта не добраться (действительно, в квартире негде было ступить). Я был согласен. Он просмотрел мои переводы, одобрительно кивнул. Спросил, как у меня обстоит дело с публикациями. Я назвал журнал «Континент». «Это нехорошо», – сказал он без осуждения, просто фиксируя данность. Никаких практических предложений, включая выпить по второй, не последовало, и я засобирался. Уже в прихожей я, как бы извиняясь, признался, что никогда не слышал о нем. «Вообще-то меня зовут Юлием Даниэлем», – сказал хозяин. Вот такого покровителя нашла мне мама.
История имела симметричное и невеселое продолжение. Во второй половине 80-х поэт и журналист Илья Дадашидзе спросил, нет ли у меня лишних подстрочников для Даниэля: тот смертельно болел, и Дадашидзе надеялся отвлечь его работой от мрачных мыслей.
Понемногу, методом проб и ошибок в 1986 году я стал членом профессионального союза литераторов. Мог и не становиться: плановое издательское дело, дружба народов, равно как и уголовное преследование за тунеядство доживали последние годы.Но я забежал вперед. В 1982 году мне стукнуло тридцать. Затянувшаяся молодость пошла на убыль, с нею и легкость. Куража, позволявшего свысока смотреть на бытовую и социальную неприкаянность, становилось все меньше. Неряшливое слово «безнадега» все чаще просилось на язык. В том же году Кенжеев уехал в Америку, Кублановский – в Европу. На мой вопрос старику Липкину, долго ли простоит советская власть, он ответил: «И-и-и, Сережа, об этом вас спросят еще ваши внуки». Засобирался Сопровский, ничего против эмиграции не имел и я. Не помню, как далеко зашли Сашины с женой сборы, но мой вызов пропал, хотя и был послан, судя по трем – раз в полгода – вещевым посылкам от неизвестного голландского адресата. (Зная, что в СССР человек, собравшийся эмигрировать, лишался работы и средств к существованию, какие-то фонды таким способом поддерживали его.)
В 1983 году я женился. О жене своей я могу говорить долго, поэтому скажу коротко, памятуя о поговорке «Умный хвалится старым батюшкой, а дурак – молодой женой». Лена из той породы хрупких женщин, которые одним прекрасным утром выводят жеребца из стойла и, днюя и ночуя в седле, предводительствуют крестьянской войной. А пока в миру она – керамист, скоро тридцать лет удивляющая меня муравьиным тщанием, трудолюбием и сосредоточенностью. Остатки неукротимого темперамента Лена тратит на детей, быт, мои художества и презрение к родине. И, конечно, большой промах России, что она не сумела заслужить уважение такой благородной и верной женщины. Врожденным чудачеством, прямодушием и неумением приспосабливаться к людям и обстоятельствам она похожа на Сопровского, который меня с ней и познакомил.
Через год после свадьбы в ужасных и долгих муках умерла моя прекрасная мать. Иногда мама снится мне: то мы разговариваем и мне надо скрыть от нее, что она мертва; то оказывается, что она где-то там жива все эти годы, а я по сердечной черствости забываю навестить ее. После таких снов я полдня не могу прийти в себя.
Лишась материнского участия, я тотчас обзавелся жениным, вроде как был передан с рук на руки. Получается, что я ни дня в жизни не был по-настоящему одинок, не знаком, так сказать, с предметом, что бы я там под настроение себе ни выдумывал.
Вскоре появились дети: сперва дочь, потом сын. Через год-другой родственных дрязг, связанных с квартирным вопросом, мы обзавелись своим жильем – двумя комнатами в коммунальной квартире. Наше первое самостоятельное семейное время пришлось как раз на историческую пору – рубеж 80–90-х годов, – и было забавно наблюдать, как в коммунальном коридоре одновременно одевались два отца двух семейств: я – на демонстрацию, сосед-милиционер – туда же, но в оцепление.
Под впечатлением от материнской смерти я надумал креститься. Сам ход мысли не был для меня нов: русская литература, чтение отечественных философов, особенно Льва Шестова, книжная или не очень религиозность друзей и знакомых, наконец, собственные раздумья и чувства год за годом делали свое дело. Конфессия была мне безразлична, но недавнее горе повело меня в православную церковь. Моя русская мать, внучка попов, в сущности, прожила свою частную жизнь в положении национального меньшинства (хотя это ничуть не тяготило ее), и мне захотелось взять сторону матери хотя бы теперь. Можно сказать, что я тогда ощутил последний на своем веку всплеск почвеннических чувств.
К нынешнему времени моя религиозность изрядно выдохлась. Причины три, перечислю их в порядке возрастания. Первое. Я так и не сумел освоиться в церкви – невежество мое оказалось непроходимым, а отстаивать службы для галочки неловко. Второе. Я прожил немассовую жизнь. Мои вкусы, поступки, друзья, суждения вряд ли близки и симпатичны большинству. Почему же в такой заветной области земного существования, как загробные надежды, я должен быть заодно с людьми, с которыми мы не сумели найти взаимопонимание? И последнее, главное. Я не могу смириться со случайностью и бессмысленностью беды, не способен распознать в ней заслуженной кары. Ужасные болезни детей, стихийные бедствия, наобум губящие людей, ничуть не хуже остальных и т. п. разом выбивают мои мысли из религиозной колеи. Разговоры про непостижимый промысел Божий уместны и оправданны в устах человека, испытывающего вдохновение веры. Но для человека трезвого, вроде меня, они были бы ханжеством и бесчеловечностью под личиной набожности. Лучше честно и не мудрствуя, сойтись с самим собой, что Бога или нет вовсе, или Он не имеет никакого отношения к здешним представлениям о добре и зле, какими мы живем, пока живы. Иногда мне кажется, что отношения человек / Бог аналогичны отношениям персонаж / автор. В таком случае и у персонажа есть право сказать автору в свой черный день «Ужо тебе!».
Это, скорее всего, скверное богословие, но другое мне не по уму. При этом я не материалист: материализм – ничуть не менее фантастическое объяснение мира, чем религия. По всей видимости, подобное умонастроение называется агностицизмом. Пусть так.Между тем к власти пришел Горбачев, и наступали новые времена. Поначалу я считал, что уж лучше старые кремлевские маразматики с мочеприемниками, чем моложавый бессвязный говорун. Но внезапно и лавинообразно, без видимых причин «тысячелетний Рейх» стал осыпаться и оседать. Сперва не верилось, но что-то наконец дошло до меня, когда в 1988 году я увидел в книжном магазине в Бронницах среди букварей и разливанной «Угрюм-реки» том Владислава Ходасевича «Державин» (всего несколько лет назад тот же Семен Израилевич Липкин давал мне его на сутки-другие почитать в «тамиздате»). И пошло-поехало! Я перестал жалеть, что мой вызов перехватили, а азартный Сопровский свернул эмиграционные хлопоты. «Раньше авантюрой было уезжать, теперь – оставаться», – объяснял он.
В ту пору я обзавелся новым кругом друзей, вернее, был принят на новенького в круг сложившийся раньше. Кое с кем я был шапочно знаком уже много лет. Мы случайно виделись время от времени. Так, однажды утром продрали глаза с похмелья в пустой мастерской Дмитрия Бисти и познакомились с Виктором Ковалем. Льва Рубинштейна я знал в лицо по салону Ники Щербаковой на Садовой-Кудринской. Но короче мы все сошлись уже в клубе «Поэзия», появился он в 1986 году. Сам-то клуб был слишком пестрым сборищем разношерстных и даже несовместимых вкусов, поведений и эстетик, но дело взаимного ознакомления он сделал. Так или иначе я появился в логове новой компании – на кухне Алены и Миши Айзенбергов, у них были то ли «вторники», то ли «четверги». По-моему, меня привел туда Виктор Санчук [9] . Мне понравилось, и я зачастил на эти сборища.
Вскоре после одного-двух первых посещений было чтение «Лесной школы» Тимура Кибирова, поразившей меня прямотой пафоса и каким-то эстетическим неприличием. Для меня это добрый признак – так я обычно реагирую на настоящую эстетическую новость.
А вообще та пора запомнилась как очень праздничная – и было от чего! Замечательные и совершенно нежданные гражданские потрясения, наша относительная молодость, прорва культурных и общественных событий, будто в компенсацию за десятилетия национального прозябания, поток публикаций и проч. Мы, помнится, заключали пари: что «они» напечатают, а чего не осмелятся. Я, кажется, бился об заклад, что «Лолита» и «Николай Николаевич» останутся так и не покоренными твердынями из ханжеских соображений. Вдобавок ко всему, на очень короткое время отступила бедность: мы стали печататься и получать гонорары по советским ставкам, придуманным вовсе не для нас. Так что прийти к Айзенбергам с бутылкой и чем-нибудь съестным к столу и уехать домой глубокой ночью на такси сделалось чем-то вполне неразорительным. Юрий Карабчиевский, имея в виду, конечно же, и себя, сказал как-то: «Если у такой шпаны появились деньги – дела плохи…» Пили много, но пристойно. Индивидуалисты и отщепенцы со стажем, мы около сорока узнали сильное переживание, новое в спектре наших чувств: воодушевление людного митинга и шествия. Было этакое многомесячное карнавальное настроение, точно нам в кровь подмешали газировки.
Мы одно время объединились в поэтическое представление «Альманах»: Михаил Айзенберг, Тимур Кибиров, Виктор Коваль, Андрей Липский, Денис Новиков, Д.А. Пригов, Лев Рубинштейн и я. Даже слетали с ним в Лондон аж на три недели. По-моему, для большинства участников эти гастроли стали первым очным знакомством с западной цивилизацией – все оторопели.
Половодье взаимного дружеского увлечения за четверть века вошло в берега; двое умерли, но я по-прежнему сердечно привязан к оставшимся, и мне далеко не безразлично, что они думают обо мне как о человеке и авторе.
«Айзенберговской кухне», скорей всего, я обязан и некоторым изменением эстетических вкусов и подходов. В «Московском времени» (Цветков не в счет, он всегда был сам по себе), если и не оговаривалось, то предполагалось, что существуют более или менее осязаемые параметры хорошего стихотворения: достоверность переживания, заинтересованная интонация, зримые образы, отсылки к высокой культуре, убедительная рифма – некий акмеистический эталон маячил за всем этим. Литературная практика и атмосфера компании «Альманаха» привили мне мнительное отношение ко всему вышеперечисленному – все так, но нужно еще что-то… А что именно – можно сказать лишь задним числом, когда литературная удача налицо. Не то что бы до знакомства с поэтами «Альманаха» я самозабвенно и самодовольно клепал лаковые шкатулки, но несколько подвинулись мои представления о живом и мертвом в литературе. И теперь я нередко с прохладцей говорю о безупречном с виду стихотворении, в том числе и собственном: «Ну, стихи, ну, хорошие…»В 1990 году мой отец умер от очередного инфаркта. По счастью, двумя годами раньше я внял терпеливым уговорам его младшего брата, моего дяди, и, обуздав свою мелочную разовую правоту, первым сделал шаг к примирению после года с лишним разрыва. Не помирись мы с ним, самочувствие мое до конца дней время от времени было бы незавидным…
Отец умер четвертого декабря, а двадцать третьего машина сбила насмерть Александра Сопровского.
Смерть отца, как это всегда бывает, освободила место на самом краю, а с гибелью Сопровского рухнул мир молодости. Недели через две после Сашиной гибели я с боем купил бутылку водки, пришел домой и, с удовольствием предвкушая показ, разглядывал номер очереди, химическим карандашом вкривь и вкось намаранный у меня на запястье каким-то стихийным распорядителем. А потом направился в ванную и с ожесточением смыл его: некому было показывать – лучший в мире ценитель таких колоритных деталей канул в небытие. В обличье неряхи, с ранним брюхом умер умница и денди, взиравший на «Совдепию» сквозь призму бодрого презрения! «Мы пригласили старшину на наш прощальный ужин…», «Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, товарищи, вам предложить…», «Давайте предъявлять друг другу документы..» – это у него от зубов отскакивало.Чтобы сводить концы с концами, Лена, дипломированный историк, взялась за репетиторство, благо коммунистической трактовки истории на экзаменах уже не требовалось; а я – снова за переводы, правда уже несколько иного толка. Тогда на коснеющую в атеизме шестую часть суши устремились миссионеры самых разных конфессий: распахнулись просторы для духовного окормления, сопоставимые с метафизическим рынком эпохи великих географических открытий. Среди разношерстных «крестителей» была и Новоапостольская церковь. Один русский малый, с которым я мельком виделся раз-другой, не помню где, сделался чуть ли не старостой австрийского филиала этой церкви. Для отправления церковной службы срочно понадобилось перевести гимны с немецкого на русский. Я не ломался, согласился на десять австрийских шиллингов за штуку и принялся за старое.
Стишки, скажем прямо, были не ахти: в них не ночевала ни гениальная ветхозаветная поэзия, ни сдержанная новозаветная. Речь шла о слащавых до приторности куплетах, приправленных мещанским меркантилизмом: Боженька-счетовод, я сегодня подал милостыню и рассчитываю на загробную компенсацию.
Целили миссионеры-австрийцы в население города Иваново, и здесь этим «ловцам человеков» не откажешь в проницательности. На такую сдельную благодать могли клюнуть разве что замордованные и полуграмотные матери-одиночки из города ткачих. Переводил я главным образом на даче (шесть отцовских соток между Рузой и Тучковым, красивые места). После нескольких часов сюсюканья в рифму я спускался со второго этажа и какое-то время непроизвольно сотрясал воздух самым кощунственным сквернословием. Так я на собственном опыте убедился в правоте Бахтина с его карнавализацией.
Карнавала тогда хватало с избытком. Москва ожидала голода и холода. Когда какая-то уличная хамка крикнула по старинке провинциальной чете вдогонку «Понаехали тут!», те обернулись, и провинциалка со зловещей улыбкой сказала: «А мы ведь скоро перестанем ездить». И я мигом представил себе всю обреченность горожанина, отрезанного от пригорода и деревни – от прокорма. По совету дядюшки-ангела хранителя я купил на рынке у Киевского вокзала печку-буржуйку, а дядя сказал, что, когда дойдет до дела, он научит ею пользоваться – по эвакуационной памяти. Магазины пустовали, как маленькие филиалы Каракума. Иногда что-то «выбрасывали» в давке, граничащей с мордобоем. Дочь и сын изредка приносили «гуманитарку», распределявшуюся в детских учреждениях: импортное сухое молоко и банки с ветчиной. Как-то раз я достал из почтового ящика повестку из окраинного хладокомбината. Недоумевая, поехал. Друг молодости Давид Осман прислал из Америки плиту льда, битком набитую куриными ножками. Так мы и откалывали от нее всю зиму на балконе по одной детям на ужин. Раз позвонили из профсоюза литераторов при издательстве «Художественная литература», что переводчикам завезли стиральный порошок. В подвале на Малой Грузинской, где предполагалась раздача, стояли впритык десятки обнадеженных литераторов – и ни с места. Наконец откуда-то из недр подвала крикнули, что машина пришла, но некому разгружать. Я был в числе трех вызвавшихся мужчин. По окончании разгрузки нас премировали пачкой «Лотоса» сверх положенных двух в одни руки. По месту жительства выдавались талоны на водку, табак, сахар, носки. Помню, как я затаил дыхание, когда замороченная сотрудница домоуправления по ошибке выписывала мне водочный талон на четырехлетнего сына. При всем при том у нас с Леной скопилось какое-то невероятное количество бессмысленных дензнаков. Чтобы хоть как-то их потратить, мы уехали всей семьей на лето в Израиль к родственникам.
В условиях израильской рыночной экономики наши баснословные богатства улетучились недели за две. Меня взял грузчиком Алеша Магарик – он к тому времени уже вышел из омского лагеря и четыре года как промышлял извозом в Израиле: развозил по адресам мебель, холодильники и т. п. Раз, согнувшись в три погибели, я пер на спине по ближневосточному зною холодильник где-то в Гило и с одышкой сетовал, что почти месяц нахожусь на Земле обетованной, а так и не видел… ну, хоть Вифлеема. «Разогнись чуток – он внизу под тобой!» – сказал мой глумливый босс и товарищ. И впрямь: под горой пестрел арабский город Бейт-Лехем.
Тем израильским летом мы с женой делали что попало: драили детский сад, убирали квартиру к приезду знатного раввина, собирали фрукты на плантации под Рамаллой, объездили с малыми детьми всю страну – было хорошо.
В 1991 году, как раз в августе, мы чудом разъехались с соседским милицейским семейством и обзавелись двухкомнатной квартирой там же, в Замоскворечье. Эпизодические заработки и мне, и жене перепадали все реже. Года два мы жили тем, что ночами расфасовывали по конвертам, сверяясь с квитанциями, свадебные заказы фотоателье и надписывали адреса заказчиков. Справочник почтовых индексов лежал в красном углу квартиры. Деньги были нужны позарез. Как-то вечером зашла подруга юности Наташа Молчанская (она служила в двух шагах – в «Иностранной литературе») и сказала, что освободилось место в отделе критики и публицистики, не хочу ли я попробовать. «Попробовать можно, – решил я. – Мне не впервой, ближе к лету уволюсь». (Я пишу это в самом конце 2011 года. До пенсии мне остался год. Я так и не уволился.)В сентябре 1993 года я оформился на работу в журнал «Иностранная литература». А в октябре – по ночному радиопризыву премьера Гайдара – принял участие в городских волнениях: строил баррикады на нынешней Никольской, где тогда находилась редакция «Эха Москвы». Когда мы перегородили улицу всякими случайными и тяжелыми предметами: металлоломом, бетонными чурками и проч., сухощавый напарник спросил меня, держал ли я в руках оружие. «Нет, – ответил я, – а вы?» «Я военный», – сказал он. Потом по пустынной улице навстречу баррикаде пошли какие-то люди, человек пять. «Кто идет?» – крикнули, как в кино, с нашей стороны. «Свои!» – послышалось в ответ, и на меня повеяло бредятиной Гражданской войны: какие свои , кому свои ?.. Потом я устал и сел покурить на бочку, как оказалось, с бензином, и не сразу понял, почему эти посторонние люди орут на меня. Тогда я почувствовал себя нелепым и лишним и пошел на другую сторону реки – домой.
Спустя несколько дней в редакции заместитель главного редактора японист Григорий Чхартишвили со сдержанной улыбкой сказал, что добровольцев-бюджетников, участвовавших в недавних событиях на президентской стороне, премируют отгулами, но журнал не бюджетная организация, поэтому мне отгулы за героизм, увы, не положены. Такой юмор в моем вкусе, и теперь мы почти двадцать лет дружим семьями, хотя «меж нами все рождает споры».
Теперь я коротко расскажу о своих литературных занятиях последнего двадцатилетия. К 90-м годам я уже никак не меньше пятнадцати лет писал в год по три-четыре стихотворения. Почему так, я не знаю, хотя добросовестно перебрал все доступные моему разумению причины, включая и обидные, как то: слабые способности, недоразвитый артистизм и т. п. Но само писание доставляет мне большое удовольствие – на отсутствие графоманской жилки я не жалуюсь. При таком аскетическом литературном режиме, мне сильно досаждали и досаждают пустые месяцы между считанными стихотворениями, и моей стойкой мечтой была проза, написание которой (и связанное с этим отрадное сознание занятости) растянуто во времени. Но здесь я привычно впадал в ступор, очень похожий на мое юношеское оцепенение перед лирикой. В молодости я боялся, что не сумею говорить стихом; в зрелости, наоборот, опасался, что не смогу распорядиться чрезмерной, на непосвященный взгляд, лишенной жестких ограничений размера и рифмы свободой письма в строчку. Обрел я дар прозаической речи, как и некогда поэтической, по забывчивости – когда отвлекся на постороннее литературе чувство и забыл страх. Страх перед прозой я забыл на радостях: ко мне вернулась память на слова – дар речи в самом прямом психофизиологическом смысле. В декабре 1993 года скверное самочувствие погнало меня к врачам. Дело было даже не в головных болях (они у меня с детства), а в прогрессирующей деградации: я стал заторможен, косноязычен, в глазах у меня двоилось, как у анекдотического пьяницы. Врачи нашли у меня и благополучно удалили опухоль мозга. Внезапное стремительное исцеление по контрасту с ужасом и омерзением, испытанными мной перед операцией, обернулось легкостью, равной которой я не упомню, – и я за два-три месяца, похерив свою прозобоязнь, написал автобиографическую повесть «Трепанация черепа». (Спустя десять лет операцию пришлось повторить, но эйфория уже не повторилась – хорошего понемножку.) Сочинение прозы не обмануло моих ожиданий, и я, как начинающий тигр-людоед, вошел во вкус. Не тут-то было! Оказалось, что писание прозы, так же как и лирики, не в компетенции моей воли; силы моей воли хватает на утренний холодный душ, не более. И потом десять лет я вынашивал замысел love story , где восприятие влюбленного юнца перемежалось бы его же зрелыми воспоминаниями о случившемся. Дальше намерения дело не шло, пока в 2001 году на эскалаторе станции «Новокузнецкая» меня не осенило, что сдвинуть замысел с мертвой точки может счастливый – ив поэзии, и в любви – соперник моего героя. Любовный треугольник наконец-то нарисовался. (Я сейчас делюсь маленькими авторскими радостями, а вовсе не хвастаю литературными удачами, о которых судить, разумеется, не мне.)
В 1989 году в издательстве «Московский рабочий» наряду с книжками других дебютантов в летах вышла первая книжка моих стихотворений «Рассказ», в сущности брошюра. (К тому времени за мной уже числились две-три недавние журнальные публикации в групповых подборках.) Тираж книжки был еще советский, нерыночный, огромный – десять тысяч экземпляров. Тогда-то в первый (и на сегодняшний день – последний) раз я увидел, как мою книжку читала в метро молодая женщина – незабываемое, надо признаться, чувство!
Человек может быть темпераментным честолюбцем – а может со спокойствием относиться к успеху; но с возрастом дает о себе знать племенной инстинкт: хочется социальной определенности – чтобы общество подтвердило твою профпригодность и закрепило за тобой желанный публичный статус. Для психики совсем непросто из года в год мириться с реноме самопровозглашенного, но непризнанного учителя, хозяйки салона, автора или даже ниспровергателя основ. Так что для меня, как и для товарищей по цеху, переход на «легальное положение» был совсем не лишним. Очень жаль, что до этого времени не дожили отец с матерью: моя социальная неприкаянность удручала их.
Целое поэтическое сообщество вышло тогда из подполья на поверхность. Цензура пала, и наспех заполнив наиболее вопиющие пробелы классики – от Лескова до Набокова, журналы и издательства заметили наконец самостоятельную катакомбную литературу – и взялись за нее. Разумеется, из застигнутых передислокацией авторов многие получили известность не по эстетическим заслугам и «небесному счету» («тогда б не мог и мир существовать»), а сообразно сложившимся редакторским и читательским предпочтениям. Так что все-таки по каким-то заслугам – сообразно тому количеству публики, которому каждый автор пришелся по вкусу. Справедливость на демократический лад. Чтобы покончить с этой нервной темой, скажу, что за свою скромную известность я читателям благодарен. Она абсолютно устраивает меня: случись огласка громче, я бы подозревал, что дело нечисто (лирика как-никак), будь она тише – огорчался бы (как-никак лирика).
И здесь мне снова – ив который раз! – повезло. Зимой 1994 года позвонил издатель петербургского «Пушкинского фонда» Геннадий Федорович Комаров и спросил, нет ли у меня рукописи готовой книги стихов ему на ознакомление. Разумеется, она была, и я вручил ее Комарову уже час спустя (он ночевал в пустующей мастерской напротив нашего дома). Потом Гек (так зовут его друзья-приятели, к которым я с тех пор имею честь и удовольствие принадлежать) издавал меня неоднократно – и стихи, и прозу, и ему моя пожизненная признательность обеспечена, причем не только по издательской части. Он – человек без страха и упрека. А что не делец, так делец бы и не позвонил мне зимним вечером 1994 года. Спасибо.
Потом без отрыва от производства (имеется в виду «Иностранная литература») я сотрудничал с другим хорошим человеком, Александром Кукесом: мы делали поэтическую радиопрограмму «Поколение». Название неплохое, но неточное – через студию прошли выходцы из двух смежных поколений, от Михаила Айзенберга и Алексея Цветкова до Григория Дашевского и Дениса Новикова.
Еще, заодно с Айзенбергом и Рубинштейном, мы вели классы в «Школе современного искусства» при РГГУ. Это было интересно, но непросто. Не знаю как кому, но мне, чтобы изображать непринужденную болтовню в течение часа, приходилось планировать предстоящий разговор всю неделю – вплоть до занятия. Я рассказывал студентам всякие были из собственного прошлого, напополам с ненастойчивыми умозаключениями – настойчивых у меня практически нет. Тогда мои байки еще не были замылены неоднократными интервью и вспоминать было в радость. В числе наших слушателей, чем я немножко горжусь, были нынешние заметные деятели культуры – Маша Гессен, Дмитрий Борисов, Андрей Курилкин и др. Однажды у меня на занятиях выступал Петр Вайль. Мы вышли на улицу Чаянова после занятий, и я пожаловался на студентов: «Почему они скованы, я ведь предлагаю им дилетантский разговор?» – «До дилетантского разговора нужно дорасти», – сказал Петя. Теперь они, видимо, доросли.Двадцать без малого лет жизни мне очень скрасил Петр Вайль. Мы мельком познакомились в Нью-Йорке в 1989 году. Потом я получил от него пространное остроумное и умное письмо и ответил на него. Вскоре мы стали друзьями; виделись от случая к случаю по обе стороны российской границы. Мне было с ним на удивление легко и покойно, как в домашнем халате. Объясню это странное сравнение. Моя сознательная жизнь прошла в большой мере среди оригиналов – ярких дарований со смещенным «центром тяжести». Я привык чувствовать себя уравновешенней, объективней и обыкновенней многих из этих недюжинных людей. Чуть ли даже не старее. И с опаской повторял неоднозначные слова Эйнштейна: «Объяснять мир нужно просто, как только возможно, но не проще». Лирическая червоточина изменила мою биографию существенней, чем меня самого. Правда, десятилетия общения с оригиналами сделали мой кругозор на порядок объемней и приучили, как в кабинете окулиста, примерять на себя «линзы» разных взглядов. Это труд полезный и правильный, но – труд. С Вайлем получалась передышка. Именно тайную и виноватую мою любовь к здравому смыслу, только в явном и торжествующем выражении, я с радостью узнал в Петре Вайле. Если продолжить оптическую метафору – меня подкупало, что мы оба смотрели на вещи сквозь трезвое оконное стекло.
Среди многочисленных человеческих добродетелей Пети Вайля (смелость, широта, бодрость духа) была еще одна, совсем не частая: он, как подросток или женщина, увлекался людьми, которых считал талантливыми, и держал их на особом счету. Видимо, я попал в число этих баловней и получил от его щедрот сполна. Перечень фактических проявлений Петиной дружеской заботы и такта занял бы много места. Когда мы семьями ездили по Италии и его попечениями как сыр в масле катались, я как-то с глазу на глаз, довольно топорно проявляя благодарное понимание, спросил Петю, сильно ли они с Элей потеряли в комфорте, приноравливаясь к нашему с Леной скромному достатку (дешевые гостиницы, сухой паек и т. п.). «Отвяжись», – ответил Петя.
В ту поездку мне очень глянулась проходная и невзрачная по римским меркам Piazza de’ Massimi на задах знаменитой Навоны. Так, в замечательном, по общему мнению, человеке особенно сильно могут подействовать непарадные и непроизвольные приметы его достоинств. Спустя время трогательный Вайль прислал мне фотографию «моей» пьяццы с облупленной колонной не по центру.
Он был человеком чрезвычайной наблюдательности. Ночью мы быстро шли длинным подземным переходом под Пушкинской площадью. На ящике у закрытых дверей метро сидел бородатый молодой человек с книжкой. Три-четыре нищих внимали ему. «Беда пришла в дом: сын – вольный художник», – сказал я, исходя из собственного опыта. «Он не художник, он – проповедник, – поправил меня Петя, – у него в руках Евангелие».
Иногда от его прозорливости становилось не по себе. Мы принимали гостей, человек двенадцать. Я, как мне казалось, весь вечер был хорошим хозяином. Смеялся шуткам и сам шутил, выслушивал серьезные суждения и делился соображениями, помогал жене накрывать на стол. Петя задержался дольше других. «Сказать тебе, чем ты был занят последние часа два?» – спросил он меня вдруг. «Чем же?» – откликнулся я за мытьем посуды. «Ты искал глазами пробочку», – сказал Петя. Вообще-то, да… Пуская пыль в глаза, я к приходу гостей наполнил водкой материнский, еще поповский графин, и, вероятно, мне, аккуратисту, действовало на нервы, что пробку извлекли, а на место не водрузили.
Меня развлекали простота и материализм, временами чрезмерные, с которыми он толковал поведение общих знакомых. Иванов давно ничего не пишет – тестостерон на пределе; Петров с Сидоровым поссорились – не иначе, интрижка и стариковская ревность. Но, когда я сам раз-другой стал жертвой подобного метода, меня «психоанализ» Вайля раздосадовал: с пробкой, не скрою, он попал в «яблочко», но в ситуациях, о которых идет речь, Петя подгонял мои эмоции и поступки под ответ упрощенный или даже ложный, лишь бы из разряда прописных истин. Я заподозрил его здравый смысл в банальности. А тут еще масла в огонь добавило истолкование Вайлем четверостишия Пушкина. Мне самому не верится, но именно эта одна-единственная строфа стала наиболее веской причиной охлаждения двадцатилетней дружбы:Забыв и рощу, и свободу,
Невольный чижик надо мной
Зерно клюет и брызжет воду,
И песнью тешится живой.
Я эти стихи сильно люблю, и когда Петя сказал мне по телефону, что собирается говорить по их поводу на одном литературном сборище, я поинтересовался, что именно. Вайль ответил, что понимает это четверостишие как антиромантическое, утверждающее главенство «воды» и «зерна» – «прозы жизни»; а песни приложатся, хоть бы и в клетке.
Будто будничное перечисление первой строки не подразумевает жизненной драмы и не слышна нота обращенного автором на самого себя насмешливого отчаяния.
Вскоре по электронной почте чуткий Вайль спросил меня, не случилось ли чего. Какое-то время я отмалчивался, а потом взял и по своему графоманскому обыкновению высказался письменно, в очередной раз забыв поговорку про топор, бессильный перед пером. И получил от него сухой и грустный ответ, что спорить он со мной не станет – не потому что я прав, а потому что переубеждать взрослого человека было бы пустой тратой времени. И по-взрослому же заключил письмо ссылкой на наши годы – годы «вычитания», как он выразился, и предложением сберечь остаток былых отношений.
Мы продолжали переписываться, но реже. В последний раз говорили о цветковских переводах Шекспира в «Новом мире». На другой день, на службе в пражском бюро «Свободы» у Пети остановилось сердце, более года он пролежал в коме, седьмого декабря 2009 года умер.
С позапрошлого летая по стечению обстоятельств зачастил в Рим. В первый раз я набрел на Piazza de’ Massimi совершенно случайно; в два других – прихожу сюда, будто на могилу. Все как всегда: хочется виниться – и вообще, и в частности.Здесь же вспомню и о Льве Владимировиче Лосеве, он много значил для меня.
Году в 70-м приятель, далее моего продвинувшийся по стезе порока, дал мне затянуться раз-другой казбечиной с анашой и спросил через несколько минут: «Ну, как?» – «Ничего не чувствую», – отвечал я со стыдом. – «Нормально, это кайф такой», – сказал мой растлитель.
Я уже знаком был с безусловным и сладким, как внезапное освобождение, алкогольным опьянением, поэтому мне не поверилось, что «кайф» может быть таким. А если может, то какой же это «кайф»?!
Вот и стихи: они либо ударяют в голову и становятся, пока ты находишься под их воздействием, полноценной и несомненной явью, либо – нет, и в этом случае получается – прав Толстой, сравнивая поэзию с пляской за плугом.
Стихи Льва Лосева, попавшись мне впервые на глаза давным-давно в парижском журнале «Эхо», сразу подействовали на меня как выпитый залпом стакан водки: я только округлил глаза и выдохнул (кстати, первый раздел его первой книги и называется «Памяти водки»). Роднило огненную воду и эту лирику мигом накатывавшее ощущение легкости и свободы – языковой свободы: так литература дает читателю знать, что автор справился со скованностью и предрассудками литературных общих мест и отныне сам держит ответ за свои слова. И я начал выискивать в оглавлениях изредка попадавших в наш товарищеский круг эмигрантских журналов знакомую фамилию с академически-философским привкусом [10] .
Спустя годы я гостил у Бахыта Кенжеева в Монреале, туда же из Вашингтона приехал и Алексей Цветков. За возлияниями долгожданной встречи мои друзья то и дело открывали книжку Лосева – скорее всего, «Тайного советника» – и со смаком оглашали застолье декламацией, причем слог и смысл читаемого пребывал в коротком родстве с формой и содержанием нашего застольного трепа. Так что сказанное Лосевым о Довлатове применимо и к самому Лосеву – о таланте превращать «в словесность, подлинно изящную, милый словесный сор застольных разговоров, случайных, мимоходом, обменов репликами, квартирных перепалок. Эфемерные конструкции нашей болтовни, языковой воздух, мимолетный пар остроумия – все это не испарилось, не умерло, а стало под его пером литературой».
Кто-то в пьяном воодушевлении сказал, что автор живет по американским меркам поблизости и ему можно позвонить запросто и зазвать в гости. До дела не дошло, но меня с непривычки удивила теснота эмигрантского мира.
Несколькими годами позже, когда я остановился в Нью-Йорке у Петра Вайля, тот, разговаривая по телефону, подошел ко мне и протянул трубку. На мой недоуменный взгляд он шепнул: «Леша Лосев» [11] . Человек я довольно зажатый, поэтому вряд ли сказал что-либо вразумительное – только промычал что-то благодарственное в ответ на приветливую фразу по поводу моей прозы «Трепанация черепа». Помню отзыв собеседника «очень трогательно». Потом я не раз слышал от Льва Лосева слово «трогательно» в оценке искусства.
А году в 1996-1997-м я и сам приехал к Лосевым в Ганновер, поскольку организаторы моего «чеса» по США договорились о выступлении на русском отделении Дартмутского колледжа.
Когда понаслышке интересуешься кем-то и думаешь о нем, реальная встреча производит впечатление чего-то неправдоподобного, даже иллюзорного. Психике, видимо, непросто свыкнуться со всамделишным существованием этого человека после долгого заочного «общения».
«Здравствуйте, вот вы какой», – сказал мне мужчина средних лет и очень обыденного облика, когда я вышел на конечной остановке экспресса Grey Hound. Лосев – и это сразу бросалось в глаза – выглядел как-то очень по-заболоцки непоэтично: добропорядочно одетый, сдержанный, интеллигентный, без артистических замашек – профессор профессором. Впрочем, с таким же успехом его можно было бы счесть врачом, инженером или учителем старой закваски, известным по книгам и интеллигентским преданиям. Поэтому секрет его безусловного обаяния не очень понятен. Он излучал ум, доброжелательность и нравственную определенность. Несмотря на мягкие манеры, чувствовалось, что он умеет в случае надобности поставить на место или отшить. Отзывы его о российской политике и отечественных нравах, включая литературные, были выношенны, точны и брезгливы. Вместе с тем он был приветлив и простодушен, и ему не требовалось съесть с кем-либо пуд соли, чтобы зачислить его в друзья (как меня, например). Он был отходчив и охотно менял мнение в лучшую сторону. Так, он рассказывал, что с опаской и предубеждением относился к Елене Шварц, наслышанный о ее эксцентричном поведении, но после совместной гастроли в Израиль Леша отзывался о ней исключительно приязненно. Простодушие не мешало ему хорошо разбираться в людях. «Очень умный», – аттестовал я одного общего знакомого. «Остроумный», – поправил меня Лосев. «Умный», – повторил я нарочно через минуту-другую. «Остроумный», – упрямо и как бы невзначай откликнулся Лосев. Теперь я согласен, что человека, которому мы мыли кости, действительно отличает нечастое сочетание едкого остроумия и довольно умеренных умственных способностей.
Нина и Леша Лосевы трепетно любили всякую живность, и их гостю приходилось быть начеку, входя в дом или выходя наружу, чтобы не нарушить привычного обихода кошачьей жизни Коламбо. Вот выдержка из письма 2004 года: «Вы не представляете себе, в каком виде я пишу это. Дело в том, что известный Вам кот Коламбо вчера пропал – не вернулся с вечерней прогулки. Мы почти не спали ночь, дожидались, Нина плакала. И вот, более чем сутки спустя, мне позвонили (я рассовал по всей округе листовки в почтовые ящики) люди из соседнего квартала, что у них на чердаке кошка мяучит. Он, гадина, забрел к ним в гараж, когда дверь была открыта, а потом ее закрыли, и он оказался заперт. В поисках выхода он забрался на чердак, весь заставленный старой мебелью, радиолами и чуть ли не граммофонами. Я на брюхе проползал между ножками ломберных столиков, по пути опрокидывая коробки со старинным столовым серебром. Кот вопил, хозяйка умоляла меня быть поосторожней с антиквариатом, хозяин давал идиотские советы. Сейчас мы дома, я шарахнул полстакана, кот рядом мурлычет и дает понять, что не прочь пойти прогуляться».
Как-то мы говорили об N, нашем общем товарище. Я выразил недоумение, что такой в высшей степени наблюдательный человек, знаток и страстный любитель искусства, абсолютно равнодушен к природе во всех ее проявлениях: не знает липу «в лицо», в упор не замечает моего боксера и т. п. «Неужели он не понимает, что вывести такого пса не проще, чем построить Кельнский собор?!» – сказал Лосев.
Вкусы наши нередко не совпадали. Бродский был его пожизненным кумиром; современная литература делилась на Иосифа Бродского и всех остальных. По поводу одной моей заметки о Бродском, которая, кажется, называлась «Гений пустоты», Лосев досадливо сказал: «Далась вам эта пустота». Великим писателем считал он и Солженицына. С безоговорочной любовью и почтением относился к Ахматовой и Пастернаку. Когда я позволил себе некоторые критические суждения в адрес лосевских авторитетов, он искренне огорчился: «Как вы не понимаете – ведь это так хорошо!» Я старался его больше не огорчать: вероятно, у каждого поколения есть святыни, отношение к которым не подлежит пересмотру. И наоборот, он решительно не понимал художественных достоинств Саши Соколова.
Снобизма, этой самолюбивой вкусовой зависимости навыворот, Лосев был лишен начисто. Меня развеселило, что они с Ниной на пару довольно исправно смотрели российские детективные сериалы и поименно – куда лучше меня – знали персонажей и исполнителей.
Малость обшарпанный, но уютный и изнутри совершенно не типовой, в отличие от виденных мной жилищ американского среднего класса, дом Лосевых стоял на отшибе в ряду трех-четырех похожих домов на высоком лесистом холме над Норковым ручьем. Ухоженный стараньями Нины сад, собственно, и заканчивался огромным обрывом к ручью. В первый же приезд я спросил у Леши, как бы здесь в окрестностях погулять. Он объяснил мне, где свернуть к лесу и метров через сто перелезть через изгородь. Я удивился, памятуя, что я – в обихоженной и цивилизованной Новой Англии, но послушно перелез. Нагулявшись вволю, покурив у маленького водопада и бросив в бурун сентиментальный грош, я пошел тем же путем обратно и обнаружил, что в изгороди прямо по курсу пешеходной дорожки была… калитка. Меня позабавил этот неизживаемый отечественный рефлекс незаконного преодоления преград – позабавил он и Лешу.
В общей сложности я был у Лосевых раза четыре, может быть пять, но не вел записей, поэтому воспоминания мои бессвязны и отрывочны. (Кроме того, кое-какие его мнения и истории, что для литератора совершенно естественно, были устной версией его же мемуарных записей и литературных заметок – я узнавал их, читая «Меандр».)
Во всяком случае, после первого приезда у меня появилось право писать ему – мне кажется, переписка нас и сблизила. Изредка – несколько раз в год – я отправлял ему пространные электронные письма с московскими литературными и политическими сплетнями, отчетом о прочитанном, бытовыми новостями, новыми стихами, когда они были, и проч. – письма как письма. Он отвечал, как правило, куда лаконичней, но с неизменной приветливостью, по-моему искренней. Если и присылал свои стихи, то лишь после моих напоминаний. Как-то он сказал мне, что не придает собственным литературным занятиям серьезного значения. Обычно такие вещи говорятся из кокетства, но Лосеву я поверил, хотя и с удивлением.
Правду говорил Лосев или скромничал, но авторское самообладание у него было нечастое для нашего нервического цеха. Петр Вайль рассказывал, что однажды в Нью-Йорке на выступлении Лосева в зале сидело всего четыре человека: Вайль с женой и Генис с женой. Лосев уважительно и невозмутимо отчитал всю программу, после чего повел приятелей в ресторан – обмывать свой «триумф».
Я не стану описывать злосчастный приезд Лосева в Москву – он сам описал его с дневниковой скрупулезностью, и я опасаюсь принять его воспоминания за свои. Добавлю только, что во время сборов в Переделкино на поиски могилы поэта Владимира Лифшица, отца Лосева, я отговорил Лешу обувать привезенные им из-за океана душераздирающие какие-то жюль-верновские «калоши» с чулками-голенищами по колено. И напрасно: мы вывозились с головы до ног в апрельской глине пока битых два часа искали и не нашли на скользких кладбищенских склонах отцовское захоронение. К слову сказать, Леша до старости был любящим сыном, и его, думаю, не могло не расположить ко мне, когда я как-то прочел наизусть несколько строк из «Отступления в Арденнах» В. Лифшица, запавших мне в память смолоду.
Подробнее прочих я помню свое последнее посещение Дартмута – то ли потому, что оно было последним по времени, то ли потому, что прощальный смысл этого приезда обострил мою память.
Как водится, в таких поездках все расписывается с точностью до дня. Леша даже подгадал, чтобы мой приезд пришелся на выходные – пообщаться без спешки. Я тогда объездил несколько университетов, радовался гостеприимству, успеху, беспечности, видам Новой Англии, заработкам и тому, что главная радость – встреча с Лосевым – еще впереди. Накануне условленного дня я на всякий случай позвонил Лосевым из Бостона. Трубку взяла Нина и подчеркнуто громко и внятно сказала, что Леша умирает, было произнесено слово «рак». Я растерялся и спросил, приезжать ли мне вообще, и Нина ответила, чтобы я перезвонил завтра, когда Лосева выпустят на субботу и воскресенье из больницы. Наутро Лосев сказал, чтобы я приезжал, поскольку выступление уже оговорено на кафедре, но постарался сократить время своего пребывания.
Встретил меня на знакомой остановке и отвез к Лосевым Михаил Гронас, Лешин младший коллега и товарищ, поэт. Выглядел Лосев скверно: очень похудел, глаза его были обведены темными кругами, передвигался через силу. Зная, что процедура, которой подвергается Леша, называется диализ, но не представляя себе ее по существу, я спросил Лосева, можно ли его обнять. «Можно», – ответил он. Сели за стол – Нина, Леша, Миша, я. Здесь-то по ходу дела я и сказал ему с деланной бодростью, что он – старшой в нынешней поэзии и хотя бы поэтому просто обязан выздороветь. «Не дождетесь», – усмехнулся Лосев. Вскоре он ушел к себе на второй этаж, а оставшиеся за столом продолжали невеселые возлияния.
Утром следующего дня Лосева повезли на процедуры, а я, разбитый после вчерашнего, впервые не пошел бросать мелочь в водопад, а просидел в саду на краю обрыва вплоть до своего вечернего выступления, прикладываясь к графину с виски, вынесенному по моей просьбе Ниной, и бездумно пялясь вдаль. За ужином вернувшийся Лосев был оживленней, чем накануне, пошучивал, как бывало, и даже попенял анекдотически рассеянному Мише Гронасу, напутавшему что-то с моим гонораром. (Уже в Нью-Йорке за день до отлета в Москву мне-таки сполна перечислили всю сумму, и в этом – весь Лосев.)
Меня познабливало, и я ушел к себе наверх в гостевую комнату, разделся, снял с полки том «Неподцензурной русской частушки», лег и листал, с профессиональным удовлетворением отмечая, что почти все из этого срамного свода мне знакомо. Тихо постучали в дверь. На мой призыв в комнату вошел Леша с глуховатой цитатой на устах: «Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть». Я в ответ кивнул на свое – на сон грядущий – чтение и сел в кровати. Виртуоз черного юмора, Лосев коротко улыбнулся («брат» в одних трусах с томом матерщины на коленях) и попросил меня в случае чего позаботиться о публикации в России его неизданных сочинений. Я отвечал какими-то сообразными моменту благоглупостями, которые он с пониманием прервал и пожелал мне спокойной ночи.
Чем свет я второпях уезжал; почему-то решено было ехать в Нью-Йорк не автобусом, как обычно, а поездом с полустанка White River. Подвозил меня до станции Миша Гронас.
В общих чертах я помню предыдущие проводы, когда провожал меня Леша: павильон автовокзала, ритуальные препирательства у кассы, кому платить за мой билет, заканчивавшиеся неизменно в его (то есть в мою) пользу, приступ прощальной застенчивости, неуклюжее объятье, последний обмен улыбками – он с тротуара, я вполоборота со ступенек автобуса… Всякий раз я прощался с ним будто навсегда, потому что поездка в Америку – дело случая, и никогда нет уверенности, что окажешься в этих краях снова. Теперь, именно из-за абсолютной уверенности, что мы видимся в последний раз, попрощались и вовсе наспех. Каким-то боковым зрением я крепко-накрепко «заснял» две согбенные фигуры на крыльце деревянного дома.
Вскоре из Москвы я написал Лосеву:...
Дорогой Леша,
я вернулся домой. Самое сильное американское впечатление, на этот раз, дистанция White River Junction – Penn-Station на поезде. Такой провинциальной + осенней Америки я еще не видал. Спасибо обстоятельствам.
Деньги тоже получены и отданы до единого цента семейному казначею, Лене. Спасибо Вам.
Теперь о главном, о Вашем здоровье. Издали и по слухам все казалось куда мрачнее. При свидании я бы, скорей всего, ничего не заметил, не знай я загодя о Вашей болезни – так бодро Вы держались. Меня, честно говоря, больше диагнозов огорчило, что у Вас, чего Вы и не скрываете, пропал вкус к жизни.
И я, и мои домашние, и многочисленные Ваши читатели, почитатели и доброжелатели, о существовании которых Вы даже не подозреваете, от всего сердца желаем Вам, чтобы этот вкус Вы снова припомнили. «Клейкие листочки» и прочую гиль.
Я никогда не болел так серьезно, как Вы сейчас; мне покамест не было семидесяти с гаком лет… Это я к тому, что мое благодушие, понятное дело, немного стоит, поскольку не подкреплено личным опытом. Но никаким иным способом у меня, увы, не получается выразить Вам своей любви и поддержки. Извините. Нине – наши поклоны.
Ваш С.
Вот его ответ:
...
Дорогой Сережа,
Ваш приезд был единственным отрадным событием за последние полтора месяца. Не то, чтобы все было мрак и отчаяние, но ничего радостного не происходило, а тут произошло. Вы напрасно трактуете мое состояние как потерю интереса к жизни.
Интереса-то, как сказал бы Юз [12] , до хуя, просто главным и неожиданным для меня самого, modus-ом vivendi, стало спокойное приятие того, что со мной делается.
А я между тем опять в больничке. Поехал в среду утром сделать пустяковую операцию на руке, необходимую для диализа. После операции должен был вернуться домой, но вдруг начал задыхаться. Тут, правда, мелькнула мысль, что хорошо бы потерять сознание, а то и помереть, чем это. Примерно через час меня привели в порядок. Теперь врачи осторожничают, проверяют, не был ли этот приступ инфарктом. Я думаю, что нет. Но даже если и был, фиг с ним. Чувствую я себя нормально. Комната у меня отдельная. Окно во всю стену. За окном великолепная золотая осень. Могу и выйти, посидеть на лавочке, подышать осенним воздухом. Читать тянет русскую прозу. Вчера попробовал раннего Алексея Толстого (очень плохо) и прежде нечитанного Сигизмунда Кржижановского. Тоже не понравилось: изобретательно, философично, но нет нормальной человеческой истории, собственно рассказа, от чего и нудновато. Как только буду дома, а произойдет это, наверное, в среду, пошлю Вам, как условились, все стихи после последней книжки, а потом и черновики мемуарных заметок [13] . После Вашего отъезда меня навестила Ксения, московский адвокат, описанная в моем травелоге 1998 года. Она объяснила мне, как юридически оформить Ваше право распоряжаться моим литературным наследием в России. (Мое литературное наследие!) Это несложно: в общем-то, требуется только заверенное американским нотариусом письмо.
Спасибо Вам! Обнимаю. Нина шлет нежнейший привет.
И Лене наши поклоны.
Леша.
На мое следующее письмо он не ответил, и я взял за обыкновение изредка звонить ему. В один из этих телефонных разговоров речь зашла о «писательском» учебнике русской литературы, в написании которого Лосева и меня пригласили поучаствовать [14] . По поводу героя моего очерка Леша сказал, что вообще-то не любит психоаналитического подхода к искусству, но Бабеля считает прирожденным садистом – и сослался на его ранний рассказ «Детство. У бабушки». Лосев тоже собрался писать. Но, увы, через несколько дней выяснилось, что одобренный редакцией выбор Лосева ею же задним числом и отменен: «лосевский» классик оказался уже «распределенным». Лосева, человека слова, конечно, покоробила такая безответственность. Уладить это обидное недоразумение не удалось.
Вскоре Леша перестал отвечать и на телефонные звонки.
Седьмого мая 2009 года от Михаила Гронаса пришло сообщение: «Lev Vladimirovich umer v 2.15 dnia, tak i ne prishel v soznanie».
Смерть близкого человека повергает нас в состояние какого-то отроческого горя, сильного и незамутненного. Трудно передаваемое ощущение невосполнимой утраты, непременно вины, благодарности, осознание трагической конечности всего, что дорого, к чему привязался, как насовсем…
По мере приближении к настоящему времени годы мелькают и мельтешат, как «версты полосаты», факты отказываются выстраиваться в рост по значимости, а память страдает «дальнозоркостью» и, щурясь, вглядывается в плохую видимость недавних событий. Значит, пора закругляться.
В 2000 году к власти в России пришел отталкивающий человек – старательно вытесненное в подсознание советское привидение, нечто низменно-дворовое из похмельного сна. Он и его помощники принялись умело и прилежно совращать страну на перепутье, будто протягивать стакан водки запойному человеку, нетвердо решившему наконец завязать. Полку совратителей прибывало на глазах за счет «добровольцев оподления», по выражению Лескова. Можно было бы радоваться собственному прозорливому скепсису конца 80-х, но радоваться не получалось (-ется). Избитые строки «Бывали хуже времена, но не было подлей» просятся на язык. Советские вожди, будучи по совместительству жрецами идеологии – верховной истины, делали тем самым хотя бы косолапый реверанс в сторону общества: мол, истина есть истина, кто-то же должен при ней состоять и ее блюсти. Нынешние князьки обходятся без экивоков и властвуют исключительно по праву силы. В то же время интеллигенция загадочным образом предоставлена сама себе: читай что заблагорассудится, езди куда позволяют деньги, зарабатывай сколько и чем хочешь, хоть бы и критикой режима, разве только на отшибе – в Интернете по преимуществу. Оказалось, что такой свободы – свободы понарошку – недостаточно, как недоставало некогда писания исключительно «в стол».
Правда, я заканчиваю эти беглые мемуары в декабре 2011 года после многотысячных московских демонстраций протеста. И, может быть, наше отечество к добру или к худу снова подает признаки жизни.
В последнее десятилетие меня сильно задела расправа над Лебедевым и Ходорковским. И вовсе не потому, что это главный и единственный пример произвола, но уж больно он нагляден и образцово-показателен.
Что еще? Дети выросли и стали ровней и друзьями. Хорошо бы их участь была как минимум не хуже нашей, на диво удачливой для русского XX века. На долю моего поколения не выпало ни войны, ни террора. Мы даже наспех посмотрели мир, на что никак не могли рассчитывать. Можно сказать, мы жили в свое удовольствие, насколько это в принципе осуществимо.
Вплотную к шестидесяти, когда я пишу эти заметки, приходится с удивлением признать, что круг жизни если и не замкнут вполне, то почти очерчен, и на носу старость. Я своих лет пока не чувствую: срываюсь уступать место в транспорте пожилым… сверстникам и с недоумением смотрю на благовоспитанных молодых людей, уступающих место мне. Пожалуй, изменилось ощущение любви – она все чаще приобретает качество жалости.
Зная себя как облупленного, скажу без рисовки, что имел и имею больше, чем заслуживаю. На недавнем застолье семейный патриарх – дядя Юрий Моисеевич, как бы исключая меня из разговора на равных, сказал: «Ну, ты у нас вообще счастливчик». Я сперва пропустил его слова мимо ушей, а после огорчился: ведь если дядюшка прав, я проживаю некий неполноценный вариант жизни – все как у всех, но в щадящем режиме, не в полную силу. По здравом размышлении я решил не искушать судьбу, а попросту благодарить за послабление – знать бы кого или что.
Само собой разумеется, двадцать пятый кадр смерти подмигивает, как и прежде, но это подмигивание ужасает меньше, чем в детстве и юности. С годами я согласился с Чеховым, что «жить вечно было бы так же трудно, как всю жизнь не спать». И все-таки сознание неохотно, непоследовательно и не до конца примеряется к собственному абсолютному исчезновению – секунда в секунду с отключением, так сказать, источника питания. К тому, что все нажитое и, как кажется, вполне оцененное именно тобой – главным специалистом по дворовому тополю в два обхвата, воркованию проточной воды в сваях, стихотворным и музыкальным фразам, красоте и ужасу звездной ночи и проч., – в одно мгновение превратится в никчемный мусор на растопку. На растопку чего, спрашивается?
Сорок лет назад одно мое стихотворение кончалось так:Мне двадцать лет, я прожил треть
От жизни смелой и поспешной,
И мне ясней и безутешней
Видны ее нагие стержни —
Бессмысленность, случайность, смерть…
Что тут скажешь? Срок, сгоряча и наобум отпущенный начинающим лириком самому себе, вроде бы подходит к концу. Минувшие сорок лет оказались не такими уж смелыми и поспешными, хотя истекли довольно внезапно. «Стержни» на месте – никуда не девались. Но мне решительно не хочется заканчивать нынешние записки торжественными словами, потому что я рассчитываю еще пожить.
Александр Скидан
...
Скидан Александр Вадимович (р. 1965, Ленинград). Слушатель Свободного университета (1989–1992). Работал оператором газовой котельной. С 2009 года редактор отдела «Практика» журнала «Новое литературное обозрение». Входит в консультационный совет литературно-критического альманаха « Транслит ». Переводил с английского. Лауреат Тургеневского фестиваля малой прозы (1998), премии « Мост» (2006), премии Андрея Белого (2006).
ГОРАЛИК Саша, смысл этого проекта в том, чтобы поговорить о тебе как о частном лице.
СКИДАН Мы фокусируемся больше на поэзии, на литературе?
ГОРАЛИК На тебе. Но там, где ты считаешь нужным говорить о поэзии и литературе, – мы говорим о поэзии и литературе.
СКИДАН Я уже задавался для себя этим вопросом, пытался вспомнить какие-то важные вещи. Первотолчком была детгизовская повесть Марианны Басиной «На брегах Невы» – о послелицейских годах Пушкина, о дружбе с будущими декабристами, оде «Вольность», ссылке. Она вышла в 1976 году, примерно тогда же мне ее подарили. Меня поразил дух свободы, я стал подражать пушкинским политическим эпиграммам.
ГОРАЛИК Это тебе было сколько лет?
СКИДАН Лет одиннадцать, я ходил тогда в четвертый класс. Так что первые мои опыты – это чистая мимикрия. Я брал эпиграмму Пушкина и «осовременивал» ее. А потом начал сочинять эпиграммы на своих одноклассников. У меня была школьная тетрадь, зеленая, в линейку, про каждого своего приятеля я там что-нибудь писал. Плюс организовал «тайное общество», мы накупили брошюрок Ленина и пытались с их помощью как-то разобраться, потому что ощущение было, что учителя нам врут, прикрываясь его именем. Все это, конечно, быстро распалось, брошюрки нам оказались не по зубам, но фрондерство осталось. Параллельно, конечно, влияла атмосфера, которая в доме возникала, когда приходили гости, – велись какие-то разговоры, рассказывались политические анекдоты, иногда в лицах. Думаю, это тоже как-то запало и продолжает жить. Ну и, конечно, магнитофонные записи: Галич, Высоцкий (я помню, как отец плакал, когда Галич пел: «Мы похоронены где-то под Нарвой»), – это тоже как-то во мне с детства жило. И потом аукнулось.
ГОРАЛИК Как были устроены родители? Каким был круг, в котором ты рос?
СКИДАН Это был круг либеральной интеллигенции. Отец – физик, мать – историк, работала в Институте социально-экономических проблем. Оба окончили Ленинградский университет. И друзья их, в общем, оттуда же, такие же ИТР или гуманитарии, в принципе лояльные к советской власти, но послушивающие Галича, Высоцкого. Не диссиденты, особых антисоветских разговоров не было, разве что антисталинские, потому что оба деда моих были репрессированы. По отцовской линии – Владимир Штольц, инженер, из обрусевших немцев, за ним пришли в первые дни войны в Ростове-на-Дону, а бабушку с пятилетним сыном (моим отцом) отправили на Алтай, в Шипуново, дав на сборы двадцать четыре часа. После войны она получила справку, что он умер на этапе от болезни, но там была какая-то путаница с датами, и по этой путанице она все поняла. Доискиваться правды она боялась, потому что переправила метрику отцу, вышла замуж и сменила фамилию – чтобы выбраться из Шипуново, где ее третировали как «немку». А по маминой линии – Александр Маркузе, преподавал истмат в Военно-педагогическом институте им. Калинина (бывшей Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, где учился Лермонтов) был довольно известной личностью в Ленинграде. Он младогегельянцами занимался, какие-то книжки у него выходили. Судя по всему, позволял себе вольности. Арестовали его в 1952-м, на излете «ленинградского дела». И вот эти разговоры полушепотом, полунамеки меня, видимо, как-то тоже подспудно формировали… Ну а после эпиграмм меня повело в сторону каких-то баллад квазиромантических. Меня Лермонтов тогда увлекал. Лермонтова чуть ли не всего я довольно рано прочел, в классе пятом, а Пушкин скорее был такой мифологической фигурой, по-настоящему его поэзию я открыл очень поздно, уже после школы. Да, еще до школы, до книги Басиной, помню, мы играли с отцом в детский бильярд, и вдруг он достает с книжной полки синий том и читает мне вслух «По синим волнам океана…». Зачем, с чего вдруг он это сделал? Что я мог тогда понять в этом стихотворении? Но сейчас я воспринимаю это как своего рода посвящение. А сам он писал а-ля Козьма Прутков остроумные пародии к дням рождения, иногда что-то хулиганское. Так что какие-то такие штрихи были уже с раннего детства заложены.
ГОРАЛИК Каким был в те годы ты сам?
СКИДАН Я очень любил хоккей, мы с отцом смотрели по телевизору трансляции чемпионата мира, я мечтал о том, чтобы стать Третьяком, и дома у себя разыгрывал что-то такое с помощью пластмассовых клюшек и шайбы. Воротами был стол в большой комнате – мы жили тогда в двухкомнатной квартире на Марата, 55. Там еще паркет старый вываливался, из него гвозди торчали, и я частенько раздирал себе коленки. Вообще спорт был для меня довольно долго важен.
ГОРАЛИК Ты занимался каким-то спортом всерьез?
СКИДАН Особо ничем не занимался, но неплохо играл в настольный теннис – сам выучился в пионерском лагере, там у нас соревнования были, – в хоккей, в футбол. В футбол тоже с раннего детства – отец водил меня в садик тюзовский, бывший Семеновский плац, где петрашевцам царь-батюшка устроил театрализованную смертную казнь. Набиралась какая-то компания, мы разделялись на команды и играли все вместе – дети, взрослые. И уже потом, когда я в школу пошел и стал ездить на лето к бабушке в Псков… а там же все совершенно другое, там дворы открытые, не колодцы, и двор на двор бились – ив футбол, и на кулачках… И там какая-то сила физическая и спортивность требовались. Тогда в Пскове еще много было деревянных домов, при них сады, залезть в чужой сад и наворовать груш и яблок, получить пиздюлей или с соседней улицы с пацанами схлестнуться – в общем, все это было. И благодаря футболу я очень легко и быстро адаптировался к этой немного диковатой жизни. Особо книжным я не был. Книжным я стал сильно позднее. В школе я был тоже одним из заводил в смысле футбола, на переменах мы бегали гонять мяч на школьную площадку, и я как-то всегда был в первых рядах. Тогда я совершенно не думал ни о какой литературной стезе. Скорее эти эпиграммы на одноклассников были фоном общения, быта. Отчасти это сохранилось, года до 90-го я любил поостроумничать в стихах, но потом решил, что это слишком легко.
ГОРАЛИК А хотел быть хоккеистом?
СКИДАН Да, одно время мечтал быть Третьяком. Хотя, признаться, я уже смутно помню, кем хотел тогда быть. Когда в четвертом классе я маме впервые показал свои экзерсисы, что-то про пиратов, причем гекзаметром, она спросила: «А кем ты хочешь быть?» Я сказал: «Хочу быть как Александр Македонский» (мы как раз проходили Древнюю Грецию). А она мне говорит: «А как Александр Блок не хочешь?» Собрание сочинений Блока стояло на самой верхней полке, я не мог его достать. Но после этого разговора полез за ним. К годам пятнадцати я перечитал всего Блока, Есенина, Лермонтова, Маяковского… и Аполлинера, его томик из серии «Литературные памятники» тоже имелся в родительской библиотеке. Блок стал моим любимым на долгое время. А вот Пушкин был мне не по зубам, я открыл его уже после школы, даже после армии. В нем есть удивительная мудрость, какое-то невероятное знание, но они открываются только с опытом. Мне этого опыта, видимо, не хватало. Ну и, может быть, в школе отвратили, затюкали.
ГОРАЛИК Иногда мне кажется, что Пушкин был всегда настолько внутренне взрослым человеком, что мог позволить себе детские выходки до самой смерти.
СКИДАН В шестнадцать, кажется, лет он написал совершенно потрясающее стихотворение, которое заканчивается так:
Смертный миг наш будет светел,
И подруги шалунов
Соберут их легкий пепел
В урны праздные пиров.
Поразительно это соскальзывание из «наш» и «их», как будто камера вдруг взмывает. Когда в шестнадцать лет человек такое пишет… Ну, в общем, Пушкин пришел ко мне намного позднее.
ГОРАЛИК Можем вернуться к разговору про школу?
СКИДАН В школе лет до четырнадцати-пятнадцати у меня вообще каких-то гуманитарных мечт даже и не было особенно.
ГОРАЛИК Но ты наверняка был способным ребенком. Тебя родители не пытались склонить к какой-нибудь гуманитарной активности?
СКИДАН У родителей вообще-то была философия особо не склонять меня ни к какой активности. Только в пятом классе я стал ходить во Дворец пионеров в кружок фотографии – два моих школьных приятеля туда уже ходили и меня уговорили ходить, за компанию. У нас там был потрясающий преподаватель, жаль, не помню, как его звали.
ГОРАЛИК Ты визуал?
СКИДАН Наверное, да. Потом, когда этого человека уволили, я бросил ходить, но успел получить даже какую-то грамоту. Он был интересный дядечка, рассказывал много всякого, не только про технические вещи. И это общение оставило во мне след, какое-то бескорыстие, бескорыстное любопытство к искусству. Это был значимый эпизод в моей жизни, который оборвался очень рано. И только через года три-четыре я снова столкнулся с искусством, уже в пионерском лагере. Нет, вру. До этого, лет в тринадцать, родители забрали меня из школы и повели на «Зеркало» Тарковского. Я ничего не понял, но это было очень странное и сильное переживание, оно пробило во мне какую-то дыру, я и сейчас часто возвращаюсь к этому фильму, для меня он в некотором смысле благая весть… Так вот, в лагере «Северная Зорька», под Рощино (где могила Эдит Седергран) работал Александр Алексеевич Маслов, Сан Сеич все его звали, он театр пантомимы с юными пионерами делал. А я уже немножко тогда хулиганил, с другом – Петей Смирновым из параллельного класса, мы из года в год оказывались в этом лагере, попадали в один отряд – играли на гитарах, пели полублатные песни и какой-то доморощенный рок – «Машину времени», «Воскресение»… Это был конец 70-х. А Сан Сеич был убежденный коммунист, но при этом довольно открытых взглядов. В свое время он влюбился в Марселя Марсо, когда тот гастролировал в СССР, стал самостоятельно заниматься пантомимой. И каждое лето с пионерами организовывал театр. И однажды он нас с другом застукал – увидел, что мы играем в карты, бренчим на гитарах, и решил нас, видимо, перевоспитать. Сначала отобрал карты и устроил разнос, а потом спустя несколько дней подошел и сказал: «Ну что вы маетесь дурью? Мне нужны зонги для спектакля про Януша Корчака, напишите мне музыку». И вот это была роковая встреча для меня. Как загипнотизированные, мы согласились, и вместо того чтобы играть в карты, стали сочинять музыку на тексты про Варшавское гетто. И – все, с концами. Это как шарф Айседоры Дункан накрутился на колесо. Потом, уже в Ленинграде, у нас была встреча с его женой, Верой Юрьевной, и она предложила нам ходить в городскую театральную студию. У меня возникло тогда ощущение, что о театре я мечтал всю жизнь, что это судьба. Все вдруг встало на свои места. В этом театре я прожил больше семи лет, это была огромная любовь и огромный опыт. Ушел из него в 88-м году. Позднее я уже не только выступал с пантомимическими номерами и играл в спектаклях, но и пробовал писать сценарии, например мы делали композицию по стихам Вознесенского, и я принимал участие в подборе и монтаже текстов. Это уже где-то начало 80-х. Театр отнимал колоссально много времени, я практически забросил учебу в школе, потому что чуть ли не каждый вечер – репетиции, занятия сценическим движением и речью, а по воскресеньям – спектакль. Декорации и костюмы мы делали сами. И сами продавали билеты, выходили со столиком к метро «Пролетарская» или «Ломоносовская», часа на два-три, посменно. И когда я оканчивал школу, у меня была только одна мысль – поступить в театральный. Я дошел до третьего тура – и пролетел. Отчасти по своей дурости – почему-то решил, что на каждом туре нужно читать что-то новое. На первом я читал «Хобби света» Вознесенского, на втором – «Четвертый Интернационал» Маяковского, и так хорошо он у меня шел, я даже на каких-то межрайонных конкурсах получал дипломы как чтец. С Маяковским я бы, может быть, и прошел, но почему-то решил, что, раз я читал его вчера, в этот раз надо читать что-то другое. И я прочитал Блока, что-то монотонное и короткое. В общем, не поступил… А других мыслей, кроме как посвятить себя театру, у меня не было. Тогда я устроился в Театр оперетты разнорабочим и был готов безропотно уйти в армию. Правда, сначала сделал еще одну попытку. Одна наша студийка, Женя Подвальная, работала в заводской малотиражке, и она уговорила меня поступать на факультет журналистики ради отсрочки от армии. Для этого нужен был какой-то стаж, и я месяц что-то делал с ее подачи в этой малотиражной газете, ездил каждое утро ни свет, ни заря на завод «Звезда»… Да, надо сказать, наш театр-студия располагался на Троицком поле, у станции метро «Обухово», это пролетарский район, сплошные заводы, бетонные заборы и пустыри. И студия помещалась в одном здании с клубом для трудновоспитуемых подростков. Мы на втором этаже, они на первом. Причем Сан Сеич пытался и их тоже приобщить к театру, и некоторых ему даже удалось к нам перетащить. Он умел обращать в свою веру.
ГОРАЛИК Он был идеалистом?
СКИДАН Отчасти да, и театр он строил на работе с детьми. У нас было много детских спектаклей, вполне качественных, с живой музыкой, с роскошными костюмами, но на серьезные постановки зачастую не хватало элементарного мастерства, да и просто времени – дети-то взрослели и, окончив школу, уходили кто учиться, кто работать. Оставались немногие. Отчасти эта текучка и непрофессионализм и стали причиной того, что в 88-м году я ушел… В общем, Женя Подвальная (она сейчас работает в газете «Час пик») сказала мне: «Саша, у тебя есть дар, – а я уже писал тогда песни для спектаклей. – Тебе надо поступать на журналистику…»
ГОРАЛИК А к этому моменту ничего другого не писал?
СКИДАН Нет, я пописывал стишки, но театр был главнее. И я сделал попытку, но за сочинение мне сразу же вкатили двойку – не понравился им мой «образ Базарова». И я тупо пошел в армию. Это был 84-й год… Отец, конечно, настаивал, чтобы я к нему в Кораблестроительный институт пошел, обещал помочь с поступлением. Я отказался, потому что в физике ни ухом ни рылом, а по блату поступать не хотел. Он обиделся, мы страшно поругались. Но я был очень тогда уже самостоятельный мальчик. Со мной к тому времени уже произошла любовная история. Я был влюблен в девочку из класса, она жила между Минском и Ленинградом, потому что ее мать была из Минска, и она училась в нашей школе с пятого по восьмой, а потом вернулась и стала доучиваться там. Я ужасно страдал, когда она уехала, а через год мы случайно встретились в очереди на выставку Пикассо в Эрмитаже. Она приехала на каникулы с подругой. И представляешь, я признался ей в любви стихами – прочитал наизусть «Облако в штанах». Через несколько дней она уехала. А буквально через два дня я прихожу из школы домой, мне открывает отец и сообщает, что заходила какая-то девушка, оставила для меня записку. В записке два слова: «Я приехала». Тем же вечером мы с ней укатили в Ригу, у нее там были друзья. Родителям я ничего не сказал, позвонил из Риги только через два дня. С матерью случился удар, она слегла, но от школы меня все-таки отмазала – я же прогулял чуть ли не целую неделю. А в мае полетел к ней в Минск, билет стоил, кажется, двадцать семь рублей, мне бабушка одолжила… Так что сейчас я сам толком не понимаю, как я решился идти в армию, потому что, во-первых, оставлял девушку, а во-вторых – театр. Да и вообще, могли в Афганистан забрить, этого тогда боялись больше всего. Но перед глазами у меня был пример: два моих приятеля, богемные персонажи, завсегдатаи «Сайгона», косили от армии – симулировали психическое расстройство. И это им вышло боком, их потом периодически клали в дурку, подсадили на таблетки… Такая перспектива меня пугала больше, чем армия. И еще во мне поселилась тогда – после этой встречи в очереди на Пикассо – что-то вроде печоринского фатализма, amor fati. .. Отправили меня во Владивосток, на Тихоокеанский флот. В Пулково посадили на травку возле взлетной полосы и разрешили поесть, некоторые умудрились тут же назюзюкаться в хлам. Над головами взлетали самолеты. Это был наш «завтрак на траве». Вообще-то я должен был служить три года, но отслужил год – в учебке меня укусил энцефалитный клещ, и меня комиссовали. Но не сразу. Сначала в медчасти, куда я еле доплелся с температурой под сорок, поставили неправильный диагноз – бронхит, сказали: «Сходи за зубной щеткой, полотенцем и возвращайся». А идти надо через сопки. И пока я шкандыбался на негнущихся ногах туда и обратно, думал, сейчас сверзнусь к ебеной матери. В общем, как-то дошел, слег, ночью у меня начался бред, рвота, я уже бился в конвульсиях. Вызвали «скорую» из госпиталя на Второй речке, это меня спасло. После трех суток без сознания я открываю глаза, не понимая, где я, только дверь в бокс приоткрыта, и напротив, в ленинской комнате, в телевизоре Миронов поет: «Соломенная шляпка, золотая с головки вашей ветреной слетая…» Мне полагался отпуск три месяца, я вернулся в Ленинград, бритый, слегка охуевший. Но успел даже в театре поиграть, мы возобновили композицию по Вознесенскому, это было что-то – у меня текст застревал в горле, руки не слушались. После чего как пай-мальчик сел на самолет и вернулся в часть. Ну, там уже я снова пошел в медсанчасть и, наученный, потребовал, чтобы меня положили «на комиссию». В результате я провел еще полтора месяца в госпитале, на этот раз во Владивостоке, там мне запустили кислород в спинной мозг, сделали энцефалограмму и признали негодным. Кстати, в госпитале была прекрасная библиотека, я прочитал там Борхеса, «Выигрыши» Кортасара, Роберта Лоуэлла в «Иностранке» – цикл «День за днем» в переводах Андрея Сергеева. Это были свободные стихи с очень своеобразным ритмом, непохожие ни на что, что я читал прежде (у Аполлинера я все свободные стихи пропускал, воспринимал только рифмованные). Делать в госпитале было особенно нечего, и я в день по книге проглатывал. «Анну Каренину», чуть ли не всего Достоевского… В учебке ведь самое тяжкое даже не насилие, не режим постоянного недосыпа и муштры, доводящий до полуобморочного состояния, а отсутствие уединения. Полное. Я от этого больше всего страдал. После первых трех месяцев – самых тяжелых, – когда уже стали разрешать в ленинскую комнату заходить (это что-то среднее между читальней и комнатой отдыха), я там стал «Вестники КПСС» читать, чтобы хотя бы буквы не забыть. Другой литературы там не было.
ГОРАЛИК Чему вас там учили?
СКИДАН Радиолокации на подлодках и кораблях. Изучали радиоаппаратуру. В принципе, более или менее щадящая вещь, все-таки какая-то техника, какие-то знания, не просто ать-два. Ну, ать-два тоже было, но не только. И когда стали выдаваться секундочки уединения, я пытался сочинять стихи, это было какое-то спасение. И вот там, в армии, я, может, и понял, что стихи – это самое главное. Мне было восемнадцать. Помню, перед самым дембелем был забавный эпизод: замполит входит в ленинскую комнату, видит, что я что-то пишу. «Можно посмотреть?» Это было что-то пастернаковское, про природу, там были строчки про деревья, которые «внимают грядущим переменам, дыханье затаив». Ну, имелась в виду смена сезонов, что-то невинное. Март как раз был. Он говорит: «О каких переменах идет речь?» Забирает мой листочек и приглашает к себе в кабинет. Пришли в кабинет. Он поинтересовался, кто мой любимый поэт. «Маяковский, – говорю. – Вознесенский». – «А Евтушенко вам не нравится?» Стали Евтушенко обсуждать. Он говорит: «Мне очень нравится „Бабий Яр“»… Ну и все в таком духе. А через несколько дней умер Черненко. В общем, в армии я понял, что поэзия – это мое. Перед поездом зашел в книжный магазин и купил кирпич «Западноевропейская поэзия XX века», там была сандраровская «Поэма о транссибирском экспрессе и маленькой Жанне французской», Тракль, Оден, Элиот… Я практически не слезал с верхней полки все семь дней пути. Это был шок.
ГОРАЛИК Как с театром?
СКИДАН По-другому. Театр – это ощущение праздника, эйфории, своей среды. А здесь было что-то другое, более сокровенное. Вернувшись, я устроился в котельную, чтобы сутки через трое работать и все свободное время отдавать театру. Кроме того, в котельной, если приноровиться, можно легко своими делами заниматься – читать, писать. Это был 85-й год, как раз Горбачев пришел. Никаких мыслей о том, чтобы печататься, у меня не было. Хотя знакомые поэты уже были, одно время я работал в одной котельной с Димой Григорьевым, он мне про «Клуб-81» рассказал, какие-то машинописные сборники приносил, свои стихи показывал. Театр отнимал кучу времени и сил, и в какой-то момент я понял, что больше не могу разрываться между поэзией и театром. Детские спектакли стали тяготить, а взрослые репетировались через пень-колоду плюс идеологические разногласия с режиссером, обострившиеся с началом перестройки. Я тогда очень политизировался, хотелось чего-то более радикального. И в 88-м году я ушел из театра. Ткнулся в одно лито, в другое, но особо нигде не прижился. После Лоуэлла и «Бесплодной земли» Элиота в переводах Сергеева я увлекся свободным стихом, а в лито это совсем не приветствовалось. Тогда я уже разочаровался и в Вознесенском, и в Пастернаке, ориентировался больше на переводную поэзию, кино и авангардный джаз. В Ленинграде тогда проводился ежегодный фестиваль «Осенние ритмы», трио Ганелина приезжало, Чекасин устраивал перформансы в духе будущей «Поп-механики»… И в итоге меня занесло в лито свободного стиха при Доме писателей, его вел Эрих Шмитке, он потом уехал в Германию. И этот Шмитке рекомендовал меня на Конференцию молодых писателей Северо-Запада. Семинар, в котором участвовали Дмитрий Голынко и Всеволод Зельченко (помимо прочих), возглавлял Виктор Топоров. Мои стихи он забраковал («это не по-русски и вообще не поэзия»), зато посоветовал заниматься критикой, предложил написать обзор молодой поэзии для спецномера журнала «Звезда». Номер не вышел, но обзор я написал, он назывался «Сеть Индры» и начинался с цитаты из Ролана Барта – тогда как раз вышел сборник его работ по семиологии. На конференции познакомился с компанией поэтов немного старше меня – Арсеном Мирзаевым, Русланом Мироновым, Мишей Блазером, и они затащили меня и Голынко в Свободный университет, где Борис Останин возглавлял кафедру поэзии. Это был 89-й год. Другие кафедры курировали Тимур Новиков (искусство), Борис Юхананов (кино), Ольга Хрусталева (критика), братья Горошевские (театр). И вот с этого момента, с 89-го года, я отсчитываю свое профессиональное существование, потому что Останин нам очень резко вправил мозги. Он приносил на занятия самиздатские журналы, читал нам Айги, Парщикова, Ольгу Седакову… Приглашал с лекциями и чтениями Драгомощенко, Горнона, Васю Кондратьева, Сережу Тимофеева из Риги. Ну, тогда у меня просто крыша поехала, целый пласт культуры открылся, о которой я вообще ничего не знал. Это была по-настоящему современная поэзия, причем на русском, а не переводная. Но самое главное – Останин с нами занимался не просто чтением стихов, а их углубленным прочтением, close reading. Мы, конечно, как все начинающие, ждали от него каких-то советов, критики по поводу наших собственных текстов. Он неуклонно этого избегал. Зато приносил стихи Жданова, Кривулина, Елены Шварц и подробно их анализировал. Причем параллельно мы обсуждали герменевтику, психоанализ, семиотику, теории Юнга, Башляра, Деррида… то есть он предлагал нам еще и концептуальный инструментарий. Занятия проходили раз в неделю в Центральном лектории на Литейном проспекте, потом мы перебрались в Дом писателей, потому что в 90-х лекторий стал требовать от нас арендную плату, начинался капитализм, а потом Дом писателей сгорел, и мы какое-то время продолжали встречаться на квартире у Миши Гамберга в доме Лидваля, на Рубинштейна. Там, кстати, Анатолий Барзах прочитал доклад «Ощущение тяжести…» о Мандельштаме, который произвел на меня сильнейшее впечатление. Это было чудесное время, время очень мощного профессионального роста. Собственно, примерно тогда же, на рубеже 80-90-х, я начал печататься и в самиздате («Сумерки», «Митин журнал»), и в новых изданиях («Сеанс», «Вестник новой литературы»). При этом продолжал работать в котельной и очень уютно себя там чувствовал. Ну, конечно, в 92-м году грянула нищета, я стал переводами и заказными статьями подрабатывать для каких-то нарождавшихся глянцевых журналов. Очень важно, что благодаря Останину и Свободному университету я подружился с Васей Кондратьевым и Аркадием Драгомощенко. Оба на меня очень сильно повлияли – и по-человечески, и в общекультурном смысле. Аркадий тогда был полон всевозможных проектов и идей, много где выступал, вел философский семинар в СПбГУ, участвовал в рождении галереи «Борей», которая моментально стала центром притяжения всех творческих сил Петербурга, не только художников. Я был им совершенно зачарован. Вообще самое начало 90-х было временем невероятного взрыва, неофициальная культура вышла из подполья, новые инициативы возникали как грибы после дождя, все казалось возможным. Следующая важная веха, о которой надо сказать, – это русско-французский поэтический фестиваль «10×10» в 93-м году. Первая его часть прошла в Петербурге, а вторая, в следующем году, – в Марселе. Это была моя первая заграница. До Марселя, правда, я еще побывал в Финляндии – с Курехиным, Шинкаревым, Кривулиным, Мишей Бергом. Но Финляндия, понятное дело, это не Марсель, а та же Карелия, только чище. Я настолько был оглушен Средиземноморьем, а потом Провансом и французскими Альпами, что как-то даже толком не прочувствовал Париж, хотя прожил там несколько дней. А осенью того же года попал в Америку по писательской программе International Writing Program в университете Айовы, отчасти тоже благодаря Аркадию и поездке в Финляндию. Там с нами был музыкальный критик Александр Кан, приятель Аркадия еще по «Клубу-81», на тот момент он подвизался культурным советником при Американском центре в Петербурге. И он услышал мои стихи в Финляндии и рекомендовал на эту программу. Это было чистое стечение обстоятельств, мне откровенно повезло, потому что через год-полтора Кан уже перебрался в Лондон на ВВС. Эта трехмесячная поездка (помимо Айовы я жил в Нью-Йорке и Сан-Франциско) сыграла огромную роль – я начал читать и переводить современную американскую поэзию. В Айову приезжали выступать Роберт Крили, Пол Остер, будущий нобелиат Кутзее, который читал отрывки из романа о Достоевском, выступала с лекциями о Гертруде Стайн, Витгенштейне и футуризме Мэрджори Перлофф… Какие-то знакомства образовались, интернациональные контакты. Открылся совершенно иной, параллельный мир, существующий на других скоростях. В какой-то момент английский стал менять мою психосоматику, структуры восприятия. Это как веселящий газ, чувство легкости невероятной, потому что перестает давить толща культурной памяти. Я вернулся как будто в страну мертвых, очень долго отходил. Несколько месяцев. Позднее, в конце 90-х, сразу после гибели Васи Кондратьева, у меня возник роман с одной чудесной американкой, я почти уже был готов остаться в Нью-Йорке, но что-то удержало. А искушение было страшное.
ГОРАЛИК Что удержало?
СКИДАН Ох, разное. Во-первых, тот же язык: я понимал, что мне надо будет переходить на английский, то есть начинать все сначала. По-другому я не мыслил, быть русским литератором в Америке казалось мне анахронизмом. А это минимум несколько лет, в течение которых надо же на что-то существовать. На что? Зависеть от девушки – морально, экономически, – использовать ее, а потом, не дай бог, расстаться? Как-то гнусно. Если бы меня пригласил какой-нибудь университет, я бы, может, и решился. Во-вторых, Петербург, я все-таки очень привязан к Петербургу, да и к родителем, тогда еще бабушка была жива… И, может быть, меня еще Виктор Лапицкий удержал. Он знал эту американскую девушку и хорошо знал Нью-Йорк, он видел, как меня колбасит, и не прямо, а как-то за фляжкой виски в подворотне пробросом мне что-то такое дал понять про себя. Но соблазн начать новую жизнь был очень сильный. Причем не однажды. Сейчас, думаю, я уже как-то с этим справился.
ГОРАЛИК Что произошло дальше – психологически?
СКИДАН Потом была короткая история с журналом «Красный», которая заставила меня уйти из котельной. Делал журнал Миша Борисов, классный фотограф, он до этого сделал журнал «Петербург на Невском», первый в Петербурге глянец на скрепке, я для него года с 98-го писал про книжные новинки. И когда возникла затея с «Красным», я подумал: Миша сделал «Петербург на Невском» с нуля, почему бы ему не сделать и нормальный культурный журнал? Я как-то поверил, зарплату хорошую предложили, сулили вообще золотые горы, личный компьютер, чуть ли не свой кабинет. Я вел там книжную рубрику, но иногда писал и про выставки, и про окололитературный бомонд. Из интервью, которые я брал для «Красного», составилась бы неплохая книжечка: Шнур, Горчев, Секацкий, Спирихин, Уэлш, Чечот, Деготь, Осмоловский… Поначалу денег было немерено. Потом одному из пайщиков журнал разонравился, он решил забрать свою долю, и с этого момента начались неурядицы. Просуществовал журнал три года, с 2002-го по 2005-й. Между культурой и гламуром трудно усидеть. Получалось ни то ни се, но в этом была своя прелесть, такой высоколобый глянец для бедных. Многие жалеют, что журнал больше не выходит. Год уже как не выходит. Однажды Александр Сигле, продюсер Сокурова, собрал нас, сказал: «Ребята, я столько вложил в журнал, на эти деньги я бы мог уже остров себе купить в Средиземном море»… С тех пор я безработный. В котельную возвращаться тяжело чисто психологически. Зарабатываю переводами. Недавно закончил новую биографию Эйзенштейна для Европейского университета. А сейчас перевожу «Хронологию» Даниэля Бирнбаума для «НЛО», о современном видеоискусстве. Не ах какие деньги, но жить можно.
ГОРАЛИК А в «глянец» пойти?
СКИДАН Да, но тогда придется уже не про книжки писать, а про что-то другое. Пока не приперло, я лучше буду умные книжки переводить, все-таки попристойнее, да и пользы больше. Штука в том, что в «Красном» у меня возник синдром нечистой совести. В котельной, где я общался с пролетариатом и сам себя пролетариатом ощущал, у меня не было проблемы с самоидентификацией. В смысле душевного покоя все было очень понятно и просто. А в «Красном», на волне некоторой сытости и общения с буржуазной средой, эти проблемы возникли. Отсюда, собственно, и мое полевение, довольно резкое, – от противного. Поэтому и книжку свою я назвал «Красное смещение» – одно из значений, наименее очевидное, это как раз отсылка к журналу, к тому новому опыту, который связан для меня с работой в «Красном». Там я осознал себя наемным работником нематериального труда, одновременно привилегированным и бесправным. Для меня это был важный период, я многому научился, но возвращаться к журналистике не хотел бы. Набиваешь руку, а потом сам же себя начинаешь за это ненавидеть. Так что, хотя хлеб переводчика – это тяжелый хлеб, я чувствую себя сейчас душевно более здоровым и мобилизованным. Тут ведь в чем еще крючок: все эти фуршетики, презентации, вернисажи, закрытые показы… это развращает. Живешь прикормленным, как будто в красивом аквариуме, за стеклом, а грубая реальность – с бездомными, с убийствами мигрантов – где-то там, по другую сторону. Не знаю, как долго это продлится, чем я буду заниматься в дальнейшем, но журналистика мне не показалась оптимальным для меня вариантом.
ГОРАЛИК Похоже на твою историю с театром.
СКИДАН Театральный опыт по-своему тоже меня развратил, но в хорошем смысле. Я знаю всю эту механику изнутри, и меня коробит любая лажа, а ее столько в театре, даже в хорошем, ну или в театре, который считается хорошим. Театр Додина, например… Недавно водил своих иностранных друзей на «Чайку». Я люблю Чехова, а пьесы его просто обожаю и часто перечитываю, это как тренинг такой умный, настраиваешь слух. И знаешь, додинская «Чайка» мне показалась чудовищной, актеры лупят текст тупо в зал, как какую-то агитку, а зал крохотный, все как на ладони – зачем орать? Зачем наворочены аттракционы, бесконечно льется вода, в лото играют на велосипедах? Актеры-то пустые, ансамбля нет, только двое или трое по-настоящему тянут. А пустого актера никакими режиссерскими выкрутасами не прикрыть. Из противоположных впечатлений – гастроли японского театра «Буто» в Балтийском доме. Это, конечно, волшебство, мощь: актер стоит на голой сцене спиной к зрителям и ничего не делает, только мышцы спины у него чуть-чуть ходят, – и вокруг начинает материализоваться пространство. Потрясающе. Еще один неплохой спектакль привозил шотландский театр: «Отелло» с пастернаковским переводом бегущей строкой на электронном табло. Впервые, честно признаться, я слушал по-английски Шекспира, и это, конечно, относительно даже более или менее хороших переводов Пастернака или Лозинского – небо и земля. Они его как танец поставили, стремительный, легкий, без декораций, переходящий в резню. В финале Отелло вздергивал Дездемону как мешок картошки над собой, она билась в судорогах, обмякала, и только после этого он бросал ее на подушки. Я во втором ряду сидел и чуть не подпрыгнул на стуле – настолько это было натуралистично, на диком контрасте со всем предыдущим действием… Я очень предвзятый зритель. Театр – сложнейшее искусство. Помимо того что это соединение техники и психики, все решает коллективный дух, чувство ансамбля. Я прихожу и моментально чувствую, есть атмосфера или нет. Очень люблю современный танец. Я видел Пину Бауш в Бруклинской академии, видел, как она танцевала одними кистями рук – возраст ей уже не позволял особо двигаться, – колоссально. А вот с драматическим театром… Правда, благодаря додинскому Чехову я понял одну вещь, на которую раньше как-то не обращал внимания: насколько важную роль в его пьесах играют деньги. У Додина это педалированно и для меня прозвучало как-то свежо… Иногда я с ностальгией вспоминаю о своем студийном прошлом, даже подумываю, не ввязаться ли во что-то этакое еще раз. Самой серьезной моей ролью был Говоруха-Отрок в «Сорок первом», белогвардеец. Еще я играл кабатчика в коллаже по горьковским рассказам «Страсти-мордасти». Про мальчика, у которого отнялись ноги, у него мать гулящая, с изуродованным сифилисом лицом. И она каждый вечер шляется, напивается в кабаке, а он ее ждет. И однажды ее подымает пьяную, побитую и приводит в дом один человек и, вместо того чтобы воспользоваться, укладывает ее спать и начинает с двенадцатилетним безногим мальчиком разговаривать. Между ними возникает дружба. Он приходит к ним еще раз, приносит подарки, устраивает праздник. А когда собирается уходить, женщина пытается его удержать: «Останьтесь. Я рожу-то платком прикрою… Хочется мне за сына поблагодарить вас… Я закроюсь, а?» Не знаю, как наш режиссер решился с подростками такой спектакль ставить. По тем временам это было смело, тем более что действие происходило в разных пространствах, зрители переходили вместе с актерами из одного помещения в другое…
ГОРАЛИК А что с фотографией?
СКИДАН Мне подарили тут на день рождения фотоаппарат цифровой – дешевый, но у него много всяких опций. Он даже кино может снимать. И я как-то снова увлекся этим процессом. Вообще визуальная культура сильно на меня повлияла и продолжает влиять. В Ленинграде был кинотеатр «Спартак», там практически всю классику мировую можно было посмотреть – Рене, Антониони, Пазолини, Годара, Орсона Уэллса… Но главным оставался Тарковский. Его отъезд я воспринял как личную трагедию, тогда на какое-то время его фильмы исчезали из проката. А когда я по ВВС услышал, что он умер, то выскочил во двор и углем написал на стене: «Сегодня умер великий кинорежиссер Андрей Тарковский». Он умер в ночь на мой день рождения, двадцать девятого декабря. Совпадение, конечно, но все равно я воспринял его смерть как что-то очень личное. Так что – да, кино формировало, как-то, видимо, влияло и на поэзию. Фотография тоже, но меньше.
ГОРАЛИК Для тебя все это разные явления?
СКИДАН Разные. Я до сих пор очень люблю ходить в кино, и до сих пор для меня это событие. Очень сильное было переживание совсем недавно, в мае. У меня было странное состояние с самого утра, как в детстве, когда не хотелось идти в школу, хотелось прогулять. И ноги сами понесли меня к Дому кино. А там открытие фестиваля итальянского кино, на одном сеансе идет «Евангелие от Матфея» Пазолини. Я проплакал полфильма. После «Зеркала», наверное, это самый великий фильм. Состояние перед этим было очень похожее: какой-то тоски, потерянности, но с внутренним напряжением, когда включается механизм объективного случая, как у сюрреалистов. Это случайность, да, но объективная: ты должен прийти и попасть именно на этот фильм. Все так и произошло, как в школьные годы. И эта вспышка вознесения, эта русская революционная песня в конце… Я часто хожу в кино, это как видеть сны. Визуальный опыт преломляется в процессе письма. С помощью той или иной словесной конструкции я пытаюсь найти эквивалент состояния, которое пережил. Иногда это бывает мучительно. Скажем, переживание во сне прикосновения к умершему близкому человеку, как если бы он воскрес или вернулся из дальних стран, – ты знаешь, что этого не может быть, и все же прикосновение абсолютно достоверно. И просыпаешься в слезах, потому что думал, что в яму закопал и надпись написал, справился с болью, а ни хуя подобного.
ГОРАЛИК Как у тебя складывались отношения с учебой?
СКИДАН Со школой у меня были сложные отношения. Я состоял на учете в милиции – за курение и распитие пива в школьной столовой. Был день выборов, школу переоборудовали под это дело, а мы пришли на школьную площадку погонять мяч, упарились и зашли внутрь передохнуть. А там – пиво. Мы были не в школьной форме, и нам его продали в порядке очереди. Вдруг входит завуч. Вызвали родителей, припомнили еще какие-то выходки и накатали бумагу… В старших классах я был такой бунтующий мальчик, немного правдоискатель, с учителями в споры вступал, особенно на уроках истории и обществоведения. Так что о школе у меня довольно болезненные воспоминания. Лучшее, что было, – это одноклассники, друзья. Дружба была для меня всем. Признаться, с тех пор я тоскую по дружбе. У меня очень мало друзей.
ГОРАЛИК Для тебя важно «мы»?
СКИДАН Да, для меня важно «мы». И все-таки ощущение тоски, унылости и подавленности осталось от школы, при том что учительница литературы в старших классах была очень хорошая и, видимо, что-то углядела во мне. Когда мы проходили советскую литературу, про которую я не знал что говорить, она позволяла мне не писать сочинения. Ставила на уроке двойки, а за четверть – четверки. Я ее с благодарностью вспоминаю. Помню, у нас возник конфликт с одноклассниками из-за того, что она не очень следовала школьной программе, заставляла думать самих, а не зубрить. А уже на носу были выпускные экзамены, и девочки наши пошли к завучу и сказали: «Сусанна Ароновна нас не готовит к экзамену, вообще не по программе читаем», и потребовали ее заменить. И вот тогда я возненавидел этих девочек. Меня поддержали только два ближайших друга, остальные солидаризовались с этими девочками – все уже тогда были прагматиками, я это и сейчас ненавижу, а тогда у подростка-максималиста, у меня, это вызвало просто бешенство, я с ними со всеми разругался. Для них важна была оценка, проходной балл, уже тогда все знали, в какие вузы надо поступать, как устраиваться… И это я запомнил, это была травма… Сусанну Ароновну сняли. Она ходила в металлическом корсете – прямая, сухопарая, седая. Тогда она казалась мне старухой, но она и сейчас жива. Вот это про учебу.
ГОРАЛИК Есть у тебя какое-то разделение между тобой и «Александром Скиданом» – или это одно лицо?
СКИДАН Думаю, есть. В жизни, в общении, мне кажется, я гораздо более открытый, доброжелательный и понятный, чем в стихах. Наверное, сказался опыт псковского детства и пионерлагерь. Там решалось все очень просто. И опыт работы в котельной, где тоже нужно было уметь в каких-то рискованных ситуациях находить понятные, доступные работягам слова. Я общался на равных со сварщиками, с сантехниками, с другими кочегарами, с начальством, не выпячивая свою «утонченную натуру». Благодаря этому у меня выработался естественный, ненаносной демократизм. И это во многом меня спасло, потому что были периоды, когда декадентство меня могло утащить. Незнакомки, туманы, дымки Севера… «Козлиная песнь» Вагинова… Может быть, я не уходил из котельной еще и потому, что меня она как-то дисциплинировала. Я отдаю себе отчет, что поэзия моя довольно сложная, она апеллирует к нетривиальному опыту, широкие резонансы, в смысле отклика, для нее закрыты. Поэтому я занимаюсь многими другими вещами – переводами, статьями, а сейчас и социальной активной жизнью, газетой «Что делать?», политическими выставками. Вообще-то, с художниками я всегда дружил, особенно с Глюклей и Цаплей, писал о них, участвовал в перформансах, в каких-то совместных проектах. Но в конце 90-х что-то надломилось, я вдруг остро почувствовал некий предел, тупик. Летом 99-го на конференции «Литературный авангард в политической истории XX века» в Институте истории искусств я познакомился и подружился с философом Артемом Магуном, мы решили организовать домашние семинары по, условно говоря, левой критической теории. Ключевым автором тогда для меня был Беньямин, его проблематика эстетизации политики и политизация искусства; в «Схолиях» и других моих вещах того периода есть ее отголоски. Позвали художников, критиков из круга журнала «Максимка», питерского аналога «Художественного журнала», литераторов. Но натолкнулись на полное непонимание. После трех-четырех встреч (на одной из них мы параллельно смотрели и обсуждали «Олимпию» Рифеншталь и «Броненосец „Потемкин“» Эйзенштейна) пришлось от этой затеи отказаться. Но постепенно что-то вызревало. Переломным оказался май 2003-го, празднование трехсотлетия Петербурга, помпезное и бессмысленное. Выяснилось, что большинство наших знакомых хотят уехать из города на это время, просто из чувства отвращения, брезгливости. Тогда мы: я, Артем Магун, Дима Виленский, Глюкля и Цапля – решили: а почему бы не превратить этот «исход» в публичную акцию? Вот с этого «исхода», который из частного жеста должен был превратиться в коллективную манифестацию, и началась история группы «Что делать?». Через год к нам присоединились философы Леша Пензин и Оксана Тимофеева из Москвы, арт-критик и переводчик Давид Рифф и художник Коля Олейников. Мы выпускаем двуязычную газету, устраиваем семинары, делаем выставки… если коротко – наводим мосты между левой политической теорией и эстетической практикой.
ГОРАЛИК Иметь гражданскую позицию – важно?
СКИДАН Да, где-то с начала 2000-х для меня это стало актуальным – to take sides , занять позицию, сделать выбор. Как в 1991-м, когда ГКЧП и «Лебединое озеро» я воспринял как личное оскорбление и пошел расклеивать листовки с призывом к неповиновению, провел три дня на площади у Мариинского дворца, ночью строил баррикады. В те дни на какое-то мгновение толпа превратилась в народ. И сегодня я считаю, что единственное, что может нас спасти от скатывания в мягкий фашизм – это народовластие и марксистская интернационалистская традиция, обогащенная, разумеется, уроками XX века, в том числе и крахом социалистического проекта. Это горький опыт. Но разве то, что последовало после «победы над путчем», было таким уж веселым для тех, кто потерял работу, оказался на улице? Я помню, как в 93-м году зашел к знакомой, у нее был включен телевизор – в прямом эфире расстреливали парламент. Я смотрел и ничего не понимал. На меня напало какое-то отупение, ступор. И в таком ступоре (в политическом смысле) прошла для меня большая часть девяностых. Не то чтобы мне теперь было стыдно за эти «бесцельно прожитые годы» – просто отступать некуда. Да и терять нечего, кроме нематериальных цепей, или, как говорил Мандельштам, культурной ренты.
Елена Фанайлова
...
Фанайлова Елена Николаевна (р. 1962, Воронеж). Окончила Воронежский медицинский институт и отделение лингвистики романо-германской филологии Воронежского университета. Работала врачом, преподавателем на факультете журналистики, редактором телевидения. С 1995 года корреспондент радио «Свобода», с конца 1990-х живет и работает в Москве. Лауреат премии Андрея Белого (1999), премии «Московский счет» (2003), премии журнала « Знамя » (2008), премии Рочестерского университета (2009).
ГОРАЛИК Если бы тебя спросили: «Где Родина?» – ты бы сказала что? Есть Воронеж, есть Москва, есть страна…
ФАНАЙЛОВА Для меня реальная родина, что называется, физическая родина Россия и какие-то духовные родины, которых довольно много, – это примерно одно и то же. Когда в шестнадцать лет я читала Фейхтвангера, я обнаружила у него слово «космополит» и решила, что это мне подходит, хотя меня в этом смысле никто не воспитывал, кроме прочитанных книжек. Мне, в сущности, довольно легко везде, ну, в какую бы страну я ни попала как путешественник, мне там и все нравится, и я вижу какие-то противные ее черты, точно так же, как и про свою родину. Родина как место, где я родилась, – это райское место моих снов, я туда возвращаюсь, когда, видимо, особенно трудно и когда мне нужно с бабушкой посоветоваться, покойной, естественно, я попадаю в дом своей бабушки и деда, где я жила до пяти лет. Это называется рабочий поселок Елань-Колено. Новохоперский район Воронежской области, это юг области, ближе к Ростову. Детский рай: дом, сад, речка, собака и дедушка и бабушка, которые, наверное, даже больше меня любят, чем родители, потому что родители вечно заняты на работе. А дедушка и бабушка – это серьезная туса. Дед инженер был по всяким сельскохозяйственным машинам и еще работал, когда я была маленькая, главным инженером совхоза, каждый день уходил на работу. Ну, у меня не было такого ощущения, что он меня бросает, в отличие от родителей. Он был охотник, рыболов, фотограф, вообще какой-то образец, видимо, мужчины для меня, все женщины ему хороши и любимы, всех надо защищать, опекать. У него была бронь во время войны, как у многих инженеров, но он добился того, чтобы ее сняли в 42-м году. Он прошел Сталинград и брал Кенигсберг, и потом еще попал в Японию, то есть вернулся он в конце 45-го года. И он очень молчаливый и спокойный абсолютно, ужасно какой-то добрый был. Бабка другая, она немного заполошная и резкая. И эта сладкая парочка, я думаю, – это мое представление о рае. Дед высокий и худой, а бабка маленькая и толстенькая, с такой грудью двенадцатого, типа, размера. И вот она ест, и все время, я помню, еда падает на грудь. И бабка, конечно, такой бог кормления, потому что она уже была на пенсии и, в сущности, ей заниматься было особенно нечем, кроме как заботиться обо всех. И вот с утра, значит, вареничков с вишнями налепить, оладьев нажарить. Бабка очень много рассказывала, и вот эта линия рассказов о семье, как я сейчас понимаю, осталась во мне как социологическая антропология. Истории про революцию и коллективизацию – это я знаю в бабушкином исполнении, а также про войну и про советскую страну, все эти сказки семейные. Ну, в общем, такой там был рай: несколько вишневых деревьев, несколько яблочных деревьев, на которых можно сидеть, потому что они такие уже старые, что детская попа на них вполне себе умещается, и можно книжечку читать там, а когда на речку не идем, то в корыте можно плескаться летом. И залезать в заросли малины и крыжовника и лопать все это, прятаться от взрослых. У меня до сих пор идея, что дом – это частный дом обязательно. Дом, сад и собака. Охотничья собака, на которой можно было верхом ездить и зауши ее трепать. Она была добрейшая, ее случайно убили какие-то идиоты, которые ездили и отстреливали бродячих собак. Она выбежала за калитку и просто сидела там, она никогда никуда не уходила. И ее убили, и у деда был жуткий стресс, и, в общем, отец даже думал, что дед умер от рака желудка в шестьдесят шесть лет после вот этого стресса с собакой. Собака была такая, член семьи. Я жила до пяти лет в этом доме. У родителей был свой дом, но в основном я тусовала у деда с бабкой. Я помню от родительского дома, как елка падает, а мне год. И как снега наелась, по-моему, в тот же год, такое было удовольствие. Взрослые накостыляли, конечно, когда это увидели, и приходилось делать это потом потихоньку, втихаря.
ГОРАЛИК Большой кусок жизни проходил «втихаря»?
ФАНАЙЛОВА Конечно большой, им же просто некогда было. Наши родители работали. И бабке тоже порой было некогда. Она отправлялась в магазин, на рынок, какие-то там общественные дела. Она же была девушка, которая окончила советскую партийную школу. Она в войну руководила заводом по производству мебели. А закончила свою карьеру директором столовой.
ГОРАЛИК Серьезная женщина.
ФАНАЙЛОВА Я потом поняла, что она училась в одном заведении с Андреем Платоновым, и даже примерно в одно время. Советская партийная школа – это корпус начала века, он сейчас существует как один из корпусов медицинского института. Бабка там три года училась, и это считалось высшим образованием. Мне кажется, это нормально, когда у ребенка есть какое-то свое время. Я вспоминаю этот дом как абсолютно таинственный. Дубовый стол, под которым можно спрятаться, и там свисает бахрома от скатерти, и сидишь такой зачарованной абсолютно, а там такая крестовина, под этим столом, ты тоже там попой своей прекрасно помещаешься и смотришь потихоньку на взрослых, которые могут войти в комнату, они могут тебя не заметить. Потом потрясающий диван, тоже из дуба сделанный, дерматином обтянутый, с валиками. Модель сороковых годов. Эта мебель появилась, когда бабка на этом заводе работала. Массивная, сделанная руками. Потом платяной шкаф, куда можно было тоже залезть. У бабки была длинная кроличья шуба, и в ней в жару было прохладно. Там такая атласная подкладочка, она мягкая, такая нежная, и можно там сидеть, и вот там я даже однажды приснула разок. Когда я думаю про это время, я думаю, что это мое персональное кино «Таинственный лес». Это время окрашено каким-то абсолютно волшебным образом. Но потом все стало понервнее, потому что мы переехали ближе к Воронежу, отец работал уже в мединституте, но квартиры еще не было, надо было несколько лет жить в пригороде, километров, наверное, пятнадцать от Воронежа. Дедушка умер после нашего переезда через несколько месяцев. Родители понервнее дедов были, психика у них была менее стабильная. Тут уже было больше всяких переживаний. И школу я ненавидела, надо сказать, за вот эту нервозность, за то, что нужно делать то, что ты не любишь. Вставать рано особенно.
ГОРАЛИК Сразу возненавидела?
ФАНАЙЛОВА Довольно скоро. Нет, у меня не было проблем с учебой. То есть это до какой-то степени, видимо, примиряло меня с необходимостью делать все по указке, но, вообще, ужасная, ужасная эта вся школьная жизнь. Мне кажется, что ужасная травма для всех детей. Из какой бы семьи они ни были, какого бы уровня развития они ни были, потому что то, что ты все время что-то кому-то должен, – вот это меня убивало. Особенно эта попытка регламентации моего сна. По-моему, мы года четыре прожили в таком районном центре Воронежской области.
ГОРАЛИК Какая ты была до этого?
ФАНАЙЛОВА Я была довольно хорошенькая до школы. Есть отличная фотография, сделанная дедом, и вот этот райский мир там как-то виден: девочка в платье с розами, белое платье с какими-то цветными розами, сидящая где-то в шиповнике, в розах. Потом я попротивнела, надо сказать. По фотографиям видно: пионэрка, а лицо у нее такое усталое, у этой пионэрки.
ГОРАЛИК А школьные друзья, тусовка? Это не примиряло с пионэрством?
ФАНАЙЛОВА Отчасти, в общем, были, конечно, бандитские похождения, но и у бабушки были эти бандитские похождения.
ГОРАЛИК Например?
ФАНАЙЛОВА Ну, полезли на стройку плавить свинец. Было вот такое развлечение. Видимо, это пошло от старших подростков, кастеты делали. А у нас это было вполне невинное развлечение. Ну, сбежать на речку втайне от взрослых. Какие-то вот такие радости. Но все это была какая-то не моя история, какие-то мальчики-хулиганы, выяснения с ними отношений.
ГОРАЛИК То есть ты была девочкой-хулиганом?
ФАНАЙЛОВА Да нет, я не была хулиган! Я просто не чуралась никакой тусы, я бы сказала. Мне было интересно, и все. Я как бы не видела препятствий для того, чтобы общаться с самыми разными людьми, сейчас я бы сказала – разного социального происхождения в том числе. В школе у меня приятели были, мы могли долго разговаривать о прочитанных книгах, что называется. И это было очень важно. Это какие-то люди, с которыми я периодически дружила и могла разговаривать часами, сейчас довольно сложно вспомнить о чем, естественно. Но это был важный сюжет. Причем мальчики, девочки – это как-то не важно было. У меня и пацаны могли быть друзья, и девки, с которыми можно было по два, по три часа разговаривать.
ГОРАЛИК Это в каком возрасте?
ФАНАЙЛОВА Это всю школу так было устроено. У меня было четыре разные школы. Это всякий раз так было, появлялся кто-то, с кем я бесконечно разговаривала. Ну и потом, во взрослой жизни довольно долго у меня были очень разные задушевные приятели, с которыми я разговаривала. Все время несколько дружеских людей, с которыми ты обсуждаешь жизнь, кино, музыку, литературу, любовные истории. Все это важно. Друзья – это очень важная часть моей жизни. Люди, с которыми ты разговариваешь, единомышленники.
ГОРАЛИК Расскажи про это.
ФАНАЙЛОВА Ну, я не знаю, может, мне разговаривать все время надо? Сейчас-то я немного с насмешкой смотрю на эту манеру, потому что устаю. Но раньше мне все время надо было разговаривать с людьми.
ГОРАЛИК Надо – в качестве чего? Как что?
ФАНАЙЛОВА Это интересный вопрос. Как неодиночество, может быть, или как довольно большое количество переполнявших меня идей, которыми следует поделиться. Где-то в этой зоне, наверное. Если ты разговариваешь с человеком, то ты его любишь. Примерно так как-то это выглядит. Не обнимаешь его, не спишь с ним, а разговариваешь с ним. Вот это какая-то важная вещь… это вообще ключ, это символ любви. Разговор – это символ любовной жизни, я бы сказала, в широком смысле. Семейной жизни, может быть. У меня сейчас перед глазами огромное количество людей, которые были моими друзьями на протяжении всей моей жизни. И я думаю, сейчас, если я к ним обращусь, то эти нити легко восстанавливаются. Кто-то эмигрировал, кто-то находится в другой стране СНГ. И, соответственно, я людей могла не видеть десять лет. Но когда мы встречаемся, то эта нитка очень легко восстанавливается. То же самое касается моих воронежских приятелей.
ГОРАЛИК Ты училась в Воронеже?
ФАНАЙЛОВА Я училась в самых обычных школах, никаких не специальных. Потом в медицинском институте, потом в университете, уже взрослым человеком. Но институт не был тем вузом, которого я бы хотела в своей жизни. Просто основной клан семейный был медицинский. А что такое провинциальный медицинский клан? Это такая довольно консервативная, очень хорошо укорененная в жизни туса, которая и тебе того же желает, чтобы у тебя в жизни все было правильно. Одна моя тетка была деканом стоматологического факультета, вторая – заместителем главного врача областной больницы. И с учетом того, что мама у меня уже не то что болела, а болела чрезвычайно тяжко, они меня уговорили, что медицинский институт – это ровно то, что нужно девочке. Девочке, конечно, это не нужно было абсолютно.
ГОРАЛИК А что ты хотела?
ФАНАЙЛОВА А я хотела филологию. Это было абсолютно понятно. Мои школьные учителя впали в кому, когда узнали, что я не пойду на филологию. С восьмого класса все говорили, что это МГУ и филфак – другого варианта не может быть.
ГОРАЛИК Ты писала уже?
ФАНАЙЛОВА Да, я писала. Я писала стихи с третьего класса. Сочинения, которые постоянно на каких-нибудь районных и городских олимпиадах оказывались. И почему этого не понимали родные и близкие – загадочная история. Видимо, потому, что они боялись, что филология – это не то, что может человека прокормить. Ну, в общем, какое-то ужасное позитивистское сознание, советское, антирелигиозное. И они меня просто на годы сломали. Они выбили у меня почву из-под ног этим медицинским институтом, потому что я потеряла возможность на несколько лет – как это лучше сказать? «Быть собой» – это пустые слова. Я потеряла возможность защищать те ценности, которые мне казались правильными. Например, в старших классах я могла пойти на открытый конфликт со своей учительницей, потому что я была уверена, что она несправедливо хочет выгнать из комсомола одного парня, а это значило, что в институт он не поступит. А здесь я понимала, что я чужой человек, который попал в чужую ту су и при этом, если бы не папа, который работает в медицинском институте, и не моя родня, я бы вряд ли поступила в этот институт, потому что это дикий конкурс, страшно блатное место. И понимая свою уязвимость, я уже не могла встать, когда слышала какую-то гадость от такой вот провинциально-консервативной дряни позднекоммунистической, – я имею в виду и студентов, и преподавателей, там было довольно много этого русского бюргерства. Медицинское образование отчасти военизированное, так еще и навалом скрытой агрессии. И я не могла против этого выступать, потому что я понимала, что мое присутствие в этой зоне несколько эфемерно, оно не оплачено моим реальным трудом. И вообще учеба эта давалась мне, надо сказать, с некоторым усилием. С третьего курса я как-то въехала в эту технологию обучения, потому что это специфическое образование, оно не гуманитарное, там нужно мозги свои переделать. Поскольку это был советский период, я не могла покинуть эту профессию, я должна была отработать три года, у меня не брали документы в университет, куда я отправилась буквально сразу после окончания медицинского института.
ГОРАЛИК: Какая у тебя специализация?
ФАНАЙЛОВА Я три года работала терапевтом со специализацией некоторой в кардиологии, в эндокринологии. Потом я ушла в иммунологическую лабораторию, которая занималась СПИДом. Была одна из идей у меня в конце вуза, что я могла бы заниматься инфекционными болезнями. Точнее, две идеи: либо инфекционные болезни, либо эндокринология. Это две вещи, которые в принципе могли немного заворожить. На старших курсах появлялись очень хорошие преподаватели, у которых было настоящее терапевтическое мышление, синтетическое, которые показывали тебе такие развороты, такую как бы голограмму связи внутренней, и в этом есть нечто завораживающее. И из-за этого я, собственно, отправилась в лабораторию, но потом мне как-то стало понятно, что и медицина, и литература требуют человека всего. Будучи врачом, я начинала публиковаться, я и как журналист работала внештатником. И все это уже стало как-то совсем невыносимо, вот это сочетание двух работ, и я просто попросила своих приятелей найти мне иную работу. Года два я так вот ныла, что хочу другую работу, а в это время ныне известный режиссер и продюсер Эдуард Бояков был преподавателем журфака воронежского. Эдик был завлитом в воронежском ТЮЗе, и параллельно у него были часы на журфаке. И еще одна наша общая подруга там работала. И поскольку я ныла, ныла, то они поговорили с деканом, показали ему какие-то мои публикации, уже в то время и стихотворные, в журнале «Родник», и времена были уже либеральные, 91-й год. И он пригласил меня и сказал: «А давайте вы мне сделаете спецкурс, но только, поскольку вы врач, Лена, этот спецкурс должен быть как-то связан с вашей специальностью». – «А по психоанализу можно?» – сказала я. «Конечно», – сказал он радостно. И я придумала такой спецкурс «Психоанализ и культура» и каким-то образом его развивала, и, собственно, почти десять лет я проработала на факультете. То про психологию восприятия рекламы рассказывая, то про психологию массовых коммуникаций, при этом, глядя с академических позиций, это был чистый блеф, потому что я никогда я не училась этому. Я просто брала книжечки и читала. А книжки по психоанализу сохранились в воронежской университетской библиотеке с незапамятных времен: дело в том, что в Первую мировую войну тартуская университетская библиотека была эвакуирована в Воронеж. Мандельштам, когда жил в ссылке в Воронеже, ходил в эту библиотеку, там работала Наталья Штемпель. И несмотря на то что в войну многое погибло, там был спецхран, где, собственно, доктор Фрейд с ятями существовал, можно было прийти в отдел редкой книги, и уже на старших курсах медицинского института мы все это знали. У меня был старший товарищ, брат одного моего возлюбленного, который нас научил, что нужно туда ходить и читать там вот такие вот книжечки. А потом это время, когда уже открытые публикации начались по психоанализу, по культурологии, и Фрейд, и Юнг, и более поздние товарищи. И по философии было уже много всего, можно было вполне в этом ориентироваться. Отчасти я это делала для самообразования, потому что понятно было, что читать просто так я себя не заставлю.
ГОРАЛИК Мы пропустили твою учебу в университете.
ФАНАЙЛОВА Я, собственно, пошла работать на журфак и параллельно учиться. Вот и все.
ГОРАЛИК Поближе к языку, наконец.
ФАНАЙЛОВА На вечернюю. Там была такая схема, она называлась «второе образование», для людей с имеющимся высшим, за три года по-быстрому все это я прошла.
ГОРАЛИК Все, что ты рассказываешь, – это картинки. Почти нет людей.
ФАНАЙЛОВА Ну, потому что было много смен декораций в жизни. Вот я рассказываю пока такую схему…
ГОРАЛИК Формальную.
ФАНАЙЛОВА Да.
ГОРАЛИК ОК. Тогда давай продолжим по этой схеме. Ты проработала там почти десять лет.
ФАНАЙЛОВА Да, я проработала там почти десять лет, параллельно я работала два, по-моему, года на телевидении, за это время я с братом там сделала фильм про Мандельштама, который на «Культуре» показывали, грант мы брали. Еще работала со своим гражданским мужем, он архитектор, и я для его проектного бюро часто писала обоснования, поскольку эти обоснования были связаны с исторической схемой города. То, что называется «гений места». Как все эти культурные слои в городе уложены, я про это тоже довольно много читала, в том числе в том же самом спецхране, в том же самом отделе редкой книги. Это скромно называлось отделом редкой книги. Мне было интересно понять, как эти историко-культурные слои в городе упакованы, какое это все имеет отношение к материальной культуре городской. Как пространство и ландшафт завязаны, например, с литературой. И это было интересно понимать по Мандельштаму и Платонову: чтобы хорошо понять про ландшафты Воронежа, можно почитать двух этих авторов. Такая рецепторная система у них развитая, которая позволяет, собственно, выдавать тексты, которые продуцируют картинку ландшафтную. Они в этом смысле идеальные авторы: как научиться писать о месте, которое ты видишь, в двадцать лет я буквально этим развлекалась. Оба автора существовали в самиздате, обмен с товарищами у нас был регулярный. Чтение Мандельштама и Платонова было воспитательным в том смысле, что оно было очень наглядным. Ты живешь в этой среде и видишь, как люди эту среду описывают. Это очень как-то поучительно и физиологично. Для меня это была школа письма. У меня не было, что называется, литературного учителя. Местные литераторы мне казались абсолютно чужими.
ГОРАЛИК Чем? По какому параметру? Что в них было другим, чужим?
ФАНАЙЛОВА А какая-то другая манера рассказывать. Другая манера миропонимания. Ну вот я стихи писала, да? Мне было, я не помню, семнадцать или восемнадцать лет, и бабушка моя лежала в больнице с каким-то дядечкой. Вот он такой признанный воронежский писатель, и она говорит: «Слушай, может быть, мы покажем твои стихи?» Ну ладно, покажем. И то, что он мне говорил после этого, мне казалось какой-то странной чушью. Он мне начинает рассказывать, что это неправильно и почему это все неправильно. То есть он буквально рассказывает, что моя психофизиология устроена неверно. Я как-то подумала, что я не понимаю вообще, что он мне говорит, – про какого рода он мне литературу пытается что-то впарить? И несколько раз такое было, когда я пыталась поговорить с какими-то людьми, которые там литературой занимаются, и я понимала, что это другая порода людей. Я не понимаю, каким образом они выстраивают слова, то есть читать их могу, но мне это совершенно не интересно, то, что там написано. Я не понимаю, зачем они это делают. И что у них как-то внутри все иначе устроено. И что я буду с ними разговаривать, когда это на чужом языке разговор. А на своем языке разговор я услышала, когда взяла в руки журнал «Родник», типа, в 88-м году. И отправила я туда через год свои тексты с братом, брат служил в Латвии и поехал проведать своих пацанов, побухать с ними немного. И я ему сказала: «Знаешь, брат, возьми-ка ты стишки и зайди-ка ты вот в эту вот редакцию». И брат зашел и, собственно, встретился там с Левкиным. На что Левкин сказал: «Нормально, да. Я возьму это печатать» И, собственно, с той поры мы общаемся. Сначала путем телефонных переговоров. Наверное, в 91 – м году мы встретились с Андреем в Москве, а потом в Питере. Вот это уже был довольно сознательный поиск какой-то своей литературной тусы.
ГОРАЛИК Это было про вот то самое «поговорить»?
ФАНАЙЛОВА Конечно. Это уже был поиск людей, с которыми разговариваешь на одном языке, и людей с какой-то общей психофизиологией, потому что я уже тогда немного уставала от одиночества в этом смысле. Потому что ты все время должен себе говорить: спокойно, я не сумасшедший.
Дело наше столь специфичное, я бы сказала, что этот фон ты все время должен учитывать. Этот фон, когда твою крышу уносит в далекие весьма пространства и есть необходимость себя перепроверять. И желательно, чтобы нашелся кто-то из старших товарищей, который бы тебе объяснил, что ты действительно не чокнутый. Просто у некоторых людей голова устроена вот таким способом и надо это признать. Ну то есть понимать про себя, что это есть. В советские времена это вообще не обсуждалось, потому что это все сразу попадало в зону патологии, если ты только попробовал бы поговорить о том, что с тобой происходит на самом деле, с психологами или психиатрами. И я знаю несколько жертв советской медицины среди богемы, которым ставился диагноз «вялотекущая шизофрения». Но мне повезло. У меня были две подруги замечательные: одна психиатр, одна психолог. И они мне в свое время сказали… ну то есть польза была все-таки в моем медицинском образовании.
Во-первых, я такой тревожно-мнительный невротик, что мне было важно почитать все медицинские книжки и понять, что я теперь знаю, что со мной происходит, когда происходит что-то там не очень понятное. Так вот, мои две подруги сказали: Фанайлова, если ты думаешь, что ты можешь возложить на психиатра ответственность за твое состояние, ты глубоко ошибаешься. Человек сходит с ума тогда, когда он дает себе индульгенцию сойти с ума, и потом его уже оттуда не вынуть никакими усилиями. Так что хочешь быть нормой – будь добра, следи, пожалуйста, за этим. Это была важная информация, которую мне девушки сообщили, когда мне было двадцать два или двадцать три года. Очень полезный момент для самодисциплины и просто адекватности какой-то. Особенно полезно это было услышать в эти дремучие советские времена.
Вот такая, собственно, история. И нужно было уже искать таких же чокнутых, как и я, и к концу 80-х годов я точно понимала, что надо искать таких же, в общем, нервных…ГОРАЛИК «Сумасшедших и смешных»?
ФАНАЙЛОВА И сумасшедших, и смешных. Совершенно верно. Да, и с какими-то иными представлениями о художественной литературе, чем даже та, которая пропагандировалась журналом «Юность». И это все было мною обретено в районе рижского журнала «Родник» и питерского «Митиного журнала». И совершенно я была счастлива, и надо сказать, что это было, наверное, главное приобретение в жизни, потому что к тому моменту я находилась в таком серьезном кризисе самоидентификации. А после того мне не было уже страшно ничего. После вот этой питерско-рижской тусы уже ничто не было для меня столь важным, я бы сказала. Для меня очень важно было увидеть Левкина, Драгомощенко, Скидана, Секацкого и еще парочку товарищей, чтобы решить для себя навсегда, что теперь я могу быть спокойной, потому что я вижу людей, которые работают в этой зоне и, собственно, прекрасно себя чувствуют.
ГОРАЛИК Твои «мы».
ФАНАЙЛОВА Да, это то, про что я могу сказать, что это «мы». Все. И с той поры меня уже не волновали ни публикации, ни какие-то еще литературные сюжеты, связанные с Москвой. Нет, безусловно, есть какие-то дико приятные сюжеты, которые в Москве существуют и тоже являются моментом, что это «мы». Но сюжета такой силы, который со мной случился в 91-м году, у меня в жизни, пожалуй, больше не было. Правда, сюжет определенной силы со мной случился на радио «Свобода» в той его форме, в котором оно существовало в 99-м году, когда я сюда пришла.
ГОРАЛИК Это было «мы» в другом?
ФАНАЙЛОВА Да. Отчасти «мы» состоялось тоже в 99-й год, когда я перебралась в Москву, вокруг первого «ОГИ», знакомства с Айзенбергом, Дашевским, Гуголевым и Левой Рубинштейном. Вот это компания, которая тоже говорила о некоей норме богемного существования в этом городе, о самых разных формах бытования такой психики в условиях столь жесткого мегаполиса. Но главным сильным сюжетом, первым главным сюжетом был Питер, а второй мощный сюжет про «мы» был здесь.
ГОРАЛИК Как ты вообще собралась перебираться в Москву?
ФАНАЙЛОВА Собственно на радио я работала с 95-го года из Воронежа. Сюжет тоже был простой. Денег не было. Мои фрилансерские работы были довольно мизерны. Жизнь моя в гражданском браке представляла собой череду опасностей и приключений, независимость была превыше всего, и впадать в какие-то финансовые зависимости я совершенно не могла, ну, в общем, и отношения этого не предполагали. И нужно было как-то искать самые разные работы, а моя подруга, которая устраивала меня на факультет журналистики в Воронеже, в это время уже работала фрилансером на радио «Свобода» и посоветовала меня как корреспондента из региона. Я какие-то репортажи начала делать про коммунистические митинги или про кризис коммуналки, а к 99-му году я находилась в очередном жизненном кризисе, ну, я понимала, что эта форма мной уже исчерпана, прожита. То, что держит твою жизнь как внешняя рамка, перестает уже тебя держать, ты вкладываешь в это огромное количество энергии, а отдачи никакой. Не работает. И весной 99-го года я приехала в Москву и говорю редакторам нашим, Володе Бабурину и Илье Дадашидзе: «Может быть, летом вы возьмете меня поработать, потому что я знаю, что летом бюро оголяется». Они говорят: «Дорогая, мы-то, конечно, да. Но у нас не принято, чтобы кто-то за кого-то просил. Иди-ка ты сама к Савику Шустеру». Я пошла к Савику, который тогда был директором бюро и с которым я даже лично знакома не была к тому моменту. Он посмотрел на меня и сказал: «Ну, давай напиши резюме, приезжай и работай». Вот так, собственно и вышло. Лето я проработала, а в конце августа собралась уезжать в Воронеж. У меня не было вообще такой идеи, что я останусь в Москве. Была идея заработать денег и как-то немного поменять картинку. И я пришла говорить: «Савик, ну спасибо, до свидания». Савика, надо сказать, все лето не было в Москве, он был в Праге и в Италии, и мне казалось, что моя работа прошла как-то мимо него. Но я ошибалась. Он сказал: «А куда это ты собралась, собственно?» Ну, я там что-то бе-ме. Он говорит: «Так. Давай езжай в Воронеж. Заканчивай свои дела и возвращайся». Так оно примерно и было. Надо сказать, что какое-то время он подержал меня в черном теле за то, что я не сразу с воплями благодарности кинулась на грудь начальству, а как-то еще кобенилась, не могла понять. Ну то есть когда я ему говорила, что у меня там университет, он на меня смотрел как на полоумную.
ГОРАЛИК «Я не могу, у меня елки!»
ФАНАЙЛОВА Точно. Буквально вот были эти елки. Он смотрел на меня как на придурочную. И тут уже понадобилось некое вмешательство моих товарищей с радио, которые, во-первых, мне по ушам надавали, а во-вторых, сказали: «Ну ладно, Савик. Ну девочка у нас идиотка, ну давай она все-таки немного поработает здесь». Вот так все вышло. А потом начались все эти истории с Бабицким, когда он пропал в Чечне и ребята все за него страшно переживали. Московское бюро радио «Свобода» того времени, я могу сказать, – это такая почти семейная история. Все шли на работу как во второй дом.
ГОРАЛИК А как все эти годы была устроена твоя семья, собственно?
ФАНАЙЛОВА Ты знаешь, я думаю, что очень важно сказать, что вообще-то мое детство с каких-нибудь шести лет проходило в семье инвалида. Я как-то не сразу это поняла о своей жизни. Моя мать очень тяжело заболела и последние пять лет своей жизни она лежала, а я за ней ухаживала, вместе со своей семьей. Я никогда о себе в этом смысле не думала до каких-то последних лет, потому что очень любила мать, она вообще была моим главным культурным героем, я из-за нее начала стихи писать. Ну то есть она человек, который создал мой волшебный мир, мир воображения, мы придумывали с ней всякие сказки и истории. Мы все время проводили либо в чтении сказок и историй, либо в придумывании сказок и историй. Я помню один момент, когда мы пересекали одну довольно неприятную дорогу песчаную, и маленькому ребенку очень тяжело идти по этой песчаной и очень жаркой дороге, я помню даже ощущение стоп, которым просто дико жарко, вот эти вот кожаные сандалики советские, да? они очень тоненькие, и ноги ужасно жжет, и ты должен побыстрее все перейти, а дорога была довольно длинная. То место, где мы жили, там асфальт был не везде, скажем так. И мать моя останавливается и сумку свою поворачивает, а на сумочке у нее была некая фигурная строчка. «Смотри, – говорит она очень серьезным голосом, – это карта, на ней нарисована вот эта пустыня, в которой мы сейчас оказались, вот это барханы, вот мы сейчас между ними, и нам нужно сделать маленькое усилие – и мы сейчас выйдем к оазису». Она была преподавателем русского и литературы. Но она всю жизнь хотела быть актрисой, но бабушка ее не пустила, потому что в театре разврат, ясное дело. И какой-то бесконечный театр плюс литература в моем детстве присутствовали. Конечно, когда она показала мне эту карту, все стало гораздо легче. И вот у нас были такие регулярные развлечения. Мы начинали с каких-то известных сказок, но придумывали другое развитие сюжета, или с каких-то неизвестных историй, а потом появлялись Кот в сапогах и другие известные персонажи, но у нас были абсолютно какие-то свои сказки, и это было любимейшее развлечение, пока она уж совсем не заболела. У нее был рассеянный склероз, это не часто встречающееся, но очень тяжело инвалидизирующее заболевание. И я совсем недавно поняла, что мой подростковый опыт и мой первоначальный эротический опыт сильно с этой историей связан и что вот теперь я могу сказать: я выросла в семье инвалида. Но в детстве я про свою мать словом «инвалид» думать не могла. То есть я понимала, что она нездоровый человек, больной, но я помню, как какие-то тетеньки в больнице, а она два раза в год ложилась в больницу, с вытаращенными глазами выходили со мной в коридор и говорили: «Слушай, ну у тебя гениальная мать, у тебя просто, в общем…» Ну, потому что она все время шутила. Мои родители все время шутили, и она очень позитивным человеком была. Я помню еще такой эпизод, когда она стала плохо ходить, и она ходила с палочкой, но ей было удобнее опираться на мое плечо. Мы вышли в Воронеже на такую главную улицу, в старые годы она называлась Большая Дворянская, а в советские времена она называлась проспект Революции. Ну такой променад, Арбат, короче говоря. И вот мы шли, мне было, наверное, лет одиннадцать, и мать одной рукой опиралась на палочку, а другой рукой – на мое плечо, а она была вообще-то очень красивая женщина. И это была, видимо, очень странная фигура, которую мы собою образовывали, я помню, что все люди на нас смотрели. Это был важный для меня опыт, когда, с одной стороны, тебе не очень ловко оттого, что на тебя смотрят, и это история про женщину с палочкой, которая идет с девочкой-подростком, а с другой стороны, я испытывала какую-то странную гордость и вызов. «Ах, вы хотите смотреть? Так посмотрите!» Но поскольку мой подростковый период и ранняя юность были связаны с ее болезнью, то это было время суровое в самоограничении. Она совсем разболелась, когда мне было лет, наверное, двенадцать, одиннадцать-двенадцать. Время, когда человек должен много времени проводить со сверстниками, а я все время была вынуждена понимать, что я не могу пойти в кино, потому что сегодня мне нужно вымыть полы, что сегодня мне там нужно сделать то-то, чего не может сделать мать. И совсем тяжелое время – это когда я была в десятом классе, мама сломала шейку бедра, после того она перенесла еще одну операцию и практически уже не вставала до своей смерти. Она умерла, когда мне было двадцать лет. И с этим, конечно, связано много очень сильных переживаний. Я думаю, что если бы мы жили в другой стране, как-то довольно скоро я была бы отправлена на какую-нибудь психологическую реабилитацию после ее смерти.
ГОРАЛИК Еще бы.
ФАНАЙЛОВА Мне это пришло в голову, когда я посмотрела «Поговори с ней» Альмодовара. И только тогда я поняла, что со мной происходило на самом деле. И в чем я нуждалась как пациент нашей советской ментальной клиники. Ну то есть, говоря правду, я просто не могла начать никаких романов, пока она была жива, то есть моя, извините за выражение, сексуальная инициация состоялась буквально через несколько месяцев после ее смерти. И она была абсолютным протестом, она не была для меня фактом моей любовной биографии, эта сексуальная инициация, она была абсолютным политическим выбором, я бы сказала, то есть если говорить о политике моего тела и о каком-то акте свободы, то вот эта история была протестом против смерти моей матери. Но я думаю, что я человек не патологический все-таки по сути, потому что в раннем возрасте действительно и моя мать, и вся моя остальная семья дали мне очень много любви. То есть я понимала, что меня любят, хотя проблемы с родителями, как у всех детей, у меня были. Но за что я должна быть благодарна родителям и природе – за то, что они мне дали сильный разум, и за раннее детство, которое было на самом деле отличнейшим. И я понимаю, что до сих пор оно является ресурсом, который меня не делает, грубо говоря, каким-то исчадием ада, ну каким-то жалким героем Достоевского, мне почему-то девочки его более симпатичны, а мальчики так совсем ужасные. Мне кажется, что самое худшее, что может происходить с русским человеком, – это повторять биографию мальчиков Достоевского, и когда я с каким-то ужасом увидела несколько лет назад, что ряд литературных героев наших ведут себя как герои «Бесов», то схватилась за голову: «Аааа! Как бы вот этого не хотелось!!» – этого постоянного воспроизводства на разных уровнях и социальных реалий, и психотипа русского мужского. Вот я вроде бы человек, выросший в России, который всю жизнь в ней прожил, но я себя чувствую абсолютно чужим здесь психоэмоционально, интеллектуально – всячески я себя чувствую чужим России человеком. Я не могу сказать, что я ее не люблю, что я ее не понимаю, но я так со многим не согласна в ее устройстве, и это несогласие уже взрослое. Я не могу сказать, что я как-то не согласна с моим детством, хотя, рассматривая свою биографию уже с теперешней точки, я сказала бы, что мне бы лучше, наверное, как-то более политкорректно мне было бы любить мою раскулаченную бабушку со стороны отца, которая много лет прятала своего отца, моего прадедушку, который бежал с Соловков. Была такая чудесная история.
ГОРАЛИК Ничего себе.
ФАНАЙЛОВА Мне бы, по соображениям исторической справедливости, нужно, наверное, было бы любить вот эту женщину, мать моего отца, которая умерла недавно. Но поскольку она была абсолютной аутичкой, то есть человеком, который со мной вообще не разговаривал в детстве, она была занята проблемами выживания в деревне, и, собственно говоря, я с ней познакомилась на самом деле, когда мне было лет уже девять, я была уже таким взрослым, самостоятельным человеком, то я, к сожалению, каких-то теплых эмоциональных связей с этой молчаливой женщиной не чувствую. Хотя она тоже шутила. У меня обе стороны любили пошутить. А признаться должна я в том, что совершенно обожаю своего деда и бабку с материнской стороны, которые такие первые советские интеллигенты, что называется. Бабушка у меня батрачка, дед из более-менее какой-то поповской семьи. Но вот это люди, бабушка, мамина мама, она раскулачивала крестьян, понимаешь, что это значит? То есть буквально, по идее, одна моя бабка раскулачивала другую, только раскулаченная там, в Харькове была, да? а вот эта в Воронежской области и на Тамбовщине творила свои черные дела, и брат недавно вспоминал, как бабка рассказывала, она просто поседела на половину головы в двадцать пять лет. Она в процессе раскулачивания едет на лошади в телеге из одной деревни в другую, нужно проехать лесок, она ведет сама эту лошадь, свист какой-то странный слышит, приезжает в другую деревню, смотрит – а довольно большой ножик в нее кидали, он воткнулся в деревянное сиденье под ее спиной. Но как ни странно, с возрастом я все больше думаю, что буду я похожа в старости как раз на вторую бабку, которая молчала. Понятно, потому что скажешь слово – и тебя посадят просто-напросто. Тем более что сын женился на дочери классовых врагов, по сути дела. И еще отец и бабка прожили в оккупации. Моя крестьянская бабка знала немецкий язык, самое смешное.
ГОРАЛИК Опасный элемент.
ФАНАЙЛОВА Эта вот раскулаченная дочка знала немецкий язык, потому что она работала в немецком кооперативе в начале 30-х годов. То есть прадедушку с прабабушкой – на Соловки, а детей распихали кого на шахту, кого по колхозам. Да, и вот благодаря знанию немецкого языка она как-то и во время войны при немцах умудрилась выжить, при том что муж ее погиб в начале войны под Смоленском. И у отца до сих пор какие-то смешные воспоминания о том времени как о времени страшном и забавном, то есть не об ужасах карательных акций и партизанского движения, а о том, как немецкие оккупанты пытались жить с русскими. Как вот эти солдаты пытались жить с русскими, вспоминая своих жен и детей… При этом никаких историй про сожительство немцев и русских женщин у отца в памяти не сохранилось, ну, потому что он маленький был, наверное.
ГОРАЛИК Мог не замечать.
ФАНАЙЛОВА Или этого не было. То есть он просто рассказывал, что они, конечно, разные были, немцы, но в основном это было все-таки какой-то попыткой ужиться на этом пространстве.
ГОРАЛИК Мне всегда кажется, что в военной истории быт страшнее битв.
ФАНАЙЛОВА Это были просто люди, которые себя не вполне даже уверенно чувствовали. Они не понимали, в каком модусе им вообще существовать. Вот их поставили в этом самом селе. Они стоят. Нужно было организовать там хозяйство. И вот эти солдаты при помощи русских женщин хозяйство там и организовывали. Так вот эта бабка отцовская, про нее есть чудесная рассказка из позднего времени. Когда она уже утомилась и не могла более содержать дом в деревне: корову там, овечек там, еще некоторый скотный двор, то ее взрослые дети начали уговаривать переезжать в город. Она, конечно, долго сопротивлялась, но в конце концов они ее уломали, и вот она жила часть года у дочери, часть года у брата папиного, часть у папы. Но знаменита она тем, что она не выходила из дому вообще. И отец спросил у нее как-то: «Мама, а почему ты не хочешь спуститься погулять, поговорить с людьми?» На что бабушка ответила: «А о чем мне с ними разговаривать?» Вот с возрастом во мне все это проявляется все больше, я понимаю, что есть во мне эта опасность, когда я буду сидеть и думать: «А о чем мне с ними разговаривать?»
ГОРАЛИК Ты этому рада?
ФАНАЙЛОВА Я просто это очень хорошо в себе чувствую. Когда я услышала от отца эту рассказку, я поняла, что это есть во мне. Я не буду хотеть разговаривать.
ГОРАЛИК А нет определенного приятного предвкушения этой перемены? Мне в этом модусе видится даже определенный соблазн.
ФАНАЙЛОВА Конечно, большой соблазн. Может быть, это оттого, что в последние годы я много и пишу, и разговариваю, и выражаю себя как человек языка, возможно, это просто усталость. У меня иногда сейчас бывает такая интоксикация от общения, что я просто сижу и молчу по два часа. Это бывает либо ночью, либо утром. И я ничего не могу с собой поделать. Я не могу отправить себя снова в этот какой-то вербальный ад, мусорный ветер. В астральную помойку, скажем так.
ГОРАЛИК Что для тебя значит – оказаться похожей на других членов семьи, оказаться частью семейной истории? И сама эта семейная история?
ФАНАЙЛОВА Она дико важная, и, как говорил король у Шварца в «Обыкновенном чуде»: «Вот сейчас во мне говорит моя бабушка». Король оправдывал там свои гадкие стороны таким образом.
ГОРАЛИК Но Шварц, кажется, хорошо понимал, как это устроено.
ФАНАЙЛОВА Безусловно. Я их очень часто чувствую в себе. И иногда я прямо с ужасом вижу, что это не я разговариваю или как бы интонирую, а моя бабушка. Это которая раскулачивала. Вот она человек, который, видимо, не очень понимал чужие слабости. Она все время говорила: «Ну и что?» И, видимо, себе всю жизнь говорила «ну и что?». И это сделало ее жестоковыйной. То есть человек, который смотрит на чужие слабости и говорит «ну и что?». Мне пришлось научить себя сочувствовать окружающим, особенно тем, у которых истерический рисунок поведения. Вот этим людям мне пришлось себя прямо-таки обучать сочувствовать и понимать, что за этим поведенческим рисунком скрывается та же самая степень боли. В общем, это не нам сравнивать. Это на других весах, это не человеческое дело сравнивать, человеческое дело – как-то правильно реагировать. Так вот, моя «внутренняя бабушка» ни за что не сочувствовала бы истерикам, а мне уже после двадцати лет пришлось с этим столкнуться и понять, что для меня в этом есть проблема, и как-то побольше понимания проявлять к людям разного, в том числе неприятного мне, поведенческого рисунка.
ГОРАЛИК Ты чувствуешь, что ты ими всеми была: когда ты сочувствуешь истерику, ты чувствуешь, что ты где-то истерик? Когда сочувствуешь ипохондрику – что где-то ты ипохондрик? У тебя это так устроено? Как у отца Брауна, который говорил, что «все эти преступления совершил я»?
ФАНАЙЛОВА Ну, я полагаю, что вообще способность идентифицировать себя с кем угодно и чем угодно, ее надо уже в детях развивать. Вообще, я полагаю, что для художника, не важно, поэта или для любого художника, чем шире диапазон его психических состояний, тем правильнее. Проблема в том, что люди, я могу говорить за русское коммьюнити, очень плохо с этим справляются. Алкогольные эксцессы, психологические срывы. То есть люди думают, что они и есть вот эти их крайние состояния, а это не так, это не они. Это некий набор масок и психомодусов, если можно так сказать, и, собственно, человеку хорошо бы сделать маленький эксперимент: отстраниться от этого, отойти от этого и просто видеть это. Но я уверена, что чем экстремальнее набор состояний психических, которые ты знаешь, тем ты богаче как пишущая единица, это твоя палитра, твой инструмент.
ГОРАЛИК Мне кажется, что для многих из нас есть адекватный «я» и неадекватный «я». Адекватный, скажем, ходит на работу, а неадекватный, как ни крути, пишет тексты, например. И раскачивание этих качелей с возрастом дается все труднее, обходится все дороже.
ФАНАЙЛОВА У меня есть несколько комментариев к тому, что ты сказала. Во-первых, когда мы говорим «адекватный» и «неадекватный» – непонятно, кто из них лучше. Вот я очень не хочу окрашивать со знаком «плюс» или «минус» то или иное состояние. А потом на этом пути, который ты описала, когда человек хочет и некие социальные дивиденды иметь и в то же время оставаться полноценным творцом, что предполагает абсолютное сумасшествие, нужно сказать правду. А приходится идти на хитрости и жертвы. Приходится хитрить и устраивать свою жизнь так… ну, скажем, я многих своих знакомых никогда не приведу к себе домой, потому что там порой творится чудовищный бардак. Просто невозможно никому показывать из живых людей. Есть вот такие лакуны, с которыми я ничего не могу поделать. И ни один, боюсь, психотерапевт со мной здесь ничего не сможет поделать, потому что это уловки, которые годами наработаны.
ГОРАЛИК А надо делать? Это ведь по-своему бесценное пространство.
ФАНАЙЛОВА Недавно я прекрасно проводила время со своим другом, книжным графиком по имени Баграм Ибатулин, который проживает в Нью-Йорке, и он рассказывал, как он выпивает с Сашей Бродским. Он говорит: «Вот почему-то, когда мы с Сашей Бродским выпиваем водку и пиво, мне всегда очень хорошо, и мы можем говорить часами, и нам интересно, смешно, и все это умно. Но как только я попробовал выпить водки с пивом с какими-то другими людьми – ничего не выходит. Головная боль, тупизм, немедленное желание расстаться и как-то прекратить вообще». У них есть, наверное, все-таки какая-то общая волна, общая химия творческая, они даже внешне похожи. Это про то, что с головой делать. С головой все очень интересно, там такое кино бесконечное, там такие киноленты и такие персонажные всякие истории прокручиваются.
ГОРАЛИК Как у тебя устроена эта внутренняя борьба за ресурсы собственного сознания? Как ты справляешься с ней?
ФАНАЙЛОВА Ну, во-первых, я верю в то, что ресурсы человеческого организма так велики, что нам и не снилось, и мы сами все портим часто. Потом с мозгами: да хрен с ними, пусть борются: вот эти тела, я им даю одерживать победу, чего я буду морду мужику, который в три раза больше меня? Я же не могу этого сделать. Пускай он посидит вольготно, пусть он, наконец, выпьет водки с пивом, если он этого хочет, пускай он, например, рыдает, если у него есть к тому склонность сейчас, пускай он лежит, жалко, что я поспать не могу давать такому телу так много, как ему требуется, пускай он, например, не спит до пяти утра, когда ему это необходимо. Чего я буду с ними бороться? Это вот пускай они ведут себя как хотят. И когда они еще выясняют отношения между собой, там кто главнее, условно говоря, их как-то надо хорошо увидеть. То тело, которое хочет писать стишки, или то тело, которое хочет быть с любимым человеком любой ценой, а это часто входит в противоречие. Это два очень разных животных. И им тяжело очень друг с другом бывало. О чем мы говорим? Какое «я»? Я сейчас – это женское существо, это сознание, заключенное в это женское тело, и у него есть какие-то, видимо, серьезные задачи, раз оно тут как-то оказалось, ходит. Они в конце концов как-то договорились, я не заморачиваюсь уже, пусть живут как хотят. Но это не значит, что мне не больно, как назывался кинофильм Балабанова. Вот это меня бесит, вот эта идеология 90-х, про то, что нам не больно. Эта русская манера, что мы такие крутые, что нам ничего не страшно, – нет, нам больно и страшно, только мы не хотим этого показывать, а от этого только хуже.
ГОРАЛИК К счастью, в поэзии это проговаривалось и проговаривается.
ФАНАЙЛОВА Иначе можно было просто чокнуться.
ГОРАЛИК Моя подруга, психолог, высказала мне как-то версию о том, почему теперь в 90-е возникла традиция не отмечать сорокалетие. Она говорит – «появилось поколение бессмертных менеджеров», которые делают вид, что им не больно и не страшно, а вдобавок они не болеют и не умирают.
ФАНАЙЛОВА Это село на постсоветскую почву, на советское небрежение человеческой жизнью. Я сейчас как доктор начну говорить про чудовищное небрежение человеческой жизнью, к человеческой боли, к страху, ко всему объему того, что есть люди. Одна из причин, по которой я покинула медицину, – это то бесконечное пренебрежение к человеку как к сложному существу, как к живому существу, которое страдает, которое не является объектом. Отношение советской медицины к человеку – это объектное отношение.
ГОРАЛИК Койкоместо.
ФАНАЙЛОВА Это какой-то биоробот, который ничего не чувствует, не понимает, тупица, и мы ему сейчас все объясним, мы примем за него решение. Вот эта манера советских онкологов не говорить больному его диагноз, обсуждать там что-то с родственниками. Как это можно? До сих пор это устроено так. Я читала чудесную книжку воспоминаний Войно-Ясенецкого. С одной стороны, он был известен как знаменитый советский хирург, который продвинул невероятно хирургию и был таким светочем хирургической науки, а с другой стороны, он был известен в узких кругах как епископ Лука, а сейчас он канонизирован. А в советские времена это вообще было неизвестно. Он был автором учебника хирургии, светоч науки такой.
ГОРАЛИК Круга Павлова?
ФАНАЙЛОВА С Павловым они в переписке состояли. И у него по полостной хирургии есть работа, он пишет, обращается к врачам, чтобы помнили, что душа человека в этот момент трепещет, он просил врачей не позволять видеть больному подготовку к операции, усыплять его до операционной. Это до сих пор не исполняется. Душа больного по-прежнему трепещет, а помощи ей нету ни от кого из людей, которые его в этот момент окружают. Потому что они видят в нем по-прежнему какое-то мясное чучело. Россия живет в рамках героического мифа, а не в рамках реального существования, в рамках этого героического мифа нужно было погубить миллионы на Великой отечественной войне, погубить людей в революцию. Я уж не говорю про ГУЛАГ, про все эти геноциды, они все были самогеноцидами, это самоубийственное ощущение нации: нас много, и мы не любим друг друга, и мы можем пожертвовать любой человеческой жизнью. У меня такое ощущение, что русские хотят умереть, когда говорят о проблемах демографического порядка. Это какая-то чудовищная биологическая нелюбовь людей и к себе, и к другим, и желание самоубиться.
ГОРАЛИК Кроме того, сюда страшно рожать ребенка.
ФАНАЙЛОВА Так почему страшно? Потому что создали такую атмосферу чудесную. Мы и есть этот мир. И на этом поле можно только на себе все это отслеживать, отслеживать это зло в себе. В 90-е, когда я пришла в университет, мне казалось, что достаточно выучить в год двадцать молодых людей, рассказать им о том, что есть интеллектуальные инструменты для анализа действительности, что действительность позволяет быть проанализированной и что твоя собственная психика может быть объектом интеллектуального анализа. Мне казалось, что если в каждом городе несколько человек занимаются такого рода пропагандистской работой, то у России будущее существует. Каково же было мое удивление, когда в 2000-е годы я обнаружила реванш махрового антиинтеллектуализма. Интеллектуальное усилие 90-х оказалось недостаточным для того, чтобы вытащить думающую часть населения, того, что условно называется средним классом, по крайней мере привести его в то состояние, когда оно будет отдавать себе отчет в своих действиях. Народ не отдает себе отчета в своих действиях. Ты видишь сплошную бессознанку, ты приходишь в русскую православную церковь и наблюдаешь там сумасшедших людей, они бедные, они страдают, это толпа невротиков, они несчастны, и они хотят спасения как какого-то, прости меня, Г-споди, прагматического акта.
ГОРАЛИК Как анальгина.
ФАНАЙЛОВА И это очень видно на любой службе. Ровно то же происходит в любой конторе, только там молятся корпоративному духу, корпоративной этике. Я знаешь про что сейчас думаю? Про то, что для меня один из тяжелых сюжетов в России – это утрата исторической памяти, утрата непрерывности культурной. Первое заграничное впечатление было у меня то, как непрерывна там культура. Это был первый мой выезд, это была не Европа, это был Нью-Йорк. Это же маленькая культура, и ты видишь, как им дорого здание, которое построено всего-навсего в конце XIX века, и все – и здания, и городская среда, и парки, и какие-то скамеечки, и какие-то мелкие детальки. Ты видишь, как люди с любовью к этому относятся, и вообще я испытала огромный стыд за Россию, в которой просто «Доктор, у меня провалы в памяти». Ты смотришь на тело Москвы – и видишь, что у нее провалы в памяти. Я увидела, что Америка религиозная страна. Дело не в том, что там большое количество церквей, нет. В Москве церквей не меньше, чем в Нью-Йорке, но остальное пространство между этими церквами настолько лишено духа – так поработали над тем, чтобы его убить, этот дух, во всем остальном материальном мире, окружающем эти церкви, – что ощущение того, что Россия бездуховная страна, поражает по контрасту, после того как ты возвращаешься из Европы, например. Ну, про Европу я не говорю. Там просто огромная история, люди в этом воспитаны, и понятно, что религиозное воспитание для них есть часть общекультурного воспитания. Когда римские рабочие или служащие, идучи на работу, забегают в церковь, потому что это их реальная жизнь. Как в России далеко до этого. Обидно, когда начинаются вопли о патриотизме на каком-то ничтожном уровне.
ГОРАЛИК Я иногда думаю, что патриотизм – это три очень простые вещи: не орать на своего ребенка, доносить бутылку из-под пива до мусорника и не ссать под стены. Мне трудно принимать монологи о любви к своей стране от человека, который кидает бутылку на асфальт.
ФАНАЙЛОВА Этот ужас простирается от Калининграда до Владивостока. Пригрело солнышко, человек захотел выйти на природу – и обнаружил там горы мусора, которые были оставлены соплеменниками. Я пару лет бывала летом у своих друзей в заповеднике Дивногорье – это такое совершенно фантастическое место на юге Воронежской области, невероятной красоты природный заповедник, меловые горы. И там протекает маленькая речка такая элегантная, которая в Дон чуть ниже впадет. Каждое утро, выходя на пляж, мы с товарищами занимались тем, что сгребали мусор, который за ночь оставляли туристы, причем там стоит плакат, крупными буквами написано «заповедная зона», пожалуйста, не надо вот этого делать. Не надо гадить. Устройте место для костерка и сожгите вы это все.
ГОРАЛИК И ведь вынь этих людей из машины и спроси их, любят ли они свою Родину…
ФАНАЙЛОВА Конечно, любят.
ГОРАЛИК Мне кажется, так бывает с людьми, безразличными к своему ребенку. «Ты любишь ребенка?» – «Да». – «А какой он?» – молчат.
ФАНАЙЛОВА Может быть, наоборот – как русские мужики порой к матерям относятся: если я ее люблю и она меня любит, то она мне все простит, я могу бросить ей кучку нестираного белья своего, носки свои могу бросить? Она уберет – она любит. Родина-мать.
ГОРАЛИК Ты ведь много работаешь с этими темами как журналист?
ФАНАЙЛОВА Если говорить о рабочей биографии, то самый важный эпизод в ней – командировка в Беслан. Я не застала сам пик трагедии, но свою функцию я понимала как то, что мне предстоит поговорить с большим количеством людей и привезти на радио их голоса. Мы там были с моим коллегой Олегом Кусовым, который в Беслане родился. У нас была такая задача: привезти то, что называется «голоса свидетелей». Это такая, не знаю, социология, антропология. Эти методы европейскими историками, антропологами уже отработаны, люди давно уже это используют в качестве методологии, я имею в виду простое свидетельство.
ГОРАЛИК Устные истории.
ФАНАЙЛОВА Да. Мы записывали там устные истории. Потом просто выдавали их в эфир практически без всякого комментирования, кроме «говорит такой-то, он оказался в школе при таких-то обстоятельствах», или он был свидетелем вот того-то, того-то и того-то, и это были как сами пострадавшие, то есть и дети, и их родители, учителя. Это были медики, хирурги и патологоанатомы, это были следователи прокуратуры. Я увидела, что трагедия, катастрофа в таком библейском смысле слова, делает с людьми. Как ни странно, она открывает в них лучшие человеческие качества. Там абсолютно не было разницы, с кем я говорю и какое радио представляю. Был только один человек, который меня не пускал на платформу, куда каждый день приезжали родственники на опознания тел. На краю Владикавказа, в таком железнодорожном тупике. Типа двор железнодорожный. И там стояло несколько этих вагонов, буквально вагонов-рефрижераторов. Я сначала думала, что это неправда, когда бесланцы про это рассказывали, я думала, что это воспаленное воображение людей. Нет. Это действительно вагоны-рефрижераторы, куда были сложены тела, их туда увезли из морга, потому что, как мне потом объяснили, владикавказский морг просто не справлялся с этим количеством тел в жару. И вот эти несчастные люди раз в три дня ездили из Беслана, это все-таки километров двадцать, и потом пешком – до этого вокзала, у кого нет машины. Ехали, чтобы опознать своих несчастных родственников при помощи судебных медиков, которые тоже уже от этого всего сходили с ума. И молоденькие солдаты, которые полгода отслужили, из Ростова, из каких-то там окрестных мест. Единственное место, куда меня не хотели пустить, это и было, и был там лейтенант по имени Эдик. Вот он как-то пытался обмануть меня, сказать: что вам там делать? Зачем вы идете туда? Журналист? Идите ищите начальника, пропуск получайте. Ну, такой лейтенант Эдик, а остальные люди, вплоть до следователя Генеральной прокуратуры, с усталыми абсолютно лицами, садились, разговаривали. Это была запредельная какая-то усталость, и все плакали, когда говорили. Я видела реально, как большое количество людей может измениться просто в одночасье. Они же обычные совершенно люди, со всеми недостатками, которые людям присущи, ну то есть эгоизм, хитроватость, память о своих чинах, например, да? Все это как-то абсолютно улетучилось. То есть они не думали даже о том, что они говорят что-то, что не положено говорить начальнику госпиталя или там следователю Генеральной прокуратуры.
Меня тогда, помню, сильно задело, что происходит гуманитарная катастрофа, а вокруг этого очень много зон умолчания и псевдокомментариев, мне казалась ужасной спекуляция на эту тему, причем спекуляция из любого политического лагеря. Собственно, эта поездка для меня самой означала какое-то восстановление, что ли, человеческой справедливости. Что говорить должны не политики и кто-то, кто вообще не видел, что там происходит, а говорить должны люди, которые там живут, которые все это пережили. И мне было важно понять, что там за география, что там за картина мира, что за городок такой. Это маленький городок, по-русски – райцентр, можно сказать, со своей промышленностью, и небедный городок. В отличие от депрессивных русских городков, прекрасно выглядящий, чистенький, народ работящий, весьма достойный.
Там продуктовые заводы, И водка, на которой Осетия сильно поднялась. И завод шампанских вин. Город строили какие-то голландские инженеры, которые в 20-е годы приехали помогать Советской России, потом сгинули где-то, бедные, но успели построить несколько прекрасных зданий. Строительство началось в 1910-е годы, в эпоху промышленного расцвета Российской империи. Вокзал в духе модерна, пара заводов такого же типа из красного кирпича, то есть в архитектурном отношении очень культурное место. Очень какие-то достойные люди. Я видела девушек, которые рыдают, – это мамы вот этих детей, их сестры, на них не фальшивые, а настоящие итальянские тряпки. Когда ты это все издали воспринимаешь, тебе кажется, что это какое-то бедное, совсем депрессивное место. А дополнительный, что ли, ужас случившегося в том, что это прекрасное место, что, собственно говоря, средний класс Осетии пострадал в этом месте.
Первая школа в Беслане – это лучшая школа города, некоторые люди даже из Владикавказа возили в нее детей, потому что там хороший английский язык. Знаешь, как в маленьком городе – центральная школа, центровая, лучшие учителя, лучшие дети.
И они сами считали, что их Басаев решил за это наказать. Это удар по самосознанию осетин: «А не ходите с Россией! Нечего вам с Россией якшаться, Россию поддерживать! Вы думали, что вы такие умные, что на вашей водке и торговле с Россией вы тут будете процветать? Получите!» Если это так, то замысел в своем цинизме был сильнейший.ГОРАЛИК Это и есть настоящее зло?
ФАНАЙЛОВА Это настоящее зло как оно есть. В чистом виде. Избиение младенцев.
И еще один ужас там был – ну, точнее, понимание того, как там все устроено. Это очень маленькая зона, географически маленькая. Она даже меньше чем Московская область, Осетия. Там же очень близко Ингушетия, и Чечня довольно близко. Мы летим с Олегом на самолете, он мне показывает прямо из иллюминатора: «Вот, смотри, вот это деревня, где жил мой дед. Вот это деревня, где жила моя бабка. Вот они переехали вот туда. А вот это вот лесок, из которого, скорее всего, боевики пришли в Беслан».
Это все мне напомнило, как я в молодости несколько раз летала на самолетах санитарной авиации у себя в Воронежской области. Существует такой вид транспорта, как санитарная авиация, который перевозит больного очень быстро, на «кукурузнике» каком-нибудь. Вот это ровно те же пространства. Это все равно что твоя Воронежская область. Когда я это увидела, мне стало понятно, что вся эта кавказская история является крупным блефом со стороны Кремля. Видеть эту зону под собой – и не вычислить, где находятся там бандиты? Это означает только одно: что это все выгодно обеим сторонам, если не какой-то там и третьей, и четвертой, которая на этом нагревает лапы. Ну, при этом ты попадаешь… Сентябрь же был, солнце светит вовсю, природа невероятной красоты, то есть это место отдыха. Владикавказ вполне себе прекрасный город, выстроенный в стиле провинциального модерна, двух-трехэтажный, очень уютный. И у меня, когда я туда летела, была такая злоба против Басаева, никакого не было сомнения, что это его дело, это по почерку очень понятно. И у меня был какой-то гневный монолог, обращенный к этому человеку, – не человеку, он, конечно, не человек, я полагаю, а инкарнация какого-то зла абсолютного. Причем в очень смешной форме. «Басаев, подлый трус, выходи!» – говорила я, как кот Леопольд. А когда я туда приехала, я поняла, что это невозможно, что это какой-то Басаев, растворенный в воздухе. Это Басаев, которого невозможно персонифицировать, это нечто, что появляется ниоткуда, это зло, которое растворено, – оно здесь, оно внутри, и пока ты не поймешь, что оно в твоем сердце, ты не сможешь его увидеть. Не сможешь поговорить с ним, убить его, уничтожить, пока ты не поймешь, что ты – то же, что и он. И вот это тоже опыт той поездки, когда ты понимаешь, что это зло под названием «Басаев», как это все ни называй, – это дитя этой жизни, порождение этой цивилизации, порождение советского пространства. Его воспитывали какие-то другие люди, что ли? Я смотрела на этих новых мусульман. Мне было интересно поговорить с людьми, которые сейчас называют себя мусульманами. Во Владикавказе стоит мечеть, которая на всех открытках, это такая визитная карточка Владикавказа, прекрасная мечеть, построенная в конце XIX века на пожертвование некоего купца, который женился на местной красавице. И эта мечеть заработала с недавних пор, как, впрочем, и русские церкви. Может быть, восемь лет, может быть, десять. И я пошла поговорить с народом туда. Это молодые ребята, от восемнадцати до тридцати лет. Такие немножко маргинальные, кто-то бросил университет, кто-то с высшим образованием, но не мог найти достойную работу, и они при этом страшно увлечены исламом. Ты с ними разговариваешь – и понимаешь, что они неофиты. Точно так же, как и русские. То есть проблематика кавказского конфликта, она еще и в этом. Те люди, кого в России называют исламистами. Какие они исламисты? Они просто малообразованные люди. Они находятся ровно в той же стадии. И, когда говорится о том, что террор на Кавказе имеет исламское лицо, я нахожусь в сильном недоумении. Это люди, которые стремятся обрести свою идентичность. Это люди, у которых, конечно, дикое количество ошибок, но посмотрите на православных – они чем лучше? Так что к вопросу о Басаеве и прочих экстремистах, о которых, впрочем, сейчас все меньше слышно. Имеется в виду даже не на территории Чечни, с которой, как вы заметили, нам почти перестала доходить информация, или она имеет официально-позитивный характер.ГОРАЛИК Рассосалось.
ФАНАЙЛОВА Совершенно. Рассосался у нас чеченский конфликт. Вот каким-то хитрым образом, вероятно, Рамзану Кадырову все-таки, есть такая мысль, удалось отделить Чечню от России. А сведения до нас доходили из района Дагестана, например, что там поубивали очередных лидеров исламистского движения. Когда ты изучаешь газеты, оказывается, что лидеру исламистского движения тридцать четыре года, при этом он является доктором востоковедения, работает на Российскую академию наук, переводы делает, при этом страстный местный публицист. После его убийства там обыскивают этот домик, обнаруживают беременную жену, и остатки еды, и какую-то библиотеку.
ГОРАЛИК Может быть, он был уверен, что он – лидер исламистского движения.
ФАНАЙЛОВА И люди были уверены. Пацану тридцать четыре года. И он не является для меня никаким воплощением зла, а каким-то воплощением, я не знаю, детской идиотии. Как с таким ужасом я читала записки Че Гевары, когда он со своей мужской глупостью радостно и почти хвастливо описывает все эти путешествия через сельву и при этом еще и пишет о себе, что он делал как доктор, я думаю: «О, Б-же! Что у человека в голове?»
ГОРАЛИК Мне кажется, что идеологические войны – всегда войны молодых. После сорока тебе менее интересно, какой флаг поднимают каждое утро.
ФАНАЙЛОВА Возможно. Но существовал же Масхадов, которому было гораздо больше сорока. Я хочу закончить с темой Басаева как абсолютного зла. Все-таки это зло, которое находилось в человеческом теле, и, в общем, если ты внимательнее познакомишься с его биографией, истоки этого зла абсолютно понятны. Руки ему развязала страна, когда обучила его в недрах российского ГРУ и послала его в Абхазию. С этого все началось. А дальше человек, у которого нет уже какой-то части жизненно важных органов, но который продолжает огрызаться столь серьезным и изощренным способом, – он, конечно, вызывает нечто вроде изумления. При этом он, только не смейся, напоминает мне Ренату Литвинову. Я полагаю, что в нулевые было два медийных героя в России. Это Рената Литвинова и Шамиль Басаев – это люди, которые беспокоились о собственном пиаре, пожалуй, с тем же рвением, как и об экзистенциальном наполнении своих действий. Первое, о чем беспокоился Басаев, – это о том, чтобы у него были средства массовой информации, чтобы сделать так, чтобы о нем говорили как можно больше. Возможно, это циничное сравнение, но я сейчас рассматриваю тот пласт, где обитают духи public relations , духи медийности, и вот в этом пласте, если отбросить моральную сторону деятельности каждого из упомянутых мной персонажей, мне кажется, что это два главных героя нулевых годов. Может быть, сейчас жизнь Басаева ушла в тень, но для меня он остается пугающей фигурой, отсвет которой лежит на всех двухтысячных. Это все наша Родина, Басаев – это все равно наша Родина, а не какой-то там посторонний мусульманский террорист, который пришел как зло постороннее и к нам не имеет никакого отношения.
ГОРАЛИК А 90-е для тебя остались какими?
ФАНАЙЛОВА В 90-е годы я была одержима идеей просветительства, потом меня это все немного поддостало, это было какое-то внутреннее ощущение, что пора мне менять жизненный рисунок. Все закончилось тем, что у жизни появилось какое-то другое сильное наполнение, и, наверное, важно, что мне дает эта работа, я могу отслеживать большое количество информационных потоков и могу уже как-то их распределять. Это новое умение, как уживаются разные твои тела и ипостаси. Какая-то новая механика здесь включается. Мне уже приходилось отвечать на этот вопрос Андрею Левкину, как мои мозги в 90-е годы были устроены и сейчас: совершенно по-разному. В 90-е годы я понимала, что это все как компьютер сделано, что у меня там лежат, там пароли, я кликну – и у меня объем информации разворачивается. И это все лежит в разных местах. А сейчас все гораздо интереснее происходит. Я не так хорошо знакома со всеми этими новыми технологиями, но я понимаю, что мозг мой, по сравнению с 90-ми, продвинулся в деле управления информационными потоками и наблюдения за ними, а меня вообще интересует смысл прежде всего, содержательная сторона человеческой деятельности. То, как анторопос производит смысл, ради чего он существует, он вообще с Б-женькой когда-нибудь повидается или нет? Гармония мира будет знать границы или не будет она знать границ. Одна из вещей, которые меня очень занимают, – это то, как движутся смыслы. Не только в стране, но и в мире. Это можно все отслеживать по телеку, по Интернету, кино очень показательная в этом смысле вещь. Как тотальная проекция бессознательного.
Кинематограф стал инструментом социального и инструментом геополитического, если угодно, инструментом и больших политик, и эстетических тенденций. И в этом же смысле мне интересно за модой смотреть, но кино тебе и моду покажет.
Я разочарована литературой как делом, которым я занимаюсь. Не скажу «поэзией», но скажу «литературой». Та сфера человеческой деятельности, которая называется русской прозой, меня в 2000-е совсем не устраивает. В области смыслопорождений ничего нового для себя не нахожу, в области интертеймента она повторяет западные ходы, а поскольку у русских эсхатология мощная в подсознанке, она демонстрирует какие-то страшные сценарии бесконечные. Ну зачем мне это?
Я лучше, прости, Г-поди, почитаю священные книги, Евангелие, отцов церкви. Блейка, Джона Донна. Честертона я почитаю. Честертон вообще великий. И то, что к нему произошло возращение у многих интеллектуалов, это очень показательная вещь, очень симптоматическая. Потому что он показывает, где, как избавляться от нечеловеческого, как избавляться от демонского наваждения, которое тебе говорит, что ты бессмертен, и что ты не испытываешь боли, и что ты вообще такой крутой. В общем, в английской литературе представления о добре и красоте еще как заложены.ГОРАЛИК Есть теория, гласящая, что Британия – страна, которую легко любить, потому в XX веке у нее было меньше поводов стыдиться за свое поведение, чем у остальной Европы.
ФАНАЙЛОВА Конечно, Англия выглядит получше в XX веке, хотя есть эпизод в фильме Саши Зельдовича «Процесс», когда в том числе и Британия не принимает корабли с еврейскими беженцами. У меня есть подруга-англичанка, она при этом всегда подчеркивает, что она шотландка, это большая разница. И она бы вспомнила тебе здесь и Ольстер, и Ирландию, и Шотландию, и прочие вещи. Она специалист по медиа, отслеживала все русские выборы с середины 90-х годов. Она входила в молодежную коммунистическую организацию. Но потом как-то пожила у меня в 90-е годы. Как-то полночи не спит, утром ей нужно лететь обратно в Англию, она говорит: «Ты знаешь, пожалуй, я выйду из компартии». Это после того как я ей про Советский Союз порассказывала. Ты меня просила наполнять людьми мои 90-е годы – ну вот, в частности, такая история.
ГОРАЛИК Как вы с ней познакомились?
ФАНАЙЛОВА В Воронеже существует старая традиция связи с британскими студентами, это к вопросу об Англии в моей жизни. Романо-германский факультет университета один из лучших в европейской части России. И несмотря на то что город был полузакрытым в советские времена, потому что там зона военных заводов, английских студентов приглашали, стажеров, существовало целое общежитие, где они проживали. И, естественно, студенты всех остальных вузов, если чувство жизни у них было, немедленно шли знакомиться с англичанами. Там была такая почти субкультура: мы одевались, как они, потому что они привозили нам какие-то шмотки, дарили их, была такая студенческая прослойка, которая одевалась, как английские студенты. Мы их обучали русскому языку и адаптировали к действительности, потому как они были, конечно, в шоке от этих сортиров, от отсутствия воды, от того, как с ними обращаются в магазине и на почте. Были еще какие-то специалисты английские, инженеры, которые приезжали что-нибудь чинить, но каждый год КГБ устраивал какой-нибудь показательный процесс, и газеты по весне обычно писали, что с позором изгоняется какой-нибудь английский инженер или английский студент, который с фотоаппаратом ходил возле этих самых помещений заводов. Изгоняется английский шпион. У меня еще есть одна прелестная рассказка, связанная с Джиллиан и Воронежем. В середине 90-х годов в Воронеже рок-движение расцвело, и там появился рок-клуб под названием «Фидбек». Дико популярное местечко.
ГОРАЛИК Это какой год?
ФАНАЙЛОВА 95-й, по-моему. Мы с моей подругой Джилиан любили посещать это заведение. Я уже не помню, ФСБ это уже называлось или еще КГБ, но эти люди не дремали и вызвали кого-то из нашей любимой панк-группы «Молотов коктейль», для того чтобы уговорить этого человека рассказывать периодически, что там происходит. С большим энтузиазмом в глазах он сказал: ребят, конечно, я буду, это очень важное дело, это невероятно важное дело, и я, конечно, буду с вами сотрудничать, но при одном условии: пистолет дадите? Офицер заорал: вали отсюда, идиот! Это о городском наполнении, кто меня там интересовал в 90-е годы, это тусовки брата, это рок-н-ролльщики. Брат занимался всякой альтернативной молодежной культурой в городе, довольно странно, что она вообще была. Городок такой очень мещанский, ну, по определению своему ему не нужно быть высоко духовным, у него другие радости, он не для этого существует. И, собственно говоря, в конце 90-х более или менее вся эта альтернативная туса в Москву и Питер и перебралась, и журналистская, и художническая. Ну, кто-то остался, Сережа Горшков сейчас там куратор галереи современного искусства. Он друг Андрея Бильжо и автор скульптур в клубе «Петрович». Вот Сережа сам себе там организовывает художественную жизнь. Надо сказать, у него хватает на это темперамента и артистизма, собственно говоря, я к нему в Дивногорье ездила, это мы с ним разгребали там вот это говно, которое оставляла за собой нация. Быть художником в провинции вообще-то какой-то персональный подвиг. Есть люди, которые более или менее легко к этому относятся, но я себя там чувствовала все время абсолютным уродом, который вынужден молчать, скрываться и таить. Я устала от этого, и потом, трудно было совмещать фигуру пишущего и фигуру женщины, которая хочет жить какой-то там личной жизнью. В провинции это очень прозрачная и беззащитная ситуация. Это такая зона, где нужно иметь какое-то немереное количество душевных сил, и не всегда ты выходишь победителем из этой борьбы, а Москва и Питер как мегаполисы больше возможности для адаптации предоставляют.
ГОРАЛИК Среди сборища фриков можно было найти своих?
ФАНАЙЛОВА Безусловно, я была рада, что нашла фриков, похожих на себя. Собственно говоря, и фрики на радио «Свобода» были в достаточной степени похожи на меня. Но сейчас я могу покинуть, мне кажется, все свои фриковские семьи. Может быть, это самоуверенное заявление, но привязана я, может быть, к трем-четырем людям. Я должна сказать еще о том, что для меня знаковая встреча – это встреча с композитором Десятниковым, это как раз 99-й год, когда я понимаю, что мне нужно менять свою жизнь. Я увидела перед собой человека одного со мною миропонимания и очень большого внутреннего достоинства, исказить которое не могут обстоятельства богатства или бедности, счастья или несчастья, славы или ее отсутствия, включенности или невключенности в некие социальные процессы. Я Леню во многом считаю для себя образцовой поведенческой моделью в смысле отношений с внешним миром. Меня эта встреча очень утешила и продемонстрировала мне, как нужно себя ощущать в этом мире. Мне дружба с ним очень сильно помогала долгие годы.
ГОРАЛИК Она сохранилась?
ФАНАЙЛОВА Он как раз один из трех-четырех людей, без которых я, в сущности, не могу обходиться. Думаю, что еще несколько человек могут сказать про него то же самое, потому что он грандиозный друг.
ГОРАЛИК Я упорно обхожу тему твоих текстов и вообще литературы, потому что мне хочется, чтобы разговор был про тебя, а не про них.
ФАНАЙЛОВА Да что про литературу? Она же написана! Что ее пересказывать?
ГОРАЛИК Давай я попробую вот так: кем бы ты была, если бы ты не была поэтом?
ФАНАЙЛОВА Ну, я вообще-то не поэт. Я просто использую поэзию как инструмент для того, чтобы сказать то, что я хочу сказать. Для того чтобы выразить нечто, что меня тревожит, при этом надеюсь, что тревожит не как такую девочку, которая стишков решила пописать, а как человека, который что-то, наверное, про общую жизнь понимает. Чувствует фон какой-то информационный и психобиологический фон. Ну, то есть антропологическим инструментом я себя чувствую вполне. В Германии есть такие исследования, которые о поэзии как раз говорят как об антропологическом инструменте, а не как литературе, поэзию выделяют специальным образом. Я себя поэтом в русском смысле не чувствую. Скорее каким-то человеком, который в доступной ему максимально сжатой, максимально элегантной форме, поскольку ритм и рифма – это очень такая сжатая вещица, рассказывает то, что ему кажется важным. Что это действительно важно, я поняла только лет в двадцать семь, может быть. До того у меня не было уверенности, что у этого письма есть общая значимость какая-то. Потом наступил сюжет с журналом «Родник» и Левкиным, и вот для меня это было точным ответом, что я права. Ну, я когда-то там отправляла стихи в газету в пятнадцать лет, они там оказывались, а после этого я в двадцать семь отправила стихи, до того я их никогда никуда не отправляла.
ГОРАЛИК А почему?
ФАНАЙЛОВА А как-то бессмысленно было, ты знаешь. Там было очень много жизни в этот период, во-первых, история с мамой, с ее смертью, медицинский институт, первые годы работы – эта социализация для меня происходила крайне травматично, и я к тому же понимала, что произвожу некие тексты, которые непонятно где могут быть услышаны. В Воронеже как-то пару раз напечаталась в молодежной газете, но, честное слово, у меня все эти местные литераторские тусовки вызывали какое-то огромное чувство неловкости. Ну, я могу прикидываться сколько угодно и быть вежливой сколько угодно, но я в конце концов устаю от этого театра, и я понимала, что мне просто некуда стихи предлагать, чего, в общем? А тут я увидела смысл, я увидела, куда я могу все это отправить.
ГОРАЛИК Зачем? Почему? Потому что эти люди поймут, что ты говоришь? Потому что текст окажется в контексте?
ФАНАЙЛОВА Во-первых, да. В контексте, потому что эти люди на таком же языке, как и я, говорят, а этот язык не линейный, то есть то, чем нам предстояло заниматься в конце 80-х годов… русская поэзия не советская, она идет по совершенно другой ветке, эта ветка где-то почти погибла в 30-е, и она устроена весьма сложным образом, о чем, я, может быть, сейчас не очень готова говорить, в общем, она скорее похожа на четырехмерное пространство, чем на двуплановое, которым была поэзия советская. И я увидела, что товарищи, которые группируются вокруг редакции журнала «Родник», заняты примерно такой работой, она мне показалась похожей на то, что происходит в моей голове, и я туда отправила тексты – и не ошиблась. То, что для меня сделал Левкин в моей литераторской биографии – он серьезно инструментализировал мое психическое состояние, потому что в двадцать восемь лет я была гораздо дурнее, чем сейчас, невротичнее и вообще не понимала, что это меня разносит на куски. Все это колебание пространства и разных бесконечных пространств, в которых ты оказываешься умом. Левкин научил меня определенным правилам гигиены и подходам, с которыми следует к своей психике относиться. У него есть прекрасный текст, «Серо-белая книга», которую я рекомендовала бы всем начинающим литераторам, это руководство по технике безопасности для начинающего пишущего и вообще молодого бойца. Когда про Андрея говорят, что он писатель для писателей… Для меня он прежде всего технолог не столько текста, сколько отстройки психики, писательского сознания.
ГОРАЛИК Звучит отчасти так, как будто твою жизнь как поэта ты вынесла за отдельную дверь.
ФАНАЙЛОВА Я бы сказала, что ничего подобного. Это уже ты имеешь сейчас дело с искусством управления внутри одного мозга.
ГОРАЛИК Как оно осуществляется?
ФАНАЙЛОВА Поскольку моя задача сейчас вербализировать кое-что, я просто это довольно сильно рационализирую и пересказываю, как оно происходит. Что в голове и в тушке происходят разные странные процессы, которые могут происходить, я догадываюсь, только у поэта. Я уверена, что Б-г меня в этом виде сделал для этого, у меня такой набор психобиологических качеств, который необходим для того, чтобы быть хорошим русским поэтом. В том числе и не слишком удобных для меня самой и окружающих качеств.
ГОРАЛИК Какие задачи это позволяет решать?
ФАНАЙЛОВА Наверное, я довольно страстная, я очень эмоциональный человек, но я умею это наблюдать и описывать. Для того чтобы описать, нужно немножко отстраниться. То есть я еще и довольно ментальный человек. Вот если попытаться разложить себя на какие-то литературные фигурки, то возьмем «Опасные связи». Это одна из моих любимейших вещиц, как книжка, так и кино Фрирза. Это одно из произведений, которое позволяет молодому человеку себя лучше узнать. Понимаю, что это может прозвучать самонадеянно, но мне кажется, что эмоционально душа моя устроена как у бедной девушки де Турвиль, которую Пфайфер играет, а ментально она маркиза. Все, что говорит Мертей, феминистский кодекс чести, который она там произносит, – это тот ход мысли, который я проделала в молодости.
ГОРАЛИК Главный трюк, кажется, в том, что при этом она чувствует себя живой.
ФАНАЙЛОВА В чем большая заслуга этого романа – там показано, как она это скрывает, как она это не желает показать, и только по ее оговоркам, недомолвкам и по случайным реакциям мы можем понять, что она на самом деле любит Вальмона и что это борьба за любовь происходит таким образом. Вообще я полагаю, что поэту нужно быть ебнутым на всю голову, ебанутым абсолютно, не иметь ни малейшего страха вообще ни перед чем.
ГОРАЛИК И при этом всего бояться.
ФАНАЙЛОВА Это конечно. Боженьку вообще-то как-то неплохо побаиваться.
ГОРАЛИК Да. Понимать, что такое «бояться».
ФАНАЙЛОВА Конечно. И все время на этой грани находиться, на грани священного ужаса и бесстрашия ожидания любого психического состояния, которое может тебя посетить. Поэт – очень выносливое существо. Я очень выносливое существо, очень терпеливое, такое прям по-злобному терпеливое. Злопамятная невероятно. Годами могу помнить. Ну что еще нужно поэту?
ГОРАЛИК Людей любить.
ФАНАЙЛОВА Я не могу сказать, что я их очень люблю.
ГОРАЛИК А как?
ФАНАЙЛОВА Ну, это любовь по человеческим меркам прохладная, прохладноватая. Я как-то не очень люблю ни русские дружбы, ни русские любови с их «целованиями в дисню», вот этой степени астральной грязцы не переношу. Мне трудны русские тусовки из-за этого всяческие. Но я сострадаю им. При этом не вынося себя за рамки общего всего. Я и себе сострадаю в той же мере, как людям. Но и спрашиваю – я хочу спрашивать с людей так же, как я спрашиваю с себя. А я довольно строго с себя спрашиваю. А здесь бывают проблемы некоторые, люди же не обязаны отвечать моим требованиям.
ГОРАЛИК У тебя не получается разнести это? С себя спрашивать по одному счету, а с них – по другому?
ФАНАЙЛОВА Честно говоря, не вижу в этом смысла. Я же тоже человек. Я в этом во всем существую. Почему я должна относиться к себе по-другому? Не думаю, что я должна жалеть себя больше или не жалеть себя больше, чем людей. Я стараюсь быть в таком балансе. Потому что иначе ты становишься либо человекоугодником, либо человеконенавистником. Наверное, я им сострадаю, а любить – сомневаюсь. Потом, умение идентифицироваться с людьми еще предполагает умение прикидываться, то, что называется артистизмом. Ну, для меня это довольно важно, мне было бы скучно находиться в одном психическом состоянии, писать от лица одного и того же персонажа, и это такой отчасти театр персонажей.
ГОРАЛИК Кто тот внутренний мужской персонаж, от имени которого ты иногда о себе говоришь, – не в мужском даже роде, а по-мужски? «Я, как солдат, приходя с войны…» Там это твой дед. А вообще?
ФАНАЙЛОВА Ну, этот мужской персонаж – такой очень самостоятельный, человек с профессией, он офицер…
ГОРАЛИК Он немножко проще тебя при этом, нет?
ФАНАЙЛОВА Конечно. Мужчина проще женщины.
ГОРАЛИК Почему офицер?
ФАНАЙЛОВА Человек долга. Офицер в широком смысле этого слова. Он был на театре военных действий, скажем так. Недавно писала о Лакло и думала, как мне этот тип психики знаком, с его повышенным чувством долга и пониманием, что от него зависит какое-то количество людей. Этот мой внутренний мужчина скорее военный человек, хотя у него существует и гражданская профессия, он может быть, например, военным врачом, он может быть писателем. Иногда я думаю, что он священник. У Бродского я встретила мысль, что если бы он не был поэтом, он был бы врачом или священником. Ну, врачом я в этой жизни побывала и в русском советском мире я им быть не желаю, но, возможно, внутренние какие-то его черты у меня сохраняются. Этот мужчина – он может быть и врачом. Капитаном Бладом.
Борис Херсонский
...
Херсонский Борис Григорьевич (р. 1950, Черновцы, УССР). Окончил Одесский медицинский институт. Работал психоневрологом, психологом, психиатром, журналистом. С 1999 года заведует кафедрой клинической психологии Одесского национального университета. Переводил с украинского. Лауреат 4-го и 5-го Международного Волошинского конкурса (2006, 2007), фестиваля «Киевские лавры» (2008), специальной премии «Московский счет» (2007), стипендии Фонда им. И. Бродского (2008), поэтической премии Anthologia (2008), специальной премии Literaris (Австрия, 2010), «Русской премии» (диплом второй степени, 2011).
ГОРАЛИК Расскажите, что можно, о семье до вас.
ХЕРСОНСКИЙ Я родился в семье еврейской, в общем-то, составленной из двух не очень похожих половинок. Отец – одессит в пятом поколении, его отец и дед были врачами, он был человеком вполне ориентированным на европейскую и русскую культуру, знал немецкий язык. А дедушка мой учился медицине в Гамбурге, его выдворили из Германии, когда началась Первая мировая война, как гражданина враждебной державы. Это есть в «Семейном архиве», и это святая правда. Моему папе было ясно, что он должен блестяще окончить институт, поступить в аспирантуру – в общем, делать научную карьеру, но тут как раз и наступил 1949-й год, и вдруг оказалось, что ни о какой научной карьере для человека с его национальностью речи нет. И ему пришлось очень быстро уезжать из Одессы, поскольку он писал стихи, и он, конечно, писал стихи советские в то время, но не такие, чтобы на него не навесили ярлык космополита. Кстати, навесил на него этот ярлык отец моего близкого друга – мы с другом потом перебирали эти архивы. Но до этого папа прошел войну, так, «скромно», он воевал года где-то два, ходил в атаку, дважды был ранен в одну ногу: когда он женился на маме, через четыре года после Победы, он стоял на костылях. В общем-то, такая себе история. Папа – знаток русской поэзии, ему восемьдесят семь лет, но он может сейчас читать русские стихи часами, и если кто-то из нас двоих ошибается в слове, читая стихи, это я, а не он, – это меня всегда поражает. Если говорить вообще о наставниках возможных в поэзии, то, конечно, это прежде всего папа, хотя он «познакомился» со мной довольно поздно. Когда я был где-то в классе девятом, он вдруг обратил на меня внимание – на то, что я что-то читаю и что нужно срочно подсунуть мне того же Пастернака, для того чтобы Маяковский, Рождественский или Вознесенский не стали моими окончательными кумирами. Надо сказать, он очень быстро этого добился. Иное дело – мама. Мама тоже доктор. Мама моя умерла пятнадцать лет назад. Она была замечательным детским врачом, папа же был ведущим врачом-невропатологом в Одессе. А быть ведущим невропатологом в Одессе – это не так уж и просто: одесские доктора, пока евреи не «охладели» к медицине, были довольно сильными. Семья моей мамы уже была проще отцовской. Моя бабушка номинально была учителем русской литературы, но, по-моему, она в основном помнила, что «университетами» Горького была его жизнь, – она очень часто это повторяла, и я это запомнил. Конечно, она изумительно готовила, работала в основном дома. Только во время войны ей пришлось потрудиться, а в мирное время на хлеб зарабатывал дедушка. Я до сих пор не знаю, как именно, и этого никто не знал. Единственное, что мы могли понять, – это то, что он зарабатывает достаточно, чтобы семья не нуждалась. Еще я могу сказать, что это имело отношение к канцелярским делам, потому что он иногда приносил с работы бумагу и копирку, которые пригодились мне гораздо позже, когда я начал писать стихи. Любимой песней его была «От бутылки вина не болит голова, а болит у того, кто не пьет ничего». Там, оказывается, были строки о Марксе и Энгельсе, которые я тоже не знал, и слышал только от дедушки, и больше никогда не слышал: «Первым пьем за того, кто создал „Капитал“, а за ним за того, кто ему помогал». Когда я был ребенком, мне почему-то казалось, что речь идет о человеке, который сколотил деньги. А я понял теперь, что, может быть, дедушка имел в виду то же самое. Дедушка был чрезвычайно жизнерадостный человек, и бабушка тоже была оптимистичной, хотя именно их семьи наиболее пострадали от холокоста, и 42 листика из «Яд Вашем», которые лежат у меня, – это их семьи. К сожалению, не нашел ни одного человека, который сделал бы ту же работу (собрал бы данные о погибших) для моей другой бабушки, но и там, я знаю, погибло много людей. Я, конечно, воспитывался во время школьных каникул именно у этих дедушки и бабушки. Дедушка-доктор умер очень рано, мне тогда было четыре года, и у меня остались самые смутные воспоминания, ну и, конечно, рассказы папы, который боготворил своего отца. Дедушке не повезло ужасно. Он был доцентом, заведовал клиникой детских болезней, собственно, он и основал детскую клинику в Одессе, Он прошел всю войну, был начальником неврологического госпиталя, но имел боевые ордена. И вот опять 1949-й, 1950-й, 1951 годы. Им начали «заниматься», то есть сначала его отовсюду уволили, а потом его начали «вызывать». Один раз его продержали в органах, всю ночь допрашивали и отпустили. Второй раз его вызвали, ночь продержали, так и не вызвали на допрос, и его вновь отпустили. Он вернулся, и через несколько часов у него развился первый инсульт, после которого он уже не оправился, и дальнейшие допросы были бессмысленны. В 1955 году он умер от повторного инсульта. Ну что я могу сделать? Ухаживать за его могилой и сохранять специальные книжки, а также две тоненькие поэтические книжки, которые он написал в 19-м году. Это были книжки эпиграмм, по большей части политических, поэтому понятно, почему дедушка их сжег. Различные партии приглашают к себе свободу в свои объятья – ну, речь идет о 1917 годе, и конец там такой:
А ее сомненье гложет,
Чьей теперь отдаться власти:
Каждый пылок, каждый может
Придушить в припадке страсти.
Совершенно неожиданно эти книжки нашлись. Мы думали, что дед уничтожил их все. Но они сохранились в архиве его питерского знакомца. А получил я их от нью-йоркского коллекционера. Вернее, не подлинники (их коллекционер хранит бережно), а цветные ксерокопии – мне достаточно. В общем и целом, из моих двух родителей значительно более эрудированным был папа, а семьей управляла мама, и в целом это было нормальное разделение труда. Я хорошо помню своих бабушек: главой в семье были всюду женщины, а бабушка со стороны отца еще и отличалась жестким характером и цепким аналитическим умом, который она сохранила до глубокой старости. Я могу говорить о своей семье очень много. Это была большая, очень разветвленная семья, хотя мои родители были единственными детьми, зато двоюродных, троюродных бабушек, дедушек, сестер огромное количество, людей живых и мертвых с групповых фотографий, которые с детства меня обступали. Я понимал, что я не совсем один.
ГОРАЛИК Как было устроено детство?
ХЕРСОНСКИЙ Самые ранние воспоминания у меня касаются городка Старобельска Ворошиловградской (ныне Луганской) области. Это место, куда папу отправили по распределению, а если говорить точнее, то место, куда он уехал из Одессы. Папе было двадцать шесть лет, маме – двадцать три. Я помню, мы жили в доме, который стоял в центре большого участка, – это была половина дома. В книжке кроме «Семейного архива» там есть второй цикл, он называется «Письма М.Т.». Там первое стихотворение «Память» содержит подробное описание дома, соседей, то есть я как бы раскручиваю все детские воспоминания, когда-то я говорил папе с мамой, что я помню время, когда мне было два с половиной года. Они мне говорили, что этого быть не может. Тогда я сел и нарисовал им план того дома и двора, где мы жили, где были качели, где сарай и т. д. А чисто в бытовом отношении это было бедное, а иногда и почти нищее детство. Все работали, на те деньги, которые тогда платили врачам, прожить было почти невозможно. Иногда пациенты из села приносили курицу – это была традиционная взятка доктору со времен Древней Греции. Помните «петуха Асклепию»? Асклепию, богу врачевания, приносили петушка, и эта традиция сохранилась до советских времен. Это последние слова Сократа: «Мы должны петуха Асклепию». А так – фанерная мебель без всяких изысков, среди этих предметов – несколько очень хороших, случайно оставшихся, потому что, конечно, все, что было у родственников до войны, было разграблено. Все это было «в дешевом затрапезе»: клопы – да, тараканы – да, растопка печки углем – да, подвалы, куда надо было сходить, – да. Об этом обо всем пишу. Что еще, о чем я написал в одном стихотворении, но мне Людочка посоветовала вычеркнуть эти строчки как неправдоподобные:
В том подвале стреляло людей ЧК,
От шершавой известки горит щека,
И что-то еще в этом роде, но дело в том, что в том доме, где мы жили в Одессе уже, действительно была ЧК. Действие рассказа Бабеля «Фроим Грач» происходит именно в этом доме. На площади Потемкинцев, ныне вновь Екатерининской. И я своими глазами видел предсмертные надписи на стенах, когда мне было десять-одиннадцать лет, когда я мальчишкой лазил по подвалам с китайским фонариком. Это правда, но когда об этом пишут, это создает впечатление искусственности или надуманности. Я всегда говорил, что не бывает надуманных чувств: ты никогда не выдумаешь таких вещей, которые показывает тебе реальность…
Вот такова была общая атмосфера: папа работал, мама работала, воспитывала меня в Одессе одна бабушка, в Черновцах – другая. Почему-то меня очень хотели выучить музыке, которую я очень любил, но несколько лет в музыкальной школе привели к тому, что я бросил слушать музыку, не только играть, и до сих пор слова «Сонатины» Клементи, «Бирюльки» Майкапара, «Этюды» Черни меня приводят в ужас. Но через лет пять после бегства из музшколы я «отошел», и сегодня у меня очень хорошая классическая и джазовая фонотека, и музыка для меня – один из главных наркотиков. Классика, между прочим, до XIX века, как правило, и XX век. Очевидно, я так и не простил романтикам того, что их преподавали в музыкальной школе.
В Старобельске я жил лет до трех, потом меня перевезли в Одессу, это было тогда, когда дедушка умирал. Там тоже была история: папа приехал к своему умирающему отцу, за что его собирались судить – он покинул место работы. В то время оставить работу – это было подсудное дело, а его не отпускали, несмотря на болезнь дедушки. Но как бы то ни было, папа уехал. Его не осудили, по-моему, даже суда как такового не было, а было какое-то дополнительное отяжеляющее переживание, которое папа не забыл и не простил никогда. Это было уже послесталинское время, и репрессивная машина на какое-то время забуксовала. Быт одесский, такой же практически, как старобельский. С той разницей, что квартира была просторной: две большие комнаты в коммуне, потом одну разделили. А что касается одежды, мебели, еды… Картошка с селедкой по воскресеньям считалась лакомством. И в дальнейшем это было так до рождения моей сестры, где-то до 1960 года, когда у папы начала появляться частная практика, незаконная, конечно, но это была реальность того времени.
И семья начала жить чуть лучше, и как-то так понемногу все налаживалось, можно уже было начинать восстанавливать библиотеку, потому что библиотека почти вся погибла в войну. И тогда уже я тоже сознательно подключался к этому делу, искал какие-то книги, покупал их, и это продолжалось очень долго. Мои родители беспартийные. Дедушки и бабушки беспартийные. Дедушка со стороны отца состоял в партии «Бунд» одно время, потом из нее вышел и, к сожалению, написал об этом в анкете. Хотя бундовцы были очень левые, практически те же коммунисты с еврейским акцентом, и было непонятно, почему большевики так на них обиделись. Советскую власть в моей семье не любили, но до поры не говорили мне ничего и позволили быть сознательным октябренком. Прозрел я относительно рано. В десять лет дедушка Ленин был еще положительным героем, а уже в одиннадцать он казался мне чудовищем. Не в последнюю очередь потому, что в доме слушали ВВС (было такое выражение «взбибисился»), кроме того, проходил тогда XXII съезд, и это обсуждалось, и что самое главное, приходил в гости папин приятель, дядя Боря Горенштейн, который, во-первых, был злостным антисоветчиком, а во-вторых, немного глуховат. Он говорил громко, и с ним надо было говорить громко, поэтому скрывать от меня что-либо было уже невозможно, и я с большим энтузиазмом во все это включился. Ну, грешные же люди дети, очень любопытные: иногда заглядываешь в ящики столов родителей и находишь разные вещи. Я нашел там на тонкой папиросной бумаге перепечатанные различные книжки, статьи – и тоже очень плотно включился в их чтение, мало что тогда понимая. С нами тогда жила двоюродная сестра папы, тетя Рая Фишман, которая работала на киностудии, имела знакомства в диссидентствующих кругах. Она-то и была основным источником антисоветской литературы, и я ей очень обязан. Самиздат тогда назывался «ватой».
Школа до шестого класса была для меня пыткой, я впервые столкнулся тогда с антисемитизмом. Я был слабый мальчик с «типичной» внешностью, склонный к полноте, и надписи на парте «жид», надписи в учебнике сопровождали меня с первых лет школы. А я этого вообще не понимал, потому как мне ничего о нашем еврействе не говорили. Помню, на концерт в музыкальной школе мне купили украинскую вышиванку, и я говорил, что теперь я буду хороший украинец, а родители пересмеивались, а я совершенно не понимал, чему они пересмеиваются. А когда мне все стало ясно, я не понял, почему они мне тогда купили эту вышиванку, я и сейчас этого не понимаю. Это, кстати, отразилось в цикле стихотворений «Первое сентября». Там есть такая фраза: «Человек вылетает в космос, а ты – из школы». Я в конце концов не вылетел, а дело было так. Ты сидишь, а тебя сзади – иголкой. Ну что? Можно пожаловаться – но нельзя жаловаться. Сидеть просто так при этом трудно. Ты начинаешь или ерзать, или, когда тебе это надоедает, ты поворачиваешься и выясняешь отношения с обидчиком. Но в глазах учительницы агрессор – это ты, тебе пишут замечание в дневник за плохое поведение. Я до поры держался и стал злостным нарушителем дисциплины. Помню, как я стоял на площади Потемкинцев, и Елена Алексеевна, ныне покойная «учительница первая моя», мне говорила: «Вот, человек вылетает в космос, а ты вылетаешь из школы». В конце концов в наказание меня перевели в другой класс, и тут началось мое почти счастливое детство, потому что там оказался на диво удачный коллектив, было несколько ребят, с которыми я подружился, и с одним из них я дружу до сих пор, он здесь, под Москвой, очень крупный физик-теоретик. Я ему, кстати, тоже очень многим обязан. И в общем и целом, мы уже начинали дурачиться, придумывать какие-то песенки. Появилась, начиная с шестого класса, нормальная компания. Школа была восьмилетка, и через два года этому пришел конец, мне надо было искать другую школу. И тут-то я попал в школу номер сто шестнадцать, которая была интеллигентским еврейским «заповедником» Одессы, называлась она «средняя школа второй ступени с политехническим обучением». Там были только девятый-одиннадцатый классы, по нескольку классов на каждом году обучения. Там я был в классе программистов, а были радиомонтажники, слесари и даже класс пионервожатых. В классе пионервожатых были все девочки, прекрасная актриса Белохвостикова там как раз и училась. И всего один мальчик – Эдик. Его, конечно, прозвали Эдитой. И эта школа имела почти прямые контакты с МФТИ, и лучшие выпускники нашей школы попадали именно в физтех. Туда и попал мой друг. Это была вольница, абсолютная почти. Там можно было позволить себе все что угодно. Вот опять же строчка из моего стихотворения: «Никитка летел с колокольни, расправив крылья»… Когда Хрущева сместили, объектом нашего внимания стала картина «Никитка, первый русский летун», которая висела у нас в коридоре; к фигуре летуна, а точнее, прыгуна, приклеили голову Хрущева, и, конечно, вся школа собиралась и смеялась, и это не повлекло никаких неприятностей. Лозунг «Феодализм есть Христово царство плюс алхимизация натурального хозяйства» открыто висел на сцене во время одного из КВН. Огромная морда красноармейца в профиль с открытым ртом служила как задник, мы фотографировались, положив голову ему в пасть. Это 65-66-й год и начало 67-го. Там я познакомился с несколькими очень интересными ребятами. А когда я был в девятом классе, я впервые увидел Алексея Цветкова, который тогда был в Одессе. Это был худенький, низкорослый мальчик, который писал стихи, от которых мы все шалели. Я помню стихотворение, которое начиналось: «Я колоколом был, когда я не был». О реинкарнации тогда мы еще не знали, это тогда для нас была еще неразработанная идея. Это была еще и идея мыслящей неодушевленной материи. Для нескольких поэтических строчек – очень много. И у меня воспоминания очень фрагментарные: я помню некоторые строчки, и я помню, как Алексей удаляется вверх по Греческой, а мы стоим с Борей Владимирским около сто шестнадцатой школы и глядим ему вслед. Боря Владимирский давно эмигрировал и издает какой-то еврейский журнал в Сан-Диего. Это был очень способный человек. Мальчиком он писал очень взрослые стихи. У него была интеллигентная семья, через которую тоже шел узкий поток самиздата. Я ему тоже многим обязан, и первого перепечатанного Мандельштама я получил из его рук. Конечно, сто шестнадцатая школа – это было нечто. Один раз заболела наша учительница литературы, и наши сочинения дали проверить учителю из другой школы. И это уже был скандал, это уже был человек из КГБ в школе. Чем я обязан моему другу-физику? Судьбой! Я очень неплохо успевал по математике, Одесский медицинский был для еврея категорически закрыт, и негласно было понятно, что я или поеду в физтех, или буду поступать в Одесский политех. О литературе, хотя я тогда стихи писал, я и не мечтал, потому что мне было ясно, что это невозможно или стыдно… И я готовился к карьере физика, и нас вместе с моим приятелем Женей отдали одному преподавателю. И тут я увидел, что мне нужно минут пятнадцать для решения задачи, которую Женя решает за три. И тут я понял, что я, может, и неплохой математик, но я недостаточно хорош. А недостаточно хорошим я быть не хочу. И тут я впервые проявил силу воли, и моим родителям не удалось меня поместить в технический вуз, мне пришлось уезжать из Одессы, и я пошел в медицинский институт, о чем я не жалел ни одной минуты. Понятно, что я поступал на Западной Украине, более либеральное в то время место. Я проучился там полтора года, а потом у меня там возникли неприятности, связанные с КВНом: мы неудачно пошутили, нас исключали из комсомола, почти из института. Наша шутка, я ее до сих пор помню:Ой, з болота, з очерета,
Тягне Федір кулемета.
І хто зна кого чека,
Чи парторга, чи ЧК…
(Ох, из болота, из камыша, тянет Федор пулемет, и кто знает, кого он ждет – парторга или ЧК?) Даже для 1968 года неудачная шутка. В 1973-м она была бы совершенно неуместна… Так что нам повезло.
Мы были, конечно, страшными идиотами, но по счастливой случайности у меня были очень хорошие отношения с комсоргом. Мы с ним вместе в церкви на Пасху стояли рядом (я уже тогда тянулся к христианству, а для него, скорее всего, это была семейная традиция), и когда дошло дело до сложностей, он просто провел наше исключение из комсомола документами, а карточки и билеты забрал себе и потом выслал их в Донецк моему коллеге по несчастью, а уже тот переслал эти документы мне, и я «восстановился» таким образом в комсомоле. Но не надолго. Еще был сильный жест, когда я рвал медленно комсомольскую карточку в клочки. Это был уже 1973 год. Сделать это я мог, только окончив институт, потому что я уже понимал, что я не смогу получить диплом, не будучи членом ВЛКСМ, а не получить врачебный диплом было бы для меня катастрофой. Когда мне выдали диплом и комсомольские документы, я понял, что мой час наступил. Я помню, на каком квартале в Одессе – начиная от улицы Ласточкина до площади Потемкинцев – я изорвал свою карточку и распределил обрывки наспех по урнам, не потому что не хотел, чтобы это все лежало вместе, а просто так, по дороге домой. Домой я ее приносить не хотел. К тому времени я уже был знаком с Вячеславом Игруновым, который сейчас живет в Москве. Он был депутатом от «Яблока» в Госдуму срока три. Я был знаком с Глебом Павловским в то диссидентское время, это все была практически одна компания, и уж, конечно, это был «рассадник» самиздата и антисоветизма. Потом уже, к концу 1970-х, расхождения между нами начали проявляться.
А тогда мы собирались, разговаривали, мы перепечатывали книжки, кое-что размножали из того, что писали сами. Когда-то мне на одной презентации Миша Кордонский подарил подборку моих собственных стихов, которые ходили в самиздате. Что было особо интересно, она была упакована в папку с серпом и молотом, и папка канцелярская была выпущена к 60-летию Октября. Я читал стихотворение «Шестьдесят героических лет», оно как раз было наряду с другими в этой папке. Но в то время у меня больших неприятностей не было, хотя органы меня дергали пару раз. Проблемы начались позднее, уже в 1980-е годы. Тогда близко дело было к аресту.Я сразу хотел сказать, что эту диссидентскую линию нет нужды подробно рассказывать здесь. Мои воспоминания можно просто скачать из «Журнального зала». Они достаточно проработаны. Это воспоминания с живыми деталями, как это все было. Эссе называется «Памяти семидесятых», а за 80-е я не взялся, хоть материалы у меня лежат. Не написал я эти воспоминания только потому, что это сделал главный одесский герой тех дней – Петр Бутов. Мне мало что есть добавить к его мемуарам.
Еще один важный момент – это одесский КВН. Это где-то 1968 год, я, еще восемнадцатилетний мальчик, включился в КВН. Я включился в десятом классе школы. Боря Бурда – это известное у нас имя, он был моим ближайшим другом тогда, мы ходили все время вдвоем и отвечали за написание песен и разминку для одесской сборной. В 1968 году наша «карьера» была прервана поступлением в институты, а в 1970-м она возобновилась, и это была тоже существенная часть жизни. Честно говоря, тексты, которые мы писали, на мой взгляд сегодня, доброго слова не стоят, а вот атмосфера общая была просто замечательная. Я расскажу один забавный случай, который произошел как раз в 1970 году. Валерий Хаит, капитан одесской сборной, для приветствия написал лирическую песню об одесской осени. Дело в том, что мы ехали в сентябре в Москву, и возникла такая идея: будут петь песню «И вот уже осень в Одессу пришла», а с балкона будут бросать желтые листья. И для бюрократической кавээновской истории каждый листик должен быть пропечатан печатью одесской команды КВН. И все бы хорошо, но в сентябре желтых листьев в Одессе практически не наблюдается, поэтому всю команду выгнали на Французский бульвар собирать единичные листья, чтобы мы мешок могли привезти. В Одессе не пришло никому в голову собирать их в Москве. А это значит, что веселости было больше, чем находчивости. По этому проспекту поныне ходит пятый трамвай. И я сидел, подбирал листья, и этот трамвай шел сзади, и Боря Бурда, который это увидел, закричал. А делать этого не надо было. Я побежал не в ту сторону и очнулся уже в больнице, понимая, что у меня болит голова и что мне нужно как можно скорее из больницы убежать, потому что завтра команда уезжает. И я из больницы убежал. Прошло несколько лет, и потом как-то Боря Бурда в компании поднял за меня тост как за человека, который не теряет чувства юмора даже в самых тяжелых обстоятельствах. В перерыве между тостами я подошел и сказал: «Боря, я, конечно, очень рад, но что ты имеешь в виду?» И он мне рассказал историю об антероретроградной амнезии – так ее надо было бы назвать. Оказывается, меня вначале притащили в госпиталь, который там был рядышком, там я пришел в себя – я этого, конечно, не помню. Я разговаривал с людьми, но это полностью выпало из моей памяти. Ко мне подошел милиционер, дал протокол, чтобы я прочел, посмотрел, все ли правильно, и подписал. Я прочел, исправил грамматические ошибки, поставил тройку, подписался и вернул протокол. Но я до сих пор не понимаю, то ли это я шутил, то ли я не понял, чего от меня требовали. Я на следующий день полетел в Москву, со вкусом провел время, выпивал, и ничего со мной не случилось.
Про учебу в институте. Я буду говорить правду, только правду, и ничего, кроме правды. Одесский медин тогда был казармой. Это тяжелейшее было заведение: атмосфера зубрежки, которая там царила, никому удовольствия не доставляла, также была атмосфера очень жесткого идеологического контроля, просто фантастического. Достаточно сказать по тому же самому КВН: в то время как все другие студенты перед поездкой в Москву сидели на спортивной базе и готовились к игре – их отпускали с лекций, я не только учился, но и отрабатывал заранее занятия, которые я пропущу, когда поеду в Москву.
ГОРАЛИК Интересно было учиться?
ХЕРСОНСКИЙ Не может быть интересно учить гистологию, анатомию, заучивать бугорки на костях, но я четко знал, что я буду невропатологом и психиатром, как отец и дед, уже читал в то время специальную литературу. У меня уже в то время была специализация, поэтому я прекрасно понимал, что мне нужно, что мне не нужно. Учился я в основном хорошо, была только тройка по-латыни, которая помешала мне получить красный диплом. Смешно. Но я позднее подучил латынь, помню некоторые тексты наизусть и даже перевел два стихотворения Катулла. В мое время были еще живы замечательные учителя, старые профессора старой школы, это счастье, что я их застал, изумительные люди, но были и другие, к сожалению. В общем и целом я не могу назвать институт, который я окончил, aima mater в том смысле, который имеют эти слова.
ГОРАЛИК В то время отношение к западной психологии было зачастую крайне уважительным, а к советской – нередко презрительным. Как это укладывалось в голове у учащихся по вашей специальности?
ХЕРСОНСКИЙ Я об этом писал в очерке «М. не узнал бы местности», он тоже опубликован… У меня официальным учителем психиатрии был очень своеобразный человек, романтик, который мечтал о Нобелевской премии и о чуде. И он всю жизнь хотел, чтобы чудо свершилось, и всю жизнь метался из стороны в сторону. У меня есть пример наиболее впечатляющий. Мы встречаемся на аллейке, он мне говорит: «Вы уходите в отпуск? – (я уже работал тогда) – Жаль, когда вы вернетесь, шизофрении уже не будет». Я говорю: «А в чем дело?» – «Приедут ребята из Москвы, привезут магнит». И он мне объяснил, что у шизофреников магнитное поле головного мозга повернуто не в той плоскости и можно с помощью направленного магнитного воздействия поставить магнитное поле на место. И он забыл в тот момент о магнетизме Мессмера, о магнитах Парацельса – он был одержим этой идеей. Я вернулся из отпуска, шизофрения была на месте, профессор тоже. Вообще вы себе не представляете, как преподавалась психиатрия в советских институтах. По-моему, это было всего десять лекций. При этом лекций по медицинской психологии, я отлично помню, было всего четыре, читались они на втором курсе. Фактически это не было подготовкой. Ну и практических занятий приблизительно столько же, но было желание учиться, были книги, в том числе некоторые книги на немецком и английском языках. Кто-то из нас знал английский, а кто-то знал немецкий, и как умели, так переводили, и собирались группой, и это был, по сути, подпольный кружок. Кроме такого чудаковатого профессора была еще и изумительная доцент, очень милый человек (в честь нее посажена березка на аллее Праведников мира). Полина Георгиевна Никифорова, она вела официальный студенческий кружок, и вот она понимала очень многое. Тоже далеко, конечно, не все, она была все-таки советским психиатром. Но советская психиатрия была, по сути, немецкой психиатрией, чуть-чуть адаптированная. Это была немецкая клиническая психиатрия. Во время обучения в институте мы в основном учились сами, и здесь мне очень помогал отец и библиотека, которая была еще со времен деда, специальная библиотека. Дед ее восстановил, и она меньше всего пострадала, да и до сих пор частично эти книги со мной. Так что после института я был достаточно подготовленным специалистом, чуть лучше, чем другие. Мне было двадцать три года, и потом еще год ординатуры, двадцать четыре года. Медин – это семь лет, то есть я был уже достаточно взрослым в то время.
ГОРАЛИК Как началась профессиональная жизнь?
ХЕРСОНСКИЙ В районном центре. Овидиопольский район, где я проработал около трех лет, расположен близко к Одессе. Я почти ежедневно возвращался в Одессу и только изредка ночевал в больнице (квартиру мне так и не дали). Район этот винодельческий. Типично то, что люди там очень много пьют: там делают вино, и, соответственно, много алкогольных психозов. Не совсем типично то, как развивались события. Очередной алкоголик, у которого даже зрительные нервы не были в порядке, сошел с ума и начал ревновать жену. Он говорил ей, что, когда она спит, к ней прилетает черт и делает с ней то, что может черт делать с женщиной. Ей было под шестьдесят, и, конечно, это была крестьянка, полностью изнуренная физическим трудом. Ну, бред не знает границ. Она говорила: «Он мне это говорит, а откуда я знаю? Я же сплю». И вот они едут на консультацию в церковь в Белгород-Днестровский. Священник их слушает и дает им освященный мак и воду. Они возвращаются домой, и он разбрасывает эти маковые зерна и видит, как из каждой маковинки вылупливается маленький чертик. Что они думают? Что эта церковь не такая, священник не тот, мак не тот, но тут он говорит ей, что она отдала черту все деньги. И тут до нее дошло, что он сошел с ума, потому что есть черт или нет, она точно не знала, но что в этом доме денег нет, она знала точно. А поняв эту реальность, она просто связала ему руки, перекинула веревку через плечо и, как скотину, притянула его ко мне на прием. Были другие забавные истории, но на самом деле это была драматичная работа для молодого человека, который все-таки к самостоятельной работе был готов не очень, а отвечал за все. Скажем, могло быть так: ты принимаешь в поликлинике, потом идешь смотришь больных в стационаре, на ночь остаешься дежурить, а потом все сначала. Кроме того, это было время, когда я даже немножко принимал стимуляторы после ночного дежурства, иначе работать было никак невозможно. В то время я был женат. До этого у меня был еще один брак, продолжавшийся семь месяцев. Это сложная история, долго встречался с девушкой, очень ее любил, родители не хотели видеть еврея в роли зятя категорически. В конце концов семь лет, как у Иакова и у Рахили, у нас ушло на то, чтобы соединить наши судьбы, а потом семь месяцев на то, чтобы понять, что это – кошмар, и мы быстренько разбежались. Но тогда я был женат вторично, и этот брак распался, но гораздо позже. И у меня только родился ребенок, и это было тяжелое время. Но именно тогда я писал диссертацию, писал первую монографию, первые статьи, это длилось несколько лет. Мне сейчас трудно представить себе, как я все это физически делал. Например, я ставил будильник на час ночи, просыпался в час ночи, два часа работал, потом досыпал свое. А чтобы попасть в Овидиополь, тоже требовалось время. Я мог бы остаться в Овидиополе, но мне там не дали квартиру – хотя сдали два дома, – и я понял, что, если я там останусь, мне конец, потому что, если я ночевал там, ко мне приходил или травматолог, или хирург с бутылкой водки – обычная история. Вот так все это происходило.
ГОРАЛИК Мы пропустили кусок про профессиональную специализацию и медицинскую карьеру.
ХЕРСОНСКИЙ Какая там карьера! У меня уже была защищена диссертация, вышла первая монография, но получить высшую категорию по психиатрии я не мог, а у нас ее имел всякий. И кстати, у меня до сих пор этой профессиональной категории нет: после ухода из больницы я никогда на нее не претендовал. Когда я, по сути дела, был вынужден уйти из больницы, я начал заниматься благотворительной деятельностью, сотрудничал с одесским фондом имени Гааза, потом меня «подхватил» университет, но официально я начал преподавать в 1996 году, а кафедру возглавил только в 99-м. Была и журналистика – это уже перестройка, 80-е годы, а вообще жизнь до перестроечного времени была небогата событиями. Мы зарабатывали себе на достаточно скудный хлеб. Это значило, что нужно было на полторы ставки работать в больнице, потом читать лекции по линии общества «Знание». Чаще лекции отменялись, и мне просто подписывали путевку. Если я все же читал лекцию, меня обычно спрашивали две вещи: уничтожают ли психически больных и почему их не уничтожают? Такое было время интересное. Потом страховая комиссия, начисление комиссии по госстраху. Я сейчас могу сказать формулу: контуры голеностопного сустава сглажены, движение в нем болезненное, ограниченное, умеренное, болезненность в районе наружной лодыжки, статья сто пятьдесят шесть, десять процентов страховой случай. За каждый вечер мы получали от восьми до двенадцати рублей, и получалось так, что домой я возвращался очень поздно. Но зато на основной работе было время для того, чтобы собраться, поговорить, поиграть в карты иногда – это была советская контора.
ГОРАЛИК Что происходило с социальной и личной жизнью?
ХЕРСОНСКИЙ Ну, десятилетия длился мой неудачный брак, уже в то время без особого взаимопонимания, но общая бедность и невозможность вообще подумать, что у твоих детей не будет никакой квартиры, и у тебя ее не будет, и вообще невозможно выжить в одиночку, как-то до поры до времени меня держала. В общем, хотя это было трудное и неприятное время, я и теперь никогда не советую супружеским парам быть вместе, если отношения доходят до такого уровня. Я думаю, что никакие идеологические и религиозные установки не могут это оправдать, потому что ничего хорошего из этого все равно не получается. Что касается компании – да, это та же литературная, диссидентская компания, периодически ее «перетряхивали». С 1982 года это был полный разгром и арест одного из моих друзей, и в этот момент появилась тоже достаточно характерная вещь. Всем было ясно, что я под колпаком, и это значит, что на улице меня не нужно узнавать. Моя личность как бы раздвоилась: я дома и я на улице. Со мной можно было разговаривать только с глазу на глаз. И вот в какой-то момент все это меня достало, и я понял, что мне просто нужно быть одному. И какие-то годы, очень полезные для меня внутренне, прошли во внешней изоляции. Во-первых, ты боишься, что на тебя донесут. Постоянные допросы людей, которые длительно меня знают, у них реальные неприятности: их вызывают, спрашивают: «Как давно вы его знаете?» и т. д. Кому это тогда было нужно, спрашивается? И это во многом сформировало мою психику как психику взрослого одинокого человека. Работай, имей одного или двух близких друзей, с которыми можно говорить, и избегай публичности. Когда я стал журналистом, это стало постепенно отходить на второй план, у меня опять появилась компания, а затем вдруг, когда я, как всегда, начал излагать свои неправильные взгляды, мне опять пришлось отгородиться и уйти в себя… Например, такая история. Когда ввели в Чечню войска в первый раз, я тут же написал статью о том, что этого нельзя было делать и что это начало большой крови. Статью не приняли, а мне сказали: «Ты сумасшедший, там все со всеми договорились, быть ничего этого не может». Через неделю эту статью все-таки напечатали. Но тогда уже все было ясно. И это ощущение, что всегда не прав, опять привело меня к прежнему состоянию. Никогда бы не прочел столько книг, не переслушал бы столько музыки, не рефлексировал бы так тонко, если бы просто сидел и пил водку – а это главное развлечение во всех компаниях во все времена.
ГОРАЛИК Эта любовь к одиночеству сохранилась в какой-то мере?
ХЕРСОНСКИЙ Я, по-моему, очень неплохо переношу одиночество, а тотальное одиночество я давно не пробовал, пять лет не пробовал, но тогда в Одессе я выбрал себе такую дорогу. Если бы не некоторые шаги Маши Галиной, так бы оно все и было, и я бы не чувствовал никаких особых внутренних волнений. Например, как я уходил из больницы, это действительно смешная история. Все началось с моих контактов и дружбы с Леной Рыковцевой, она сейчас работает на «Свободе». Она тогда работала в «Вечерке», она и сейчас очень оживленная привлекательная женщина. Ей нужно было написать статью о психически больном человеке, которого уволили с работы, но уволили несправедливо. Причем она меня попросила, чтобы я с ним поговорил и сказал ей, больной он или здоровый. Я поговорил с ним и сказал: «Лена, он больной, но уволили его несправедливо». Она говорит: «Ой, ну тогда я вообще о нем писать не буду». Я говорю: «Лена, ты не права».
ГОРАЛИК Ей нужен был человек, которого уволили под предлогом болезни?
ХЕРСОНСКИЙ Конечно. И я об этом забыл. Потом вдруг я вижу статью в газете, где говорится, что вот человек здоров, а его уволили как больного. И она пишет, что она проконсультировалась с психиатром. Я звоню ей и говорю: «Лена, что ты делаешь? Я же тебе сказал, что он болен». Она говорит: «Ну я же твоего имени не назвала, мне нужно было для материала, чтобы он был здоров». Я говорю: «Лена, но если уволен больной – это еще хуже, потому что с больным человеком расправляться подлее, чем со здоровым, потому что у него худшие способности к адаптации, ему труднее вынести несправедливость». Ну, вот так мы поговорили. А в больнице началось свое довольно простое расследование. Невелика загадка, понятно, кто из врачей больницы может консультировать по такому вопросу: это мог быть или я, или мой приятель. Других возмутителей спокойствия не было! Была ранняя перестройка, 1986 год. Но в стенах дурдома свежее дыхание не чувствовалось. И на нас администрация обрушила первую волну «репрессий». Нам это настолько надоело, что мой более решительный друг (его зовут Сергей Васильевич Дворяк, он сейчас живет в Киеве, очень хороший психиатр, когда-то имел какие-то литературные интересы) позвонил Лене Рыковцевой и сказал: «Лена, готовься взять у нас интервью». И мы приехали к ней, она нам «накрыла поляну», потому что понимала, что мы рискуем, и в этой вполне милой обстановке мы дали первое в Одессе интервью о психиатрических злоупотреблениях на местном материале. Называлась эта статья «Назвавший брата безумным». И хотя это была очень вежливая статья, врачи, которые были в это вовлечены, хоть их имена и не упоминались, начали готовить общее собрание: вызывали наших друзей, говорили, что эти двое подонки, что вы должны выступить против них на собрании, – ну, друзья приходили к нам, об этом рассказывали. Один из них говорил: «Я против вас выступлю, потому что мне надо спокойно отвалить в Израиль». Собрание приближалось, Лена была готова приехать на это собрание, но нам не говорили, когда оно будет. Это была интрига на две недели. И тут профессор Москетти сделал гениальную вещь: он пришел ко мне в отделение, которым я тогда заведовал, вообще это был очень проникновенный разговор, необычный для него. А после этого разговора он сказал: «Собрание будет в два часа завтра, скажите Сереже и пригласите вашего корреспондента». Собрание было отменено. Потом мне стало известно, что после того как профессор был у меня, он пошел к главному врачу и сказал, что мне точно известно, что Херсонский и Дворяк знают, когда будет собрание, и пригласили корреспондента. И таким образом он спас нас от этого неприятного переживания, но он спас и больницу от позора, потому что в то время уже нельзя было проводить такие собрания, а администрация этого еще не понимала. И в общем-то, это был одновременно и дипломатический, и достаточно мужественный шаг со стороны профессора Москетти.
ГОРАЛИК Как вы это выдерживали день за днем?
ХЕРСОНСКИЙ Чехов как-то написал в записной книжке, что «человек сволочь и привыкает ко всему». Чехов был прав: когда это происходит постоянно, практически этого не замечаешь. Это как будто обходишь шкаф, который всегда стоит на этом месте. Мы умели читать между строк, любили классическую музыку и джаз и умудрялись доставать редкие записи. У нас даже был клуб, название которого отразилось в одном стихотворении. Стихотворение «Колбаса „Ностальгия“»: «НОСОК – Ни Одного Слова О Колбасе» – название тайного общества. Так действительно назывался наш кружок, то есть смысл был в том, что о нехватке продуктов мы не разговариваем, а говорим обо всем о чем угодно. Никто мне не мешал в то время переводить Эрика Берна частично и частично Эрика Фромма – было чем заняться по большому счету. Работа врача – это каждодневная, иногда очень напряженная работа. В психиатрической больнице я работал в психологической лаборатории и параллельно – в отделении реанимации для больных алкогольными психозами. И вообще, по-моему, это было одним из видов утонченного издевательства – я работал на полторы ставки, но у меня никогда не было целой ставки. Было полставки невропатолога, полставки психолога и полставки психиатра – я называл это «три по пятьдесят». Но я профессионально стал тем, что я есть, чрезвычайно разносторонним специалистом. И этим я целиком обязан району, где я работал, и «особому отношению» ко мне в больнице. У меня не было особого выбора, кроме как расти с напряжением. Это даже не было подвигом – это было жизнью. Пожалуй, ближе всего к героическому моменту – это когда тебя прижимают три следователя одновременно.
ГОРАЛИК А с вашими собственными текстами что происходило?
ХЕРСОНСКИЙ Я подчеркиваю, что ни о какой литературной жизни речь тогда не шла. Шансов напечататься не было. Но была литературная студия приблизительно в этот же период, которой руководил поэт Юрий Михайлик. Он сейчас живет в Сиднее. Его дочь, Лена Михайлик, она тоже живет в Сиднее, доктор философии. Она родилась в 1970 году, двадцать второго апреля, поэтому она не могла не стать Леной. Юрий был хорошим поэтом, на общем фоне того времени он явно выделялся. Но если как поэт он был на «четыре с минусом» или просто на «четыре», то ухо у него было очень чувствительным. Он вел студию очень серьезно. У него не проходили какие-то нелепости, фальшь, он это все очень жестко отсекал. Он в каком-то смысле во многом сформировал меня такого, каким я был в то время. Часть ребят из литстудии остались моими друзьями. И в общем-то, только двое еще что-то пишут. Во всяком случае, это и было литературной жизнью. В этот момент на меня обратила внимание одна женщина из Союза писателей. Она была обычным советским чиновником. Дело в том, что ее сын, к сожалению, очень тяжело психически болел, сейчас ни его, ни ее уже нет на свете. Она со мной познакомилась как с доктором, и у нее была идея сделать мой сборник скорее из чувства благодарности. Она мне говорила: «Это почти нельзя печатать, ну напишите к каждому разделу стихотворение о партии, что вам стоит?» И тут я понял, что мне это стоит очень многого, я физически не могу этого делать, а у меня получается как раз то, что оказалось вставленным в стихотворение «Ода Англии»:
В Европе холодно, в Италии темно,
И только светится знакомо
Прямоугольное окно
На третьем этаже обкома.
Ничего, кроме ерничества, у меня не получилось, и я с огромной легкостью отказался от идеи выпустить книжку. У меня не было этого лежащего на плечах кирпича, что я пишу для того, чтобы печататься. Были годы, когда я мог написать одно-два стихотворения. Эти стихи в моем городе пользовались определенной популярностью, перепечатывались, ходили по кругу, и это меня полностью удовлетворяло. Мечтаний о всесоюзной славе не было. У меня была одна встреча в Москве, когда поэт, посмотрев мои стихи, сказал: «В этих стихах вы чего-то недоговариваете. Я понимаю, что именно и что то, что вы недоговариваете, нельзя напечатать, но и то, что вы написали, тоже нельзя напечатать. Уезжайте». Он сам уехал, и мы недавно видели его в очень тяжелом состоянии в Нью-Йорке. Это была моя первая встреча с Александром Межировым. Потом мы встречались еще несколько раз, последний раз недавно, но он, к сожалению, был уже совсем пожилым человеком, перенесшим инсульт, но когда он начинал читать свои стихи, что-то к нему возвращалось. Сейчас его нет уже на белом свете… Почти аналогичный разговор с таким же советом был у меня в редакции «Юности» с Юрием Ряшенцевым. Этим летом мы встретились и вспомнили ту ситуацию с улыбкой… Где-то до 1986 года я, что называется, не высовывал нос, то есть до перестройки. Потом, когда я понял, что, в общем-то, вроде пришла свобода, и принес пару подборок в одесские газеты, там это не пришлось. В Одессе считалось, что меня не нужно печатать. Опять-таки, это меня огорчило, но не слишком. А потом вдруг в газете «Русская мысль: Бродский и его современники» вышла моя подборка. Ее принес туда ныне покойный мой друг Алик Батчан, работавший тогда на станции «Голос Америки». Но эта газета попала в Одессу, и после этого ко мне был проявлен интерес, и сам я стал себе чуть больше интересен. Начал готовить книжку, которая каждый раз то должна была выйти, то не должна. В конце концов она и вышла в 1993-м, после распада Союза. До этого были считанные подборки. Ну, собственно говоря, у меня была основная работа, у меня была четкая потребность писать, и я это делал, и у меня не было тогда особой потребности в публикациях. Когда у меня набиралось стихов на небольшую книжечку, я печатал книжечку минимальным тиражом в Одессе, читал друзьям – это было ОК. Нет, вру, еще меня печатала газета «Новое русское слово» регулярно, я бывал регулярно в Нью-Йорке. Был такой журнал «Слово», он и сейчас меня печатает, Лариса Шенкер там редактор, это тоже где-то с 1993-го началось. Еще какие-то эмигрантские издательства: как-то журнал «Алеф» меня напечатал, но это все носило совершенно бессистемный характер. «Глобус» – была такая газета в Израиле, меня там печатали. И вообще я в то время ушел в большей степени в журналистику. С 1980-х годов я работал в городской газете, заведовал отделом, потом в областной газете, никогда не бросая лечебного дела.
ГОРАЛИК Мы проскочили большой кусок жизни – про преподавание. Вы ничего об этом не сказали.
ХЕРСОНСКИЙ Потому что взять на преподавательскую работу, извините меня, еврея, в то время в институте не могли. Единственная моя попытка «прорваться» в Одесский медин была уже тогда, когда перестройка шла вовсю. И тот, кто меня продвигал, рассказывал мне про ректора, с которым он говорил: «Я ему: мне нужна еврейская голова для моей докторской диссертации, а он все равно твердит „нет“». Я уже говорил, что с 1996 года я сотрудник Одесского университета, а с 1999-го – заведую кафедрой клинической психологии, которую, как вы понимаете, сам и создал. Но до университета был благотворительный колледж «Социум», где группа энтузиастов учила ребят психологии и социальной работе… Долгие годы я преподавал в Киеве, в Международном институте глубинной психологии. Много времени уделялось работе психоаналитического общества, которое я возглавляю и поныне, но чисто формально. В последние годы я отошел от этой работы. Слишком много всего…
ГОРАЛИК В каких еще жанрах вы работали?
ХЕРСОНСКИЙ В общем, я еще и журналист, и эссеист. Я был активен где-то с 1989 по 2001 год. Даже вел новостную программу на местном телеканале. Сотрудничал с о. Марком Смирновым на радиостанции «Свобода». Потом в Украине начали происходить разные вещи, которые в цивилизованном мире принято называть ограничением свободы слова: писать о том, что думаешь, стало невозможно, и, следовательно, работать было неинтересно. В общем-то, и количество «глотателей пустот, читателей газет» постепенно уменьшилось до критического уровня, этот жанр у нас, если речь идет не о телевидении, постепенно умирает. Я вовремя ушел в свою основную профессию.
ГОРАЛИК Как сочетаются отстраненность и прагматизм эмоционального восприятия, необходимые в вашей профессии, с зачастую неотъемлемой от поэзии необходимостью проживания и передачи эмоций?
ХЕРСОНСКИЙ Мне кажется, что эта сдержанность, отстраненность и прагматическое отношение к переживаниям пациента – это скорее декларация психоанализа, чем реальность. Огромное количество литературы посвящено контрпереносу, то есть тем чувствам, которые испытывает аналитик, слушая клиента. Достаточно прочитать антологию «Эра контрпереноса», она недавно была издана, чтобы понять, что отстраненность и прагматизм психоаналитика – это миф, и речь идет скорее о внешней сдержанности. Поэзия, творчество – это как раз способ непрямого отреагирования этих эмоций. Кроме того, и для поэта, и для психоаналитика необходим контакт с собственным бессознательным. Этот опыт я приобрел в основной профессии, и он неоценим при работе над текстом.
ГОРАЛИК Из текстов последнего времени считывается очень интересная структура отношения с «корнями». Эта тема присутствует у вас как требующая осмысления – или как требующая «опоэтизирования»?
ХЕРСОНСКИЙ Для меня не существует понятия «тема для стиха», я практически никогда не садился, чтобы написать стихотворение на какую-то тему. Единственное исключение, пожалуй, – когда я писал сценарий для агитбригады канатного завода в 1970-е годы. Это был единственный случай «продажности»: на вырученные деньги я приехал в Москву и очень хорошо оттянулся. Обычно я чувствую, что во мне начинается какое-то брожение, при пробуждении начинают мелькать какие-то строки, стихи складываются почти полностью устно, а затем я уже сажусь к компьютеру (как когда-то садился к пишущей машинке) и фиксирую то, что происходило. Поэтому скорее это тема, требующая осмысления и прочувствования, то, о чем я постоянно думаю и что иногда становится стихами, иногда чем-то иным.
ГОРАЛИК Почему так происходит?
ХЕРСОНСКИЙ Человеку всегда трудно ответить «почему», скорее понятно, «как» это происходит. Не было бы психоанализа, если бы мы всегда сами понимали почему, но в принципе я уже не помню, говорилось, что люди имеют глаза на затылке и что единственное, что им принадлежит и что им известно, – это прошлое, в то время когда будущее находится в абсолютном тумане. Эта мысль стала заголовком одного из наших интервью… Чем дальше, тем больше у меня прошлого: я как скупой рыцарь пушкинский спускаюсь в свои подвалы и засыпаю пригоршню свежих воспоминаний в еще не полный сундук, перебираю то, что было. Я даже думаю, что иногда некоторым людям нужны доказательства того, что они существовали, и для этого они вспоминают, потому что, если не вспоминать, кажется, что существование слишком мимолетно.
ГОРАЛИК Книга «Семейный архив» создает впечатление того, как частные лица – и даже не важно, насколько они вымышленные, или буквальные, или смешанные, – внятно встраиваются в очень большую картину истории еврейства в целом. Там есть очень сильное ощущение микрокосма, повторяющего макрокосм, не только за счет перечисления исторических событий и маркировки присутствия, но и за счет выстраивания цельной философии, с лежащей для конкретной семьи своего рода картой…
ХЕРСОНСКИЙ «Семейный архив», как вы догадываетесь, писался годами, это в какой-то степени результат переосмысления того, что я слышал от своей родни, пересмотра старых фотографий и до-думывания, до-чувствования того, чего я не знаю и не видел. Конечно, в основном персонажи «Семейного архива» смешанные, полувымышленные, «синтетические личности», на них спроецированы мои собственные мысли и переживания – и, наоборот, иногда то, что случилось со мной, я проецирую в давно прошедшее время. Это какой-то коктейль, в психоанализе мы употребляем термины «сгущение» и «смещение», я бы добавил – смешение.
Расскажу, как книга начиналась. Как-то – это был конец 1990-х годов – я сел за стол с твердым намерением написать о том, как моя бабушка и ее сестра бросали камешки в колодец на вершине горы Боны в Кременце, – сейчас это вступительное стихотворение к «Семейному архиву». Бабушка действительно мне рассказывала об этом эпизоде, как они считали секунды до удара камня о дно колодца. И тут я вдруг понял, что они не должны услышать ответного отклика, что удар камня о дно колодца должен быть услышан, когда они уже уйдут. В этот момент я «увидел» книгу, и надо вам сказать, что сразу написал довольно большой пласт книги, по-моему буквально за две недели, а затем уже без спешки, тогда, когда что-то случалось. Например, смерть моей двоюродной тети, одной из героинь «Архива», послужила толчком для еще нескольких главок. Собственно, и другие переживания, которые происходили в это время. И в какой-то момент я понял, что хватит, что, в общем-то, я это выстроил. Хотел ли я сознательно построить картину жизни народа на определенной территории? Мне кажется, что в какой-то момент уже – да. И когда я понял, что уже выстраиваю что-то, для меня это означало «стоп!».
Ну, или, например, у меня «Античный хор» – там изречения раввинов, которые ходят следом за моими персонажами и что-то говорят. Кроме одного изречения Гилеля, очень известного, все остальные раввины – это я сам, это те афоризмы, которые мне приходили в голову, когда я размышлял над судьбами моих родственников, моего народа. В общем-то, эта идея построить комментарий устами раввинов, конечно, совершенно не оригинальна: кто читал хоть какой-то мидраш, понимает эту структуру. Кстати, и фрейдовские толкования построены по этому же принципу. Традиция и профессия – с двух сторон – определили структуру книги…
ГОРАЛИК Мы сейчас говорили об общей картине нации, которая сужается до одной семьи. Как насчет общей картины семьи, которая сужается до одного поэта?
ХЕРСОНСКИЙ Мы по этому поводу беседовали с отцом, и не один раз, и отец всегда говорил мне, что для него вся жизнь начиналась с него самого, и ощущение рода было для него абсолютно нехарактерно. Он даже не помнит имен своих бабушек, не только по той причине, что они умерли до его рождения и он их никогда не видел. Тут другое – раз он их не видел, они его не интересовали. Имя одной бабушки, моей прабабки, я знаю от своей бабушки, но имя второй узнал совсем недавно, от своей родственницы. Их звали Рахиль и Штинца. Мне кажется, что интерес к корням всегда происходит из какого-то экзистенциального кризиса, поскольку твое собственное бытие без подкорки кажется тебе слишком нестоющим, – я уже упоминал это, когда говорил, что начинаешь вспоминать для того, чтобы подтвердить свое собственное существование. Это не ново: Эрих Фромм одну из версий своих социальных потребностей назвал потребностью в корнях, в «укорененности».
ГОРАЛИК Это всегда так было? Когда писались ранние стихи, они писались уже с этой потребностью?
ХЕРСОНСКИЙ Нет, позже. Конечно, ранние стихи, особенно действительно ранние, которые я вообще никогда не печатал, а просто отбросил их, этого чувства были лишены напрочь. В юности мы слишком переполнены собой. В ранних стихах я отреагировал какие-то непосредственные чувства, события моей собственной жизни: влюбленность, красивый закат, луна в небе, только колосящейся ржи и комбайнов почему-то не было, не получалось.
ГОРАЛИК А тематические и стилистические влияния?
ХЕРСОНСКИЙ Опять-таки влияние – вещь в значительной степени неосознаваемая, и это понимаешь как-то ретроспективно. Я думаю, что на ранние стихи влияла поэзия Багрицкого, как ни странно мне думать об этом сейчас. Ну, и вместе с этими влияниями эти стихи ушли в небытие. Пастернак и Мандельштам были настолько читаемыми, что их можно определить как стандарты влияния моего поколения. Что может быть нестандартным – это поэзия XVIII – начала XIX века, это Ломоносов. Мы даже пели на мотив «Интернационала» «Хвалу всевышнему владыке..». Ложится просто изумительно. Мне кажется, что именно это – знакомство с церковнославянским языком и чтение литургических текстов – во многом сформировало мою поэтику. Где-то в середине 1990-х я начал переводить несколько библейских книг. Частично это был заказ, но заказ уже поступил после того, как я начал это делать. Я перелагал псалмы Давида в традиционном для русской поэзии ключе – в стихах:
Доколе, Боже, забудешь меня до конца?
Совсем позабыл, позабыл до последнего дня?
Доколе, Господь, Твоего не увижу лица?
Ты прячешь лицо Свое, Боже, ты прячешь его от меня…
Доколе, доколе?
Это было в двадцатилетием возрасте, а потом мне вдруг стало интересно, что такое библейский ритм, что такое параллелизм, что такое библейский текст как таковой, включая его фонетическую структуру. И, начитавшись огромного количества литературы – лучше бы я этого не делал, – я доработал несколько десятков переводов. И в результате у меня вышла книжка «Книга творений» – это переложения Псалтири и несколько переложений апокрифов, а также перевод книги Екклесиаста, – все это малоизвестно, хотя опубликовано в журналах, но вот что интересно: в ходе этой работы я, по-моему, приобрел что-то совершенно новое, я бы никогда не написал «Семейного архива», в частности, если бы я не перевел Псалтирь и не почувствовал внутреннюю ритмику библейского текста.
ГОРАЛИК В этих текстах ритмика играет принципиальную роль. Это почти заговаривание, как во время молитвы?
ХЕРСОНСКИЙ С повторами и раскачиваниями, которые чувствуются. Я это не использовал сознательно – я понял это после того, как значительная часть того, что я сделал, уже была написана. Конечно, нельзя сказать, что я использую абсолютно бессознательно рефрены, я могу не написать, что «под слоем бумаги и пыли нет ничего», я могу сказать «нет ничего, нет ничего, нет», но это обычный способ затухания мысли, и просто нужно дать этому затуханию проявиться на бумаге.
ГОРАЛИК Есть ли ощущение близких вам сегодня авторов?
ХЕРСОНСКИЙ Мне совершенно ясно, что исключительную роль для меня как для автора сыграл Иосиф Бродский. В какой-то момент, скажем, я очень глубоко прочувствовал его стихи (кстати, это было не сразу, мне его ранние стихи не понравились, просто показались чем-то общим). Конечно, я пел, как и все, песню про пилигримов, ну а позже из Питера мой друг привез буквально «из первых рук» машинопись «Остановки в пустыне», и это уже было что-то совершенно другое. И я хочу сказать откровенно: в поэзию Бродского очень нелегко войти и из нее нелегко выйти. Получилось ли это у меня или нет, я не знаю. Кто-то говорит, что я вышел из этого леса полностью, например Костюков. А одна из моих ЖЖ-френдов написала, что я продолжаю писать стихи Бродского после его смерти. На что я ей сказал, что пусть она воспринимает меня как медиума. В конце концов, это тоже очень интересно. У меня есть в «Китайском цикле» стихотворение о философе, который после смерти учителя начал писать его почерком и говорить его словами. «О подобном рабстве я никогда не думал», – он говорит, и конец там такой: «А ты все толкуешь, что непочтительны дети, погоди, мы умрем, когда они подчинятся». Так что в конечном итоге это известный психологический феномен, он называется отсроченным послушанием. Но мне самому все-таки кажется, что тематика и структура моих стихов иная – уж касательно тематики я уверен. Она в большей степени сюрреалистична. А вот говорить об интонации мне труднее. В последние годы, мне кажется, я ухожу все дальше и дальше от поэтики Бродского. Парадокс, но обвинения в бродскизме, которых я не слышал в молодые годы, сегодня, с легкой руки двух-трех критиков, стали расхожим штампом, и никакие аргументы этот стереотип не сломают. Я как-то написал по этому поводу эссе «Не быть как Бродский», которое было переведено на несколько языков. Так что и в несправедливой критике есть некоторый смысл.
ГОРАЛИК А из круга сегодняшнего?
ХЕРСОНСКИЙ У меня есть много любимых мною поэтов, но сказать, что я испытываю их влияние…
ГОРАЛИК Не влияние, а близких?
ХЕРСОНСКИЙ Многие критики писали, что я близок к поэтам группы «Московское время». Наверное, они не ошиблись. Сегодня Алексей Цветков, Бахыт Кенжеев, Сергей Гандлевский, Владимир Гандельсман, Михаил Айзенберг не только мои любимые поэты, но и друзья. Мы иногда шутим: «Московское время» с одесским акцентом. Кроме того, мне всегда были интересны концептуалисты: Рубинштейн, Парщиков, Пригов – особенно ранний, но опять-таки это не в сфере влияния, а в сфере интересов моих как читателя. А я думаю, если ты чем-то интересуешься, какая-то близость все-таки есть. Например, ерничанье, которое мы часто встречаем у Пригова, очень близко к той моей части, которая участвовала в одесских КВНах и капустниках.
Я как-то очень медленно начал подбираться от прошлого своей семьи к своему прошлому, то есть к осмыслению советского периода, что делаю не я один. В общем, я чувствую, что я выстраиваю какое-то мифологическое пространство, якобы советское – у меня было якобы китайское и якобы средневековое семантическое пространство. Я как-нибудь объединил бы в будущем эти циклы – фактически это уже сделано. Иное дело – опубликовать это цельной книгой.
Думаю, что я скорее занят детским восприятием «социалистической системы», совковой реальности, что и придает ей некоторую сказочность и мифологичность. Где-то с первых классов средней школы у меня все это заканчивается. Дальнейшее все возрастающее отвращение к советской власти и отношения с нею у меня скорее вошли в мемуарный цикл, и это не стихи.ГОРАЛИК Расскажите про самые недавние годы. Например, про самые важные точки этих лет, если так легче.
ХЕРСОНСКИЙ Если говорить о личной жизни, то в последние десять лет я нашел свое счастье. Я наконец-то понял, как выглядит подлинное взаимопонимание, что такое любить и быть любимым. «О ты, последняя любовь! Ты и блаженство, и безнадежность!» – писал Тютчев. Безнадежности в последней любви не больше, чем в самой жизни. Счастье явно перевешивает. Моя жена Людмила – хороший, настоящий поэт, я рад ее успехам так же, как и она – моим. Понятно, что как пара мы стали еще менее социальны, свободное время проводим чаще всего вдвоем. Исключение – фестивальная горячка, в которой дефицит общения в регулярной жизни окупается с лихвой.
Литературная жизнь была весьма и весьма бурной. За короткое время я опубликовал несколько книг, и все они были встречены тепло. Мои стихи и эссе перевели на многие европейские языки. Я получил несколько престижных премий, давших мне возможность впервые поехать в Италию, Австрию, Германию. Я выступал в Нью-Йорке, Риме, Венеции, Вене, Лане, Берлине, Марбурге, Москве, Киеве, Тбилиси… Впереди еще одно «австрийско-немецкое» турне. «Семейный архив», переведенный на немецкий язык, получил австрийскую премию, сейчас эта книга переводится на голландский язык и готовится к печати.
Но главное приобретение последних лет – новые друзья по всему миру, среди них замечательные поэты, я уже говорил о поэтах «Московского времени», с которыми ощущаю особую близость, но это и Олег Чухонцев, с которым я встретился в прошлом году, мы дружим с Марией Галиной и Аркадием Штыпелем, открытием для меня стало знакомство и дружба с Ириной Роднянской, Сергеем Чуприниным, у нас прекрасное взимопонимание с «Новым миром» – Андреем Василевским, Владимиром Губайловским…
Многое мне дали контакты с «Культурной инициативой», Даниилом Файзовым и Юрием Цветковым. Вадим Месяц, Игорь Сид – всех не перечислить. Я с благодарностью вспоминаю Алексея Алехина, который когда-то напечатал первую мою московскую подборку… Мне было тогда пятьдесят лет. Для начинающего возраст слишком почтенный. Наши отношения несколько омрачены публикацией в «Арионе» отвратительной клеветнической статьи молодого критика С., но не прерваны. Мы традиционно близки с Дмитрием Кузьминым, он был редактором «Семейного архива». Случилось так, что фото его, а не моих родственников напечатаны на обложке, мы как бы «породнились». Дмитрий напечатал мою «Итальянскую» книжечку, я рад, что являюсь постоянным автором «Воздуха»…
Но понятно, что за всем этим стоит кропотливая, постоянная работа. «Ни дня без строчки» – это название книги Олеши и мой лозунг.
Продолжаю заниматься психотерапевтической практикой и преподавательской работой. А вот административная работа меня все более тяготит, и серьезное заболевание поставило передо мной вопрос ребром. Скорее всего, с административного поста нужно уходить, вернее – бежать.
Забавно, что в литературной жизни Одессы меня скорее не существует. Какое-то время ситуация меня огорчала, но теперь я с ней свыкся. Раз в год устраиваю чтения в моем родном городе и встречаюсь на них с моими друзьями… иногда такие вечера устраиваю раз в два-три года. Похожая ситуация у прекрасных поэтов, волею судеб живущих в провинции.
Разумеется, я приобрел не только друзей, но и преданных врагов. Приятно, что они являются врагами моих лучших друзей и прекрасных поэтов. Значит, враги выбраны правильно. Но это обычное осложнение литературной деятельности. С этим приходится мириться. Психолог Эрик Эриксон говорил, что главным приобретением пожилого возраста являются отрешенность и мудрость. Не знаю как с мудростью, но отрешенность я явно приобретаю. Вот, пожалуй, и все.Примечания
1
21 декабря – день рождения Сталина.
2
Такое слово выдумал Курт Воннегут для обозначения ложной духовной общности.
3
Пришло в голову, что это вообще-то конспект моего «НРЗБ» (2002)… Вот и верь после таких совпадений в свободу выбора!
4
Честное слово, я прочел это стихотворение Аркадия Пахомова впервые в жизни пять минут назад, когда искал совсем другое. Так что все мои домыслы по поводу гордыни не подгонка под ответ.
5
Когда в 2000 году(!) моя дочь поступала на филфак и для нас с женой настало время довольно специфических местных хлопот, один тамошний профессор вскользь обронил в беседе со мной: «У вас ведь были ка кие-то проблемы с комсомолом?»
6
Если кому интересно, историю обоих своих «конформизмов» я описал более подробно в эссе «Инициация» и «Америка на уме».
7
Беседовал с нами майор Георгий Иванович Борисов, оказавшийся впоследствии Александром Георгиевичем Михайловым. Он в 90-е годы, помимо прочего, время от времени принимал участие в телевизионных ток-шоу в роли просвещенного консерватора. И вообще преуспел в жизни – генерал-майор ФСБ запаса, орденоносец, лауреат, академик Академии российской словесности.
8
Впрочем, я переводил и хорошего поэта – украинца Павло Мовчана.
9
О наших с В. Санчуком отношениях я написал в «Трепанации черепа».
10
Имеется в виду однофамилец Л. Лосева – Алексей Федорович Лосев (1893–1988), русский философ и филолог.
11
Так звали Л. Лосева домочадцы и короткие знакомые.
12
Юз Алешковский.
13
Речь идет о двух вышедших после смерти Л. Лосева книгах: «Говорящий попугай» (СПб.: Пушкинский фонд, 2009) и «Меандр: Мемуарная проза» (М.: Новое издательство, 2010).
14
Литературная матрица: Учебник, написанный писателями. СПб.: Лимбус-Пресс, 2010.



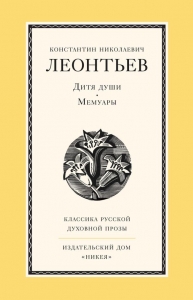
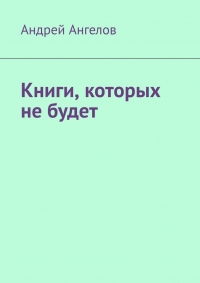
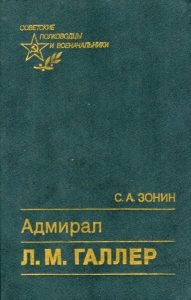
Комментарии к книге «Частные лица. Биографии поэтов, рассказанные ими самими», Линор Горалик
Всего 0 комментариев