Страшная ночь Биши Ванолиса
О Братья по печали, как темно! О, без ковчега мы плывем давно, Блуждаем в нечестивой тьме ночной! Уж сердце столько лет о вас кровит, И капельками слез та кровь бежит. О, мы во тьме, и скрылся свет земной! Джеймс Томсон «Город страшной ночи»В одну из ноябрьских ночей 1869 года жилец, снимавший в Лондоне комнаты у некой миссис Ривз в доме № 240 по Воксхолл-Бридж-Род, принял внезапное и не слишком обдуманное решение — предать огню все свои бумаги. Позже в дневнике он запишет: «Сжег все мои старые рукописи и письма… Жег их на протяжении пяти часов, стоя у камина и следя, чтобы все полностью сгорело. Мне было тяжко и тошно — лишь мельком заглянул в них; если бы я только начал их перечитывать, я бы никогда не стал довершать их уничтожение. Все письма — те, что я хранил на протяжении двадцати лет, те, что хранились более шестнадцати. После я почувствовал себя как человек, который, наполовину взобравшись по длинной веревке (35 лет [исполняется] 23-го числа сего месяца), решает обрезать ее под собой; теперь ему остается только карабкаться вверх, ведь он больше никогда не сможет коснуться земли вновь, не разбившись насмерть… Однако по прошествии этого ужасного года мне не оставалось ничего иного, как только истребить свое прошлое. Теперь я в лучшем состоянии, чтобы взглянуть в лицо будущему, какой бы облик оно ни приняло».
Жильца миссис Ривз звали Джеймс Томсон. Через три недели ему исполнялось тридцать пять: пресловутая половина земной жизни оставалась позади. Дантовская метафора жизненного пути у Томсона, специально изучившего итальянский, чтобы читать Данте в подлиннике, преобразилась в карабканье по ненадежной веревке — такой представлялась ему собственная жизнь. Позади оставались сиротское детство, смерть юной возлюбленной, служба армейским учителем, безработица после увольнения из армии и постоянное безденежье, бессонницы, периодические запои. Спустя одиннадцать лет с первой публикации его стихотворения, переводы и критические статьи появлялись в печати довольно регулярно — но по стечению обстоятельств публиковались в журналах второстепенных и всегда под псевдонимом. Попытки пробиться в солидные издания регулярно терпели крах.
Таково было прошлое, от которого Томсон желал избавиться. Однако в ту ноябрьскую ночь ему удалось избавиться лишь от старых бумаг — и дневниковая запись проникнута горьким сожалением от неотвратимости этого поступка. Через два месяца после памятной ночи, в январе 1870 года, Джеймс Томсон запишет первые две строфы поэмы, которую сможет завершить лишь через четыре года. К тому времени объем поэмы достигнет тысячи с лишним строк. На протяжении двадцати двух глав будет разворачиваться дантианское видение инфернального, черного, населенного фантомами города — Города ночи и неизбывного отчаяния, центра мира, которым повелевает вселенская Меланхолия, явившаяся прямиком с одноименной гравюры Дюрера. Томсон пропитает поэму собственным отчаянием и безысходностью — настолько черными, что получит прозвание «лауреата пессимизма», а сама поэма будет признана самым безрадостным произведением английской литературы. Но именно этот полный мрачных образов текст окажет впоследствии серьезное влияние на Киплинга и Гарди и даст толчок к созданию одного из самых значительных произведений XX века — «Бесплодной земли» Томаса Стернза Элиота.
Поэма выйдет в 1874 году. Она будет называться «Город страшной ночи».
* * *
Джеймс Томсон родился 23 ноября 1834 года в Глазго в семье моряка торгового флота. Отец поэта, тоже Джеймс, человек веселый и общительный, прекрасный механик, был хорошо образован и любил поэзию. С восемнадцатилетнего возраста он плавал на различных торговых судах, сначала юнгой, потом штурманом и старшим помощником капитана. Когда Джеймсу-младшему еще не исполнилось шести, случилось несчастье: судно, на котором плавал старший Томсон, на обратном пути из Китая попало в продолжительный шторм, и команда целую неделю боролась за корабль, не имея возможности сменить намокшую одежду. В результате Томсона, служившего на корабле старшим помощником, разбил паралич, и домой он вернулся совершенным калекой, парализованным на правую сторону. Позже поэт с грустью вспоминал об отце: «В результате паралича рассудок его оказался полностью расстроен, отец стал подвержен приступам ярости; повадки его сделались странными, непредсказуемыми. Под конец умственное расстройство привело к слабоумию, и хоть он и не сделался совершенным идиотом, но совсем перестал напоминать себя прежнего со своим живым и ясным умом». От болезни Джеймс Томсон-старший до конца так и не оправился — он скончался в 1853 году.
Мать будущего поэта, Сара Кеннеди, была последовательницей протестантской секты ирвингиан, основанной радикальным шотландским проповедником Эдвардом Ирвингом, который проповедовал мистическое учение о скором пришествии Христа и необходимости возрождения раннехристианской церкви. По характеру Сара была полной противоположностью мужу — меланхоличной, мечтательной, склонной к мистическим озарениям. Принято считать, что это от нее Джеймс Томсон унаследовал меланхолическую натуру, впечатлительность и бурное воображение. Мать воспитывала его в строгих религиозных правилах: в совсем еще нежном возрасте он должен был заучивать наизусть Вестминстерский краткий катехизис, а единственным его чтением вплоть до переезда в Лондон были популярные в среде ирвингиан духовные гимны и трактаты. Тогда же произошло событие, оставившее свой глубокий след на всей дальнейшей жизни и творчестве Томсона: умерла трехлетняя сестренка Джеймса, заразившись корью от него. Позднее Томсон признавался, что тогда впервые познал отчаяние и печаль, которые уже никогда его не отпускали.
С болезнью кормильца семья стала испытывать серьезные финансовые трудности, и в 1840 году Сара решила перевезти немощного мужа и детей в Лондон. Поселились в Ист Энде, на Мэри-Энн-Стрит, где Сара стала шить на заказ. Ее заработок был единственным доходом семьи Томсонов. Она взялась шить платье для придворных — за такую работу платили больше. Но работа придворной швеи была сезонной: два раза в год (с апреля по конец июля и с октября до Рождества) придворные дамы лихорадочно обновляли туалеты, и в это время портнихи трудились на износ целыми сутками. Летом 1841 года выяснилось, что Сара ждет ребенка, но предрождественский сезон пропустить было нельзя, и она работала наравне с другими швеями. В феврале 1842-го она родила мальчика, названного Джоном Паркером Томсоном, и сразу слегла. Тогда-то и было решено отдать восьмилетнего Джеймса в Каледонскую приютскую школу в Излингтоне, где воспитывались дети шотландских солдат, павших или покалеченных на войне. Сара попросила финансовой помощи у своего земляка, некоего Джеймса Бойда, сахарозаводчика, и уже в декабре 1842 года Джеймс Томсон был зачислен в школу. Через полгода, в мае 1843-го, Сара Кеннеди скончалась — «от водянки», как было указано в свидетельстве о смерти, — а в том же году в рождественском номере «Панча» была напечатана знаменитая «Песня о Рубашке» Томаса Гуда, эпитафия бесчисленным лондонским швеям и портнихам, сгоревшим от непосильного труда: «Швея! За твоею спиною Лишь сумрак шумит дождевой, — Ты медленно бледной рукою Сшиваешь себе для покоя Холстину, что сложена вдвое, — Рубашку для тьмы гробовой…» (Пер. Э. Багрицкого).
Восемь лет, проведенные в Каледонской школе, стали для Томсона самым счастливым временем. Он был одним из лучших учеников в классе: здесь проявились его огромный интерес к книгам и незаурядные математические способности. Томсон покинул школу в августе 1850 года, незадолго до своего шестнадцатилетия. Он хотел устроиться на работу в какой-нибудь банк или торговую компанию, но у него не было денег на период стажировки. Он смог только устроиться монитором еще в одну школу — Королевский военный приют в Челси. Работа монитором была первой ступенью на пути к званию армейского учителя, и Томсон решил выбрать именно эту стезю.
Корпус армейских учителей был сформирован незадолго до того, в 1845 году. Во времена зачисления в школу Томсона учебная работа там уже не базировалась на системе взаимного обучения, хотя берт-ланкастерские школы (названные так по имени основателей этого учебного метода) оставались популярными в Великобритании вплоть до конца XIX века. Если раньше обучение в школе было построено на том, что старшие и более знающие ученики (мониторы) обучают учеников младшего возраста, то с 1847 года, когда на базе Королевского военного приюта была основана «модельная» школа, к процессу обучения были привлечены профессиональные наставники с целью подготовки учителей для британской армии. Отныне после двух лет работы монитором ученик поступал в распоряжение полкового учителя в качестве его ассистента. Через два года он должен был вернуться в Королевский военный приют, чтобы пройти годовую практику, и только после этого допускался до квалификационных экзаменов.
В 1851 году монитор Джеймс Томсон был послан нести службу ассистента учителя в ирландский городок Баллинколлиг, не примечательный ничем, кроме большого порохового завода. Однако там, в Баллинколлиге, Томсон познакомился с человеком, чья дружба определила его жизнь на многие годы. В марте 1852 года в составе 7-го драгунского гвардейского полка в Баллинколлиг прибыл рядовой Чарльз Брэдлаф. Всего на год старше Томсона, этот юноша уже сумел ярко заявить о себе в лондонских вольнодумных кругах. За свои атеистические взгляды он был изгнан из семьи и нашел пристанище в доме Элизабет Шарплз, гражданской жены радикального журналиста Ричарда Карлайла, одного из самых категоричных борцов за свободу печати, проведшего в заключении девять лет по обвинению в богохульстве за распространение атеистической литературы. В свои семнадцать лет Брэдлаф стал активным участником вольнодумных сборищ в доме Элизабет Шарплз. На одном из таких собраний он прочитал лекцию о прошлом, настоящем и будущем теологии — причем председательствовал на том собрании не кто иной, как Джордж Джейкоб Холиок, известный публицист и деятель рабочего движения, введший в обиход термин «секуляризм». В том же 1850 году Брэдлаф опубликовал (под псевдонимом «Иконоборец») брошюру «Несколько слов о христианском вероучении», сочинение яростно антирелигиозное. Но открывавшейся карьере вольнодумного публициста мешало одно ощутимое препятствие: после изгнания из дома у Брэдлафа не осталось никаких средств к существованию, а просить помощи у новообретенных соратников ему не хотелось. Надеясь на то, что его отправят в Индию, где он сможет поправить дела, он записался в армию, но вместо Индии его отправили в Ирландию. Так юный атеист оказался в Баллин-коллиге.
Несмотря на то, что политические и религиозные взгляды Томсона не были столь радикальны, Брэдлаф и Томсон быстро сдружились и стали единомышленниками. Долгие беседы и дискуссии с Брэдлафом оказали сильное влияние на Томсона и подтолкнули его сомнения в вере, которым впоследствии суждено было перерасти в осознанный атеизм. Дружба с Брэдлафом и прекрасные отношения с непосредственным начальником, Джозефом Барнсом и его семьей, в доме которых он жил, определенно скрашивали для Томсона учительскую рутину. Позже Томсон посвятит Барнсам цикл сонетов, проникнутых теплотой и признательностью.
У Барнсов Томсон встретил свою Беатриче — юную Матильду Уэллер, дочь оружейного мастера из 7-го драгунского полка. Ей вот-вот должно было исполниться четырнадцать. Сохранились свидетельства, что Джеймс и Матильда формально обручились. В январе 1853 года Томсон вернулся в Челси, чтобы пройти оставшиеся курсы, а уже через несколько месяцев 7-й драгунский полк был переведен в Кахир, городок в западной Ирландии. В июле 1853 года Томсон получил оттуда письмо с известием, что Матильда тяжело больна. На следующий день другое письмо сообщило о ее смерти. Потрясение его было так велико, что три дня после этого он не притрагивался к пище. Считается, что смерть юной возлюбленной стала главным, переломным событием в жизни Томсона, на всю жизнь определившим его характер и привнесшим главные пессимистические обертоны в его творчество. Идеализированный образ Матильды Уэллер возникает во многих стихотворениях Томсона, в том числе в «Городе страшной ночи», — в этом Томсон вполне осознанно следует традиции Новалиса, также потерявшего юную возлюбленную.
Как поэт Томсон попробовал себя еще в Баллинкол-лиге — в значительной степени под влиянием творчества Шелли, который на всю жизнь остался для Томсона творческим ориентиром. От того времени уцелело лишь несколько лирических стихотворений, но известно, что Томсон увлеченно писал и читал, — в свое повторное пребывание в Челси он усердно посещал читальный зал Британского музея, где знакомился с ранней поэзией Браунинга и Мередита. Летом 1854 года Томсон, наконец, получил диплом армейского учителя и был направлен на службу в Плимут.
Следующие восемь лет он служит армейским учителем — сначала в Плимуте, потом в Олдершоте (там в то время находился главный тренировочный лагерь для частей, отправляемых на Крымскую войну), затем в Дублине, на Джерси — и снова в Плимуте. В эти годы его поэтический дар окончательно оформился: он много и плодотворно пишет, изучает немецкий язык, появляются первые его поэтические публикации (дебютная, в 1858-м, — в газете «Инвестигейтор», редактируемой Чарльзом Брэдлафом, который к тому времени уже перебрался в Лондон). «Инвестигейтор» было первым изданием, открыто пропагандировавшим атеистическую философию, и Томсон решил печататься там под псевдонимом — «Б.В.», то есть Биши Ванолис (от имени Перси Биши Шелли и анаграммы псевдонима немецкого поэта-романтика Новалиса): по этому псевдониму принято отличать Томсона от его именитого тезки, жившего двумя столетиями раньше, — шотландского поэта Джеймса Томсона (1700–1748), автора поэмы «Времена года» и патриотической песни «Правь, Британия, морями!» Псевдонимом «Б.В.» подписано и развернутое эссе об Эмерсоне, появившееся в декабрьском номере газеты за 1858 год, — с него начинается путь Томсона-эссеиста и критика.
В течение двух лет — с июля 1858 по июль 1860 года — его стихотворения регулярно появляются в «Тэйте Мэгэ-зин»: для публикации там Томсон избрал другой псевдоним — Crepusculus, «сумрачный». В журнале, основанном либеральным издателем Уильямом Тэйтом, было напечатано около двадцати стихотворений Томсона, среди них лирические зарисовки «Тассо — к Леоноре» и «Бертрам — к благороднейшей и прекраснейшей леди Джеральдине». Интересно, что, несмотря на избранный псевдоним, опубликованные в журнале стихотворения не содержали в себе ничего «сумрачного». Однако именно тогда впервые прозвучала пессимистическая нота в творчестве Томсона: в 1857 году он завершил поэму-видение «Обреченный город», в которой описывается мертвый город, чьи жители превратились в каменные статуи. Поэма была опубликована четыре года спустя, не вызвав, впрочем, большого критического отклика, но в контексте дальнейшей эволюции пессимистического мировоззрения Томсона она представляет собой важную веху, ибо рисует мрачный, населенный застывшими мертвецами город — провозвестник Города ночи, о котором Томсону еще предстояло написать.
В 1859 году «Инвестигейтор» закрылся из-за нехватки финансовых средств, и Брэдлаф немедленно создал новую газету, «Национальный реформатор». На страницах этого секуляристского издания в ближайшие пятнадцать лет будет опубликована большая часть поэтических и литературно-критических произведений Томсона, в том числе его opus magna — «Город страшной ночи». Один из первых номеров «Национального реформатора» (за декабрь 1860 года) открывался развернутым эссе Томсона о Шелли. Безбожник и певец революций, Шелли тогда еще не был частью признанного английского литературного канона, и именно с радикальных кругов, воспринявших Шелли в качестве одного из главных своих литературных вождей, началось его восхождение к пантеону величайших английских поэтов. Томсон был одним из первых, кто этому способствовал. Критические статьи Томсона о Шелли были опубликованы отдельным изданием уже после его смерти, в 1884 году.
В мае 1861 года 55-й пехотный полк, к которому был прикомандирован Томсон, был переведен на Джерси. К тому времени сотрудничество Томсона с «Тэйте Мэгэзин» уже прекратилось, но он быстро наладил сотрудничество с издаваемой на Джерси газетой «Джерси Индепендент», редактором которой в то время был Джордж Джулиан Харни, чартист и первый английский переводчик «Манифеста коммунистической партии». Впрочем, ко времени сотрудничества Томсона с газетой она уже потеряла свою радикальную направленность, и публикации Томсона в «Джерси Индепендент» ограничились переводами из Гейне и критическим этюдом о сборнике стихов Роберта Браунинга «Мужчины и женщины».
До следующего переломного события в жизни Томсона оставался ровно год.
В конце мая 1862 года 55-й пехотный полк был переведен в Плимут. В один из июньских дней Томсон вместе с группой учителей отправился на побывку в Олдершот, чтобы навестить друга. Один из сослуживцев Томсона на пари нырнул в пруд, где купание было запрещено. Об этом доложили, и Томсон был вызван в качестве свидетеля, однако сообщить имена тех, кто стал свидетелем происшествия, отказался. Его обвинили в «непочтительном поведении» и отдали под трибунал. То ли раскрылась его причастность к публикациям в радикальной прессе, то ли — гораздо прозаичнее — сыграло тут роль то, что в прошлом он неоднократно привлекался к ответственности за злоупотребление спиртным, — но приговор трибунала был необычайно суров: армейский наставник Томсон был понижен до звания помощника учителя, а 30 октября 1862 года уволен со службы с лишением чинов и наград.
Отставка нанесла страшный удар по социальному и финансовому положению Томсона. Лишенный средств к существованию, он обращается к своему другу Чарльзу Брэдлафу, который к тому времени развернул бурную деятельность не только в качестве издателя, но и в качестве венчурного капиталиста: будучи помощником преуспевающего лондонского юриста Сэмюэла Леверсона, который недавно стал секретарем Итальянской железоугольной компании, Брэдлаф активно развивал коммерческие проекты в Италии, где после захвата гарибальдийцами Королевства Обеих Сицилий открылись неисчислимые возможности инвестирования в освоение угольных и железорудных месторождений. Брэдлаф пригласил Томсона пожить в своем доме, где Томсон быстро сделался другом семьи и стал принимать участие во всех семейных торжествах. Через Брэдлафа же Томсон получил работу секретаря — сначала в юридической конторе Леверсона, потом при Комитете по делам польской обороны — организации, созданной в Лондоне для сбора средств в поддержку польского восстания.
Параллельно он начинает писать ради заработка: между 1862 и 1865 гг., с продолжительными перерывами, в «Национальном реформаторе» появляется множество статей и рецензий под прежним псевдонимом «Б. В.» Не оставляет он и поэзию, — осенью 1863 года рождаются стихотворения «Воскресенье в Хэмпстеде» и «Воскресенье на реке» (эти полные веселья и беззаботности стихи ныне считаются одними из лучших у Томсона), в конце 1864 года — поэма «История Вейна». Они увидят свет лишь в 1880-м, когда их автору останется жить чуть больше двух лет.
В 1864 году Брэдлаф покинул контору Леверсона и основал небольшую инвестиционную компанию, приобретшую горнорудные и производственные проекты во Франции и Италии. В том же году Томсон становится главным клерком в компании Брэдлафа. Примерно в начале 1860-х годов вдобавок к немецкому (освоенному еще в армии) он начинает серьезно изучать итальянский — чтобы читать в подлиннике Данте. Цели своей он со временем достиг: вскоре творчество Данте наряду с поэзией Эдмунда Спенсера, Шелли и Леопарди становится для Томсона одним из главных источников вдохновения. О поэтах-современниках Томсон был мнения самого невысокого: в своих критических статьях «Б. В.» называет Диккенса «поверхностным», Теннисона — «переоцененным», Теккерея язвительно характеризует «образчиком британской салонной морали». Восхищался он только Браунингом, Мередитом да еще, пожалуй, полиглотом Джорджем Борроу, автором прославленной по сей день автобиографической книги «Лавенгро», одним из первых английских переводчиков Пушкина.
Таким образом, к тому времени полностью определился социальный и литературный портрет самого Томсона: выходец из рабочего класса, существующий на скромное жалованье клерка, убежденный атеист, не вхожий в редакции респектабельных журналов и имеющий возможность печататься лишь в самом известном секуляристском издании страны и то под псевдонимом (хотя его ядовитые антихристианские статьи завоевали ему некоторое число преданных читателей). Ко всему прочему, среди своих друзей и работодателей Томсон успел завоевать репутацию человека странного и ненадежного: он регулярно забывал о деловых встречах и неделями не появлялся на рабочем месте. Вскоре выяснилось, что Томсон страдает регулярными запоями, и это еще более сузило круг его знакомств.
В этот период, помимо писания стихов, Томсон много переводит с итальянского. Творчество Джакомо Леопарди Томсон открыл для себя где-то в начале 1860-х: первые указания на его знакомство с сочинениями «итальянского Шопенгауэра» содержатся уже в стихотворениях 1862–1863 годов, содержащих прямые цитаты из «Песен» Леопарди. Но лишь начиная с 1867 года Томсон, не скрывая своего восторга, начинает знакомить с Леопарди читательскую аудиторию «Национального реформатора». С ноября 1867 года по июнь 1868 года в газете были опубликованы в переводах Томсона 11 диалогов и эссе из «Нравственных очерков» и 26 эссе из «Мыслей». В пронизанном безысходным отчаянием творчестве итальянского поэта Томсон открыл близкую себе философию трагического пессимизма, отвергающую Бога и объявляющую человеческое существование непрерывным страданием. Страх Леопарди перед его родным городом, Реканати, повторялся в страхе Томсона перед Лондоном: этот ужас перед живой удушливой тьмой огромного мрачного города выразился еще в ранней поэме Томсона «Обреченный город» — и будет еще ощутимее выражен в «Городе страшной ночи». В Леопарди Томсон открыл и родственную душу: оба поэта остро ощущали пустоту и ничтожность всего, что их окружало (noia, по выражению Леопарди; insufferable inane, по выражению Томсона), оба похожим образом описывали это состояние духа как утрату всех ощущений, что само по себе есть чудовищная пытка. В «Разговоре Торквато Тассо и его демона» из «Нравственных очерков» на вопрос Тассо, какое лекарство может помочь против noia, демон отвечает: «Сон, опиум, страдание. Последнее — самое могущественное из средств, потому что человек, пока он мучится, уж во всяком случае, не скучает» (Пер. С. Ошерова). Это мучительное состояние — смесь умственного отупения, грез наяву и безнадежного ожидания — несколько раз описывается на страницах «Города страшной ночи», отражая умственное состояние обитателей страшного города.
Однако саму поэму еще предстояло написать. Известна точная дата начала работы над «Городом» — 16 января 1870 года. Томсон только что пережил тяжелейший духовный кризис; компания Брэдлафа находилась на грани банкротства, необходимо было срочно искать работу. Сменив несколько временных мест, он, наконец, устроился секретарем в Чемпион Голд энд Силвер Майнинг Кампэни, владеющую несколькими рудниками в Скалистых горах штата Колорадо. В октябре 1870-го работа над новой поэмой (написанной почти наполовину) была приостановлена: Томсон был поглощен другими делами. В четырех номерах «Национального реформатора» за ноябрь 1871 — январь 1872 года выходит (снова под тем же псевдонимом «Б. В.») его ориентальная поэма в прозе «Уэдда и Ом-эль-Бонайн», которая, в частности, была высоко оценена братьями Уильямом и Данте Габриэлем Россетти. В апреле 1872 года по делам компании Томсон спешно отплывает в Соединенные Штаты, где пребывает до мая 1873 года, пытаясь утрясти детали сделки по покупке одного из рудников. Но в начале 1873 года Чемпион Голд энд Силвер Майнинг Кампэни ликвидируется, и Томсон, еле сумев выбить деньги на обратный билет, возвращается в Лондон.
В июне 1873 года он пишет вступление к поэме, но работа снова прерывается: неожиданно его нанимает газета «Нью-Йорк Ворлд», которой требуется репортер, чтобы освещать события восстания под руководством самопровозглашенного короля Испании Карла VII против новой Испанской республики. В июле 1873-го Томсон выезжает в Байонну, где пересекает франко-испанскую границу и присоединяется к карлистским частям, однако уже в сентябре его отзывают в Лондон: в редакции, ожидавшей драматичных сводок с передовой, недовольны его редкими и скупыми сообщениями (сам Томсон утверждал, что у карлистов из рук вон плохие коммуникации, к тому же за всю эту гротескную кампанию он не увидел ни одного настоящего сражения, так что писать было совершенно не о чем). Вознаграждения целиком Томсону не выплачивают, он снова остается без работы и принимается за доделку поэмы. Последние ее главы были дописаны в октябре 1873-го, и уже 29 октября поэма (под конец Томсон заменил ее рабочее название «Город ночи» на «Город страшной ночи») была завершена.
22 марта 1874 года вступление и первые пять глав «Города страшной ночи» — под бессменным псевдонимом «Б.В.» — появились в «Национальном реформаторе». Последующие главы печатались в апрельских номерах, а остающиеся пять глав были опубликованы в номере за 17 мая.
О другом произведении можно было бы сказать, что оно увидело свет. Но в случае томсоновской поэмы это свет узнал о существовании Города страшной ночи.
* * *
Никогда еще английская поэзия не видела произведения столь мрачного и пронизанного таким беспросветным отчаянием. Даже в самых унылых писаниях его предшественника и кумира Шелли всегда сквозит нечто похожее на божественное упование. Ничего подобного в поэме Томсона не найти. Последовательно и безжалостно он отрицает всяческую надежду на помощь свыше. Это поэзия абсолютного, всепоглощающего, неотвратимого отчаяния, страстная, неистовая проповедь неверия, призыв утратить все иллюзии и добровольно принять единственную правду жизни: Бога не существует, бессмертие души является фикцией, природой правит одна необходимость. С ревностью пророка Томсон на протяжении двадцати двух глав поэмы утверждает свои темные постулаты.
Эта ревность, искренняя убежденность в своей правоте — одна из примечательных особенностей поэмы. Город страшной ночи существует; он, как и дантовский Ад, имеет четкую географию — ее подробное описание дано уже в первой главе. Описание одновременно достоверно и зыбко, фантастические образы появляются не сразу, их появление воспринимается как закономерность, и вот читатель перестает различать границу между реальностью и вымыслом, сном и явью. У него возникает впечатление, что Город страшной ночи реален.
Этого и добивается автор, с самого начала пытающийся пошатнуть уверенность читателя в незыблемости окружающей нас реальности. Дело в том, что поэма Томсона — произведение визионерское. Недаром своими предшественниками Томсон считает Шелли и Блейка — главных визионеров-романтиков в английской поэзии XIX века. Отсюда центральный для этих поэтов вопрос, поставленный также в «Городе страшной ночи»: что есть реальность и где она заканчивается? Томсон пользуется метафорой покрова, отделяющего нас от истинной реальности. Но если для неоплатоника Шелли (у которого эта метафора была позаимствована) сквозь покров проблескивает божественный мир идей, истинная реальность, то для пессимиста Томсона покров непроницаем, потому что за ним не мерцает никакой божественный свет, — покров черен, как и та бесконечная непроглядная тьма за ним, в которой угасает всякая вера и надежда. Для жителей страшного города, таким образом, истинной реальностью является ночная тьма: «Теперь явь для меня — сей мрак ночной» — рефреном звучит в главе 12.
Томсон — мастер выворачивать образы наизнанку. По сути дела, сама картина города, погруженного в вечную ночь, тьму отчаяния и меланхолии, есть перевернутая метафора Небесного Града, Нового Иерусалима из Откровения Иоанна Богослова, где течет река жизни и льется свет, исходящий от самого Бога, Который «утрет всякую слезу» и отменит самую смерть. Черный антипод Небесного Иерусалима, томсоновский Город ночи пересечен Рекой самоубийц, а его жители все как один разуверились в существовании Бога. Стержнем поэмы служат слова апостола Павла: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (1 Кор. 13:13), однако слова эти безжалостно травестируются. Вторая глава поэмы посвящена методическому опровержению этого тезиса: рассказчик видит человека, который с маниакальной настойчивостью — сам себя он сравнивает с заведенным механизмом часов — переходит от запустелого храма к покинутому особняку, а от него — к обшарпанному дому, останавливаясь возле каждого со словами: «Здесь умерла Вера», «Здесь погибла Любовь», «Здесь угасла Надежда». Это механическое кругообразное движение — «вращенье вечное меж точек сих — Любви, Надежды, Веры неживых» — подкрепляется формулой: «LXX/333=210», словно Томсон пытается с помощью математической науки поверить загадку утраченных идеалов — по Томсону, трех «постоянных величин» человеческой жизни. Число «три», число Святой Троицы, имеет в поэме такое же важное символическое значение, как и в «Божественной комедии», но Томсон придает ему свой символический смысл. Четные главы поэмы задуманы как примеры, показывающие утрату каждой «постоянной величины»: главы 4, 6 и 8 повествуют об утраченной надежде; глава 10 — об утраченной любви; главы 12, 14 и 16 — об утраченной вере. Если четные главы поэмы пытаются доказать гибель трех главных добродетелей, то нечетные служат зарисовками того состояния крайней незащищенности и мучительного беспокойства, которые являются следствием описанного в четных главах.
Критики любят указывать на автобиографические черты в поэме, на то, что Томсон писал ее под влиянием хронического алкоголизма, одолеваемый болезненной бессонницей. Впоследствии он сообщал писательнице Джордж Элиот: «„Город страшной ночи“ — плод немалой бессонной ипохондрии». В этом мучительном состоянии он отправлялся бродить по ночному Лондону, и Город из поэмы действительно напоминает Лондон конца XIX столетия с его зловонными туманами, каменными набережными, жалким населением трущоб, атмосферой враждебного человеку огромного города, высасывающего жизненные соки. Ощущение бессильного одиночества, характерное и для самого рассказчика, и для остальных персонажей поэмы, Томсон изведал еще в детстве, став воспитанником сиротского приюта. Позднее, попав в Лондон, лишенный средств к существованию, он вновь сполна изведал это чувство. Отсюда его отношение к городу — скорее отторжение, чем желание влиться в городское общество, стать полноценным лондонцем (хотя, по свидетельству современников, Томсон всю жизнь говорил с лондонским акцентом). По существу, «Город страшной ночи» есть творение аутсайдера, человека со стороны, упрямо отстаивающего свои радикальные позиции в жизни и в литературе.
Круг литературных реминисценций в поэме весьма широк. Первые две строки поэмы — прямая цитата из шекпировского «Тита Андроника» — к слову сказать, пьесы весьма непопулярной во времена Томсона из-за многочисленных кровавых сцен. В тексте поэмы встречаются прямые и скрытые цитаты из Данте, Леопарди, Шелли, Мильтона, Блейка. На Блейке стоит остановиться особо. Все идеи и образы в главе 18 построены непосредственно на блейковских мотивах, в частности, на гравюре Блейка «Навуходоносор»: даже поза утратившего человеческий облик создания, центрального героя этой главы, практически повторяет позу изображенного на блейковской гравюре обезумевшего царя. Из текста поэмы мы узнаем, куда, по Томсону, стремится блейковский Навуходоносор и с ним — превратившийся в животное безымянный персонаж восемнадцатой главы. Их совместная цель — найти «златую нить», с помощью которой можно вернуться в безоблачное прошлое, сияющий младенческой невинностью Эдем. Образы золотой нити и Эдема целиком позаимствованы из «Песен невинности и опыта»: так Томсону удается встроить оригинальную мифологию Блейка в своеобразную символику поэмы, призванную выразить «страшную ночь» человеческого существования.
Редкое визионерское произведение обходится без аллегории. Поэма Томсона — не исключение: аллегория слишком удобный язык, чтобы им не воспользоваться. Насквозь пронизана аллегорическими символами знаменитая четвертая глава поэмы — описание странствия безымянного проповедника сквозь населенную уродливыми чудовищами и страшными демонами пустыню. В конце он приходит на берег бурного моря и видит приближающуюся к нему прекрасную женщину, держащую вместо светильника пылающее сердце. Рассказчик мистическим образом распадается на две личности: одна — впавшая в любовное забытье, подобная трупу; другая — вялая и бессильная, способная только наблюдать. Женщина заключает впавшего в любовный экстаз в свои объятья, и их обоих уносит приливной волной. Вторая личность остается на берегу, стеная и скорбя. По мнению критиков, здесь Томсон изобразил себя. Прекрасная женщина — юная Матильда Уэллер, со смертью которой сгинул прежний Томсон. Та смертная оболочка, что осталась жить, представляет собой лишь порочное, «скверное» подобие поэта прежнего.
Аллегоричны и две последние главы поэмы. Здесь появляются два символа безысходности — сфинкс, олицетворяющий безжалостную необходимость вселенских законов и одним своим бесстрастным видом уничтожающий ангела с мечом (символ человеческих надежд и дерзаний), и статуя дюреровской Меланхолии, которая в поэме Томсона превращается в богиню-покровительницу Города ночи. Бесстрастный величавый сфинкс, отягощенная сумрачной думой Меланхолия, взирающая на Город ночи с высоты своего гигантского пьедестала, являют собой зримое воплощение бесцельности всякого начинания: «… все равно борьбу крушенье ждет». Самый вид двух этих статуй — сфинкса и Меланхолии — снова и снова внушает обитателям города — и читателям поэмы — мысль о бесполезности любого бунта против сложившегося миропорядка, подкрепляет и подстегивает их в овладевшим ими отчаянии.
* * *
Несмотря на выход в радикальном издании, поэма была замечена критикой. Ее достоинства в своих отзывах отметили ведущие критики: Джордж Мередит, Филип Бурк Марстон, Уильям Шарп, Джордж Сентсбери, Уильям Россетти. Томсон приобрел доброго друга в лице поэта и издателя Бертрама Добелла, который по прочтении поэмы пожелал раскрыть личность таинственного «Б. В.» и свести с ним личное знакомство. Именно Добелл впоследствии отредактировал и выпустил в свет первые сборники стихотворений и поэм Томсона. Наконец, за океаном поэму заметили и признали Эмерсон и Лонгфелло. Мелвилл назвал ее «современной книгой Иова».
Такое признание не могло не воодушевить Томсона, за двадцать лет литературного труда изголодавшегося по вниманию критиков. Однако, как следовало бы ожидать, творческого взлета за этим не последовало. «Город страшной ночи» истощил творческую энергию своего автора. В течение следующих семи лет (1874–1881) Томсон написал лишь несколько небольших стихотворений — в основном из-под его пера выходили критические статьи и обзоры, сначала для «Национального реформатора», потом, после разрыва с Брэдлафом в 1875 году, — для «Коупе Тобакко Плант», ежемесячного журнала табачных промышленников. Однако лучшие свои критические работы (включая статьи о творчестве Гейне) Томсон напечатал в небольшом радикальном издании «Секулярист». Здесь же были впервые опубликованы стихотворные переводы Томсона из Гейне, вызвавшие неожиданный благодарственный отклик… Карла Маркса, который поздравил переводчика с безусловной удачей: «Это не перевод, а воспроизведение оригинала, какое дал бы сам Гейне, владей он в совершенстве английским языком». Статьи приносили скромные деньги — единственный заработок Томсона в эти обойденные поэзией годы, «годы без песен», как сам он их прозвал. В 1876 году в его дневнике начинают появляться записи об ухудшающемся самочувствии: он жалуется на боли в спине и груди, вялость и апатию, с тревогой вспоминает обстоятельства смерти отца. Жалуется он и на бессонницу. С такой жуткой точностью описанная в «Городе страшной ночи», бессонница к тому времени стала обычным состоянием для Томсона: достаточно сказать, что одно из последних (и самых мрачных) стихотворений Томсона называется «Бессонница».
Однако в этот тяжелейший для Томсона период судьба неожиданно смилостивилась над ним. Когда Томсон уже оставил всякую надежду издать сборник своих стихов, Бертрам Добелл сообщил ему, что нашел издателя. Сборник «Город страшной ночи и другие стихотворения» под настоящим именем автора вышел в свет в издательстве «Ривз энд Тернер» в начале 1880 года. Номера «Национального реформатора» с текстом поэмы давно разошлись, и публикация книги вызвала новый всплеск интереса к поэме и к личности ее автора. Последовали благожелательные рецензии, весьма воодушевившие Томсона. Он вновь начинает писать стихи, радуясь тому, что «годы без песен» кончились. Осенью 1880 года в том же издательстве был издан второй сборник стихотворений, «История Вейна и другие стихотворения», однако продавался он уже не так хорошо. Сборник его критической прозы «Эссе и фантазии», изданный на следующий год, и вовсе постигла трагическая судьба: почти весь его тираж сгорел во время пожара в типографии.
Эти явные неуспехи Томсон выдерживает стоически: он пишет с завидной регулярностью новые стихи, и стихи эти совершенно не похожи на прежнего, «темного» Томсона. Но точно так же, как мрачный «Город страшной ночи» стал предшественником семи «лет без песен», так и написанная в марте 1882 года, пронизанная отчаянием «Бессонница», схожая сумрачным колоритом и ритмическим рисунком с «Городом», оказалась предшественником смертной тишины, в которую совсем скоро было суждено погрузиться поэту. Последние пять месяцев жизни Томсона были отмечены черной меланхолией и страшными запоями. Это до крайней степени обеспокоило его друзей. Известно, что от Томсона прятали спиртное и пытались запереть его в доме, но ему удавалось вырваться и отправиться в очередной кабак. По свидетельству Добелла, Томсон неистово жаждал того момента, когда алкоголь, наконец, убьет его. Последний месяц своей жизни он провел в ночлежках: своего жилья у него уже не было. 1 июня 1882 года Томсон явился к своему другу, поэту и критику Филиппу Бурку Марстону. Несмотря на слепоту (он потерял зрение еще в детстве), Марстон по бессвязным речам Томсона быстро понял, что его друг не в себе. Вскоре Томсону стало плохо, он потерял сознание. Прибывший на место поэт Уильям Шарп (больше известный по своему литературному псевдониму Фиона Маклауд) увидел, что Томсон истекает кровью, и срочно вызвал врача. Бесчувственного Томсона увезли в госпиталь Университетского колледжа, где его на следующий день навестили Марстон и Шарп. Они нашли Томсона в сознании, но очень ослабевшего. Последнее описание поэта оставил Шарп: «Никогда не забыть мне глубочайшего отчаяния, застывшего в глазах этого человека, умиравшего в больничном покое госпиталя Университетского колледжа, — отчаяния, которое Де Квинси назвал „неистовым огнем страдания“…»
Томсон умер от непрекращающегося внутреннего кровотечения 3 июня 1882 года. Пять дней спустя он был похоронен на Хайгейтском кладбище. Свою жизнь он некогда с горечью назвал «бесконечным поражением», и казалось, что его стихам тоже обеспечено незавидное будущее. Его посмертные книги если не становились жертвами частых тогда на типографских складах пожаров, то встречали дружное равнодушие читательской аудитории. Первый посмертный сборник «Голос с Нила и другие стихотворения», собранный и изданный Добеллом в 1884 году, прошел незамеченным. Остатки его тиража погибли во время пожара в 1889 году: этот пожар уничтожил также большую часть тиража свежеизданной биографии Томсона, написанной Генри Сол том. Определенный успех имело двухтомное полное издание стихотворений и поэм, предпринятое тем же неунывающим Добеллом в 1895 году, но издательство «Ривз энд Тернер» вскорости закрылось, а других издателей поэзии Томсона не нашлось. Не способствовала возрождению имени Томсона и публикация в 1910 году его биографии пера Добелла, с легкой руки которого к имени Томсона приклеилось прозвание «лауреат пессимизма». Лишь с 1920-х просыпается интерес к творчеству поэта: с тех пор сочинения его регулярно переиздаются, появился ряд биографий. Но и по сей день Джеймс Томсон остается одинокой и не до конца признанной фигурой в истории английской литературы: не всякий читатель может вынести беспросветную мрачность его произведений, главным из которых является «Город страшной ночи».
* * *
В России Томсона заметили рано: первый отзыв о нем под названием «Певец отчаяния» появился в «Русском богатстве» в 1907 году за подписью Дионео (псевдоним писателя и публициста Исаака Владимировича Шкловского (1864–1935), известного специалиста по литературе и культуре Великобритании, дяди Виктора Шкловского). Но еще пятью годами ранее на страницах «Нового журнала иностранной литературы, искусства и науки» (1902, № 6) появилось эссе «Забытый поэт Джеймс Томсон», в котором рассуждения о творчестве поэта чередовались с фрагментарными переводами нескольких его стихотворений. Автором эссе и первым переводчиком Томсона на русский была поэтесса и переводчица Евгения Михайловна Студенская (урожденная Шершевская, 1874–1906), за короткий (1894–1904), но весьма плодотворный период своей переводческой деятельности опубликовавшая на страницах «Нового журнала» множество переводов из немецких, итальянских, скандинавских, испанских и английских поэтов, в том числе «Варяг» австрийца Рудольфа Грейнца, превратившийся в известнейшую русскую песню, едва ли не гимн русского военного флота.
Как установлено совсем недавно А. В. Лавровым[1], первый — прозаический — русский перевод «Города страшной ночи» был сделан зимой 1908 года — весной 1909 года Марией Сергеевной Безобразовой (урожд. Соловьевой, 1863–1919), переводчицей и детской писательницей, сестрой Вл. Соловьева. В мае 1909 года этот перевод был предложен М. Волошину Александрой Васильевной Гольштейн (1850–1937), критиком и переводчицей, для публикации в «Аполлоне». Из письма Волошина к Сергею Маковскому (около 31 мая 1909 г.) мы узнаем, что Волошин высоко ценил Томсона, «поэта великого и столь же мало известного, как Клодель». Однако, получив перевод, Волошин был глубоко разочарован. Оказалось, что Безобразова выполнила подстрочный перевод стихов, совершенно не передающий художественную выразительность и ценность оригинала. В целом признав добросовестность ее труда, Волошин отклонил перевод Безобразовой и в «Аполлоне» — да и вообще в печати — он так и не появился.
Прошло тридцать лет, прежде чем увидел свет первый поэтический русский перевод из «Города страшной ночи». Главы 1, 14, 16, 18 поэмы были опубликованы в составленной М. Гутнером знаменитой «Антологии новой английской поэзии. 1850–1935» (Л., 1937) в талантливом переводе Евгения Михайловича Тарасова (1882–1944), до революции — поэта-народника, в советские годы полностью переключившегося на переводы английской поэзии. Однако полный поэтический перевод поэмы Томсона, насколько нам известно, никогда в России не предпринимался.
Теперь он перед вами.
Валерий ВотринГород страшной ночи
Я увожу к отверженным селеньям[2]. Данте …потом О стольких муках, о движеньях стольких И на земле и в небе всяких тел — Вращенью их отыщется ль предел? Откуда двинулись — туда вернулись; Разгадки не добиться, Что пользы в том и где плоды…[3] Ты, что одна бессмертна в мире, Смерть, Всю тварь в себе вмещаешь, Страданья наши прекращаешь И даришь всем рожденным, От мук освобожденным… А истинно блаженной доли Ни смертным, ни умершим не дал рок.[4] ЛеопардиВступление
Вот сломленного речь: «В пыли земной Напечатлею о скорбях души[5]». Зачем же к привиденьям тьмы ночной Взывать, чтоб встали в солнечной тиши? И вере подниматься из могилы? Ломать отчаянья сургуч застылый И кликать посреди людской глуши? Затем, что хладный гнев по временам Срамную открывает наготу Отжившей правды, обнажая нам Всех грез, фантазий, масок пустоту; Затем, что власть известная таится В том простодушьи нашем, что стремится Облечь все беды в слов неполноту. Нет, вовсе не для юных я пишу И не для тех, кто счастьем дорожит, Иль тех, кто жирно ест и барышу Вести подсчет на людях норовит, Иль пустосвятов с Богом наготове, Пекущемся об их душе и крове, Иль мудрецов, кто наяву блажит. Пишу я не для них; не суждено Прочесть им что-то в этих письменах, Так пусть блаженство будет им дано Здесь, на земле, и там, на небесах. Слова сии окажутся уроком Для одиночек лишь, гонимых Роком, Чья вера умерла, чей жребий — прах. Так некий странник, неизвестный друг, Застигнутый ужасной этой тьмой, Слова мои поймет в ночи и вдруг Почует рядом братский локоть мой: «Я молча стражду, я один, но кто-то, В чьем голосе слышна о мне забота, Невидимый, идет моей тропой». О Братство грустное, тайн я твоих Раскрыть смогу ли горестный обет? Но нет, обрядов сокровенных сих Несведущим не разгадать секрет: Те, кто не смог прочесть сего предвестья, Не разберут смысл тайный этой вести, Провозглашенной громко на весь свет.I
Сей город — царство Ночи; надо быть, И Смерти, но царит здесь Ночь; сюда Дыханью утра чистого не вплыть, Что за рассветом настает всегда. Глядят вниз звезды в жалостном презренье — Не видит город солнца появленье, Ведь на заре он тает без следа. Бесследно растворяется, как сон, Что днем тоской внезапною гнетет, Из сердца вырывая тяжкий стон. Когда же месяцами из тенет Сон не пускает, и недель без счета Таких в году, напрасная работа — Явь различить и сна протяжный гнет. Ведь жизнь всего лишь сон, чьи тени вспять Воротятся, — почасту, редко, днем Иль ночью, днем и ночью — и опять, И мы средь смены этой признаем В безостановочном теней круговороте Порядок некий, — что присущ природе, Как мы в упрямстве думаем своем. Рекою город с запада обвит, Поток к лагуне устремившей свой, Чье устье морем взбухнуть норовит; Глухие топи блещут под луной, Там — пустоши и кручи гор скалистых; Плотинами, толпой мостов казистых Навечно город с пригородами слит. Взбирается полого он на склон, Чуть гребня не перевалив рубеж, В три мили от потока удален. Пустыня дале — не пройдет и пеш, Саванны, чащи, кряжи снеговые, Нагорья и ущелья зверовые; К востоку — моря буйного мятеж. Хоть города никто не разрушал, Руины славные забытых дел Близ дома, что недавно обветшал Плачевно, населяют сей предел. Здесь фонари не гаснут, но при этом Сыскать оконца, что мерцало светом В домах сквозь тьму, едва ли б кто сумел. Те фонари горят средь тьмы густой, Беззвучия особняков, чей вид С гробницей схож угрюмой и пустой. Молчанье, что все чувства цепенит, Вгоняет в трепет дух, уныньем взятый: Жильцами тут владеет сон заклятый, Мертвы они иль мор их прочь теснит! Но как на древнем кладбище найдешь Хоть одного живого средь могил, Так тут: невольная находит дрожь От вида лиц измученных. Без сил, Отмеченные жребием, блуждают Иль безутешно о судьбе гадают Они, кто век доселе не смежил. Мужчины, редко — те, кто юн иль стар, Там женщина мелькнет, ребенок — тут: Ребенок! Сердцу это ль не удар Увидеть, что с рожденья он разут, Иль хром, иль слеп, хиреть приговоренный Без детства, — сердце мукою бездонной Полно при встрече с худшею из кар. Они бормочут что-то, в разговор Лишь изредка вступая, — в их груди Засело горе жгучее, и взор Его не отражает; посреди Молчанья вдруг взрываются, но бреда Не слушает никто, разве соседу Не встерпится вступить в ответный спор. Сей город — царство Ночи, но не Сна; Бессонницей усталый ум набряк; Часов бесщадных выросла длина, Ночь — ад без времени. Такой напряг Рассудка, мысли длится бесконечно И заставляет миг тянуться вечно, — Вот что лишает разума бедняг. Всяк оставляет упованья здесь: Средь шаткости незыблемо одно, Одно мучений утоляет резь — Здесь Смерть незыблема, и ей вольно Прийти, когда восхочет; гость утешный, Готова поднести рукой поспешной Сна вечного медвяное вино[6].II
Казалось, он куда-то с целью шел, И я пошел за ним — живая тень, Вперед он неуклонным шагом брел, Как будто безразличный — ночь ли, день. И слитный отражался стук шагов От стен бесчувственных глухих домов. Но вот он встал. Пред ним чернел сквозь мрак Громадной башни смутный силуэт, Надгробия, куда ни сделай шаг — Кладбище, где на всем забвенья след. Он вымолвил в отчаяньи тупом: «Зачахла Вера в мертвом месте сем». И, повернув направо, продолжал Без устали по улицам идти И вскоре у ограды низкой стал — Виднелся дом сквозь листья впереди. И он сказал в отчаяньи глухом: «Любовь здесь пала под кривым ножом». И, вправо повернув, возобновил По городу безустальный поход И вскоре в арку тесную вступил — Был здесь домишко, зрелище невзгод. Он прошептал в отчаяньи слепом: «Угасла там Надежда, в доме том». Едва дослушав, я спросил, смущен Приметами, представшими глазам, Значеньем новым потайных имен В сем странствии к разбитым алтарям: «Любви, Надежды, Веры больше нет, Так есть ли Жизнь? Чем движим ее свет?» Как тот, кем овладела мысль одна, Он нехотя сказал: «Часы возьми, Сотри все цифры глупые сполна, Сними две стрелки, циферблат сними — Жив механизм, покуда есть завод: Бесцельно, бесполезно — но идет». И, повернув направо, в тишине Он далее вдоль улиц поспешил, Что все знакомей становились мне, И встал опять у храма средь могил, Тут вымолвив в отчаяньи своем: «Зачахла Вера в мертвом месте сем». Тогда его оставил я — клубок Сомнений был жестоко рассечен: Так он кружиться бесконечно мог, Ища останки минувших времен, — Вращенье вечное меж точек сих — Любви, Надежды, Веры неживых[7].III
Хотя на улицах освещены дома И серебрит луна тишь площадей, Царит в бессчетных закоулках тьма; Когда же ночь ступает средь аллей, Встает на перекрестках мрак бездонный, Мерещится там ряд домов бессонный, И переулки подпола черней. И вот уж новому обучен глаз: Пускай густа и непроглядна тень, Но видит в полной темноте сейчас Он так же ясно, словно в светлый день, — Там — облик сумрачный впотьмах таится, Там — нечто тьмы чернее вдруг змеится: Фантомами полна ночная сень. Слух также средь глубокой тишины Какие-то шумы невольно мнит: То будто вздохи сонные слышны, То стон глухой невидимых обид, Невнятный шепот, отголоски смеха — Но явь ли это или же помеха Для слуха — вряд ли кто-то объяснит. Не утишит скорбей теченье лет, И удивление тает меж картин Чудных, где права у закона нет, Где В-Жизни-Смерть — предвечный властелин. Раздавлена ужасным этим гнетом, Изумлена страстей коловоротом, Душа уж не дивится средь кручин.IV
Он с площади великой глас вознес, Вещая с травянистого холма, Без шляпы, вихрь разметанных волос, Как если б вкруг была народу тьма, — Собою крепок, словеса кипят, Огня исполнен ненормальный взгляд: — Когда шел чрез пустыню, было так: Когда шел чрез пустыню — вот, во мгле Весь небосклон, тьма правит на земле, Ни звука, ни движенья — тишина, Глухая тьма немыслимо душна. Прошли часы; вдруг мимо проскочил С безумным клекотом рой мерзких крыл. Но я лишь шел в ответ: В уныньи страха нет. Когда шел чрез пустыню, было так: Когда шел чрез пустыню — жадный взор Горящих глаз за мною вел надзор, Дыханья хищного тяжелый смрад Мне кожу опалял, как жаркий яд. Кривые когти, руки мертвецов Старались ухватить из-за кустов, Но я лишь шел в ответ: В уныньи страха нет. Когда шел чрез пустыню, было так: Когда шел чрез пустыню — вот, багрян, Вдруг холм явился, огнем обуян, Там, завиваясь, чадны и легки, Плясали пламня злые языки — Змеиный шабаш, дьявольский содом, Под праздник адский отданный внаем, — Но я лишь шел в ответ: В уныньи страха нет. Когда шел чрез пустыню, было так: Когда шел чрез пустыню — дерзкий дрот Падучих звезд сек черный небосвод, Зенит отверзся бездною огня, От молний вся тряслась земли броня, В валах огня вздымалась почва вдруг И комьями валилася округ — Но я лишь шел в ответ: В уныньи страха нет. Когда шел чрез пустыню, было так: Когда шел чрез пустыню — бриз дохнул, И брега я морского досягнул. Утесы громоздилися грядой, И неумолчный грохотал прибой, Кипела пена, брызг висела хмурь, И неба раскололася лазурь, — Но я лишь шел в ответ: В уныньи страха нет. Когда шел чрез пустыню, было так: Когда шел чрез пустыню — слева встал Диск солнца, увенчав одну из скал, И, вспыхнув по краям, померк тотчас, — Кровящий и слепой потухший глаз. Луна ж на запад сразу перешла И справа над утесом замерла, — Но я лишь шел в ответ: В уныньи страха нет. Когда шел чрез пустыню, было так: Когда шел чрез пустыню — справа блик Мелькнул, и облик женский вдруг возник — Босая, с непокрытой головой, Несла она светильник багряной — Какая скорбь в движении любом! Какая мука на лице твоем! В глазах померкнул свет, Ужель надежды нет? Когда шел чрез пустыню, было так: Когда шел чрез пустыню — пополам Распался я, и не срастись частям: Смотрел один я, нем и отрешен, Как тот, другой, любовью опьянен. А женщина ко мне шла меж луной, Померкшим солнцем и лихой волной. Застыла, подошед, И вот спасенья нет. Когда шел чрез пустыню, было так: Когда шел чрез пустыню — самый ад Сравним с ужасным местом тем навряд. Знак черный на груди ее открыт, И саван лентой черною увит. Вот, сердце вместо светоча в руке, И капли крови гаснут на песке. Мне ясен стал секрет, И вот уж страха нет. Когда шел чрез пустыню, было так: Когда шел чрез пустыню — как во сне Она склонилась к обмершему мне, Но алых капель с моего чела Отмыть слезами так и не смогла, Слова шептала грусти и вины, Не замечая приливной волны. Я, ближе подошед, Стал, яростью одет. Когда шел чрез пустыню, было так: Когда шел чрез пустыню — тут, бурлив, Нахлынул пенный на нее прилив И, с хладным мной в объятьях, вдаль унес, Оставив скверного меня в юдоли слез. Но знаю — кровь с чела ничем не смыть И никакой водой их не разлить. Ждет их немало бед, Но страха в любви нет. А я? Каков ответ?V
Не знают, как сюда приходит он — Чрез горы ли и долов ширину Иль по морю бывает привезен, Иль по реке, минуя быстрину. Приход сюда — как смерть от лихорадки, Уход — как роды в медленном припадке, И память спит в забвения плену. Но здесь своим он начинает быть, Бессмыслен сердцу бедному побег — Ужели может В-Жизни-Смерть ожить? И все ж есть избавленье: недалек Тот день, когда от сна он вдруг очнется И мир вокруг чудесно обернется, — И вот он как бы новый человек. Он верит счастью этому с трудом, Кто слез не знал, сейчас же и всплакнет. В края сии, пропитанные злом, Он больше никогда уж не придет. Бедняк! кто град сей видел удрученный — Отныне в его стенах заключенный, И ужаса все нестерпимей гнет. Хоть славные есть дети и жена, Друзья надежные, родной очаг, И пуще смерти к ним любовь сильна, Напрасно все — судьбы бесспорен знак Отвергнуть счастье волей отупелой, Бежать тайком в предел сей запустелый, Где страх и горе и кромешный мракVI
Сидел я безотрадно у реки — Светились фонари там, на мосту, Как звезды золотистые ярки, Бросая свет в потока черноту. Я слышал, как внизу река журчит И с тихим плеском бьется о гранит. Встал вдоль реки могучих вязов строй, И вдруг под ближним явно различил Я голос странный и еще другой, Хоть мимо и никто не проходил: Бесплотными казались голоса И мрачные звучали словеса: — И ты пришел назад. Пришел назад. Уже идти я за тобой был рад, Но ты не смог: сменил надежду хлад. — Не смог — и потому пришел сейчас: Надежды нет, огонь ее угас, Но слушай, поведу я свой рассказ. Я пред собой увидел страшный вход И знаки, что венчали темный свод: «Оставь надежду, кто сюда войдет». И я б тотчас отдался, вдохновен, Бессрочной муке в вековечный плен Несносной этой маеты взамен. Вцепился бес-привратник: «Ну-ка, стой! Сперва оставь надежды!» «Ни одной Уж не осталось в маете пустой! Всем разумом надежды не найти, Отчаяньем ведом в своем пути: Так без него могу ли в Ад войти?» «Что тут за дух притворный? — он взревел. — Как без законной платы ты хотел Искать вход в безутешный сей удел? Вон пред вратами грузный ларь стоит, Он плату с осужденных душ хранит, Надежды брось в него — и путь открыт. Пандоры это ящик, и дано Ему закрыться, когда полон, — но Жидки надежды и зияет дно». Исполнен скорби, в стороне я стал И долго проходящих наблюдал, Как все надежды каждый отдавал. Когда кто сбросит ношу — весел вдруг, Не согнут боле, дышит без натуг, Стремителен его шаг и упруг. Но те не так: как будто некий груз На них взвалили — не порвать сих уз, Вовек не разогнуться от обуз. И каждого я из последних сил Щепоть надежды мне отдать молил, Но каждый лишь в ответ меня дразнил, Так и волок упорно свою кладь, На что уж зная: еще миг, и глядь, Ее придется целиком отдать. И я вернулся. Жребий наш в пыли — Мы в этом лимбе обитать вдали Должны от Рая, Ада и Земли. — Да-да, — в ответ ему вздохнул другой, — Но коль прочешем этот лимб смурной, Авось надежду мы найдем с тобой. И, разделив ее, вход обретем В насмешку над ревнующим врагом: Давай же наши поиски начнем.VII
Слух ходит — привиденья средь людей По улицам блуждают здесь во тьме, Полны их речи вековых скорбей, Тайн жгучих, что в могиле как в тюрьме, — Но многие считают их виденьем Иль даже хуже — умопомраченьем, Ведь нет здесь никого в своем уме. Пускай безумец, что в бреду горит, Поведать о грехах своих готов, Он сокровенный помысл утаит, — Но призрак бесстыдливый не таков: Краснеет от смущенья плоть нагая — Кость голая торчит, стыда не зная, Смешны скелету саван и покров. Иной здесь призрак — словно человек, А человек на призрака похож, Странней фигур я не видал вовек, Брала от едкого дыханья дрожь: Сей Город странен так и безысходен, Что человек здесь вовсе чужероден — Фантомам лучше дома не найдешь.VIII
Пока я медлил, сидя над рекой, На воду глядя, темную, как рок, Я вдруг услышал разговор другой И различить двоих тотчас же смог — Под вязом сидя, спинами к стволу, Глядели они на реку сквозь мглу. — Не знаю на земле я никого, Кто б среди горестей утешен был, Хоть шанс в борьбе суровой получил: Нужда во всем — знак жребья моего. — Следим мы за рекою и всегда Заметим все плывущие суда, А те, что затонули, — никогда. — Ведь не просил добра я тучных груд, Ни власти, ни богатства, ни чинов, — Лишь был бы честный хлеб да теплый кров, Да сон в награду за тяжелый труд. — Каким бы кротким ни был, за всех нас Возвысит лютой ненависти глас, Кляня Судьбы бесчувственной указ. — Кто долей жалкой пригвождает взор? Я, видимо, — но жалче всех сирот Пусть буду я, — чем быть как Тот, как Тот, Кто создал нас на собственный позор. И самой гнусной твари весь порок С Твоим злом не сравнится, Бог-Господь, Создавший скорбь и грех! Любая плоть Вражду к Тебе питает. Вот зарок: Всей ради власти, словословий, хвал И храмов, что Тебе возведены, Я б не признал постыднейшей вины В том, что тогда людей таких создал. — Как будто Враг, Творение и Бог — Безумен каждый, вздорен и жесток — Скропали их, когда Он был далек! Мир крутится, как жернов, тяжело И мелет жизнь и смерть, добро и зло Бесцельно и безумно, как взбрело. Безбрежна и полна Река Времен, И жернов слепо мелет испокон — Кто знает, может, износился он. Будь люди зорче, поняли б без слов: Не прихоти людской вращать жернов, Он их не глядя размолоть готов. Но так ли мир жесток, как тот речет? Намелет он сейчас года забот, А после в смертный прах навек сотрет.IX
Сколь странно, когда некто слышит вдруг, Бредя куда-то улицей пустой, Грохочущих колес ужасный звук, Копыт тяжелых скок по мостовой. Кто по Венеции сей черной скачет? Кому сквозь темноту барыш маячит, Как будто вместо ночи свет дневной? От грохота весь небосвод дрожит, Все ближе запаленный храп коней, Грохочет мимо — и сбруя бренчит, — Еще повозки не было крупней. Устало дремлет спереди возница, И спутникам его сон общий снится, — И так во тьму катятся все быстрей. Что за товар? откуда и кому? Быть может, это — катафалк Судьбы, Которым правят в гробовую тьму Иль некий Лимб послушные рабы, Везя покой, веселье, упованья, Все доброе, что было б нам призванье, Не будь тлетворной Города волшбы.X
Отдельно этот особняк стоял, Вокруг цветы струили аромат, Хоть дом забор высокий окружал, Раскрыты были створки тяжких врат И свет лежал под каждым здесь окном, Что дивно в этом Городе Ночном. Но, освещенный, дом был страшно тих, Как прочие все сгустки темноты, Быть может, церемоний потайных Обряд творился здесь средь немоты, Печальные такие торжества, Что вздохи запрещают и слова? К террасе вольной ряд ступеней вел, Где дверь раскрытая бросала свет: Был сумрачен и строг просторный холл, До сводов крепом траурным одет, Двух лестниц марши были в холле том, Чьи балюстрады — в трауре ночном. Из зала в зал я все переходил, Живую душу попусту ища, — Но каждый крепом черным убран был, И посередь — алтарь, пред ним — свеча Один и тот же озаряла лик — Так женский образ предо мной возник: Лицом прекрасна и совсем юна, Любима жизнью, в пестрый хоровод Веселья и любви вовлечена, Не знала черных дум, земных забот — Светились в ореоле золотом Портреты ее в сумраке ночном. Тут услыхал я шелест чьих-то слов: Зашел в часовню — пологом сплошным Здесь был по стенам траурный покров. Под сводом стлался благовонный дым. На низком ложе белом, вся в цветах, Со свечками в ногах и в головах, Она лежала, полотна бледней, Покорно руки на груди сложив, Застыл мужчина скорбный перед ней, Молитвенно колена преклонив. Распятье смутное над алтарем Едва белело в сумраке ночном: «Обители все сердца моего, В которых образ милый твой живет, Черны от скорби вечной о тебе. Святилище, что в тайниках души Воспоминанья о тебе хранит, Черно от скорби вечной о тебе. Коленопреклонен, с крестом в руке, Я все гляжу на милое лицо, Ужасное в бесстрастности своей. У тела твоего недвижно жду, Как изваянье, сутки напролет, Собой изображая боль и скорбь, Не в силах двинуться, пока ты спишь, И что-то шепчет — не прервешь ты сна, И в камень тихо обращаюсь я. Была бы Смерть мила, чтоб скорбь забыть, И ненавистна — ведь забуду я Твой облик, что всего дороже мне. Ни жизнь, ни смерть — вот ясный выбор мой, С тобою обе рядом навсегда, Так водворись хоть в счастье, хоть в скорбях». Так монотонно он одно твердил, Глаз не сводя с прекрасного лица, И лишь губами еле шевелил. Я выскользнул бесшумно из дворца — Вот что за торжество пришло в тот дом, Так освещенный в Городе Ночном.XI
Кто те, чей вид столь темен и уныл, Кто перстью смертной наполняет рот И селится во мраке средь могил, И смертный вдох у вечности крадет, Покров реальности срывая томный, Чтобы проникнуть в этот омут темный, Где вера, погасая, не живет? При всем уме — ума неурожай, В душе добры — но блага не творят (Известно, что у дураков свой рай, У грешников — свой настоящий ад); У них так много сил — рок их сильнее, Так терпеливы — их часы длиннее, Отважны так — их выпады смешат. Разумны — и при этом без ума, Безумья их ничем не укротить; Рассудок проницательный весьма, Но вял и хладен — не расшевелить, Осознает безумье, видит ясно Конец фатальный, силяся напрасно Закрыть глаза, чтоб вовсе не судить. И многие средь них в больших чинах, И многие привычны к похвале, — А многие шевелятся впотьмах, Погрязшие в ничтожестве и зле, И, жизни оттолкнув дары благие, Но все ж они друг другу как родные — Несчастнейшие люди на земле.XII
Нас, разобщенных, можно всех собрать Во имя общих целей заодно? Ведь довелось мне въяве наблюдать Людей безмолвных, что, к звену звено, Тянулись через площадь, где собор, Как будто бы на некий тайный сбор. И я пошел за ними по пятам. В притворе человек в плаще стоял, И — пламенный — всех, приходящих в храм, Взор из-под капюшона прожигал: — Зачем, покинув яркий мир дневной, Пришел ты в этот Город Тьмы Ночной? — Иду с совета, где владычит лорд, Искав защиты для бессчетных орд, Что за гроши гнут спину день-деньской: Теперь явь для меня — сей мрак ночной. — Мир опийных покинул миражей, Что был так сладостен душе моей, Где полон озарений ум нагой: Теперь явь для меня — сей мрак ночной. — Толпящийся народ от смеха выл, Когда кривляньями я всех смешил И забавлял потешною игрой: Теперь явь для меня — сей мрак ночной. — Чрез пост и чтение священных книг Восторг безудержный в меня проник, Исполнивши всего любви благой: Теперь явь для меня — сей мрак ночной. — Оставил я роскошный царский трон, С которого я правил испокон Возросшей под моим крылом страной: Теперь явь для меня — сей мрак ночной. — Оставил проповедь для пылких масс Об Агнце, что от смерти души спас, Грех вящий наш смыв кровию святой: Теперь явь для меня — сей мрак ночной. — В притоне грязном пил я жгучий яд, Там девки непотребные визжат. Там хохот, ругань, ссоры, мордобой: Теперь явь для меня — сей мрак ночной. — Изображал я на холстах своих Эдем и прародителей людских, Всех дивной поражая красотой: Теперь явь для меня — сей мрак ночной. — Забросил труд ученый; его суть — Понять к людскому сердцу Божий путь И доказать, что не спасется злой: Теперь явь для меня — сей мрак ночной. — Я с горсткой храбрых, не считая ран, Сражался смело, чтобы пал тиран, Чтоб вольно мог вздохнуть народ простой: Теперь явь для меня — сей мрак ночной. Так каждый на суровый тот вопрос Привратника свой отзыв предъявлял, Потом входил в собор. Я тоже внес Слов своих горсть, вошел, но тут же встал, Чтобы послушать — но услышать смог Лишь то, как щелкнул позади замок.XIII
Иной поступок странен или план, Но вот что удивительней стократ — Как вводит человек себя в обман В глазах всех населяющих сей град, Роняя слезы горькие бессчетно О том, что время мчит, жизнь мимолетна И не найти вещам надежный стан. Часов и дней тяжелый груз на нем, Гнет месяцев едва выносит он И в сердце часто молится своем, Чтобы до срока впасть в глубокий сон, Однажды поскорее пробудиться, Коротким счастьем жадно насладиться — И вновь отдаться в призрачный полон. И Время там, в его чудесных снах, Вдруг крылья обретает без труда, — То Время, что змеею, всем на страх, Ползет неотвратимо, как беда, Всю землю в кольцах медленных сжимает, Яд с каждой судорогой источает, И, вероятно, будет так всегда. Раз невозможно сразу извести То время, что даровано ему, Его он просто хочет растрясти В трудах бесплодных, в похотях, в дыму; Права свои он заявил, конечно, На Будущее, раз уж безупречны Заслуги его, судя по всему. О, длительность томительных часов! О, ночи, бесконечных мук полны! О, Время, дольше всех людских сроков! О, Жизнь, чьи дрязги жалкие равны Для наших всех необозримых ратей, Для каждого живого без изъятий! — Не вашим ходом мы огорчены. Нет, мы не просим эту жизнь продлить, Наполненную скукой и нудой, Мы вовсе не желаем вечно жить, Пускай нескор конец сей пытке злой. Нарочное докучливое бденье! Пусть не замедлит смерть, придет забвенье И низойдет божественный покой!XIV
Густые тени наполняли храм, Прошитые косым лучом луны, Орган молчал, и тихо было там, Ни пенье, ни молитвы не слышны, Священник там хвалу не возвещал, И сам алтарь весь в темноте лежал. Вокруг колонн толпились и у стен Неясные фигуры — и поврозь Кой-кто стоял, от дум своих согбен. Возможно, их немного собралось — Но всяк, кто видел улицы, поймет, Что каждый житель здесь наперечет. Пусть безучастны были все на вид, Чего-то ожидая в этот час, Но чуял я: здесь каждый зорко бдит. Затем в тиши раздался гулкий глас, Шел с темной кафедры он — и наш взгляд Вдруг видит очи, что огнем горят: Два глаза, что подобием углей Пылают под огромным грубым лбом, И голову, что всех голов крупней. Как урагану ели бьют челом, Так весь собор теней в единый миг Под звучным этим гласом дружно сник: «О Братья по печали, как темно! О, без ковчега мы плывем давно, Блуждаем в нечестивой тьме ночной! Уж сердце столько лет о вас кровит И капельками слез та кровь бежит. О, мы во тьме и скрылся свет земной! Терзаюсь сердцем я от ваших бед, Скорбями полнюсь — да, меня вослед Вам, гибельным, стези мои ведут. Я обошел просторы и пути Вселенной всей, отчаявшись найти Смягчение для ярых ваших смут. Так выслушайте слово уст моих, Несу посланье мертвых и живых, Великой радости благую весть — Нет Бога, и не Враг нас произвел, Чтоб мучить. Если чахнуть — наш удел, Ничью мы тем не насыщаем месть. Как в сумрачном каком-то странном сне, Решили мы, что Разум есть вовне, Что жизнь в нас эту клятую зажег, И мы должны в ответ его проклясть, — Но не дано Ему в могилу пасть, Не сладят с ним ни нож, ни порошок. Жизнь эту нам приходится терпеть, Покой кто ищет — должен умереть, Мы засыпаем, чтоб уснуть навек. Мы — только бренная земная плоть, Скудели тленной малая щепоть, Вода, трава — и новый человек. Вот так мы кончим — и когда-нибудь Наш род исчезнет и уступит путь Другим, что также не избегнут тли. До нас бессчетные прошли года И столько же еще пройдет, когда Вернемся в чрево черное земли. Исправно чтим законы бытия, Где не содержится для нас статья О мере доброты или злобы: Коль падальщика мерзок вид дрянной, Коль тигра дивен облик огневой — То благосклонность — или гнев Судьбы? Все вещи на земле обречены Быть вечно в состоянии войны, В бессчетных сочетаниях дышать: Лишь стоит в этот мир прийти кому, — Все силы устремляются к нему, И уж ничто не может помешать. Во всей Вселенной не найти следа Добра иль худа, блага иль вреда — Я нахожу лишь Надобность одну, Окутанную Тайной — бездной тьмы, Что взглядом пронизать не в силах мы — Рой пляшущих теней, подобных сну. О Братия! Так малы наши дни, Что облегчение несут они: Ужель коротких лет не стерпим гнет? Но если жить уж не осталось сил, Жизнь можешь оборвать, коль так решил, Без страха, что за гробом что-то ждет». Могучий голос, на прощанье взмыв, Под сводами разнесся — и упал, Как реквием, волнующий призыв И ласково, и скорбно прозвучал, — И молча весь собор теней застыл При звуке этих слов: «Коль так решил».XV
Скопление людей всегда заряд С собой несет их чаяний и дум, Вкруг вечно крик, и плач, и смех стоят, Молитва каждая и всякий глум, Немые страсти, тайные страданья — Все в воздухе от нашего дыханья, Волнует воздух жизни нашей шум. Вот так не волен ни единый вдох В себя вобрать, как если б был один, Жизнь дорога ль тебе, иль весь иссох От жажды смерти, — радостей, кручин, Дел мудрых и дурных, благих и лишних Твоих не отличить от действий ближних, И так же держишь нити их судьбин. Здесь воздух самый вязок и тяжел, Хоть жителями Город не богат, Но сколько разных ядоносных зол Собой тлетворный воздух тяготят: Отрава равнодушного бездумья, Отрава несказанного безумья, Отчаянья неизлечимый яд.XVI
В молчании собор теней застыл, Придя в задумчивость от этих слов: «Жизнь можешь оборвать, коль так решил», — Быть может, слушать далее готов, Но тут, как молнии слепящий миг, Прорезал тишину плачевный крик: «Он правду говорит, увы, он прав: За гробом новой жизни не найти. И Бога нет. Судьбы бесстрастен нрав. Могу ль здесь утешенье обрести? Единожды всего судьба сама Дала мне шанс, хотя бы и с трудом: Блистанье величавого ума, Любимую семью, уютный дом И развлечения в кругу друзей, Искусства завораживающий мир, Природу в живописности своей — Воображенья признанный кумир, Восторг простой живого существа, Беспечность детских, пылкость юных лет, Рачение мужского естества И старости почтенной тихий свет — На то имеет право Человек, Лелеет память минувших времен И прозревает мира скрытый бег Сквозь мириады тайных связей он. Сей шанс мне не представился тогда, Мне в Прошлое пустое век глядеть, Сей шанс не повторится никогда, Пустое ждет меня, пустое Впредь. Единый шанс украли у меня, Солгали, надсмеялись — и в бреду, Дух жизни благородный прочь гоня, Бесщадной смерти с вожделеньем жду. Напиток моей жизни — желчный яд, В кошмарном сне свой день я провожу, Теряю годы — мимо те летят: Какое вспоможенье заслужу? Коль утешенья нет — не утешай, Лжи не спрямить словам, так будь же нем. Вся наша жизнь — обман, смерть — черный край: Отчайся и умолкни насовсем». Сей голос страстный сбоку прозвучал, Истошный, сбивчивый до хрипоты, И ни один ему не отвечал, Ведь никнет слово пред лицом беды, Пока тот, главный, не проговорил, И полон скорби голос его был: «О Брат мой и вы, Братья, это так, Добра от жизни нам не ждать никак, Мы чуем смертный холод в каждом дне. Не знали жизни до рожденья мы И не узнаем средь подземной тьмы. Подумаю о том — и легче мне».XVII
Как радостно луне в большой ночи! Каким блистанием отмечен ход Созвездий, чьи волшебные лучи Железный озаряют небосвод! И люди с острым страхом и тоскою Следят за сей сверкающей толпою, Как будто отклик их мольбам грядет. Тенями черными скользят челны, На миг теряясь там, где, недолга, Лежит дорожка нежная Луны. В холодных окнах пылко жемчуга Вдруг вспыхивают; свод, карниз, колонны Из хаоса являются коронно. Мерцают чудно росные луга. Настолько жив свет этих мертвых глаз, Сих глаз незрячих в темных небесах, Что жалость мы распознаем подчас Или презренье в чистых их лучах. Простец! Не мягки звезды и не резки, Нет сердца иль ума во всем их блеске, Блуждают без пути в своих садах. Тот, кто достигнуть дерзко их решил, Найдет миры — что мир печальный сей, Иль рой всепожирающих светил В кольце планет — блуждающих огней: То убывают, то растут в слияньи, И сферы вечные — одно названье, И бездною зияет эмпирей.XVIII
Я к северной окраине притек, Откуда расходились три пути, Петляя, словно русла тайных рек, Что в темноту готовы отнести. Сквозил свет смутный в воздухе кругом, На юге небосвод набух бельмом. И я поплелся левою тропой, Едва ступая, тихо вороша Листву сырую вялою стопой, К земле согнувшись, чуть ли не дыша — Так беспредельно, страшно я устал, Так долго по ночам без сна блуждал. Пройдя немного, различил во мгле Я слабое движенье впереди: Там что-то шевелилось на земле, Со стонами пытаяся ползти; Упорно двигаясь за пядью пядь, Ползло в свою берлогу подыхать. Но, поравнявшись с ним, я разглядел, Что это человек, — вот он застыл, Шаги услышав, и привстать сумел, Вот голову ко мне оборотил, Вот ему гневным жестом удалось Откинуть прядь замызганных волос. Иссохшее лицо увидел я, Глаза, чей взгляд был загнан и убог: «Что, ты ограбить захотел меня? Уж злато не влечет, не мил порок, Ничто не кружит голову, — ведь ты Изведал тайные мои мечты? Считаешь, что я слаб и сдаться рад, — Но лишь тебя царапнет этот нож, Вольется в твое сердце страшный яд И ты, лукавый веролом, умрешь. Плесну из склянки на тебя едва — И ты тотчас засохнешь, как трава». Вдруг, тон переменив: «Раскинь умом! О, сжалься! Этим только мне владеть. Не будет толка в поиске твоем, Иди лишь по своей дороге впредь: Ни смертным, ни бессмертным не пройти Чужой судьбы тернистого пути. Да знаешь ли всю меру моих бед? Вон сзади разветвленье двух дорог: Оттуда тянется кровавый след — Такую я подсказку приберег. Изранил я о камни плоть мою, Стенать от боли не перестаю. Теперь я, наконец, златую нить Найду, что мне известна одному И может этот день соединить И прошлый — коль уйдешь ты». Я ему: «Уйду, когда б сейчас сказать ты мог, Где скрылся нити золотой клубок». «Так ты, болван, не знаешь? — хмыкнул он. — А я тебя боялся! Нить ведет Из этой ночи беспросветной вон, Сквозь дикие равнины все вперед, Сквозь лютых лет ужасную длину — В предел безгрешный, райскую страну. И вот уж я младенец, чист и мал, Играю под присмотром милых глаз, О, если бы тогда я увидал Себя таким, каким я стал сейчас, — Зарылся б с громким плачем маме в грудь И долго в ужасе не мог уснуть». И заново пополз он. Я с лица Снял паутинку, прежде чем уйти: «Начнет все вновь он, избежав конца, В предродовую тьму его пути, В утробе он сокроет естество, И Рок превратный не найдет его. Но даже если так, сколь тяжек труд — К вратам рождения ползти тебе, Когда ворота смерти близко ждут! Ведь есть закон, коль есть закон в Судьбе: Небывшему вольно придти всегда, А бывшему — вновь быть уж никогда».XIX
Темна, сильна теченьем, глубока, Порой морскими водами полна, В тиши бессонной плещет, — та река Рекой Самоубийц наречена: Ведь, что ни ночь, другого горемыку, Отчаяньем гонимого, без крика В забвенье кутает ее волна. Бросается с перил моста один, Как будто движет им угар шальной; Другого цель — добраться до глубин И медленно исчезнуть под водой. А третий в лодке, в призрачном тумане, В пустынном смерти ищет океане, Оставив мир пустынный за собой. Так гибнут они все от своих мук, Их даже не пытаются спасти, Гадая вместо этого — а вдруг И я приют в воде решу найти, Когда, устав от боли, нетерпенье Святое переборет уверенье, Что всех нас ждет покой в конце пути. Коль этот трагифарс приелся нам, Зачем им каждый так же увлечен? Чтоб роль с грехом исполнить пополам; Увидеть, чем там следующий сезон Нас подивит; избавить от кручины Друзей по поводу нашей кончины. Но те, кто дома, — сколь блажен их сон! Но это все — всего на одну ночь: Всего-то ночь мучений переждать. И вот усталым векам уж невмочь Глаза и мозг открытыми держать, — И мысли, чувства, все твои печали Во сне нахлынувшем тотчас пропали, В том сне, что никому уж не прервать.XX
Усталый, у колонны я присел, К ней прислонившись; лунный свет густой На площади здесь небольшой кипел, Вздымалась справа темнота скалой: Там был собора западный фронтон, В утес могучий тьмой преображен. Перед собором, как я мог взглянуть, Больших двух статуй открывался вид: Лежащий сфинкс, в сплошной тени по грудь, И ангел, лунным светом весь облит, Они, прекрасны формою, светлы, На фоне не терялись той скалы. На крестовину голого меча Бессонный ангел руки возложил, Готовый будто поразить сплеча Того, что взгляд спокойный устремил Куда-то вдаль — невидяще упер В пространство свой завороженный взор. От тех фигур не отрывая глаз, Я вдруг впал в одурь — в это забытье, Что мантией свинцовой душит нас, Сон тяжкий насылая. Но чутье Внезапно различило резкий звук, И я от ступора очнулся вдруг. Разбились оземь с шумом громовым Воскрылья ангела — и вот лежат. Теперь воитель лишь с мечом нагим На сфинкса направлял упорный взгляд, Но тот глядел, все так же отрешен, Ничем в сем мире не отягощен. Я погрузился в сон больной опять — И вновь дремоту резкий звук прервал: Остался меч расколотым лежать. С воздетыми руками тот стоял, Беспомощный, — но сфинкс и не моргнул, Как будто, не смежая век, уснул. Заснул и я назло делам чудным, Но страшный треск потряс меня во сне: Разбился ангел с шумом громовым, И голову слепую в стороне, У лап чудовища, увидел я, Недвижного, как центр бытия. Клонящейся луны свет колдовской Соделал храм страннейшей из картин. Была вся площадь залита луной: Обломки ангела, сфинкс-властелин. Я в величавый всматривался лик — И бездна приоткрылась мне на миг.XXI
От северного гребня недалек Нагорья голого унылый вид, Отсель на запад, юг и на восток Сбегает град полого; здесь сидит На троне Идол, мощный, триумфальный — Жены крылатой облик колоссальный Ступенчатый венчает там гранит. В раздумьи наклонилася вперед, Щеку подперши левою рукой, Уперт в колено локоть в свой черед, Над книгою закрытой пред собой В деснице циркуль держит. Хоть открыты Глаза широко, в тучах дум размыты Окрест все виды, темен взгляд прямой. Слова бессильны тут — но всем подряд Знаком сей вид: его изобразил Три сотни, шесть десятков лет назад Художник истый, что так скорбен был: Снасть плотницкая и прибор там точный У ног ее — союз весьма непрочный С борзою псицей; сон ее сморил. Весы, часы, квадрата волшебство; На жернов рядом мальчик мрачный влез, Как у голубки крылышки его, Во что-то вникнуть тщится позарез. А крылья у нее сродни орлиным, Но слишком слабы, чтоб поднять к вершинам Телесной мощи горделивый вес; И крылья эти, и на волосах Венок потешный; хмурое чело, Все в мыслях мрачных и тоскливых снах; Ключей домашних связка, и зело Свободно платье — твердое при этом, Как панцирь с металлическим отсветом; И ноги, что ступают тяжело, Комета над пустыней вод морских И радуга, массивная весьма, За деревушкой домиков простых; Псоглавый бес из мест, где правит тьма, Ей прозвище раскрыл без упущений На свитке среди солнечных владений: Та «МЕЛАНХОЛЬЯ» — за чертой ума. Так мастер написал ее — и так Обставил ее множеством примет: Судьбы ее геройской верный знак, Борьбы со Временем наглядный след, — Непокоренной в горьком пораженьи, Бестрепетной средь ярого горенья Заката, что прервал ее рассвет. Побита — все же действует она, Устала — будет продолжать, тверда, Упорной волею укреплена: Ни мозг, ни руки не прервут труда, И скорби за трудами все забудет, Покуда Смерть, друг клятый, не рассудит Сей поединок лютый навсегда. Но словно мрак чернее тьмы ночной, Во десять крат черней, чем тьмы напор, Есть чувство хуже горести прямой, Отчаянней, чем безнадежный спор, Фатальней всемогущих обстоятельств, Стоящих на пути ее искательств, Которое туманит ее взор: Что все равно борьбу крушенье ждет — Успех Судьбой не будет оценен; Что нем оракул всякий или врет — Ведь ни один не боговдохновен; Что не пронзить завесы беспросветной, Ведь не горит за нею свет заветный; Что все на свете — суета и тлен. Взирает она с трона своего, Владычица над городом ночным, Надменно и недвижно на него, Град, плачем и печалию полним, На реку с островами и мостами, Болота, горы острые с хребтами Смеряя взглядом, словно ровня им. С луной плывущей ярких звезд поток Над ней на запад медленно скользит; Из бликов и теней ее чертог. Всем разное внушает ее вид: Вдыхает в сильных новое терпенье, Страх — в слабых, и для всех он — повторенье И заново отчаянье сулит. 1870–1874Примечания
1
См.: Максимилиан Волошин в журнале «Аполлон». Переписка с С. М. Маковским, Е. А. Зноско-Боровским, В. А. Чудовским, М. Л. Лозинским / Публ. А. В. Лаврова. В кн.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2007–2008 гг. — СПб.: «Дмитрий Буланин», 2010. С. 358–485.
(обратно)2
«Божественная комедия», «Ад», Песнь III (пер. М. Лозинского).
(обратно)3
Из стихотворения «Ночная песнь пастуха, кочующего в Азии» (пер. А. Ахматовой).
(обратно)4
Из стихотворения «Хор мумий» (пер. Л. Ошерова).
(обратно)5
У. Шекспир. «Тит Андроник» (акт III, сцена 1). Ср.: «…в пыли напечатлею Тоску сердечную и скорбь души» (пер. А. Курошевой).
(обратно)6
Хоть Сад Жизни твоей лежит впусте, прекрасные цветы увяли, деревья перестали плодоносить, — через стену перевешиваются спелые темные гроздья Лозы Смерти — лишь протяни руку и сорви их, когда восхочешь. (Прим. авт.)
(обратно)7
Жизнь, разделенная на сии три постоянных величины, = LXX/333 = 210. (Прим. авт.)
(обратно)
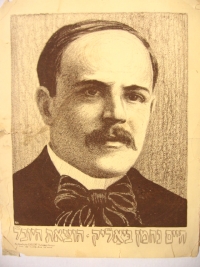



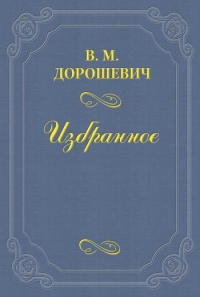

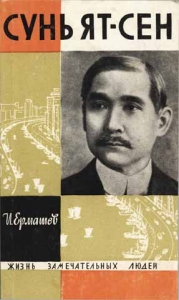
Комментарии к книге «Город страшной ночи», Джеймс Томсон
Всего 0 комментариев