Издательство ВСЕГЕИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2011
Ил. 48.
Книгу, включая предисловие, подготовили к печати друзья и товарищи Д. И. Саврасова - Ю. М. Эринчек, В. Л. Масайтис, О. Г. Салтыков и Г. Д. Балакшин при поддержке В. Ф. Кривоноса и Э. Я. Келле
Очерк о жизни и творчестве автора составил Г. Д. Балакшин
Прилагаемые фотографии и иллюстрации любезно предоставили: Т. В. Саврасова, С. Ф. Саврасов, В. В. Венделовский, Г. М. Никитин, И. Г. Никитина, Г. Д. Балакшин, Ю. М. Эринчек, В. Л. Масайтис, С. В. Циханович
Книга издана при финансовой поддержке соратника Д. И. Саврасова по совместной работе и Якутии Тихона Яковлевича ГРЕБЕНКИНА
ПРЕДИСЛОВИЕ
Джемс Ильич Саврасов, чья книга лежит перед Вами, хорошо известен нескольким поколениям геологов-алмазников — от первопроходцев конца 40-х и начала 50-х годов прошлого века до молодых специалистов, пришедших в алмазную отрасль Западной Якутии в начале века нынешнего. Он был выдающейся личностью, видным ученым-геологом, заслуженным ветераном алмазодобывающей промышленности, создателем единственного в мире Музея кимберлитов, интересным собеседником и талантливым писателем.
Джемс Ильич приехал в Западную Якутию в 1956 году и более полувека отдал изучению этого края, служению людям, обеспечившим раскрытие его бесценных богатств, его развитие и процветание. На его глазах здесь выросли рудники, плотины электростанций, возникли города, пролегли дороги и линии электропередач. В этих зримых результатах немалый вклад и самого Д. И. Саврасова, десятки лет отдавшего изучению кимберлитов и других горных пород на территории Западной Якутии. Исследование их физических свойств и других особенностей в дальнейшем породили в нем неуемное стремление собрать и сохранить для будущих поколений наиболее представительные образцы этих пород, запечатлевших в своем облике, составе и строении яркие свидетельства необычных и сложных геологических процессов, которые происходили на глубинах в несколько сотен километров и привели к рождению алмазов. Хотя по своей основной специальности Саврасов был геофизиком, изучавшим магнитные и другие свойства горных пород, его интересы охватывали гораздо более широкие области геологической науки, среди них — общие проблемы геологии, вопросы совершенствования геофизических методов поисков кимберлитовых трубок, истории их открытия, этики научных исследований. Бесконечные экспедиционные поездки, встречи с соратниками по профессии и жителями дальних улусов, большой личный опыт и хорошее знание литературы давали ему обильный материал для размышлений о различных, в том числе бытовых сторонах геологической жизни в тайге и тундре, о социальных проблемах российской глубинки, об истории освоения Сибири, а также о ряде других жизненных вопросов.
В течение многих лет Джемс Ильич писал и публиковал свои рассказы, эссе, заметки, дискуссионные статьи о жизни геологов Якутии, об их путях к открытиям, их таежных буднях. Значительная часть этих работ содержалась в его первой книге «Года далекие», выпущенной в 2003 году новосибирским издательством «Сибтехнорезерв». Подготовку к печати и передачу в издание рассказов и очерков следующей книги Д. И. Саврасова, к сожалению, пришлось осуществлять уже его друзьям и соратникам. В нее входят в основном ранее не публиковавшиеся материалы, за исключением напечатанных в сборниках «Вилюйские зори», малодоступных для широкого читателя.
Книга включает в себя разделы, повествующие об экспедиционной жизни геологов и геофизиков — искателей алмазов, рассказывает о встречах автора со многими замечательными людьми алмазного края, содержит острые полемические заметки, касающиеся научных и производственных проблем алмазной геологии, воспоминания о юности и молодости автора, а также результаты его весьма любопытных исторических разысканий. Все эти материалы подверглись весьма незначительным сокращениям, в них при необходимости внесены некоторые уточнения. Книга предваряется очерком о жизни и творчестве Д. И. Саврасова, подготовленным Г. Балакшиным.
Со страниц книги, даже для читателя, который никогда не видел ее автора, встает яркий образ незаурядного, талантливого, горячо любящего жизнь и свой родной край человека и гражданина. Джемс Саврасов — выходец из гущи народной, он олицетворял собой истинно российского мужика со всеми достоинствами и особенностями его характера. По рождению он был вологодским, по учению — ленинградским, по творениям — якутским, а в целом — сыном отечества в лучшем смысле этого слова. Он был даровит от природы, обладал феноменальной памятью, всё давалось ему легко. По уровню знаний и интеллекту быть бы ему научным лидером, руководителем большой команды исследователей, однако он никогда не стремился к чинам и званиям, предпочитая конкретный и подвижнический труд. И если ему, по-мужицки упорному, случалось, втемяшивались в голову вечные понятия о честности, порядочности, справедливости, он, невзирая ни на что, шел но этому пути, превращаясь порой в Дон Кихота — борца с ветряными мельницами, теряя массу времени и нервов на эту, принципиальную, по его мнению, и зряшную, по мнению некоторых окружавших его «гуманистов» и «бесконфликтников», многолетнюю борьбу с бюрократами и недобросовестными руководителями. Натура Джемса Ильича широко раскрывалась во время его путешествий, на азартной рыбалке, в застольях, шутках и песнях, которые он так любил. Всего этого у него было в достатке, он становился душой дружеских компаний, но наряду с этим иногда приобретал и завистливых недругов.
О переменах в стране и сложностях последних лет жизни Джемс Ильич писал в 2007 году:
Ветер времени в клочья эпоху порвал, Он ревел то сильнее, то глуше. Он мне резал лицо, словно жесткий металл, Он насквозь мне пронизывал душу! Ветер времени всех нас в дороге достал Ураганом невиданной силы. Но, как щепки, друзей по стране разбросал, Нас куда-то к чертям уносило! Слава Богу, я жив и уже не в пути, Планов мир покорить я не строю, Но на днях обнаружил я, — черт подери! В тихой гавани нет мне покоя! Ветер времени снова настиг и достал, От него за стенами не скрыться. Значит верно когда-то и кто-то сказал, Что покой нам всегда только снится.Несмотря на сложности жизненных коллизий, встречавшихся на его пути, вопреки препонам, которые ему нередко чинили ограниченные и недальновидные руководители, он осуществил главное дело своей жизни, по существу — историческую миссию: создал в городе Мирный замечательный Музей кимберлитов, который теперь по праву носит его имя.
Написанные незадолго до кончины письма друзьям Джемс Ильич завершил четверостишиями Омара Хайама.
Вот последнее, адресованное нам всем из глубины веков:
Сколько Бог вам отмерил для жизни, друзья, Увеличить нельзя и уменьшить нельзя. Постарайтесь же с толком истратить наличность, На чужое не зарясь, взаймы не прося.ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ДЖЕМСА ИЛЬИЧА САВРАСОВА
Джемс Ильич Саврасов родился 5 января 1931 года на севере Вологодской области в деревне Выселки, в трудовой крестьянской семье.
Отец, Илья Федорович 1901 года рождения (он имел трехклассное образование и на селе считался грамотеем), был правоверным коммунистом: работал секретарём сельского совета, проводил в жизнь «решения партии», в том числе «раскулачивание и коллективизацию», но, как впоследствии писал Джемс Ильич, делал это не очень ревностно. Дал дочерям имена: Тереза, Роза, Клара (налицо коммунистический подтекст), сыну— имя Джемс (вероятное влияние трехдневной английской оккупации в годы Гражданской войны). Погиб на фронте в 1942 году.
Мать, Павла Петровна 1903 года рождения (учились лишь на деревенских курсах всеобуча 20-х годов), трудилась на колхозных полях от зари до зари, кормила семью, несмотря на многие лихие годины, сумела дать образование детям. Втайне от отца крестила трехлетнего сына. Умерла в 1984 году.
Джемс с десяти лет начал зарабатывать трудодни и колхозе «Борьба за новую жизнь», познал тяготы и проблемы этой «борьбы» российской деревни, фактически — борьбы за существование.
В большой семье Саврасовых знали и чтили народный фольклор. Один из прадедов был известен песнями собственного сочи нения, сестры Джемса любили многими часами исполнять (ни разу не повторяясь!) весёлые, разгульные и мудрые деревенские чае тушки. Джемс также знал множество частушек, припевок, обычаев своих предков, не раз использовал их в своих рассказах для доказательства мудрости земляков-«пошехонцев», много интересного и поучительного об истории вологодчины можно причесть в разделе «из закромов памяти», включенном эту книгу.
В 1948 году Джемс Саврасов окончил с отличием десятилетнюю школу в районном центре в городе Вельск, так что поступление в высшее учебное заведение для него не представляло проблемы. Он выбрал один из лучших геологических институтов страны — Ленинградский горный институт, в том же году приехал в Ленинград и начал учиться. Три года он слушает лекции на маркшейдерском отделении, проходит маркшейдерскую практику на угольных шахтах Воркуты, а затем переходит на геофизическое отделение и проходит геофизическую практику на Кольском полуострове на апатитовых месторождениях. Защитив на «отлично» дипломную работу, получив специальность горного инженера-геофизика и имея хорошее математическое образование, он начинает свой трудовой путь с крепким фундаментом знаний. В дальнейшем это позволит ему участвовать в разработке теоретических основ геофизических методов поисков месторождений полезных ископаемых.
После окончания института в 1954 году Джемс Ильич распределяется в трест «Алтайцветметразведка» (Горный Алтай, г. Усть- Каменогорск), где два года в качестве начальника геофизического отряда ведет производственные работы по поискам полиметаллических руд комплексом геофизических методов (магниторазведка, электроразведка, металлометрия).
В 1956 году Д. И. Саврасов был принят на должность инженера-геофизика в Амакинскую геологоразведочную экспедицию, базировавшуюся в посёлке Нюрба Якутской АССР, расположенном на берегу красивейшей сибирской реки Вилюй. С этого года вся дальнейшая жизнь Джемса Ильича Саврасова связывается с алмазной геологией, Якутия становится его второй родиной. Удачей его жизни стала работа в легендарной Амакинской экспедиции, геологи которой в 1949 году открыли первые якутские алмазы на Вилюе, а за год до его приезда обнаружили первые богатейшие алмазные месторождения — кимберлитовые трубки Мир, Удачная, Сытыканская. Вдохновленный успешным началом алмазной эпопеи, Джемс Ильич гордо называл себя амакинцем и в последующие годы внёс весомый вклад в результаты, полученные Амакинской экспедицией.
В качестве техрука и начальника геофизической партии в 1956—1960 годах он проводит магнитные съёмки в целях поисков алмазных месторождений на территории, прилегающей к кимберлитовой трубке Мир. Д. И. Саврасов теоретически обосновывает этот новый для алмазной геологии метод поисков кимберлитов, выполнявшийся с помощью наземных магнитных наблюдений и аэромагниторазведки (расчеты сети наблюдений, оптимальной точности съёмок, высоты аэрополётов, формулы и диаграммы определения геологической эффективности аэромагнитной съёмки различных масштабов и др.). Этот вклад стал основой для проектирования и проведения производственных геофизических поисковых работ во всей Амакинской экспедиции. Через год после начала магнитных съемок он составил и защитил свой первый геологический отчет «О результатах геофизических работ, проведенных партией № 1 в 1956 году в бассейне реки Ботуобия с целью поисков кимберлитовых трубок». Сейчас в геологических фондах Якутски находится 25 отчетов, автором которых был Д. И. Саврасов. Большинство из них было принято с отличной оценкой.
В феврале 1960 года Д. И. Саврасова назначают начальником геофизической лаборатории Амакинской экспедиции, задачей которой являлось изучение физических свойств (магнитности, плотности, радиоактивности, электропроводности, упругих свойств) кимберлитов, а также вмещающих их других горных пород. С той поры изучение кимберлита — ранее неведомого геологам нашей страны камня, иногда несущего с собой другой чудо-камень алмаз, — стало делом жизни Джемса Ильича. За восемь лет, добывая в полевых маршрутах и исследуя в лаборатории тысячи образцов кимберлитов, базальтов, гнейсов, доломитов, песчаников и других пород, развитых на всей территории алмазоносной провинции, сотрудники лаборатории под руководством Джемса Ильича создали банк данных по их физическим свойствам. Эти материалы создали геолого-геофизические предпосылки для постановки поисков и использовались геологами и геофизиками Амакинской экспедиции как при проектировании и проведении полевых работ, так и при составлении геологических отчетов.
В 1962 году в журнале «Геология и геофизика» Сибирского от деления АН СССР Д. И. Саврасов публикует свои первые научные статьи «Некоторые сведения о физических свойствах кимберлитов» и «Некоторые сведения об эффективности применения магнитной разведки при поисках коренных месторождений алмазов». Всего Джемс Ильич опубликовал более 50 научных статей и докладов на научных конференциях и семинарах по алмазной тематике, где он всегда был обязательным и ожидаемым участником.
Первая полемическая статья «Алмазная волокита» была напечатана в 1966 году в газете «Комсомольская правда». В статье подвергнуты критике недостаточно профессиональные методы работы сотрудников Лаборатории аэрометодов, которые прилетали из Ленинграда с целью опробования методов аэрофотосъемки дли поиска кимберлитовых трубок. С тех пор Д. И. Саврасов часто помещает свои критические статьи и заметки в газетах, В журнале «Вилюйские зори», выступает на многих геологических совещаниях и научно-технических советах на волнующие его темы. Это и некомпетентные рекомендации некоторых ученых, трактовавшиеся им как лженаучные (лозоходство для поисков трубок, дистанционная геохимия поисков не выходя из кабинета и др.). Его беспокоил и плагиат в публикациях некоторых коллег (особенно руководителей, использующих исследования подчиненных им сотрудников без ссылок), он тревожился о судьбе российской и якутской деревни (имея горький опыт вологодских деревень), обосновывал необходимость частной собственности на землю (открытое письмо писателю В. Распутину), переживал за судьбу и сохранность вверенных ему музейных коллекций кимберлитов, других коллекций редкостных минералов.
В марте 1968 года Д. Саврасов переводится в Ботуобинскую геологоразведочную экспедицию в город Мирный, где становится начальником партии по изучению физических свойств горных пород, строит новую геофизическую лабораторию, тем самым продолжая своё главное дело — изучение кимберлитов. Город Мирный к тому времени становится столицей алмазного края — отсюда было сподручнее выезжать на карьеры разведуемых кимберлитовых трубок и пополнять коллекции ценными образцами.
Диссертацию на тему «Магнетизм кимберлитов Якутии» учёный защищает в Институте земной коры АН СССР в Иркутске в 1969 году и получает ученую степень кандидата геолого-минералогических наук. Диплом кандидата наук в 1970 году ему вручил председатель Ученого совета профессор М. М. Одинцов, выдающийся ученый-геолог, впоследствии академик, один из организаторов первых поисков алмазов в бассейнах Нижней Тунгуски и Вилюя. Впервые в алмазной геологии в диссертации всесторонне представлены и проанализированы магнитные свойства всех кимберлитовых трубок Якутии. Большую научную ценность имели палеомагнитные исследования ориентированных образцов кимберлитов и долеритов, позволившие определить местоположение геомагнитных полюсов Земли во время извержения кимберлитовой магмы и время образования кимберлитовых трубок и трапповых интрузий.
В 1974 году Саврасов переходит на работу во вновь организованную в Мирном научно-исследовательскую организацию — в Алмазную лабораторию Московского центрального научно-исследовательского геологоразведочного института (ЦНИГРИ). Так начинается профессиональная научная деятельность Д. И. Саврасова, занявшего должность заведующего сектором геофизики Алмазной лаборатории. За восемь лет коллективом сектора были завершены две большие научные темы: «Геолого-геофизическое обоснование моделей глубинного строения алмазоносных районов с целью направления поисков» и «Совершенствование геофизических методов поиска и прогнозирования погребенных кимберлитовых трубок в Мало-Ботуобинском алмазоносном районе». Были продолжены и даже расширены исследования физических свойств кимберлитов, траппов и других горных пород, в том числе отобранных им лично из глубоких горизонтов разведочных скважин и эксплуатационных карьеров в период их отработки. По этим данным впервые были составлены реальные физико-геологические пространственные модели алмазных месторождений, кимберлитовых трубок и полей.
Проводя свои исследования, Джемс Ильич сталкивается некоторыми рекомендациями деятелей от науки и со случаями подготовки научных отчетов и публикаций, которые он считал необоснованными и псевдонаучными. Многие годы он вел с авторами этих рекомендаций и отчетов ожесточенные дискуссии, которые во многом имели не только собственно научный характер, но и касались этических норм поведения людей, считавших себя учеными. В настоящую книгу в раздел «Полемические заметки» включены лишь четыре статьи, которые показывают, почему и как Д. И. Саврасов спорил со своими оппонентами.
В 1982 году Д. И. Саврасов переходит на работу в Мирнинскую геологоразведочную экспедицию, где его назначают начальником тематической партии. Основным предметом его исследований остаётся изучение геологического строения кимберлитовых тел, физических свойств кимберлитов, конкретизация состава последних в пределах промышленно-алмазоносных кимберлитовых трубок Мир, Удачная, Сытыканская, особенно на уровне их эксплуатационной разведки и отработки с глубиной. Им были сделаны многочисленные находки разнообразных включений в кимберлитах, и особенно уникальные, представляющие собой породы верхней мантии Земли, вынесенные с глубин 200—250 километров. Собранные коллекции создали основу для интересных музейных экспозиций.
В 1992 году все геологические организации алмазного края, в том числе лаборатория Д. И. Саврасова, переходят под юрисдикцию научно-производственного объединения «Якуталмаз», которое позднее, на волне рыночной стихии, преобразуется в акционерную компанию «Алмазы России — Саха» а затем и 2002 году в АК «АЛРОСА».
Уже через год после этих реорганизаций Д. И. Саврасова наззначают де-юре начальником музейного отряда Мирнинской ГРЭ АК «Алмазы России — Саха», а де-факто он становится заведующим объединенным минералогическим музеем при Мирнинской экспедиции. В музее концентрируются все коллекции геологических организаций города, львиную долю каменного материала представила геофизическая лаборатория Д. И. Саврасова. На окраине города на базе экспедиции для музея выделяется деревянный домик, который вскоре становится местом постоянных экскурсий геологов и школьников.
В 1995 году Д. И. Саврасов указом Президента РФ награждается орденом «За заслуги перед отечеством» 2-й степени. Значимость этой награды весьма высока — её вручил в мирнинском клубе «Алмаз» лично Председатель Правительства РФ В. С. Черномырдин. Своими работами в области алмазной геологии, а также исследованиями физических свойств древних пород Алданского и Анабарского кристаллических щитов Д. И. Саврасов — один из старейших геологов алмазного края — заслужил уважение всей геологической общественности Республики. Полученные им материалы легли в основу многих геологических карт Якутии. В 1999 году Д. И. Саврасову указом Президента Республики присвоено почетное звание «Заслуженный геолог Республики Саха (Якутия)».
Через несколько лет Д. И. Саврасов организовал в г. Мирный при Ботуобинской экспедиции школу-семинар «Петрофизика кимберлитов», время проведения которого удачно совпало с его 70-летием. Юбиляр сделал основные доклады, подводившие итог отдельным направлениям его научной деятельности: «Физические свойства кимберлитов, палеомагнитная оценка возраста и физико-геологические модели кимберлитовых трубок», «Петрофизика траппов, возрастное расчленение трапповых интрузий. Палеомагнитные исследования на траппах», «Физические свойства метаморфических пород докембрия в пределах Западно-Якутской алмазоносной провинции». Выступавшие на семинаре представители различных экспедиций отмечали важное значение работ, конкретную помощь и постоянные консультации Д. И. Саврасова, способствовавшие созданию соответствующих лабораторий по изучению физических свойств горных пород, называли себя учениками Джемса Ильича в части развития петрофизического направления исследований горных пород на территории Якутии.
Летом 2001 года по решению руководства акционерной компании «АЛРОСА» и её президента В. А. Штырова для Музея, возглавляемого Д. И. Саврасовым, в центре города выделяется второй этаж каменного здания площадью 800 квадратных метров. В заранее закупленных современных витринах были выставлены профессионально подготовленные коллекции кимберлитов. Музей сразу приобрёл красочный и притягательный облик, он становится достопримечательностью и гордостью города Мирный. Джемса Ильича Саврасова общественность города стала уважительно называть директором Музея кимберлитов. Отныне ни одна из делегаций, посещающих город Мирный, не минует Музей кимберлитов, награждая его лестными эпитетами: «единственный в мире», «уникальный», «достойный занесения в книгу рекордов Гиннеса». Читатель может убедиться в справедливости этих отзывов, ознакомившись с включенным в книгу иллюстративным материалом о Музее кимберлитов. Достигнув вершины своего главного дела жизни, создав уникальный Музей кимберлитов, имеющий непреходящую научно-практическую значимость, Джемс Ильич Саврасов по праву вошёл в мировую когорту учёных-алмазников.
Несмотря на превратности музейной судьбы, частично освещенной в отдельных рассказах, в 2002 году Джемса Ильича награждают Почетной грамотой АК «АЛРОСА» и присваивают ему звание Ветерана алмазодобывающей промышленности. Эти награды имели для юбиляра и моральное, и материальное значение, укрепляли его авторитет и уверенность в правоте своего дела.
Первая книга рассказов и очерков Д. И. Саврасова «Года далёкие» вышла в 2003 году в новосибирском издательстве «Снбтехнорезерв». Его своеобразный литературный стиль, точность и простота языка, яркость и сочность описаний интереснейших событий и их участников, по-настоящему хороших людей, были высоко оценены читателями, и книга быстро разошлась. Большинство прочли книгу «от корки до корки», в отдельных рассказах прослеживалась какая-то связующая нить, некая интрига: «а что он ещё повидал и своей интересной жизни?», «а что он думает по другим жизненным реалиям?».
В 2005 году Музей кимберлитов вновь испытал организационную перестройку — он был передан в состав культурно-спортивного комплекса (КСК) АК «АЛРОСА». Д. И. Саврасов получает должность заведующего сектором, затем, в том же году, был отправлен на пенсию, но продолжил работу в Музее в качестве ведущего специалист по годичным трудовым договорам с КСК, и с 2007 года с Мирнинской ГРЭ. Ситуация при этом оставалась прежней и уже привычной: он дневал и ночевал в музее, неустанно пополняя витрины с экспонатами новыми образцами кимберлитов. Кроме образцов из Якутии, в коллекциях теперь были экспонаты из Архангельской алмазоносной провинции, Африки, Бразилии, Австралии, Канады. По традиции в Музее по вечерам и в выходные дни собирались ветераны-алмазники (геологи, геофизики, горняки), приезжавшие в Мирный на юбилейные или научные мероприятия, здесь можно было встретить многих первооткрывателей месторождений алмазов, лауреатов всевозможных премий, академиков, поэтов и бардов. В дружеской обстановке, которую создавала обаятельная личность Джемса Ильича, «бойцы вспоминали минувшие дни», читали стихи, пели геологические песни. Музей оставался для ветеранов местом духовного общения.
В 2006 году впервые в помещении Музея кимберлитов общественностью города был официально отмечен юбилей Д. И. Саврасова. В день его 75-летия руководство АК «АЛРОСА» высоко оценило роль юбиляра в создании Музея, его лично поздравил главный геолог С. И. Митюхин. А через год в торжественной обстановке, в праздничный День металлурга, 14 июля он награждается только что учрежденным Администрацией города почетным знаком «За заслуги перед городом Мирным», ему вручают удостоверение № 2. Этим городская администрация продемонстрировала свое уважение к Джемсу Ильичу и выразила благодарность за все им сделанное.
Д. И. Саврасов всегда был не только глубоко преданным своей профессии специалистом, но крайне порядочным, остроумным, ироничным и самоироничным, открытым для контактов и общительным человеком. На встречах с друзьями, во время застолий Джемс Ильич читал стихи, соответствующие той или иной возникавшей жизненной ситуации, подсказывал товарищам слова многих забытых ими песен. Никто так как он не знал наизусть такого бессчетного количества стихов разных поэтов — от любимого им Омара Хайяма до его земляка Николая Рубцова и многих самодеятельных поэтов из числа геологов и геофизиков по всей России; никто не помнил так как он такого количества полных текстов русских народных и геологических песен. Его взволнованный рассказ «Амакинская песня» показывает, с какой большой любовью он относился к песням, к стихам, к своим друзьям. Обладая литературным даром, Джемс Ильич легко мог бы и сам писать замечательные стихи, но, вероятно, ощущая высокую планку настоящей поэзии, категорически отказывался от авторства приписываемых ему стихов. Однако несколько стихотворений, помеченных им «творчество народное, запомнил Саврасов», явно принадлежат ему. Два из них мы решили включить в эту книгу.
В разделе «Шедшие впереди», да и в рассказах других разделов книги, Джемс Ильич с большой сердечностью повествует о многих интересных людях, особенно связанных с открытием и изучением алмазных месторождений. Называет также людей хороших, встретившихся на его жизненном пути и оказавших решающую поддержку Музею кимберлитов на извилистых зигзагах его истории — Л. А. Сафонова (генерального директора НПО «Якуталмаз»), В. Т. Калитина (президента АК «АЛРОСА»), В. А. Штырова (президента Республики Саха (Якутия).
С мая 2008 года тревожные предчувствия начали посещать Джемса Ильича. Он пишет: «Пространство со временем сужается и сужается. Как бы оно не сократилось до размера квартиры или хуже того... Грустные мысли терзают меня постоянно. Только работа и выручает». Надо сказать, что ранее Джемс Ильич никогда не жаловался на здоровье, только шутил, что ногам становится трудно носить столь грузное тело. После операции в Новосибирске он в электронных посланиях стал делиться с друзьями и коллегами беспокойством за судьбу своих незавершенных дел.
Это и планировавшаяся им вторая книга рассказов (настоящее издание), это и атлас геолого-геофизических материалов по кимберлитовым трубкам Якутии, это и сохранение дополнительных коллекций кимберлитов, которые находятся в запасниках и на складе. И самой большой заботой, мучившей Джемса Ильича, было находящееся в компетенции руководства АК «АЛРОСА» решение о достойном преемнике для продолжения усилий по дальнейшему развитию и повышению научной значимости Музея кимберлитов и его коллекций, имеющих мировой уровень.
* * *
Джемс Ильич Саврасов скончался от инсульта 18 ноября 2008 года в Иркутске, в кругу семьи, на 78-м году жизни. Пoxopoнили выдающегося ученого-алмазника на погосте Покровский, что у деревни Пивовариха. Пусть пухом будет иркутская земля вологодско-якутскому хорошему человеку!
Приказом АК «АЛРОСА» от 30 марта 2009 года «Об увековечении памяти ветеранов АК «АЛРОСА», внесших значительный вклад в становление и развитие алмазодобывающей промышленности», Музею кимберлитов в городе Мирный присвоено имя Саврасова Джемса Ильича.
Георгий Балакшин,
ветеран алмазной геологии с 1956 г.
ПРО ИСКАТЕЛЕЙ АЛМАЗОВ
АМАКИНКА-1956[1]
Для искателей алмазов в Западной Якутии это был год больших надежд. Открытие в 1955 году коренного месторождения — трубки Мир — доказала всем скептикам, что алмазные россыпи на Вилюе и на Малой Ботуобии формировались за счет местных коренных источников, что алмазы не неслись откуда-то издалека. Но когда есть одно месторождение, то поблизости надо искать и другие. «Там, где есть руда, не может не быть руды» — старый и верный поисковый признак. Геологи 200-й партии Амакинской экспедиции, зная это, попутно с разведкой трубки Мир усиленно искали в бассейне Иреляха новые коренные источники алмазов. Трубка Мир не могла быть в районе единственной.
Оптимизм геологов подогревали и геофизики. Наземной и воздушной магнитными съемками было установлено, что трубка Мир формирует великолепную магнитную аномалию. Даже при залетах на высоте 400—500 метров над уровнем земной поверхности аномалия уверенно отмечалась приборами и была записана на магнитограммах. В первой половине 1956 года аэромагнитной съемкой было выявлено множество локальных магнитных аномалий, которые интерпретировались как аномалии, обусловленные кимберлитовыми трубками. Аномалии так и принято было называть — «трубочными».
Геофизические работы в те годы велись Восточной экспедицией Западного геофизического треста. Контора треста находилась в Ленинграде, а экспедиция базировалась в Нюрбе, по соседству с Амакинской экспедицией. Соседство это было столь же приятным, сколь и опасным; годом позже ленинградцы в этом убедились.
Между двумя экспедициями возникло своего рода соперничество, кто откроет больше кимберлитовых трубок. В Далдынском районе за один полевой сезон 1955 года геофизики открыли 15 новых кимберлитовых тел. Предполагалось, что за сезон 1956 года в Мало-Ботуобинском районе будет выявлено не меньшее их количество. Начальник Восточной экспедиции — Петр Николаевич Меньшиков — выдвинул даже прогнозный лозунг: «Сто трубок!». Прогноз, конечно, был более чем оптимистичный, но возник он не на пустом месте. Аэромагнитной съемкой только в бассейне Малой Ботуобии было зафиксировано до сотни трубочных аномалий. Одна за другой они подтверждались наземными детализационными работами. По форме, размерам и интенсивности магнитного поля многие из аномалий имели полное сходство с аномалией над трубкой Мир. Никто из нас поэтому не сомневался, что открытие новых коренных месторождений алмазов — дело ближайшего будущего. Ожидали только геологической заверки выявленных и детализированных геофизических аномалий.
Амакинские геологи с некоторой тревогой следили за успехами ленинградских геофизиков, справедливо опасаясь, что первооткрывательство новых месторождений ускользнет от них. Геофизики к тому же подливали масла в огонь, всюду хвастаясь своими успехами. Один из помощников Меньшикова, старший геофизик экспедиции Тимофей Лебедев, заявлял на НТС Амакинки: «Что там ваша трубка Мир — 300 х 400 метров! Вот мы нашли трубу, так это груба — 1700 х 700 метров! И у нас на магнитных картах отмечены десятки подобных тел, только успевайте заверять аномалии ». (Восточная экспедиция заверенных работ не вела, поскольку своих буровых станков не имела.)
Побаиваясь конкурентов, амакинцы, естественно, стремились опередить их. Но возможности шлихового метода по алмазам и минералам-спутникам весьма ограничены. Они требуют больших затрат и сравнительно много времени. Геофизики же за полевой сезон с одним лишь съемочным самолетом могли опоисковать десятки тысяч квадратных километров. Причем магнитную съемку можно было вести в любое время года, тогда как шлиховой метод работает только в бесснежный летний период.
На почве такой конкуренции возникали и конфликты. Один из них, связанный с приоритетом открытия, возник осенью 1956 года. Геолог 200-й партии Фима Фельдман как-то ухитрился выудить координаты одной аэромагнитной аномалии у добродушного и не подозревавшего коварства оператора Жоры Кошкина (до официальной передачи аномалии под геологическую заверку, которая практиковалась только на уровне руководителей экспедиций). Заполучив координаты, он быстренько направил туда горную бригаду, которая через пару дней вскрыла шурфом кимберлитоподобную породу. Когда геофизики подошли к аэроаномалии с наземной детализацией, трубка была уже оконтурена горными выработками. Одураченные геофизики не стали мириться с таким ловкачеством и обжаловали ситуацию в верхах. Меньшиков заявил решительный протест начальнику Амакинской экспедиции Бондаренко. После непродолжительной перепалки конфликтующие стороны пришли к разумному компромиссу, согласившись на первооткрывательство, так сказать, на паритетных началах. Вновь открытую трубку назвали Коллективная, подразумевая тем самым заслуги двух коллективов — геологов и геофизиков. Под этим названием трубка представлена как кимберлитовая в монографии «Алмазы Сибири», изданной в 1957 году. Скоро, однако, на первооткрывательстве никто настаивать не стал. Та и другая экспедиции охотно уступили бы его друг другу. Трубка оказалась без алмазов. Мало того, со временем выяснилось, что вскрытая шурфами порода только по внешнему виду напоминает кимберлит, а на самом деле это трапповые туфы, к кимберлитам не имеющие никакого отношения и заведомо неалмазоносные.
В районе будущего города Мирный своим чередом велись разведочные и поисковые работы 200-й партией Амакинской экспедиции и партией № 1 Восточной экспедиции. Геологи-разведчики Павлин Потапов, Игорь Шалаев, Альберт Никольский под придирчивым и дотошным присмотром Леонида Михайловича Зарецкого, главного геолога 200-й партии, вели разведку трубки Мир. Задавались шурфы, бурились скважины, проходилась первая разведочная шахта.
Геологи-поисковики Толя Аполь, Михаил Попов, коллекторы Ваня Галкин, Коля Дойников, Виталий Инешин шлиховали окрестные водотоки, детально опоисковывая прилегающую к трубке Мир территорию. Готовился задел для будущих открытий других кимберлитовых тел в Мирнинском рудном поле.
Геофизики-операторы Марк Винокуров, Ольга Коробкова, Коля Гришин исхаживали тайгу, сгоревшую вокруг трубки Мир, покрывая местность густой сетью магнитных наблюдений. Полевые отряды Жоры Кошкина, Жени Панова, Славы Кульвеца, Толи Семенова занимались поисками и детализацией аэромагнитных аномалий. Аэрогеофизики Тамара Кутузова, Андрей Орлов, Татьяна Орлова, Евгений Саврасов наращивали площади аэромагнитных съемок, выявляя все новые и новые трубочные аномалии. Съемки велись на обширном пространстве — от реки Июя на юге до верховьев Мархи, Муны и Тюнга на севере.
Кеша Прокопьев руководил горными работами по разведке уникальной Иреляхской россыпи. В число наемных горнорабочих попадало тогда немало бывших уголовников, освободившихся по амнистии из лагерей Дальстроя. Они не умели или не хотели нормально работать, привыкнув в лагерях паразитировать на политических. За отказ делать приписки такие типы не раз грозились спустить Кешу в шурф. Но он был не из покладистых и не робкого десятка, хотя физически не выглядел богатырем. Бывший боевой офицер, он игнорировал угрозы и со временем очистил горные бригады от любителей легкой наживы. На удивление быстро был выполнен огромный объем горных работ и подсчитаны запасы алмазов по долине реки Ирелях.
Рита Метелкина, одна из первопроходцев района, вышедшая осенью 1954 года с группой сотрудников 132-й геологосъемочной партии к знаменитой «Алмазной луже» в долине Иреляха, обходила с геофизиками окрестные аномалии и диагностировала вскрытые заверенными скважинами горные породы. Немало удивляясь при этом, что вроде бы типичные по внешнему виду кимберлиты не содержат ни алмазов, ни минералов-спутников. Ее недоумение рассеялось только в следующем году после изучения тонких срезов пород (шлифов) под микроскопом. Эти породы, как и в упомянутой выше трубке Коллективная, оказались не кимберлитами, а трапповыми туфами, по природе своей неалмазоносными.
В быстротекущей и не особенно богатой событиями жизни маленького тогда еще поселка 200-й партии запомнилось несколько эпизодов, о которых стоит рассказать читателям. К примеру, о таком взбудоражившем всех в поселке инциденте.
В тот год на берегах Иреляха перебывало немало всякого рода разношерстной публики: студентов, аспирантов, кандидатов и докторов наук: мерзлотников, проектировщиков, обогатителей, каких- то чиновников — представителей власти из Якутска и Москвы. Все приезжие кормились около 200-й партии. Партия же имела всего один магазинчик и небольшую столовую с весьма ограниченным запасом продовольствия. Завозились продукты из Мухтуи (нынешнего Ленска) и Нюрбы самолетами Ан-2 на временную полосу, расчищенную на террасе Малой Ботуобии против поселка Новый — нынешнего МУАДА (террасу позднее полностью выбрали на строительство дороги Ленек — Мирный). Грузы оттуда на трубку Мир доставлялись тракторными «пенами». Вторая половина лета 1956 года была исключительно дождливой, и дорога от Ботуобии раскисла настолько, что два трактора, доставлявшие грузы, напрочь завязли в логу Глубокий. Возить продукты с косы стало не на чем.
Начальник 200-й партии Николай Коренев решил избавиться от «захребетников» одним весьма своеобразным способом. Он запретил пускать в столовую посторонних. А чтобы отличать своих от чужих, приказал секретарше отпечатать на машинке карточки-пропуска в столовую. Карточки эти очень смахивали на хлебные. Четвертушки писчего листа бумаги были разбиты на клеточки, и в каждой клеточке отпечатано слово «хлеб». Однако сия хитроумная затея не оправдала возлагавшихся на нее надежд. Помешали два обстоятельства.
Во-первых, многие чужаки обзавелись карточками раньше своих по той простой причине, что среди амакинцев они уже имели друзей-приятелей. А те, естественно, позаботились, чтобы снабдить карточками своих знакомых. По принципу: сам голодай, а товарища выручай. Да и потом, кто бы посмел не пустить в столовую своих, даже без карточек.
Во-вторых, имитация карточной системы не могла не обеспокоить руководящих товарищей в верхах. Тем более, что моментально пошли слухи, будто бы враждебные голоса «из-за бугра» оповестили весь мир, что в одном из районов Советского Союза введена карточная система. Это уже было слишком. Поэтому на второй или третий день после раздачи «карточек» в конторе состоялось партийное собрание, которое порешило: карточки ликвидировать, а инициатору влепить строгий выговор «с занесением».
Нашумевшая история с пропусками в столовую имела и свой положительный резонанс. На выручку снабженцам 200-й партии из Нюрбы был послан вертолет Ми-4. Тогда эти машины только что поступили в Нюрбинский авиаотряд и для всех нас были в новинку. Прибытие вертолета в поселок стало волнующим событием. Весь народ сбежался смотреть на чудо-машину, приземлившуюся на заранее расчищенную площадку около нынешней 8-й школы. В тот же день вертолет стал челночить между поселком Новый и трубкой Мир. Проблема снабжения была кардинально решена: продуктов завезли в достатке и на амакинцев, и на «захребетников», Да и полевым отрядам, работавшим в отдалении от поселка, вышло большое облегчение. Вертолет все же куда более мобильный и удобный транспорт, чем олени и лошади.
Запомнился первый приезд артистов на берега Иреляха. Их было трое: муж, жена и сын. И все трое рыжие. Появились они под вечер. Поселить их в деревянных домах не было никакой возможности, так плотно были утрамбованы жильцами все углы двух десятков домиков, построенных к тому времени на берегу Иреляха. Отвели им для ночлега закуток на сцене большой клубной палатки.
Палатка отапливалась громадной железной печкой, и жить в ней было не так уж плохо. Но приезжие артисты выказали почему-то неудовольствие. Палатка стояла примерно в том месте, где сейчас клуб «Геолог». Она служила и кинозалом, и помещением для собраний, и местом субботних танцев. Не сохранилось в памяти, брали ли за показ кинофильмов деньги, но точно помню, что заходить внутрь во время сеанса можно было со всех сторон, просто приподнимая борта палатки.
Вечером того дня, когда привезли артистов, в клубе собрался народ. То ли по случаю субботних танцев, то ли просто так, от нечего делать. Телевизоры в те времена еще не появились, да и приемники были далеко не в каждой палатке. Поэтому молодежь по «углам» не засиживалась и часто собиралась компаниями. Главным развлечением было общение с друзьями, знакомство с новыми людьми, песни, споры, что по нынешним временам называется, по-видимому, «тусовка».
Накануне в поселке появилось спиртное, что являлось событием редким, поскольку в полевых партиях Амакинской экспедиции действовал сухой закон. Многие парни были «под мухой». В палатке стоял шум и гам. В одном углу пели, в другом оживленно разговаривали, в третьем о чем-то спорили или выясняли отношения, но без излишнего мата и рукоприкладства. Обстановка, по нашим понятиям, была вполне нормальной, разве что одежда присутствующих выглядела несколько экзотической.
Но артисты на все происходящее смотрели с явным неодобрением и даже с боязнью. Отец семейства, с которым мы пытались пообщаться (как-никак культуртрегеры, и не из какого-нибудь захолустья, а из областного центра), заявил, глядя в зал: «Разве может эта публика понять Шекспира?». Мы были слегка обескуражены таким высказыванием и задеты за живое. Кто-то из парней подержал артиста за лацканы пиджака, пытаясь объяснить ему, что собравшиеся здесь люди — в большинстве своем москвичи и ленинградцы — очень даже могут понять Шекспира. Хотя одеты они не модно, в робы и кирзачи, и в подпитии, но вообще-то люди культурные и образованные. Артист струхнул, общаться более е нами не пожелал и из своего закутка весь вечер не показывался. Назавтра он пожаловался начальству, что его в клубе пытались избить, и требовал наказать обидчиков. Единственный в поселке милиционер ходил после того по палаткам и делал вид, что разыскивает парня в брезентовой курточке, который напугал артиста.
В тот же день состоялось первое выступление гастролеров, так сказать, премьера на местной сцене. Но ставили они, увы, далеко не Шекспира, а всего лишь инсценировку из повести «Белеет парус одинокий». Роль мальчика Пети исполнял великовозрастный сын артистов, явный балбес. Инсценировка была настолько откровенной халтурой, что артистов освистали, и на второе представление собрать народ уже не удалось.
Не преминули в 1956 году наведаться к алмазникам писатели и журналисты. Хотя поиски алмазов велись под большим секретом, но слухи об открытиях широко распространялись по Союзу. Корреспонденты газет и журналов правдами и неправдами стремились попасть в алмазные края. Оно и понятно; открытие месторождений алмазов в Сибири явилось сенсацией века, интерес к нему был всеобщим, на такой информации можно было сделать себе имя.
С одним из журналистов мне довелось случайно познакомиться летом того же года. Это был корреспондент газеты «Комсомольская правда» Валерий Осипов. С ним мы летели в одном самолете из Нюрбы. Мы — это группа молодых специалистов разных профессий, направленных работать в партии и отряды Амакинской и Восточной экспедиций. От поселка Новый до трубки Мир все отправились пешим ходом, так как никакого транспорта в ближайшие три дня не предвиделось. Вещи наши привезли позднее на тракторной «пене». А Валерий Осипов идти пешком отказался, хотя был молод и здоров. Лишь когда за ним послали верховую лошадь, он осчастливил своим посещением трубку Мир. Из его репортажа о поездке сюда, опубликованного в «Комсомолке», в памяти следа почти не осталось. Разве что трогательная история о том, как пташки вились над его головой, когда он ехал на лошади вдоль Иреляха, и рыдали о сгоревших птенцах. Можно было бы умилиться этим печальным зрелищем, если бы не то обстоятельство, что лесной пожар по долине Иреляха прошел годом раньше.
Вскоре после посещения Якутии Валерий Осипов написал повесть «Тайна Сибирской платформы». Надо сказать, что повесть пользовалась успехом у многих читателей. По ней был даже поставлен фильм, называвшийся, если мне не изменяет память, «Неотправленное письмо». В фильме было всё: и пламенная любовь, и злодейские происки, и приключения геологов в тайге, где они горят, тонут, голодают и попадают в прочие несусветные переплеты. Мелодраматический перехлест не способствовал, правда, успеху фильма, хотя в нем были заняты неплохие актеры. У геологов же фильм вызывал только отрицательные эмоции, как и сама книга Осипова. Не исключено, что известный сатирический стих «К нам на базу приехал писатель» навеян именно этим сочинением. А на фильм в среде геологов появилась издевательская песня-пародия, в которой, к примеру, были такие слова:
Всё болото, болото, болото, Восемнадцатый день болото. Мы идем, изнывая от пота, Что ж поделать, — такая работа. Тьфу, пропасть, такая работа! Восемнадцатый день — ни корки, Терпеливо несем свою кару; Вот вчера мы доели опорки, А сегодня сварили гитару. Тьфу, мерзость, сварили гитару!Надо сказать, что истории открытий алмазных месторождений с летописцами не повезло. В своей среде Амакинка не породила Олега Куваева, а пришлые писатели не могли создать ничего путного по вполне понятным причинам. Много ли можно было узнать наездами, за считанные дни пребывания в геологических партиях? Да и вообще: чтобы создать стоящий очерк, а тем более полновесное литературное произведение, надо годы и годы провести в среде тех людей, о которых собираешься писать. Детально изучить специфику и сущность их работы, понять их тревоги и заботы, причины тех или иных конфликтов в коллективах, словом, проникнуться их жизнью.
История Амакинки полна скрытого и явного драматизма. За годы существования экспедиции погибли десятки её сотрудников. Сгорали в палатках и балках, гибли на транспорте, тонули при переправах, попадали под электроток, отравлялись продуктами. Было множество всякого рода ЧП, связанных с нарушениями техники безопасности, с непростительными оплошностями самих пострадавших, со стихийными бедствиями и просто с непредвиденными обстоятельствами. Но практически не было трагических случаев, когда бы геологи-полевики погибли, как в упомянутом фильме, из-за непродуманной организации полевых работ. Чтобы они, к примеру, были заброшены в тайгу без должной страховки, без связи, без необходимого количества продуктов, без полевого снаряжения (хотя последнее нередко оставляло желать много лучшего, как и снабжение продовольствием). Полевые работы партиями Амакинской экспедиции велись, как правило, по утвержденным проектам, по продуманному плану, профессионально, без неоправданного риска.
И поиск месторождений алмазов велся по известным канонам геологической науки и годами выверенной практики. Были, конечно, и промахи, и досадные упущения, и ошибочные геологические прогнозы, но тем не менее случайность не сыграла сколь-либо существенной роли в открытиях месторождений. Открытия явились закономерным результатом целенаправленной и планомерной поисковой работы большого коллектива геологов и геофизиков.
Журналистам и писателям такая проза жизни всегда была не по нутру. Их в принципе-то можно и понять. Для сюжета любого произведения, чтобы заинтересовать читателя, надо что-то необычное, из ряда вон выходящее, экзотическое. А лучше всего — трагическое. Если же такового в жизни нет, то берется грех на душу и присочиняется что-то от себя. И вот появляется на страницах очерков лиса, которая вырыла нору в кимберлите и тем самым способствовала открытию трубки Мир. Как ни открещивался Юрий Хабардин от этой версии, как ни доказывал потом, что трубка была бы найдена и без лисьей норы, ничего не помогало. Из статьи в статью кочевала пресловутая лиса, только благодаря которой якобы и была обнаружена трубка Мир.
То же самое с трубкой Зарница. История её открытия, как и трагическое её продолжение описаны во множестве очерков и в так называемых «художественных произведениях». То, что Лариса Попугаева вела поиск геологически профессионально и без особых приключений, довольно быстро вышла по пиропам на их коренной источник, журналистов не устраивало. Им надо было, чтобы на её пути возникали всевозможные препятствия и сложности. И вот в очерках и романах она не просто идет с лотком, промывая шлихи, а ползет на коленях от речки Далдын до самой трубки. Словом, как в той пародии, которую на такого рода опусы сочинили амакинцы: «Была ночь. Выли волки. На поляну выполз Хабаров. Лицо его было в крови. В зубах он держал диамант».
В конце 1956 года в столицах — Москве и Якутске — принимались основополагающие решения по части создания отечественной алмазодобывающей промышленности. В недрах Минцветмета готовился приказ об организации треста «Якуталмаз». В каких-то институтах приступали к проектированию рудника «Мирный», обогатительных фабрик, электростанций, жилого города алмазодобытчиков. Но мы, как говорится, рядовые труженики алмазного края, ничего не знали о великих замыслах. Все решения в верхах готовились под большим секретом. Конечно, мы догадывались, что такое уникальное месторождение алмазов должно в скором времени разрабатываться, но что дело пойдет так быстро, и в мыслях допустить не могли. Никто из нас тогда не поверил бы, если бы ему сказали, что столь крупное месторождение выберут за сорок лет. Мы наивно полагали, что отрабатывать ею достанется и нашим потомкам в XXI веке.
7 ноября 1956 года молодые и холостые геологи и геофизики, не улетевшие на камералку в Нюрбу, собрались веселой компанией в одном из домиков на берегу Иреляха. Дружно лепили пельмени, готовили удобоваримое питье из спирта, отпущенного по норме к Октябрьским праздникам, и в тесном застолье пели свои любимые песни. Коронной, как и всегда, была знаменитая «Бодайбипка :
Ой, да ты, тайга моя густая, Раз увидев — больше не забыть! Ой, да ты, девчонка молодая, Нам с тобой друг друга не любить...Не раз звучала и песня «Тот, кто был в экспедициях», тогда уже ставшая гимном геологов:
Потому, что мы народ бродячий, Потому, что нам нельзя иначе, Потому, что нам нельзя без песен, Потому, что мир без песен тесен!Успехом пользовалась также только лишь появившаяся невесть кем сочиненная на мотив популярной тогда «Индонезии» песня «Страна любимая Якутия». В ней были такие слова:
Нас кормят наши ноги верные, Мы все ревматики, наверное, А голова для накомарников Всего лишь нам дана...Нелёгкая бродяжья жизнь геологов в песнях всегда окрашивалась в романтические тона. И приправлялась юмором. К примеру:
Ах, если б знала мать моя, Что на Вилюй поеду я, Она бы никогда меня на свет не родила!Или:
В тайгу заброшены судьбой суровою, Так далеко от дома и пивной; Сидим немытые, давно не бритые В палатке тесной, грязной и сырой.Это вовсе не значило, что мы жалели о приезде в Якутию и что нам надоело жить в тесных палатках. Наоборот, мы были очень довольны, что попали именно сюда, в самую гущу событий, связанных с алмазами. Большинство специалистов, приехавших на берега Малой Ботуобии в пятидесятые годы, надолго осталось здесь. А условия жизни нас тогда не особенно волновали. Мы не мечтали о благоустроенных квартирах, автомашинах, целевых вкладах, долларах. Будущее рисовалось нам только в розовых красках. Коммунизм, который обещал нам Никита Сергеевич, был не за горами, хотя мы в него и не особенно верили, а жизнь казалась прекрасной и удивительной. Год 1957 — год больших разочарований — был еще впереди.
АМАКИНКА-1957
Если годы 1954—1956 были для геологов-алмазников годами грандиозных открытий и еще больших надежд, то с 1957 года у них началась полоса неудач и многих разочарований. Для Амакинской экспедиции это выразилось прежде всего в отсутствии находок новых коренных месторождений, соизмеримых по масштабам с трубками Мир и Удачная. Многочисленные кимберлитовые тела, найденные геофизиками Восточной экспедиции Западного геофизического треста в 1955 и в 1956 годах в Далдынском районе, оказывались при геологической заверке пустыми или с весьма низким содержанием алмазов.
Кимберлитовые трубки, найденные «смежниками» (геологами НИИГА, ВАГТа) в северных районах алмазоносной провинции, тоже не содержали промышленных концентраций алмазов. Источники формирования россыпей в Приленье и на Анабаре не давались в руки геологов и в 1957 году, и во все последующие годы. Собственно, крупных россыпей в бассейне Оленька и Анабара к 1958 году ещё не было обнаружено, имелись лишь отдельные находки кристаллов алмаза и минералов-спутников в русловых отложениях некоторых притоков упомянутых рек.
Надежды на то, что вдоль побережья Оленёкского залива моря Лаптевых могут быть богатые россыпи алмазов, тоже не оправдались. Знаменитый поход к устью Оленька Гавриловской партии № 247 Амакинской экспедиции, совершённый в октябре месяце 57-го года под руководством Ивана Галкина, развеял эти надежды.
Близ трубки Мир, несмотря на усиленные поиски и манерку многочисленных «трубочных» аномалий, новых проявлений кимберлитов не обнаруживалось. Все они оказывались связанными с базальтовыми туфами и долеритами трапповой формации, которые, как и кимберлиты, заполняли вулканические жерла аналогичных размеров и конфигураций. И магнитные аномалии над некоторыми из них по интенсивности и морфологии были вполне идентичны аномалии над трубкой Мир.
В то же время признаки наличия других кимберлитовых тел в виде ореолов рассеяния спутников алмаза обнаруживались и к западу, и к югу от месторождения Мир, но открытие трубок Интернациональная и XXIII съезда было еще впереди. Радовало геологов лишь то обстоятельство, что богатое содержание алмазов в трубке Мир, оцениваемое по данным опробования шурфов, подтверждалось на глубину и разведочными скважинами, и эксплоразведочной шахтой.
Помимо 200-й партии Амакинки на берегах Иреляха, в 1957 году появляется Вилюйская экспедиция, руководимая Валентином Трофимовичем Андриановым, почти целиком переброшенная откуда-то из Иркутской области. Главной задачей этой экспедиции стало строительство первой обогатительной фабрики. С этой задачей экспедиция успешно справилась: фабрика № 1 появилась уже в июне месяце. Проект фабрики составлял институт «Гипрозолото», основное оборудование было доставлено с обогатительной фабрики «Уралалмаза». К концу сентября годовое плановое задание по добыче алмазов было перевыполнено более чем в три раза. За четыре месяца получено алмазов больше, чем добывалось «Уралалмазом» за десять лет (Ю. А. Никитин. Вестник «АЛРОСА». 2005. № 5). Для извлечения алмазов сотрудниками физической лаборатории Амакинской экспедиции Л. М. Красовым и В. В. Финне были сконструированы первые рентгенолюминесцентные автоматы, позволившие заменить нелёгкий и опасный труд женщин на ручных рентгеновских аппаратах ЛШ-2.
Форсировать геологоразведочные работы приходилось под давлением обстоятельств. 21 февраля 1957 года приказом но Мингео создается специализированная организация по добыче алмазов — трест «Якуталмаз». Прилетели на Ирелях и его первые руководители В. И. Тихонов и Л. Н. Желябин. Ещё не подсчитаны запасы алмазов по трубке Мир, а добыча их уже разворачивается быстрыми темпами. Начинается интенсивное строительство. С самой весны площадь будущего города представляет собой одну строительную площадку. В лесу прорубаются просеки и мостятся настилы из кругляка. Будущие улицы уже получают названия, закреплённые надписями на фанерных щитах: Ленинградский проспект, Московская улица и т. д.
С трудом, с разными перекосами, но налаживается снабжение экспедиций и строительных организаций продуктами питания. Иногда не хватало мяса, муки, но в избытке имелась красная и чёрная икра, продаваемая на вес прямо из бочек. Появилась первая столовая для строителей, помимо столовой 200-й партии, которая исправно функционировала с начала 1956 года. Возводились клуб и кинотеатр «Геолог» на месте временного клуба 1956 года, размещавшегося в 25-местной палатке.
Подсчитываются запасы по кимберлитам трубки Мир. Ведется проходка разведочной шахты для взятия крупнообъёмной пробы. Бурится колонковая разведочная скважина, достигшая глубины 1200 метров и не вышедшая из кимберлитов. Для геологов стало ясным, что месторождение простирается на большую глубину и содержание алмазов с глубиной существенно не меняется. К востоку от трубки разведуется богатая россыпь «Водораздельные галечники». К сожалению, по недосмотру геологов для посадочной полосы самолетов Ан-2 была отведена как раз площадь этой россыпи. Позднее на ней вырос аэродром, закрывший часть богатейшего россыпного месторождения.
На севере в Далдынском районе активно ведется разведка трубок Удачная, Зарница и других кимберлитовых тел, в том числе обнаруженных геофизиками в 1955 и 1956 годах. На берегу реки Далдын строится обогатительная фабрика и растет жилой посёлок разведчиков. На трубке Удачная в пробах обнаруживается неизменно высокое содержание алмазов, в то время как в трубке Зарница содержание алмазов оценивается на порядок ниже. Низким оно оказалось и в других кимберлитовых телах, к разочарованию геологов и геофизиков (первооткрывателей), хотя в некоторых трубках имелись кристаллы высокого качества.
На трубке Сытыканская разведочная партия № 213 ведет крупнообъёмное опробование кимберлита. Проходятся две штольни на разных гипсометрических уровнях. Сравнительно невысокое содержание алмазов в этой трубке надо было уточнить, оценив присутствие кристаллов крупных классов.
Весьма обидным для геофизиков Восточной экспедиции было то, что все обнаруженные ими в бассейне Далдына крупные кимберлитовые трубки Ленинградская, Долгожданная, Якутская, Дальняя, соизмеримые с трубкой Удачная, оказывались с очень низким содержанием алмазов, нерентабельным для добычи. Ни одно из выявленных ими кимберлитовых тел не имели примышленных концентраций алмазов. Но они не теряли надежды все же найти месторождение, очень уж результативной в Далдынском районе была магнитная съемка. С помощью наземной магниторазведки открывались трубки диаметром 40—50 метров. Опытные залёты с аэромагнитометрами показали, что такие трубки, как Зарница и Удачная, могли быть обнаружены аэромагниткой, даже если бы они залегали на глубинах 600—800 метров при расстоянии между поисковыми маршрутами 500—1000 метров.
Последнее обстоятельство тревожило руководство Амакинской экспедиции. Боялись, что такие «смежники» под боком могут увести из-под носа очередное месторождение, и слава первооткрывателей достанется им. Этого нельзя было допустить. И в мае 57-го года появляется приказ по Мингео о слиянии Восточной и Амакинской экспедиций, естественно, под крылом Амакинки. Приказ был совершенно неожиданным для начальника Восточной экспедиции Петра Николаевича Меньшикова, хотя слухи о возможной аннексии уже ходили. В начале мая он был в командировке в Москве, в Мингео его заверили, что слухи эти ложные и никто ликвидировать Восточную экспедицию не собирается. Не успел он долететь до Нюрбы, как на столе у Бондаренко уже лежала телеграмма министра о «воссоединении». Петр Николаевич полностью потерял самостоятельность, став лишь главным геофизиком Амакинки. Теперь все будущие успехи геофизических поисков амакинское руководство могло присвоить себе.
Но и над самой Амакинкой сгущаются тучи. В апреле 1957 года создается Якутское территориальное геологическое управление, объединившее все разноподчиненные местные геологические управления и экспедиции. Первое время Амакинка не входит в состав ЯТГУ. М. Н. Бондаренко не хочет терять самостоятельности, и, используя родственные связи с министром геологии, оттягивает передачу Амакинки Якутскому управлению. Но Игорь Александрович Кобеляцкий, первый начальник ЯТГУ, поддерживаемый обкомом партии, настойчиво требует у министерства передачи Амакинской экспедиции в его подчинение. Всё-таки к концу 1957 года он добивается своего.
В 1957 году Амакинская экспедиция крепнет и развивается. Возникают новые сезонные и стационарные партии, поисковые, разведочные и картировочные. Количество работников экспедиции переваливает за четыре тысячи. Продолжают прибывать молодые специалисты: геологи, геофизики, геодезисты, механики.
База экспедиции растёт как на дрожжах. Посёлок тянется в сторону Антоновки. Строятся двух- и четырёхквартирные дома, баня, общежитие. На улице Молодёжная с одной стороны возводится двухэтажная десятилетняя школа, с другой — строятся коттеджи для руководителей экспедиции. На берегу Вилюя сооружаются здание конторы экспедиции с видом на речные просторы, клуб, детский сад и камеральные помещения. В строй они войдут только в 1958 году, а пока и геологи и геофизики ютятся в тесных комнатах нижней камералки, построенной на болоте и утопающей с весны до осени в грязи. Впрочем, работалось там дружно и весело, и всем службам вроде бы хватало места. Даже сотрудникам бюро оформления и физикам лаборатории Красова с их громоздкой аппаратурой. Неудобство доставлял только туалет, к которому надо было пробираться по хлипким мосткам, хлюпающим в болотной жиже. Но и с этим мирились все. Летом основная масса геологов и геофизиков находилась в поле, и их эти неудобства не беспокоили.
В 1957 году произошло очень важное для геологов-алмазников событие: с алмазов частично была снята завеса секретности. Об истории открытий, о методах поисков и разведки, о геологии месторождений алмазов стало возможным говорить и писать. В открытой печати появились первые статьи об алмазах. А в конце 1957 года была выпущена и первая книга о якутских месторождениях. Она так и называлась «Алмазы Якутии». Книга была сотворена наспех, поэтому в ней имелись серьёзные огрехи. К примеру, за кимберлит были выданы горные породы, обусловившие трубочную магнитную аномалию АА-63-64 на правобережье Малой Ботуобии (трубка Коллективная). Лишь позднее, после детального изучения шлифов и минералогического состава, кандидаты г.-м. наук А. П. Бобриевич и Г. Н. Смирнов пришли к выводу, что это базальтовые эксплозивные брекчии, ничего общего с кимберлитами не имеющие. В следующей книге «Алмазы Сибири», изданной в 1958 году, упоминаний о трубке Коллективная уже нет.
Любопытно, что в списке авторов книги на первом месте стоит М. Н. Бондаренко. Ясное дело, что он ни строчки в этой книге не написал. Но в те годы считалось как-то естественным вписывать в число соавторов книг и статей руководителей предприятий, а иногда и сторонних лиц из научных кругов и партийных органов. Никто из действительных авторов этим не возмущался. Так было принято и при распределении наград. Лишь позднее те же амакинцы осознали неестественность такого порядка вещей, и в соавторы книг и статей начальство более не приглашали. А когда новый начальник экспедиции (после Бондаренко) М. А. Чумак вознамерился претендовать на Государственную премию за разведку Айхала, хотя и не принимал в ней непосредственного участия, то НТС Амакинки ему в этом отказал.
КИМБЕРЛИТЫ И МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ
Как и всегда в истории событий, в начале было слово. И слово это произнёс Петр Николаевич Меньшиков — начальник Восточной экспедиции Западного геофизического треста (была такая экспедиция в 1954—1957 годах в Нюрбе, и был такой трест на берегах Невы, располагавшийся, кстати, в одном из великокняжеских дворцов по соседству с Эрмитажем). Где-то в мае 1957 года П.Н. вызвал меня и сказал: «Организуй лабораторию физических свойств горных пород и разберись с магнитными аномалиями на Далдыне. Что там за отрицательные поля над кимберлитовыми трубками?»
Слово начальника — закон для подчиненного. Я стал вынашивать идею организации лаборатории физических свойств при экспедиции. Полгода читал литературу, ходил туда-сюда по службам экспедиции, ездил в командировки, портфель мой наполнялся бумагами, но дело не двигалось с места, поскольку не было помещения, где бы можно было установить аппаратуру и разложить образцы. С отрицательными магнитными аномалиями я, правда, разобрался довольно быстро, для этого не требовалось особых познаний и трудов. Летать же на Далдын тогда было довольно просто, самолёты летали ежедневно, иногда делали по нескольку рейсов в день. И мы запросто наведывались в аэромагнитную партию к моему однофамильцу Евгению Саврасову, у которого была прекрасная баня на берегу старицы.
Наконец, дали мне половину только что построенного двухквартирного дома на Убояне за речкой Нюрбинка. Лёд, как говорится, тронулся, и я приступил к оборудованию лаборатории. Сделал прочные фундаменты для приборов, установил изготовленный в Ленинграде большой астатический магнитометр, поместил измерительную систему в двухметровые кольца Гельмгольца (применяемые для компенсации земного магнитного поля) и хотел было начать массовые измерения магнитных свойств образцов кимберлитов и траппов, заготовленных в большом количестве. Но тут случилась оказия — командировка в Москву на курсы повышения квалификации. Грешно было туда не поехать, познакомиться со столицей, тем более, что тогда на курсах платили полную якутскую зарплату.
Вернувшись через три месяца, я увидел, что все мои труды пропали даром: приборы мои и образцы из помещения выкинуты, а комнаты отданы под жильё какой-то учительнице. Погоревал я, по- возмущался, но толку от этого не было никакого. Меньшиков меня успокоил, сказав, что для лаборатории будет выстроен специальный дом. И действительно, не прошло и полгода, как домик был построен. Очень хороший домик, о двух комнатах, с тамбуром, двойными рамами, печкой из белого (не очень магнитного) кирпича. Место для домика я выбирал сам и определил его на отшибе, между Антоновкой и посадочной полосой аэропорта. Место казалось удобным, тем более в пределах видимости из Амакинского поселка.
Помимо денситометров, магнитометров и прочей измерительной аппаратуры, там установили магнитовариационную станцию. Это была чудо-станция «Аскания», купленная в Германии еще в 30-е годы за золото, как вспоминал Меньшиков. Заполучил он ее тогда, когда был главным геофизиком Министерства геологии, а потом возил с собой по местам своей работы: Свердловск, Новосибирск, Якутск, Нюрба. Разбирался со станцией я почти три месяца, но настроил все три системы, после чего она писала три составляющих магнитного поля.
Показания регистрировались непрерывно на фотобумаге, которая закреплялась на устройстве с часовым механизмом. Запись на первых контрольных лентах была оценена в магнитных обсерваториях Ленинграда и Якутска как хорошая, и мы размечтались наладить в Нюрбе непрерывную запись колебаний земного магнитного поля, включив нашу лабораторию в общую сеть магнитовариационных станций Союза.
Соорудили для своей «Аскании» внутри помещения даже термостат — такой куб из плотно подогнанных досок с ребром 1,7 метра. Внутри установили обогреватель и реле, чтобы поддерживать постоянную температуру. Все было сделано, как говорится, по уму.
Но тут начались неприятности. Прежде всего обнаружилось, что в этом месте магнитную станцию устанавливать нельзя. Как и приборы для магнитных измерений. Расположенные вблизи службы аэропорта, они создавали сильные магнитные помехи за счёт блуждающих электрических полей от моторов постоянного тока. Причём помехи были временами настолько сильными, что не давали никакой возможности работать. Положение стало безвыходным.
Ситуацию разрядили начальник Нюрбинского авиаотряда Кузаков и пацаны из недалеко расположенного пионерлагеря. Первый задумал поставить в этом месте локатор и отобрать домик для обслуживающего персонала. Вторые наведались в домик во время очередного моего отсутствия и поразбивали там всё, что только им было по силам. От магнитовариационной станции остались одни, что называется, ошметки, пригодные разве что для сдачи в металлолом, и от измерительных приборов тоже одни футляры и корпуса.
Первый блин, как говорит пословица, получился комом. Но зато был приобретён бесценный опыт. Стало ясно, что магнитную лабораторию надо держать подальше от аэропорта и вообще от посёлка. Но просто так уходить с этого места и за так отдавать домик Кузакову не хотелось. Я пожаловался на него в райком. Там состоялось заседание, на котором наш конфликт дотошно рассматривался. Домик оставили за Кузаковым, но обязали его построить такой же в другом месте. Надо отдать ему должное — он построил точно такой же домик. На этот раз мы выбрали место в 5 километрах от Нюрбы, в лесочке на берегу Вилюя. В 1959 году мы уже его обживали. Экспедицией были построены, кроме того, жилой домик, землянка для электростанции и две десятиместные палатки под камнехранилище.
Так начался золотой век для Амакинской петрофизики. В лаборатории было уже шестеро сотрудников, из них два аса по части работы с капризными кварцевыми магнитометрами, два инженера-геофизика, один петрограф и один мастер на все руки и бесценный умелец по работе с металлом, токарь высокой квалификации. Он готовил разнообразное оборудование, в том числе сотворил установку для магнитной чистки образцов переменным током. Она состояла из катушки соленоида с большим внутренним диаметром. На катушку ушло 130 кг обмоточных проводов. Внутри соленоида можно было создавать магнитное поле до 500 эрстед. Образцы автоматически подавались внутрь катушки и вращались там в трех плоскостях. Очень удобное было устройство и работало без поломок, считай, 25 лет.
За четверть века в магнитной лаборатории были измерены многие тысячи образцов. Основная масса измерений проводилась с помощью кварцевых магнитометров М-14ф, контрольные измерения — на астатических магнитометрах МА-21 и на приборах собственной конструкции.
Помимо загородной лаборатории, имелись рабочие помещения и в камералке экспедиции. Там обрабатывались материалы магнитных измерений, определялись объёмный вес и минералогическая плотность образцов, упругие характеристики горных пород (с помощью уникального по тем временам ультразвукового сейсмоскопа), электропроводность и радиоактивные свойства образцов. Для количественных определений концентраций радиоактивных элементов применялась новейшая установка «Тобол». При лаборатории имелся камнерезный станок, который мы запустили в 1958 году, первыми в Якутии применив режущие алмазные диски. Станок сделал тот же умелец Яков Ефимович Вотяков, и работал отрезной станок многие годы. На станке изготовливались кубики для палеомагнитных измерений и делались срезы на шлифы и полировки для всех геологических партий экспедиции. Шлифы описывались квалифицированным петрографом. Но поскольку редкие петрографы бывают одновременно и знатоками рудных минералов, инженер- геофизик Г. Г. Камышева в совершенстве изучила рудную микроскопию, став видным специалистом по рудным минералам кимберлитов и траппов.
В летний период полевой отряд лаборатории систематически посещал карьеры на отрабатываемых месторождениях, естественные коренные выходы кимберлитовых и трапповых тел, отбирал керн из разведочных, гидрогеологических и структурных скважин. Сотрудники лаборатории не полагались целиком на геологов разведочных, поисковых и картировочных партий, измеряя то, что им привезут, а сами ездили, летали и, где только возможно, отбирали каменный материал.
Геофизическая лаборатория под руководством Г. Г. Камышевой существовала в Нюрбе многие годы и перебазировалась вместе с Амакинской экспедицией в поселок Айхал, где она существует и поныне.
Мне же, в силу коловращения судьбы, пришлось в 1968 году переезжать в город Мирный на работу в Ботуобинскую экспедицию. Здесь тоже возникла необходимость в массовом изучении физических свойств горных пород. Экспедиция построила загородную лабораторию вблизи поселка МУАД по специальному проекту, в котором предусматривались бетонные фундаменты для приборов, немагнитные дверки и заслонки для печей, стеллажи для образцов и прочие приспособления. Были также построены жилой дом для работников лаборатории и просторное камнехранилище. Словом, руководством экспедиции были созданы все условия для изучения магнетизма горных пород.
Двенадцать лет мы оснащали лабораторию измерительной аппаратурой. В конечном итоге у нас появилось все необходимое для полного цикла магнитных и палеомагнитных измерений: и астазированные магнитометры, и рокгенераторы, и каппаметры — заводские и самодельные. В НИЗМИРАНе был сделан для нас даже микромагнитометр, позволявший измерять магнитные свойства отдельных минералов — пиропов, пикроильменитов, алмазов. За двенадцать лет было многое сделано по изучению физических свойств геологических образований Мало-Ботуобинского района, а по договорам с Амакинкой, ПНО «Якуталмаз» и 6-й экспедицией ЯТГУ и по другим районам Западной Якутии — по Алдану, Анабару, Оленёкскому поднятию. Сотрудники нашей лаборатории совместно с сотрудниками лаборатории Амакинской экспедиции ежесезонно проводили полевые исследования, накапливали каменный материал и информацию по физическим свойствам горных пород.
Но все мы под Богом ходим. В самый пик нашей активной деятельности и радужных замыслов судьба надсмеялась над нами. Под новый 1982 год во время моей очередной командировки на запад лаборатория сгорела. Сгорела дотла, со всей аппаратурой, со всем с таким трудом нажитым добром. Нам оставалось только петь песню «Враги сожгли родную хату». С трудом пережив удар, я понял, что спорить с судьбой бесполезно. Видимо, потусторонние силы были против наших замыслов.
Нашлись, однако, хорошие люди, которые пытались помочь нам стать на ноги. Подарили даже целую базу отдыха на берегу Вилюя, на 56-м километре в устье притока Сылага. Там были два дома, разные пристройки, сараи для образцов, все условия для работы. Никаких магнитных помех ни от фабрик, ни от дороги, проходящей в полукилометре от базы. И опять же удобство сообщения: автобусами Чернышевск—Мирный и попутными машинами по трассе.
Там мы организовали первичные магнитные измерения с кварцевыми приборами М-14ф, с магнитометрами МА-21 и наладили временную магнитную чистку образцов. Дом в 120 квадратных метров позволял разместить много стеллажей для раскладки образцов. Но, конечно, организовать полный цикл палеомагнитных измерений мы уже не могли, как не хотели и обзаводиться дорогостоящим комплексом магнитоизмерительной аппаратуры, поскольку ничего хорошего от судьбы мы уже не ожидали и не хотели рисковать.
И точно: неприятности не заставили себя долго ждать. Не прошло и 10 лет, как нам приказали убираться оттуда вместе со всеми строениями: территория попадала в зону затопления Вилюйской ГЭС-3. Вокруг стали сводить лес и готовить ложе будущего водохранилища. Мы еще протянули с эвакуацией года два, да могли бы и больше, поскольку со стройкой ГЭС-3 не торопились, но душа уже к тому месту не лежала. Прекрасный уголок природы с густым лесом по берегу реки превратился в пустыню. Лес свалили бульдозерами, столкали его в валы и пытались сжечь, облив валы соляркой. Крайне неприглядное зрелище! Да еще озверелые дачники из посёлка Светлый стали грабить лабораторию: тащили всё, вплоть до оконных стекол. Им помогали подростки-мотоциклисты, которые в наше отсутствие (сторожей мы держать уже не могли) проникали в дом и там «наводили порядок». Добрались даже до тайника, где хранились приборы, и один наиболее ценный магнитометр разобрали по частям, интересуясь, видимо, что же там внутри. Естественно, ничего интересного для себя не обнаружили, но после этого прибор осталось только выбросить.
Это была моя четвёртая полевая лаборатория, ставшая последней. Больше я уже ничего не пытался строить или арендовать. Да и коллектив лаборатории с реорганизацией экспедиций распался, не осталось специалистов с необходимым опытом работы. Лаборатория была преобразована в музейный отряд.
Конечно, кое-какие работы по изучению физических свойств мы продолжали и в музейном отряде. Определяли плотность горных пород (приличные объемы сделали, к примеру, по трубкам Ботуобинская и Нюрбинская), магнитную восприимчивость, иногда остаточный магнетизм. Но чтобы измерять его в образцах, надо было выезжать в тайгу подальше от города, ставить палатку, забивать колы под фундамент для прибора, словом, хлопотное это было дело. В основном работы по изучению остаточного магнетизма кимберлитов и палеомагнитные исследования по кимберлитам и траппам мы вели совместно с палеомагнитной лабораторией ВостСибНИИГГиМСа (в 2006 году переведённой в ИЗК РАН). Палеомагнитная лаборатория в Иркутске оснащена современным оборудованием и ведёт работы на высоком научном уровне. Это единственная такого рода лаборатория в Сибири. Она имеет международные связи. Слабомагнитные породы измеряются, к примеру, на криогенных магнитометрах в Париже, Мюнхене или Токио. Возможности же криогенных магнитометров известны: с их помощью можно измерять палеомагнетизм даже почти стерильных от ферромагнетиков известняков и доломитов.
Рассказанная мною история не свидетельствует, конечно, о том, что дело петрофизики совсем погибло. В Амакинской экспедиции лаборатория физических свойств по-прежнему существует и ведет серьёзные работы не только на своей территории, но даже и по некоторым объектам работ Ботуобинской экспедиции. Там подобрался хороший коллектив специалистов и есть надежда на перспективы.
БУНТ АМАКИНЦЕВ
Это произошло в 1959 году. Коллектив Амакинки, до того времени инертный и безучастный к смене руководства или к несправедливостям в отношении видных геологов в своей среде, вдруг дружно и открыто встал на защиту одного человека. Человеком этим был Михаил Нестерович Бондаренко — бывший начальник Амакинской экспедиции.
Чем-то он не угодил республиканским властям. Чем именно, в анналах истории Амакинской экспедиции сведений не сохранилось. Ходили лишь разные слухи о причинах возникновения конфликта между ним и партийными органами. То ли он отказался принять в соавторы книги о якутских алмазах одного из секретарей обкома, то ли чем-то обидел районные партийные власти (а это он мог сделать, поскольку был грубоват и прямолинеен), то ли долго не соглашался подчинить Амакинку созданному в 1957 году Якутскому геологоуправлению, то ли сделал еще что-то властям неугодное, осталось невыясненным. Бесспорен лишь очевидный факт — в конце 1959 года он был отстранён от руководства Амакинской экспедицией и исчез из Нюрбы.
Снять с должности любого номенклатурного работника партийным органам в те годы не составляло большого труда. Не требовалось никаких резонов. Решения принимались келейно, публике о мотивах не докладывалось, она и не волновалась: снимут одного начальника, пришлют другого. Значит, так надо — сверху виднее. Но Бондаренко был не просто начальником экспедиции, он был и депутатом Верховного Совета Якутской АССР. А депутат, как известно, лицо неприкосновенное, избираемое народом. И если он совершил какие-то противоправные деяния, то отзывать его из депутатов должен тот же народ. Хоть выборы в те годы и были фикцией, но в законе о выборах это положение было чётко прописано. Закон же надо соблюдать, хотя бы для видимости демократии.
И вот однажды в клубе Амакинской экспедиции собирают многолюдное собрание, на котором представитель то ли Верховного Совета, то ли обкома партии ставит вопрос об изъятии у Бондаренко депутатского мандата. Мотивировка довольно весомая: он, дескать, зазнался, груб с подчиненными, занимается приписками, аморален в личной жизни и, мало того, скрывает свое кулацкое происхождение.
Обвинение в грубости публика перенесла спокойно. Верно, грубоват был товарищ Бондаренко. Особенно с нарушителями трудовой дисциплины. Даже мог врезать алкашу и прогульщику по морде, что и случилось однажды. Впрочем, тот не жаловался, так как был кругом виноват и получил по заслугам. В части аморалки не особенно верилось, поскольку вся жизнь Бондаренко в такой небольшой деревне, как Нюрба, была на виду, и любители посплетничать знали, что женщинами он не особо интересуется. Но кто без греха! Бондаренко жил в Нюрбе без семьи и, может, что-то с кем-то у него и было. А если что и было, то в глубокой тайне, о которой могли знать только очень близкие к нему люди. Обвинения эти исходили от одного не слишком порядочного человека, и чёрт его знает, врал он или говорил правду. Тем более не верил народ и главному геологу Юркевичу, имевшему весьма подмоченную репутацию, который тоже норовил заляпать грязью своего шефа. Выступления этих двоих против Бондаренко возымели обратный эффект, вызвав к нему сочувствие присутствующих.
Но если бы только этими обвинениями организаторы собрания ограничились да сказали бы прямо, что поскольку Бондаренко уволился и уехал из Якутии, то не имеет смысла держать его в депутатах, и амакинцы согласились бы и проголосовали за отзыв. Но властям предержащим надо было обязательно перегнуть палку. И когда Бондаренко обвинили в кулацком прошлом, то публика встала на дыбы. Зал буквально взорвался от возмущения. С задних скамеек посыпались выкрики: «Позор!», «Как не стыдно!» и т. п. На сцену выскакивает подвыпивший Тимофей Лебедев, геофизик из команды Меньшикова, и произносит яркую речь в защиту Бона. Особенно налегая на то, что обвинения в кулацком происхождении — это маразм, давно пора забыть о кулаках. Да и дети кулаков не отвечают за своих отцов, это было сказано известным человеком. Тимофея поддерживают горячими аплодисментами.
Организаторы акции об отзыве уже не рады были, что связались с амакинской публикой. Но коль дело затеяно, то надо доводить его до логического конца. Вопрос ставится на голосование. За отзыв голосуют сидящие в президиуме и несколько человек на первых скамьях. Против — лес рук. Надо было видеть растерянность ответственных за это мероприятие лиц. Несмотря на шум в зале, они все же надеялись на благоприятный исход голосования. Коль скоро этого не произошло, то предпринимается новая попытка уговорить народ. Снова выступают «боевые слоны», взывая к здравому смыслу амакинцев. Теперь уже не налегая на кулацкое происхождение депутата. Но и амакинцам попала вожжа под хвост, уговорить их не удается. Повторное голосование даёт тот же или даже худший результат: поднятых рук за отзыв оказалось меньше, чем насчитывалось в первом туре голосования. В зале были, конечно, люди и обиженные Боном, которые не прочь были ему отомстить, но видя, что большинство соседей голосует против, предпочли не идти против всех. После такого фиаско собрание было закрыто.
Сконфуженные организаторы мероприятия на какое-то время растерялись. Что в данной ситуации предпринять? Освободить Бондаренко от депутатства втихую теперь уже невозможно, акция приобрела слишком широкую огласку. Но и отступать нельзя. Тогда придумывают следующий тактический ход. Амакинцев разделяют на три группы и проводят три отдельных собрания: одно в столовой, другое в клубе, третье в камералке. Полагая при этом, что когда крикуны будут на виду у начальства, а не за спинами других, то результат голосования будет иной. Снова идет напористая агитация за отзыв, и снова во всех трех группах не набирается нужного количества голосов. Амакинцы вошли в раж и упорно не хотят «правильно» голосовать. Кое-кто из них и не по доброй воле становится в оппозицию, но теперь уже пасовать стыдно перед коллегами. Презрение товарищей бывает страшней возможных репрессий.
Организаторы посрамлены и как будто отступают. На амакинцев больше давления не оказывают, оставляют их в покое. Не следует и никаких оргвыводов. Кроме Тимофея Лебедева, никого не увольняют. Да и тот, собственно, предвидя будущие неприятности, уходит по собственному желанию. Цели своей власти добиваются обходным маневром. Собрания организуют в Антоновке, в порту и где-то в ближайшем наслеге за Нюрбинкой. Там народ знать не знает, кто такой Бондаренко, что он сделал плохого или хорошего, и послушно голосует за отзыв.
А амакинцев через некоторое время наказывают всем скопом: присылают в начальники бывшего лейтенанта Дальстроя. В истории Амакинки начинается период так называемого «дальстроевского нашествия», когда противостояние амакинцев руководству экспедиции принимает затяжной характер, и «бунты» становятся повседневным явлением.
ДУЭТ[2]
Будучи по профессии геофизиком, я почти никогда не вникал в тонкости методики поисков алмазных месторождений шлиховым методом. И за все сорок пять лет весьма тесного общения с геологами-поисковиками так и не научился толково мыть шлихи. Препятствием к тому служили не столько природная лень и обычный для поля «недосуг» (чтобы хорошо отмыть шлих, требуется не только мастерство, но и немалые затраты времени, которого в поле всегда не хватает), сколько нежелание лезть не в свое дело, когда этим под боком занимаются профессионалы-поисковики. А им тоже некогда бывает тратить время на твоё обучение. Так и не пришлось мне совмещать работу магнитометриста со шлиховой съемкой во все годы, когда приходилось заниматься поисками и детализацией магнитных аномалий.
Однажды я был искренне удивлен, как быстро могут использовать шлиховой метод опытные геологи, так сказать, мастера своего дела, при поисках кимберлитовых тел.
Где-то в середине шестидесятых годов (увы, уже прошлого столетия) на помощь нашему отряду физических свойств, работавшему на реке Куойка, прилетел и главный геолог Приленской партии Валентин Филиппович Кривонос и геолог той же партии Иван Филиппович Веденьков. Нам надо было взять крупнообъёмную пробу на одной из трубок, и они привезли с собой ВВ и взрывника. Но прежде чем рассказать о нашей совместной работе, нелишне упомянуть о событиях, ей предшествовавших.
Наш отряд ждал вертолета Ми-4 на базе гравиметровой партии экспедиции № 6 в устье реки Беемчиме, впадающей в Оленек в сорока километрах ниже Куойки, где нам предстояло работать. Вертолет не появлялся очень долго, почти два месяца. В то лето по Якутии горела тайга, и все вертолёты Нюрбинского авиаотряда были задействованы на тушении лесных пожаров. Нам ничего не оставалось делать, как только ждать.
Мы, естественно, бомбили экспедицию радиограммами, запрашивая вертолет, но ничего утешительного в ответ не получали. Нам передавали лишь длиннющие РД по технике безопасности и указания о прочих мероприятиях по геологоразведочным работам, нас не касающиеся. Тексты радиограмм принимал радист упомянутой гравиметрической партии, поскольку у нас своей рации не имелось.
Нам было не совсем удобно перед чужим радистом, у него и своей работы было предостаточно. Одна радиограмма, как хранить ВВ, с текстом на целую страницу, совсем вывела нас из терпения. Взрывчатки у нашего отряда не было, и поучать, как хранить её, было совершенно ни к чему. Но дело в том, что обязанности начальника Амакинской экспедиции исполнял в тот период Иван Ильич Н. в своем обычном амплуа — заместителя главного инженера по ТБ. Заполучив на время власть начальника экспедиции, он старательно рассылал в партии распоряжения именно по ТБ, то есть без помех делал работу, более ему свойственную.
Чтобы прекратить поток подобных радиограмм, мы придумали следующий ответ: «Вашу РД номер такой-то, сообщаем, что соль храним в резиновых мешках вместе со спичками». Юмор этой РД заключался в том, что «солью» в те времена именовалась взрывчатка. Начальник гравиметрической партии Эрнст Яковлевич Келле такой юмор не очень одобрил, но радиограмму к отправке подписал. В результате поток РД в наш адрес прекратился, но в Приленскую партию Кривоносу поступил приказ: «Работы на объекте Саврасова запрещаю. Н.». Мы этим приказом не были так уж обеспокоены, поскольку запрещать плановые работы и.о. начальника права не имел. Через неделю, осмыслив, вероятно, неправомерность такого распоряжения, Иван Ильич приказ отменил и работы на «объекте Саврасова» Кривоносу разрешил.
В конце сентября Валентин Кривонос и Иван Веденьков с горной бригадой прилетели на Куойку. Намеченные работы по расчистке от делювиальных наносов и отбору пробы кимберлита из интересующей нас трубки на правобережье реки Куойка были в короткий срок выполнены. У геологов осталось еще немного времени для разных прочих дел.
Рыбалка на Куойке не прельщала (рыба уже вся скатилась в Оленек), поэтому они занялись своим привычным делом: стали шлиховать русло и склоны ближайшего распадка, в приустьевой части которого располагалась трубка Русловая. Трубка была известна с 1957 года, когда её нашел поисковый отряд Ивана Афанасьевича Галкина, сотрудника 247-й партии Амакинской экспедиции. Небольшая по размерам трубка обнажалась в русле пересыхающего летом ручья. И она не могла дать обширного ореола рассеяния минералов-спутников, тем более выше по течению ручья, где последние прослеживались. Обнаружив это обстоятельство, Кривонос и Веденьков предположили, что в бассейне упомянутого ручья есть свой источник выноса спутников — не обнаруженное ранее кимберлитовое тело. А раз есть, то надо его найти, чем они и занялись.
Я со стороны наблюдал за их работой — интенсивным грохочением в шлиховом лотке крупнообломочного материала шлиховой пробы, очисткой от глины каждого обломка и обломочка пород перед их удалением, осторожным отмучиванием и отсадкой мелкозернистого материала с тонкой доводкой концентрата тяжелой фракции до требуемых кондиций «серого» шлиха. И вот на донышке лотка в чистой воде среди отсаженного концентрата ярко поблескивают то красный пироп, то бутылочно-зеленый оливин, то изумрудно-зелёный хромдиопсид, то смоляно-черный пикроильменит, то есть вся гамма минералов-спутников алмаза!
Не так-то просто шлиховать крутые безводные склоны распадка, постоянно спускаясь для промывки шлиховых проб к ручью. Но дело мастера боится! Работали они настолько энергично и споро, что уже к вечеру первого дня на правом склоне ручья был обнаружен и оконтурен ореол спутников над доселе неизвестным кимберлитовым проявлением. К исходу второго дня магнитометрическими наблюдениями была установлена в границах шлихового ореола слабая магнитная аномалия, а в закопушках, пройденных в слое делювия, выявлена дресва кимберлита. Быстрота, с которой это кимберлитовое тело было найдено, удивила меня и убедила в широких возможностях шлихового метода при поисках кимберлитов.
Найденную трубку Валентин Кривонос назвал Дуэт. То ли потому, что они с напарником Веденьковым «спелись» при её поисках, то ли потому, что обнаружена она была с применением шлихового и магнитометрического методов. Так сказать, дружно спаянным геолого-геофизическим дуэтом.
Шурфами заверять аномалию не стали, поскольку алмазов в шлихах не было обнаружено, да и свободного времени уже не оставалось: вот-вот должен был прийти за нами вертолет. Вероятность того, что алмазы в этой трубке есть и лишь не встречены в шлиховых пробах, тоже была невелика, поскольку в близрасположенных и надежно опробованных кимберлитовых телах алмазы полностью отсутствовали.
Как бы то ни было, но в реестр кимберлитовых тел на востоке Сибирской платформы трубка была занесена, как (несомненно) реально существующая трубка Дуэт.
КАК НАЗЫВАТЬ КИМБЕРЛИТОВЫЕ ТРУБКИ
Много кимберлитовых трубок открыли геологи и геофизики за последние годы. Всем им положено было давать собственные имена. Иным — алмазоносным — вполне заслуженно, другим — просто так, за компанию. Казалось бы, чего хитрого — окрестить трубку. Но кто когда-либо становился крёстным отцом, тот знает, в каких муках рождаются названия. Посмотрим, как же с этим делом справлялись первооткрыватели и какие пути они наметили для будущих поисковиков.
Самым первым и, надо признать, одним из самых удачных названий была легендарная трубка Зарница. Она явилась предшественницей многих открытий и вполне оправдала своё имя.
Значительная часть позднее открытых трубок получила название по имени ближайшего ручья или речки. Например, Килиэр, Омонос, Молодо, Сытыканская, Моркока, Лыхчан, Эгиэнтей и целый ряд других. Подобные названия свидетельствуют или об отсутствии фантазии у крёстных отцов, или об их излишней осторожности (а вдруг трубка окажется пустой и громкое имя будет некстати). Сравнительно редко среди этой категории трубок попадались с громкими названиями, которые неплохо звучали и даже рифмовались в песнях (скажем, Мачала):
И, качаясь, бегут валы От Нюрбы и до Мачалы.Другие же, типа Харыгыстаха, Баргыдымылааха, Лекаса, Тарахтаха, даже Маяковский затруднился бы вставить в рифмованные строчки.
Много трубок названо в честь городов и даже городских районов, с которыми у первооткрывателей связаны, по-видимому, приятные воспоминания. Ленинграду тут принадлежит наипервейшее место. Есть трубки Ленинград, Ленинградская, Балтийская, Петроградская, Василеостровская, Нева, Невская. Из остальных городов этой чести удостоены лишь Иркутск (Иркутская), Токио (Токио) и Москва (Москвичка). Есть, правда, еще трубка Пермь, но достоверно не установлено, названа эта трубка в честь города или геологической эпохи. Путь этот нельзя считать прогрессивным, так как, наряду с красочными ленинградскими названиями, могли появиться трубки Конотоп, Черновцы или, упаси Бог, Сыктывкар. Иногда название отражает эмоциональное состояние геолога в момент открытия трубки. Вероятно, очень хорошее настроение было у тех, кто открывал Удачную, Славную, Лёгкую, Красивую, Мечту, Улыбку, Солнечную, Весёлую. Ну а тем, кто нашел Неуловимую, Непризнанную, Отверженную, Ненужную (есть даже такая!), позавидовать, конечно, труднее. Очень жаль, что не принято было давать собственные имена останцам траппов, туфов и гореликов, которые нередко сбивали с толку поисковиков - магниторазведчиков. Какие красочные были бы названия в области, правда, ненормативной лексики!
Наблюдавшееся в прошлом стремление лиц разных профессий и разных организаций застолбить свой приоритет в открытиях выразилось в неудобопроизносимых названиях Аэросъемочная, Аэрогеологическая, Академическая, Геофизическая, Каппаметрическая, НИИГА-1, Биректинская, Операторская. Красивым исключением из этого ряда может служить трубка Амакинская, которую так назвали не сами амакинцы, а в честь Амакинки геологи Ботуобинской экспедиции. Ответной любезности от амакинцев, к сожалению, не последовало.
Интересы первооткрывателей иногда сталкивались; на одну и ту же трубку претендовали, скажем, геологи поисковых экспедиций и научные работники, или геологи и геофизики. Тогда появлялись компромиссные названия, такие как Комсомольская-Магнитная, Коллективная (которых даже две), Спорная, Дружба. В последнем случае, когда делалась хорошая мина при плохой игре. Был случай, когда неподелённая таким образом трубка оказалась после детальной диагностики породы туфо-трапповой (Коллективная на Малой Ботуобии). После такого конфуза на приоритете открытия этой трубки никто не настаивал. Спорные моменты могут быть и впредь, особенно у геологов с геофизиками, поэтому надо заранее продумывать тактику, как опередить конкурентов в присвоении названия.
Целый ряд трубочных имен носит отпечаток периодов года или времени суток. В перечне мы видим Летнюю, Осеннию, Зимнюю, Позднюю, Вечернюю, Полуночную, Октябрьскую, Сентябрьскую, Майскую и даже Предмайскую. Следуя этому течению, можно открыть в будущем Весеннюю, Ночную, Дневную и ещё восемь по месяцам года. Есть трубка Пятница. Открыл её довольно странный геолог, который, будучи в поле, имел представление о днях недели. Почин его следует приветствовать, так как при наличии в поисковом отряде приемников можно открыть ещё целых шесть трубок.
Некоторые кимберлитовые трубки имеют сугубо минералогические названия: Оливиновая, Гранатовая, Флогопитовая, Ильменитовая, Хризолитовая. Такие названия могут ласкать слух разве что только Иосифа Петровича Илупина. Если идти по такому пути, то завести он может далеко — минералов в кимберлитах хватит на множество трубок. Но звучать они будут зачастую так: Сельвсбергитовая, Мунионджитовая, Умптекитовая и т. д. Конечно, путь не слишком перспективный.
Безусловно ложным следует считать направление, когда названия давались в честь великих людей. Можно поручиться, что Вернадский, Обручев, Курчатов не были бы в восторге, узнав, что их имена присвоены даже не кимберлитам, а какого-то сомнительного состава и совершенно неалмазоносным туфам. Этот путь можно извинить лишь карьеристам и соискателям учёных степеней, которые хотят заслужить благосклонность своих шефов и начальства, увековечив имя последних на геологической карте. В истории поисков алмазов на Сибирской платформе был такой случай с геологом Оффманом, сделавшим подобный презент своему научному руководителю Шатскому. По иронии судьбы, трубка имени Шатского оказалась даже не трубкой, а всего лишь скарновой зоной. Вероятность такой медвежьей услуги последователям Оффмана надо иметь в виду. Научные руководители могут оказаться обидчивыми и злопамятными, тогда не видать соискателям учёных степеней.
Довольно избитый приём называть трубки, сообразуясь с их размерами, формой и местоположением. Ничего, к примеру, нет привлекательного в названиях Малая, Круглая, Даечная, Соседняя, Смежная, Пограничная, Русловая, Бортовая, Водораздельная, Промежуточная, Заозерная, Магистральная. Правда, и среди них есть приятные исключения, такие как Крошка, Малютка. Но это уже особое направление уменьшительно-ласковых наименований. Такие названия скорее всего отражают эмоциональное состояние геолога, сумевшего обнаружить такую маленькую трубку. Можно ожидать, что из этой серии могут появиться и более трогательные, такие как Лапочка, Крохатульчик, Воробышек, Зайчик и т. д.
Совсем неуместны названия типа Широтной, Южной, Северной. Куда ни шло, если бы Южная трубка была в Саянах, а Северная в Заполярье. Но если одна есть и там и там, а две другие в рядом расположенных алмазоносных районах, то об индивидуальных особенностях не может быть и речи.
Повторных наименований следует остерегаться. Хоть и красиво звучит Снежинка, но надо знать, что их уже две. Кроме того, есть еще Подснежник и Подснежная. Насчитывается, как уже говорилось, по паре Южных и Северных, две Фестивальных, два Спутника, две Светлых, две Полярных плюс одна Заполярная, две Зимних (не считая Белой Зимы), Искра и Искорка. Недавно в 246-й партии имели неосторожность открыть вторую Венеру, но вовремя заметили свою оплошность и, по слухам, заменили ее на Афродиту.
Присвоение трубкам любимых женских имен следует приветствовать, если, конечно, дело пойдет без злоупотреблений. Такие названия, как Идиллия, Муза, Виктория, Надежда, Кира, Маричка, безусловно, облагораживают общий перечень. Но можно себе представить кошмарную ситуацию, когда пойдут дублироваться Вали, Гали и Наташи.
Заслуживают одобрения и такие необычные названия, как Львиная лапа. Неважно, что Львиная лапа больше похожа на кирзовый сапог после истечения нормативного срока носки. Главное то, что такие названия открывают большой простор для имятворчества. Почему бы не быть тогда Тигровой шкуре, Собачьей морде или Волчьему хвосту. Или чем плохо звучат для некоторых спаренных трубок Ослиные уши или От жилетки рукава. Из оригинальных названий в последнее время появились Ну, погоди и Рот-фронт. А Юрий Петрович Белик назвал одну из многочисленных найденных им трубок в честь своей собаки — Тюха. Но такая вольность позволительна лишь Юрию Петровичу, другим она заказана.
Широкий размах для имятворческой активности обещает спорт. Голос спортсменов прорезался, пока ещё робко, в названиях Динамо и Спортивная. Вероятно, болельщики Спартака, Зенита и Черноморца не заставят себя долго ждать.
Безусловно, свежую струю внесли в имятворчество кимберлитов сотрудники Арбайбытской и Куонапской партий. Совершенно новым направлением является, к примеру, звёздно-космическое: Орион, Близнецы, Туманность, Космическая. Вероятно, такие названия появились не случайно. Трубок на Анабаре не меньше, чем звёзд на небе, и пользы от них примерно столько же. Похвалы заслуживает также их инициатива в присвоении трубкам имён по буквам греческого алфавита: Альфа, Бета, Гамма, Дельта. Когда будет исчерпан греческий алфавит, можно порекомендовать еще старославянскую кириллицу. Скажем, чем плохо Аз, Глаголь, Ижица, Фита, Юс малый, Юс большой.
Нельзя осудить геологов, многими месяцами не выезжавших из тайги, и за такие названия, как Дама, Обнаженная, Синильга. Но рекомендуем не заходить далеко в эту область, поскольку блюстительницы нравов из геологических фондов могут счесть это безнравственным.
Нельзя не одобрить и отвлечённо-лирические названия, такие как Мечта, Привет, Веснушка, Незабудка. Они украшают список. Нет возражений и против названий с танцевальным уклоном: Липси, Яблочко, Прима (балерина). Можно надеяться, что скоро появится Рок-н-ролл и Твист наряду с Гопаком, Барыней и Камаринской.
Истинно стоящие алмазные трубки можно называть по-разному, но хочется пожелать, чтобы одна из них была БРИГАНТИНА!
СБЫЛАСЬ МЕЧТА...
Когда в очередной раз вертолёт или самолёт Ан-2 приземляется, высаживая отряд в намеченной точке какого-либо отдаленного района Якутии, после суетной выгрузки полевого снаряжения и после того как вертолёт (самолёт) исчезает за горизонтом, в голову приходит бессмертная фраза Остапа Бендера: «Сбылась мечта идиота!»
И в самом деле, после многих лет вынашивания замысла, после многих часов работы в геологических фондах, после длительных уговоров начальства, после дебатов на НТС, после тщательного подбора полевого снаряжения, после долгого ожидания транспорта взлететь, наконец, и благополучно приземлиться именно там, где нужно, где рядом объекты полевых работ, — это огромное удовлетворение. И тут упомянутая фраза как бы сама выскакивает из головы; она вполне уместна.
Первым делом после высадки совершается ритуальное действо: закрепление благополучного прибытия. Из вьючников, ящиков и коробок сооружается примитивный стол, из мешков и спальников сиденья. Из рюкзака вытаскивается фляжка со спиртом, с водкой или коньяком, достается домашняя снедь (если она ещё не прокисла за дни долгого ожидания транспорта) или консервы. Разливается по кружкам содержимое фляжки, возглашается тост «За тех, кто в поле!» и выпивается по-полной или кем-то пригубляется, если в компании есть непьющий. Местный Баянай тоже получает свою долю, ему отплескивается из каждой кружки. На всякий случай, чтобы способствовал будущей работе или хотя бы не мешал ей.
Но рассиживаться долго некогда, сразу же после традиционного действа начинается работа по обустройству лагеря. Первым делом выбирается место для палатки. Оно не должно быть сырым, а если сухого места нет, то нарубается лапник, ветки лиственницы или ивы, застилается место, где должна стоять палатка, на них бросается брезент, и только тогда уже ставится палатка. Если стоянка ожидается недолгой, то каркас к палатке не делается, просто её ставят на двух колах и растяжках.
В палатку или под крылья палатки заносятся продукты и вещи, которые боятся дождя (за исключением патронов, флакончиков с бензином для заправки обогревателей и пр.). Все взрывоопасное и горючее должно оставаться снаружи, на почтительном отдалении от палатки. Это на случай, если палатка загорится, хотя от этого оборони Господь!
Вообще место для палатки выбрать бывает не так просто. К примеру, палатка не должна быть далеко от воды, потребность в воде бывает постоянной. Но и слишком близко к реке её ставить нельзя. Вода в реке может подняться, что бывает нередко и притом неожиданно. Тогда приходится срочно эвакуироваться на более возвышенное место и перетаскивать вещи. А если это под дождём, да еще со сна ночью, то романтика тут выходит боком.
На малых речках и ручьях ставить палатки прямо на берегу тоже опасно. Если пройдет ливневый дождь, то малый ручей может заиграть так, что дай Бог ноги унести. Под крутыми склонами возвышенностей, подступающих к берегам, ставить палатки тоже нельзя. Особенно в жаркое время, когда наиболее интенсивно оттаивает мерзлота. Может случиться оползень, когда верхний слой оттаявшей земли сползает к реке вместе с обломками скал, с почвой, деревьями. Ширина оползня может достигать нескольких десятков метров. Даже крупные многолетние деревья не всегда сдерживают развитие оползневого процесса.
Под большими деревьями ставить палатки опять же рискованно. Даже не потому, что в них может ударить молния и задеть палатку. Это как раз маловероятно. Опасность в том, что само дерево может упасть, если случится штормовой ветер. Корни деревьев на мерзлоте очень неглубоко сидят в почве, и одинокие деревья бывают особо неустойчивы при сильных порывах ветра. А когда дерево падает на палатку, то находящимся внутри бывает мало радости. Лучше предостеречься от этого. Ураганные ветры (буреломы) случаются чаще всего в октябре месяце, когда подступающие холода заставляют прятать палатки в лесу, где теплее, чем на открытом пространстве речных кос и берегов озер. Деревья спасают от холода, но и таят в себе опасность.
Главная забота сотрудников полевого отряда, особенно под осень, да и в любое другое время года, — это дрова. Их идёт очень много: и для костра, поддерживать который бывает необходимо почти круглые сутки, и для печки в палатке. Без тепла в палатке жизнь полевого геолога очень неуютна. И летом случаются промозглые дни и затяжные дожди, когда печка — беда и выручка. Просушить одежду и обувь, понежиться в тепле, когда снаружи холодный дождь или мокрый снег, — великое это удовольствие! Так что дрова нужны постоянно и в большом количестве. И чтобы не таскать их к палатке издалека, надо ставить палатку ближе к дровам: к сухостою в лесу или к скоплениям плавника по берегам реки. Часть нарубленных дров заносится в палатку или накрывается брезентом, чтобы они не намокли ночью, если случится дождь.
Ставить палатку, как попало, тоже нельзя. Вход в неё должен быть с подветренной стороны, с видом на костёр, с видом на реку, если лагерь разбивается на берегу. Печка в палатке должна стоять на камнях (но не на известняках, которые взрываются от жары), не очень близко к полотну стенки, и чтобы дверной брезент не задувался ветром на печку, что бывает наиболее частой причиной загорания палатки. И чтобы дымовые трубы не соприкасались с полотном крыши и были достаточно длинными.
На всякий пожарный случай, часть продуктов, рация, геофизические приборы и патроны к ружьям должны быть сложены под брезентом поодаль от палатки. Бережёного Бог бережёт! Нет судьбы печальней, чем у погорельцев в тайге, когда они остаются без рации, без теплой одежды, без продуктов. А сколько на памяти таких случаев в одной только Амакинской экспедиции!
Когда обустроена палатка, застелен пол, закинуты в неё спальники и необходимые личные вещи, изгнаны из палатки комары — тогда пора подумать об ужине. Разводится костёр, пристраивается таганок, вешаются на него кастрюли, котелки, чайник, и кто-то из команды приступает к приготовлению пищи. Варятся щи, борщ или каша, в зависимости от пожеланий трудящихся и сообразуясь с их аппетитом.
В хлопотах по устройству лагеря и приготовлению ужина может не принимать участия один из коллектива, — это охотник, который сразу же после прилёта отправляется с разведкой по окрестностям. Бывали случаи, когда в первый же час после прибытия охотник натыкается на оленя, гуся или глухаря. Тогда процесс приготовления ужина преображается. Кастрюля с варевом из тушенки откладывается на потом или содержимое их отдается собакам. А кастрюли заполняются дичью или оленьими потрохами. Тогда ужин немного оттягивается, но зато какой это бывает ужин!
В зависимости от погоды (если вёдро, то снаружи, если дождик, то в палатке) оборудуется стол, и наступают минуты отдыха. Снова открывается фляжка, «кухарь» раздает миски с едой, и все приступают к трапезе с огромным удовольствием. Бывает, что после такого ужина встать с вьючника уже невмоготу, просто откидываешься на спальник и засыпаешь, не в силах даже залезть в него.
Вот это и есть настоящая романтика! Пусть уже завтра предстоит нелёгкий маршрут, но это никого не волнует. Все засыпают счастливые. «Сбылась мечта идиотов» — они в тайге при любимой работе. Полная свобода и работа по душе — вот что украшает жизнь геологов, как и путешественников, что любил говорить Пржевальский.
Но сон будет беспокойный, если ночью пойдет дождь или разразится гроза. Начинаешь спросонья соображать, всё ли снаружи упрятано от дождя. Привязаны ли к кустам, надежно ли заякорены причаленные к берегу лодки. Не раскидает ли ветер оставленные снаружи вещи. Иногда приходится вставать и всё проверять. Только убедившись, что всё нормально, и дождь ничего не испортит, снова залезаешь в спальник, засыпаешь и видишь счастливые сны.
ПЕРВЫЙ МАРШРУТ
Первый маршрут в полевом сезоне почти всегда труден. Не потому даже, что он очень уж сложный или длительный. Опытные руководители полевых отрядов стараются задавать первые маршруты своим геологам полегче, чтобы люди привыкли к местности, потренировали ноги, отработали дыхание, словом, втянулись в полевую работу.
После зимнего сидения за отчётами-проектами в камералке, за дружескими многочасовыми застольями по случаю праздников или торжественных дат у друзей и знакомых, без серьезных физических нагрузок в течение полугода организм даже очень здоровых людей ослабевает, мускулы ног становятся дряблыми. Поэтому в начале полевого сезона требуется какое-то время, чтобы ноги окрепли, а тело приспособилось к постоянному движению, к дыханию сквозь сетку накомарника, к резкой смене температур воздуха, чтобы не простужаться. Но если первый маршрут по необходимости или за неимением опыта тяжелый, то запоминается он навсегда. Как памятен мне маршрут с научными работниками одного из геологических институтов города Иркутск где-то в начале семидесятых годов.
Наш сводный отряд спускался на лодках по реке Оленек. В геологическое задание отряда входил отбор каменного материала по кимберлитовым телам Чомурдахского, Нижне-Оленекского, Мерчимденского и Куойко-Беемчименского кимберлитовых полей. В начале сезона нам надо было разыскать несколько разведанных когда-то кимберлитовых тел на территории Маакской излучины реки Оленька. Задача сама по себе не представляла особой сложности: найти трубки, вынесенные на геологические карты, по отвалам старых разведочных шурфов не так уж трудно. Осложняющим обстоятельством была лишь их удаленность от реки до 20 километров и необходимость подъема из долины на водораздел. Но главное осложнение заключалось даже не в этом: была середина лета, и днём стояла немыслимая жара.
Кто из геологов ходил в жаркое время по якутской тайге, знает, в какой переплет можно попасть, если планировать маршрут без знания ситуации и без учёта погоды. Редкие деревья тайги не создают сплошной тени от солнца, как, скажем, лес в средней полосе России. Каменистая почва, обычная для якутского Заполярья, прогревается до такой степени, что камни кажутся горячими. Если ветер слабый или отсутствует, то прогревается и воздух. Иногда до температуры сорок градусов. Чем не Африка!
И что особенно странно и удивительно — в тайге исчезает вода. Обычно якутская тайга водой переполнена. От таяния снегов, от дождей вода скапливается в низинах, в болотцах, в углублениях рельефа, поскольку мерзлота не пускает её в глубь земли. В дождливые годы вода в тайге держится до морозов. Но в жаркое лето она очень быстро испаряется, и местность может стать совершенно безводной. Хотя в старых заброшенных шурфах вода, как правило, сохраняется и в засушливое время. Мы знали об этом и не особенно волновались, когда поднимались по безводному склону на водораздел.
В жару идти в гору не особенно приятно, но когда ещё сил много да утром еще более или менее прохладно, то расстояния преодолеваются сравнительно легко. Хотя уже через десяток километров нас стала мучить жажда, и мы частенько прикладывались к фляжкам с водой. Поднявшись на водораздел, поняли, что пополнить опустевшие фляжки нам негде; воды не было даже в приличных углублениях рельефа. Надежда оставалась только на старые шурфы, которые, дойдя до помеченных на карте мест расположения кимберлитовых трубок, мы принялись усердно искать.
Во второй половине дня разведочные шурфы на двух трубках были обнаружены. Оставалось найти в них воду. Но обследовав до десятка относительно сохранившихся шурфов, мы поняли, что надежды наши заиметь воду совершенно безосновательны. Шурфы были почти полностью затянуты илом, а на глубине полутора-двух метров виднелась лишь коричневая жижица, буквально насыщенная всякой живностью — личинками комаров, какими-то головастиками и прочей водоплавающей нечистью. Даже процедить её через марлю оказалось невозможным. Мы поняли, что влипли капитально. Воды в Оленьке много, но до него двадцать километров.
Но коль пришли сюда, надо было делать дело. Мы отбирали образцы, перелопачивая отвалы, попутно исхаживали тайгу в безуспешных попытках всё же обнаружить воду. Жажда мучила нас и донимали оводы, которые впивались в тело с налёту, даже не считая нужным совершать ритуальные облёты, как они это делают обычно. Снимать одежду было нельзя, что еще более ухудшало наше самочувствие. Мы опасались, как бы кого-нибудь из нас не хватил солнечный удар, поскольку солнце палило немилосердно.
Работа продолжалась долго. Пока были обследованы отвалы двух десятков шурфов, отобраны и упакованы образцы, сделаны соответствующие записи в полевых дневниках, — прошло не менее десяти часов. Истерзанные жаждой, загрузившись под завязку камнями, мы стали пробираться к лагерю. Одолев с десяток километров, подошли к более крутому спуску вниз. На склоне открытой воды тоже не было, но местами она журчала под ногами. И это не были галлюцинации. Где-то внутри каменных развалов (курумников) действительно журчала вода; подтаявшая мерзлота высвобождала воду, но текла она на глубине полутора-двух метров и добраться до нее не было никакой возможности. Не ворочать же огромные глыбы камня!
Вода как бы дразнила нас, что еще более усиливало жажду. В конце концов она нас доняла. Мы знали, что левее нашего спуска к реке есть небольшой распадок, где вода, возможно, выходит на поверхность. Идти в этот распадок не хотелось, поскольку мы знали, что там почти непроходимые заросли чапыжника. Но пить хотелось страшно, и мы всё же свернули к распадку. С трудом продираясь через кустарник, в нескольких километрах ниже по рельефу мы увидели, наконец, воду. Она сочилась между камнями, чистая, жгуче-холодная.
Как ни мучила нас жажда, мы понимали, что глотать мерзлотную воду с температурой чуть выше нуля небезопасно, можно простудить горло (что в конечном счете с одним из нас и случилось). Смачивая вначале пересохшие губы, потом делая мелкие глоточки, мы частично утолили жажду. Но не совсем. Далеко отойти от воды мы уже не могли. И продирались вниз по склону через густые заросли ивняка, время от времени вновь прикладываясь к воде.
Таким путем, вконец ободранные и пропыленные (в приустьевой части ручья были обширные плавни, подтапливаемые весенними разливами Оленька, где густые кусты ивняка были все в засохшей грязи), мы буквально выползли на берег реки, где нас поджидали оставшиеся в лагере товарищи.
Добравшись до бровки, отделявшей галечную косу от тайги, и скинув рюкзаки, мы уже не могли двигаться дальше. Не было сил даже спуститься к реке и помыть грязные физиономии. Так и лежали несколько часов на спальниках, притащенных дежурными по лагерю. Нам подносили чай, который мы поглощали в неимоверном количестве. Иногда пропускали, для восстановления сил, по два-три глотка водки, и потом лежали в состоянии полного блаженства. До полевой бани, которую дежурные уже готовили в одной из палаток.
Таким был первый маршрут полевого отряда геофизической лаборатории Ботуобинки в один из дней начала семидесятых годов. Маршрут непродуманный и плохо подготовленный, но, к счастью, завершённый благополучно.
ЗА ЭРЦАЦ-КИМБЕРЛИТОМ
Было время, да оно и сейчас ещё не кончилось, когда из якутских алмазов нельзя было сделать на месте добычи в Мирном даже простого стеклореза. Первый директор «Якуталмаза» Виктор Илларионович Тихонов дал было задание умельцам изготовить стеклорез из технического алмаза, но получил строгое внушение от соответствующих органов, что такую инициативу проявлять нельзя.
Сменивший его руководитель «Якуталмаза» Лев Леонидович Солдатов, принимая высоких гостей из-за рубежа, не имел возможности подарить гостям образец кимберлита из трубки Мир. Можно было дарить кимберлит, но только не из трубок алмазосодержащих.
Вскоре после отъезда высоких гостей Лев Леонидович пригласил меня для консультации: где, в каких трубках водится кимберлит, который был бы похож на кимберлиты трубок Мир или Айхал, но алмазов не содержал. Я доложил, что такой кимберлит есть, но далеко на севере. От алмазов стерилен, что доказано обогащением сотен кубов в Амакинской экспедиции. Солдатов попросил доставить и показать ему такие образцы, что мной и было сделано. Образцы ему понравились, они действительно по внешнему виду и структуре напоминали образцы кимберлитов из трубки Мир. Тут же было сказано, кому следует, что таких пород надо добыть в достаточном количестве. Чтобы можно было презентовать изделия из них почётным гостям и заслуженным работникам «Якуталмаза».
У Солдатова слова никогда не расходились с делом, и уже весной того же года за поделочным неалмазоносным кимберлитом была организована экспедиция. Возглавил экспедицию начальник фабрики № 3 (в структуре которой находился сувенирный цех, выполнявший план по ширпотребу) Анатолий Павлович Верменич. Он сформировал команду добытчиков, в составе которой были два взрывника с немалым количеством взрывчатки, трое умельцев, способных выполнять любые полевые работы, и к тому же заядлых рыбаков и охотников. По прихоти природы неалмазоносные кимберлиты залегали именно там, где в изобилии водились олени, гуси, разная прочая живность, а в речках (притоках Оленька) было полно рыбы.
Экспедиция отправилась на север ранней весной, в самых первых числах июня. На реке Оленек еще не закончился ледоход и был паводковый уровень воды, затопившей все галечные острова и косы. Вертолет, которым экспедиция вылетала из посёлка Удачный на север, едва мог найти место на берегу реки, чтобы приземлиться. Долго кружился, прежде чем сесть в густом мелкорослом кустарнике на верхней террасе.
До объектов добычи вожделенного кимберлита плеча вертолёта Ми-8 не хватало. Предстояло потом спускаться километров двести по реке на лодках. Такое препятствие руководителя экспедиции не смущало: спуск по порожистым рекам на байдарках и резиновых лодках был его пристрастием, и в этом деле он имел большой опыт. Для транспортировки по реке экспедиция была неплохо экипирована: имелась большая деревянная лодка, едва вместившаяся в салон вертолета, три резиновых понтона и лодочный мотор «Москва». Мотор устанавливался на «деревяшке», которая тянула за собой на прицепе резиновые лодки. Караван получался внушительный, несколько громоздкий, но позволивший за один рейс доставить людей и снаряжение до намеченной цели.
Спуск по многоводной реке на любых лодках особых сложностей не представлял. Проблема заключалась лишь в том, как подняться по порожистому притоку Оленька с быстрым течением (до кимберлитовых трубок по притоку было еще двадцать километров). Но и эта трудность была с успехом преодолена: паводковая вода позволила подобраться к объектам работ на моторе.
Организация полевых работ по добыче кимберлита с самого начала была осложнена непредвиденным чрезвычайным происшествием, которое чуть было не сорвало хорошо продуманный план. А ЧП было вот какого рода.
За один рейс вертолёт не мог взять весь груз и людей, чтоб доставить их до места высадки. Надо было делать второй заход. Первым рейсом была заброшена часть людей и деревянная лодка, которую тут же оседлали любители рыбалки, поставив сети прямо в подтопленных кустах. К подходу второго рейса была уже готова уха. Но по неразумению «рыбаков», не имевших до этого общения с вертолетами, деревянная лодка была оставлена ими в опасной близости к уже очищенной от кустов вертолётной площадке. Что ни в коем случае нельзя было делать. Когда вертолёт вторым заходом опускался на площадку, то лодка спарашютировала, и её откинуло в сторону. Один из группы зазевался и не отбежал вовремя от опасного места. Лодка зацепила его носовой частью, ударив в бок. Удар пришелся вскользь, но оказался весьма болезненным (вообще же лодкой его могло запросто убить).
Перед Анатолием Павловичем возникла проблема, что делать с пострадавшим: отправить его этим же вертолётом на «материк» в больницу или всё же оставить для намеченной работы. Веня, так звали подбитого лодкой, тоже мучился, не зная, на что решиться. И бок сильно болит, и покидать компаньонов не хочется; в кои-то веки ещё удастся побывать на природе, избавившись от нудной работы на фабрике. Да и необходим он был экспедиции, поскольку только он мог толково обращаться с лодочным мотором.
Колебания продолжались часа три, пока снова не появился вертолёт. Пилот, чувствуя свою вину (он не должен был садиться поблизости от вытащенной на берег лодки), специально сделал еще один заход, чтобы вывезти пострадавшего, если ушиб серьезный. Веня, однако, улетать не захотел, и все в дальнейшем обошлось благополучно. Правда, бок его еще долго беспокоил, но не в такой степени, чтобы свалить с ног. В дальнейшем он трудился, как и все, обеспечив к тому же экспедицию безотказной работой лодочного мотора.
Второе ЧП произошло позднее при транспортировке добытого кимберлита к устью притока. Камня было заготовлено до десяти тонн, перевозить его на деревяшке малой грузоподъемности за двадцать километров было долго и нудно, да и речка быстро мелела, надо было спешить. Решено было сделать катамаран из двух спаренных резиновых лодок Нл-6 (бывших военных понтонов) грузоподъемностью по 600 килограммов каждая. На настил из досок легко помещалось до сорока мешков с камнями, что и было опробовано. Однако сорок мешков — это около двух тонн — оказались непосильными для катамарана. Правда, на нём удалось сплавить мешки до устья притока, но там произошла авария. При развороте одну из резиновых лодок задел натянутый буксировочный трос, резина не выдержала и по линии троса лопнула. Камни оказались глубоко в воде. Когда позднее река обмелела и образцы оказались на берегу, то их долго потом обколачивали ученые мужи, часто бывавшие в этих местах, но ленившиеся преодолевать двадцать километров к коренным выходам кимберлитов.
Последнее ЧП произошло уже по вине природы, примерно месяц спустя. Материал был добыт и десять тонн его спущено по реке Оленек до ближайшей посадочной площадки Ан-2 (вертолётом доставлять его в Мирный было дорого). Но когда добытчикам надо было вылетать обратно, то вода в Оленьке из-за проливных дождей снова поднялась. И поднялась почти до паводкового уровня, затопив посадочную площадку для Ан-2 и заскладированные на ней камни. Когда за нами пришел вертолёт, то наиболее ценные образцы из добытого материала пришлось буквально «выуживать» по шею в воде и за сотню метров подтаскивать мешки к вертолёту. Остальные кули оказались заиленными, и только часть из них удалось со временем доставить в Мирный.
Проблема с подарочным кимберлитом, имитирующим кимберлит трубки Мир, была успешно решена: доставленные образцы были трудноотличимы от кимберлита IV типа (по А. И. Боткунову). И их можно было безбоязненно дарить любым зарубежным гостям.
СНЕГОВОЙ ПОХОД
Лето в Северной Якутии, как правило, солнечное и какое-то время в июле-августе тёплое, почти как в Крыму или в Средней Азии. Но север есть север, и здесь могут происходить самые непредвиденные метаморфозы с погодой. Вот что случилось однажды в начале девяностых годов прошлого уже столетия.
Первого августа 1994 года в верховьях Большой Куонапки высадился сводный отряд Геологосъемочной экспедиции № 6 и Ботуобинской экспедиции Якутского ТГУ. Помимо заверки результатов аэрогеофизических съемок по прилегающим к реке участкам Анабарского кристаллического щита, отряд «пас» группу туристов из ГДР, которые изъявили желание спуститься на байдарках по одной из северных рек Якутии. В составе отряда были Эрнст Яковлевич Келле, начальник экспедиции № 6, Будимир Гаврильевич Андреев, начальник аэромагнитной партии, я и трое туристов. Туристы должны были спускаться по реке на байдарках, мы — на резиновых лодках.
Погода стояла великолепная. Солнце почти круглосуточно крутилось над головой, лишь на короткое время скрываясь за невысокими горами. Вода в реке была умеренной, чистейшие галечные косы полностью открыты, лиственичный лес по берегам сменялся крупноглыбовым курумником и живописными скальными выходами кристаллических сланцев. Вода в реке прогрелась, можно было бы купаться, если бы не обилие гнуса, обычное в это время. Рыбалка в реке сказочная: таймени, налимы, сиги и множество крупного хариуса. Словом, северная природа являла себя во всей своей красе — для нас знакомой, для туристов необычной и привлекательной.
Первые два дня ушли на сборы, на подготовку к работе и к спуску по реке. До конечного пункта предстояло пройти около двухсот километров. В малую воду по Большой Куонапке много шиверов и перекатов, но особо опасных порогов нет. В большую же воду течение стремительное и в некоторых местах для байдарок опасное: на прижимах с крутыми изгибами реки и водоворотами.
Третьего августа флотилия из трех резиновых лодок и двух байдарок отчалила от места высадки и пошла вниз по реке. Тёплого времени в перспективе было много и ничто не предвещало каких- либо осложнений в наших планах. Но в середине дня погода начала портиться: пошёл мелкий дождик, к вечеру перешедший в мокрый снег. Резко похолодало. Не подготовленные к такой смене погоды, все в лодках промокли, пришлось раньше намеченного времени приставать на ночлег. Кое-как устроились лагерем, залегли в спальники, надеясь на улучшение погоды к завтрашнему утру. Но надежды наши не оправдались, с утра непогода совсем разыгралась. Мокрый снег шёл не переставая, к тому же временами донимал пронизывающий ветер. Но надо было идти вперёд, пришлось грузиться на лодки в мокроте. Конечно, о маршрутах в стороны и думать не смей: ходить по курумникам в такую погоду самоубийственно.
На третий и четвертый день спуска погода не улучшилась; мокрый снег сменился настоящим снегом, а температура воздуха опустилась ниже нуля. Снег полностью запорошил лес, покрыл землю и не таял как обычно даже на отмелях. Сухие деревья в лесу намокли, и разводить костры для приготовления обеда и ужина становилось все труднее. Да и сушняк приходилось добывать уже из-под снега.
Но если даже человеку в таких условиях существовать трудно, то каково всякой мелкой птахе, не улетевшей на юг по причине еще не подошедшего для этого времени. Стрижи и прочие перелётные птички должны были голодать, поскольку корма не стало: насекомые исчезли, а разные там червячки были засыпаны снегом. Жалко было видеть их беспомощность. Когда около костров снег подтаивал, они слетались к костру, не боясь даже огня и людей, чтобы что-то найти в открывшейся земле. Мелкие чайки во множестве с криками носились над рекой, тоже, по-видимому, лишенные возможности при такой непогоде добывать обычный свой корм. Время их отлёта на юг тоже еще не наступило, а родина их уже выталкивала из своей среды.
Вдобавок к воде сверху стала подниматься вода и в реке. Косы и отмели затапливались водой, приставать приходилось к заснеженным обрывистым берегам, заросшим кустарником, что тоже создавало неудобства. А снег шёл и шёл, иногда вкупе со злющим ветром. Полярный циклон свирепствовал вовсю!
Нам, в общем-то привыкшим к суровому климату севера, в такую погоду и то было не по себе. А каково было немцам с их легким туристским снаряжением, пригодным разве что для средней полосы России. У нас имелась шестиместная палатка с печкой, хоть небольшой, но создававшей какое-то тепло внутри. У них всего лишь туристические микропалатки — холодные сами по себе, а в длительный дождь еще и перенасыщенные влагой. У нас ватные спальники, у них какое-то жиденькое подобие таковых, согреться в которых при минусовой температуре было практически невозможно. Поэтому ночами они толпились около нашей печки в шестиместной палатке и с большой неохотой шли спать в свои одноместки.
Так продолжалось восемь дней. Погода бушевала. Выпавший снег и не думал таять. Как выяснилось позднее, пришедший с Ледовитого океана циклон охватил всю Западную Якутию, снег выпадал даже в тысяче километров южнее — в Мирном и Нюрбе. И к тому же густой снег, ломавший даже ветки деревьев. С великими неудобствами, постоянно мокрые, в обледенелой одежде мы продолжали двигаться вперёд, стремясь хотя бы дойти до границы Анабарского щита, расположенной близ устья реки Хапчан — правого притока Большой Куонапки. Туда должен был прийти за нами вертолёт.
Но когда мы вышли к Хапчану, оказалось, что вертолет здесь сесть не может: вся приустьевая часть с косами и мелкокустарниковым паберегом была затоплена водой. Даже лодкам причалить было негде, чтобы стать лагерем. Пришлось искать более уютное место на левом берегу Куонапки. Но здесь тоже не просматривалось площадки для приземления вертолета. Крутой залесённый и заснеженный склон горы, к тому же покрытый крупноглыбовым курумником, едва дал возможность приткнуться на ночлег. Палатки пришлось ставить в немыслимых условиях: на огромных обледенелых камнях, с креплением вязок к деревьям, к рюкзакам и Бог знает ещё к чему. В палатках трудно было разложить спальники, настолько неровной была местность. Кое-как мы все же разместились, а туристы всю ночь протоптались у печки, их палатки негде было даже приткнуть.
Отряд оказался в ловушке: ни на правом, ни на левом берегу реки сесть вертолету нельзя. Идти вниз и искать там подходящую площадку тоже рискованно: впереди прижимистый участок реки с опасными порогами, через которые спускать туристов на байдарках рискованно. Да и не было уверенности, что где-то ниже порогов найдется подходящая площадка для вертолета, настолько высокой была вода в реке. Кроме того, с пилотами в Оленьке была договоренность, что забирать нас они будут именно с устья Хапчана.
Утром следующего дня решено было подняться на километр- полтора выше по течению реки, где накануне был замечен незатопленный участок нижней террасы. Плыть по воде на веслах против бурного течения было, конечно, невозможно, пришлось тянуть лодки вдоль берега на бечеве. Что тоже оказалось нелегко, поскольку вода в реке подступила к обледенелому курумнику на берегу, и передвигаться «бурлакам» приходилось не без риска искупаться или сломать себе шею. Почти целый день ушёл на подъем лодок к сравнительно ровному участку берега, где мог сесть вертолет.
Лишь на десятый день непогоды небо слегка очистилось от туч, и за нами мог прилететь вертолет. Это было 13 августа. Сверху было видно, что в тайге на всем протяжении — от Куонапки до Оленька — лежал снег. Таким вот образом немецкие туристы познакомились с капризами природы Якутии. Да и мы, бывалые полевики, в такую погодную передрягу попали впервые.
25 ЛЕТ СПУСТЯ
Всем шестидесятникам памятен роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым», опубликованный в 1957 году. В нём описывается история неравной борьбы изобретателя-одиночки, противостоящего большому конструкторскому коллективу, возглавляемому к тому же маститым академиком. Персонаж и сюжет произведения взяты автором из тогдашней действительности, что называется один к одному. Как ни кидались на роман идеологические «волкодавы» из окружения Никиты Хрущева, но опровергнуть ту истину, что подобие этой истории происходило во многих сферах науки и техники, они не могли.
Любопытно, что в геофизическом приборостроении нечто подобное имело место на рубеже пятидесятых-шестидесятых годов. Как кустарь-одиночка изобрел магнитометр принципиально нового типа, и что вслед за этим последовало.
Если не ошибаюсь, зимой 1959-го в Ленинграде состоялось Всесоюзное геофизическое совещание, организованное то ли ВИРГом, то ли ВИТРом — двумя мощными в то время научно-исследовательскими институтами (ВИРГ — Институт разведочной геофизики, ВИТР — Институт техники разведки). Совещание проходило в конференц-зале Маркшейдерского института, расположенного на Среднем проспекте Васильевского острова, недалеко от ВСЕГЕИ.
Научного и производственного народу на совещании было много, съехались со всего Союза. Из якутских геофизиков-алмазников присутствовали мы с Петром Николаевичем Меньшиковым, тогдашним главным геофизиком Амакинской экспедиции. Своих докладов у нас не имелось, мы были как бы гостями. А интерес для нас представляли сообщения некоторых научных работников из упомянутых институтов, которые проводили опытно-методические исследования на алмазных месторождениях. Научные мужи нередко бывают склонны приукрашать возможности применяемых ими поисковых методов или модификаций оных, и нам следовало в прениях их охлаждать, если они слишком завихрялись в рекомендациях. Или поддерживать, если метод давал неплохие результаты при поисках и разведке кимберлитовых трубок.
В перерыве между заседаниями мы знакомились с новинками геофизической аппаратуры конструкций ВИРГа и ВИТРа, выставленными для показа участникам совещания в вестибюле института.
В числе разных прочих новинок каким-то скромным немолодым уже человеком (не сотрудником упомянутых институтов) демонстрировался магнитометр совершенно нового типа. Он представлял собой обычную консервную банку поллитровой вместимости, укреплённую на длинной палке, которая при работе втыкалась в землю, и небольшого регистрирующего устройства в сумке на плече изобретателя. Никаких тебе датчиков из спаренных магнитов, ни оптики, ни буссоли для ориентировки прибора по широте, ни треноги с уровнями, как у наших рабочих магнитометров М-2 (или весов, немецкого конструктора 20-х годов Шмидта, имя которого упоминать тогда было нельзя даже в названии прибора).
Изобретатель пояснял интересующимся, что это протонный магнитометр, датчик которого всего лишь банка с керосином. Слово «протонный» было для нас новым, и принцип действия его не был нам понятен. Прельщала быстрота работы с прибором. Не надо было его ориентировать по азимуту, приводить площадку треноги в горизонтальное положение, не надо было осторожничать, опуская датчик, чтобы не повредить кварцевые призмы и подушки. На весь цикл операций в точке наблюдений с М-2 требовалось до 3—4 минут даже квалифицированному оператору. А тут — нажал кнопку и через 2—3 секунды бери отсчёт по шкале. Всё предельно просто и быстро.
Смущала лишь слабая чувствительность прибора. Он регистрировал магнитное поле с точностью всего лишь 40—50 гамм, тогда как кварцевый магнитометр М-2 позволял добиться точности 15—20 гамм. Изобретатель утверждал, что повышение чувствительности прибора — всего лишь вопрос времени. Хотелось верить, но доклад его о возможностях нового метода измерения магнитного поля корифеями геофизической науки был принят прохладно. Впрочем, в резолюции совещания было записано, что прибор целесообразно доработать: то ли в ВИРГе, то ли в ВИТРе, сейчас забылось. Как помнится, изобретатель принял это решение без особого восторга, но согласился.
С того момента прошло лет пятнадцать. Об изобретателе и его приборе ничего не было слышно. Мы по-прежнему мучились с кварцевыми магнитометрами, проклиная их, когда надо было брать отсчёты на морозе. Операции с буссолью, подкрутку уровней датчика приходилось делать голыми руками и брать отсчёты показаний через запотевающие окуляры, словом, мука была, а не работа. О протонных магнитометрах мы могли только мечтать.
В середине 70-х годов в справочной литературе по геофизическим приборам появилось сообщение, что американцы продают протонные магнитометры весьма высокой разрешающей способности (марки G-816). С помощью главного геолога ПНО «Якуталмаз» Анатолия Ивановича Боткунова удалось закупить несколько таких приборов, они стоили сравнительно недорого. Приборы оказались похожими на виденный нами в 1959 году магнитометр отечественного изобретателя: та же банка с керосином и небольшой пульт управления. Только выполнены они были более аккуратно и упакованы в компактные удобные чехлы.
Чувствительность американских приборов оказалась феноменально высокой: она обеспечивала выявление аномалий в 2—3 гаммы, что было недостижимо с кварцевыми магнитометрами любых типов. Скорость работы с протонным магнитометром тоже была несоизмеримой: всего лишь 3—4 секунды — и магнитное поле зафиксировано. Внедрение в практику таких приборов кардинально упрощало наземные магнитные съемки, повышало их качество и достоверность.
Естественно, мы стали интересоваться через Министерство геологии, где же наши отечественные разработки приборов подобного типа. Нас успокаивали, что они вот-вот появятся. И они появились. Но только в середине 80-х годов! Лишь через 25 лет после прототипа, сотворенного изобретателем-одиночкой.
Вот передо мной протонный магнитометр МПП-203, то есть «магнитометр пешеходный протонный». Почему 203 — не ясно. Разработан в ОКБ НПО «Рудгеофизика» и изготовлен в 1987 году. Конструкторы-разработчики в инструкции к прибору не указаны, есть только фамилия главного инженера ОКБ завода «Геологоразведка». Прибор наш не хуже американского, он тоже обеспечивает высокую точность наблюдений и также прост и удобен в работе. Лишь дизайн поскромнее, да вес упаковочного ящика чуть побольше.
Но почему же потребовалось 25 лет для доработки? И где тот изобретатель, который явно «не хлебом единым» жил и творил? Этого мы так в «Рудгеофизике» и не узнали.
ХВОСТОВИК-ПЛАНЕТАРКА
Где-то в семидесятые годы у каротажной машины нашего полевого отряда Ботуобинской ГРЭ вышла из строя (сломалась или была украдена) немаловажная деталь под названием «хвостовик-планетарка». Мне, никогда не имевшему дела с автомобильной техникой, предназначение этой детали было не ясно, да и до сих пор не понятно. Но без неё наш ЗИЛ-131 стоял без движения.
Нигде в Мирном ни механикам, ни снабженцам экспедиции добыть эту деталь не удавалось. Может, в городских автобазах она и не была дефицитом, но без связей и личных знакомств туда нечего было и соваться. А знакомств там ни у кого из сотрудников отряда не было.
По каким-то делам мне предстояло лететь в Якутск, и я вознамерился добыть эту деталь в столице. Там на высоких должностях работали два моих хороших знакомых: один главным инженером в Хапчагайской экспедиции, другой — руководителем отдела в геологическом управлении Республики. Конечно, наивно полагал я, для них добыть такую деталь ничего не стоит.
По прибытии в Якутск я первым делом направился к главному инженеру упомянутой экспедиции. Мы тепло пообщались, поговорили «за жизнь», повспоминали общих знакомых, и в конце беседы я попросил его оказать мне небольшую услугу — добыть «хвостовик-планетарку» для ЗИЛ-131. У них в экспедиции, как я знал, машин этих было полно. Он пообещал это сделать и попросил зайти или позвонить завтра. На следующий день я связался с ним, но он, извинившись, сказал, что заработался и не успел «провентилировать», есть ли у них такие запчасти в хозяйстве. Попросил позвонить на следующий день. Я позвонил. Оказалось, что у них в хозяйстве такой детали нет, но что кто-то ему в дружественной организации Якутска обещал такую деталь добыть. Но потом этот «кто-то» куда-то исчез, и обещание повисло в воздухе.
Сообразив, что дело с моим первым знакомым не выгорит, я обратился ко второму. Тот заявил, что это пустяк и что сейчас он свяжет меня с нужными людьми. Тут же при мне кому-то позвонил по телефону, где всё пообещали устроить. Мне был дан телефон «нужного человека» и назначено время, когда к нему зайти. Окрыленный обещанием добыть вожделенную деталь, точно в назначенное время я зашел. «Нужный человек» оказался главным механиком крупного автохозяйства. При встрече он был очень любезен, но оказалось, что про обещание высокому начальству «все устроить» он попросту забыл. При мне он вспомнил и тут же начал звонить по внутренним телефонам и выяснять, не залежалась ли где такая деталь у них на складах. Оказалось, что не залежалась, но что через некоторое время ожидается приход запасных частей к автомашинам и в числе прочих такая деталь может быть.
Подождав пару дней и «повисев» на телефоне, я убедился, что искомая деталь или чрезвычайно дефицитна, или её вообще в природе не существует. Мне даже стало немного совестно, что я отнимаю время у моих хороших знакомых, прося их о чем-то совершенно для них невыполнимом.
В Якутске прочие дела мои заканчивались и мне приходилось возвращаться в Мирный без «хвостовика-планетарки». Предстояло объясняться с водителем каротажки, которого я заверял, что мои влиятельные знакомые в Якутске добудут любую деталь к его машине. И признать, что в результате я опростоволосился.
В предпоследний день моей командировки я с понурой головой возвращался вечером в гостиницу «Лена», где квартировал. В вестибюле гостиницы неожиданно повстречал бывшего своего соседа по дому в Нюрбе Славу Лапшина. Когда-то он работал оператором на магнитной съемке, но тайга ему надоела, и он перешёл работать в отдел снабжения Амакинки. Здесь он нашел своё призвание, став одним из лучших снабженцев в истории Амакинской экспедиции. Я поведал ему о своих безуспешных попытках добыть эту самую деталь к машине, так сказать, поплакался ему в жилетку. Парень он был хороший и я знал, что помочь он, конечно, не сможет, но хотя бы посочувствует.
— Ха! — заметил он, — пустое дело. Покупай бутылку шампанского и шоколадку. Завтра эта деталь будет у тебя.
Конечно, я тут же принес требуемое, но не очень-то поверил ему. Поскольку знал за ним слабость: при случае слегка прихвастнуть.
Назавтра вечером я зашёл к нему в номер и увидел, что вожделенная деталь — хвостовик-планетарка — лежит у него на столе. Я искренне удивился, как же ему удалось сделать такое, что не могли сделать два моих маститых приятеля.
— Ерунда, — заявил он, — надо только иметь хорошие отношения с работницами на складах ТГО. Если что потребуется впредь, обращайся на складах к таким-то и таким-то. Скажи, от меня и они все сделают. Только без шампанского у них не появляйся.
Как-то раз в очередной приезд в столицу я воспользовался его советом. Добыть мне надо было дефицитный алмазный инструмент, который распределялся по предприятиям геологоуправления строго по разнарядкам. У меня разнарядки и, следовательно, шансов получить инструмент не было никаких. Но схема Славы Лапшина сработала безотказно: через два дня на руках у меня были два отрезных круга. И все было сделано по закону, поскольку на складах имелись остатки инструмента, не выбранные по разнарядкам другими организациями. А женщины отказывались даже от шампанского, мне с трудом удалось уговорить их выпить за их здоровье и доброту.
К своим влиятельным знакомым и друзьям по таким мелким вопросам я больше никогда не обращался.
КРЕПИСЬ, ГЕОЛОГ!
Правдивая история общения геологов-алмазников с писателями К нам на базу приехал писатель — Румяный мужчина лет сорока. Нам интересно, вокруг присядем, Что, да как, да почем строка. Наутро писатель уже в экстазе — Всюду проник его острый взгляд, Отметил, сколько грязи на базе, В конторе порылся, залез на склад. У сторожихи узнал подробно, Как тут люди живут и с кем. Потом вечерком набросал, не дрогнув, Пару-другую сюжетных схем. Затем узнал, где всего трудней, И попросился в маршрут полевой. — Ну, что ж, поброжу десяток дней, А там поработаем головой. Полазив часок по кустам на брюхе, Увяз по грудь в каком-то болоте. Спросил: «И дальше в таком же духе? Тогда все ясно. Пора к работе». Неделю, вторую сидел в ресторане, Процесс созидательный был недолог. И вот результаты его стараний — Роман под названьем «Крепись, геолог!» В романе романтика властвует лихо: Привалы, обвалы и прочее. Он любит работу и повариху, А повариха любит рабочего. Герой наш — геолог, он ищет руду, Какую — написано неразборчиво. Рабочий — лентяй, не привычный к труду, А повариха любит рабочего. Но нету руды. Он страдает тайком, С утра и до вечера поиском занят; Пешком, с молотком, с рюкзаком, с котелком — На север, на юг, на восток и на запад. Он мечется под свирепым дождем, Нередко в лесу настигает ночь его, Но твердо верит: «Руду найдем!» А повариха любит рабочего. Тайга надевает осенний наряд. Впустую герой ковыряет в породе. Затем повариха с рабочим горят, Геолог поблизости тонет в болоте. Потом, по ошибке схватив образцы, Рабочий бежит (да и что с него толку), Геолог чуть-чуть не отдал концы, А повариха любит... геолога. Но болен геолог, он весь в бреду, От малярии беднягу скорчило. Но вдруг повариха находит руду — Какую — написано неразборчиво. Прочел я роман и заплакал навзрыд, Я думал: «За что? За какие пороки?» — К нам едет писатель — мне друг говорит. Схватил я ружье и засел у дороги.Творчество народное.
Стихи запомнил Д. САВРАСОВ
ОТЗВУКИ ГУЛАГа
Амакинские геологи, как и все советские люди, должны были быть сознательными гражданами, что означало в терминологии тех лет — «идеологически подкованными». Если не на все четыре ноги, то хотя бы на передние. Они должны были верить в светлое коммунистическое будущее, стойко переносить «временные трудности», ненавидеть империалистов, соблюдать кодекс строителей коммунизма, боготворить вождей и почитать данное свыше экспедиционное начальство. Но поскольку всякий трудящийся человек изначально от природы несознателен, то ему полагались духовные пастыри. Таковыми в своё время в крупных экспедициях являлись политруки. В описываемый период истории Амакинки (1956—1989 годы) освобожденных политруководителей уже не было. Их обязанности выполняли, так сказать по совместительству, разные руководящие товарищи из аппарата экспедиции или доброхоты из геологической среды. Обязанности эти были весьма разнообразными. Здесь и еженедельные политзанятия, организация митингов протеста против козней империалистов, наглядная агитация, подготовка и проведение праздничных демонстраций, проработка уклоняющихся от идеологического воспитания несознательных элементов и многое другое. Хлопотные были обязанности! Но некоторые правоверные коммунисты выполняли их с явным удовольствием. К числу таковых относилась, к примеру, заведующая геологическими фондами Козлова-Елисеева.
Состояла она постоянным членом парткома, иногда выполняла обязанности его председателя. Её пристальный взгляд я постоянно ощущал даже кожей спины, когда проходил мимо. Не то чтобы боялся обвинения в шпионаже (в чём она подозревала только Иосифа Илупина и почему-то делилась своими подозрениями с окружающими), но по причине совершенно иной. Одной из своих обязанностей она считала, или ей полагалось это делать, вербовку новых членов партии. Долгое время, увидев меня, она непременно интересовалась, когда же я подам заявление. Вступать в партию мне не хотелось, но прямо сказать ей об этом я не смел. Поэтому старался как можно реже с ней встречаться. Но как избежать встреч, если эпизодически надо брать материалы в фондах, где хранились геологические отчеты. От первых предложений я уклонялся, ссылаясь на то, что морально не готов. Позднее, когда нельзя уже было валять дурачка, я уверял, что вот-вот подам заявление, но после поля или после отпуска. Словом, тянул резину. Но уклоняться становилось все труднее, ибо друзья мои, члены партии, тоже дули с ней в одну дуду. Их можно было понять, поскольку противостоять присным Чумака на партсобраниях им было нелегко, для оппозиции требовалась массовость.
Спасли от партии меня два обстоятельства. Первое — мой холостяцкий образ жизни, и в связи с этим слухи о моей моральной неустойчивости. И второе — начавшаяся в середине 60-х годов затяжная борьба старых амакинцев с Чумаком и с наехавшими вместе с ним дальстроевцами. Когда эта борьба приняла особо жёсткие формы (наши коллективные письма в верха с критикой дальстроевских методов руководства), то Козлова-Елисеева от меня отступилась. Даже если бы я и захотел тогда вступить в партию, то сделать это было бы уже нелегко, если вообще возможно.
Одной из юмористических сторон коммунистической морали тех лет была борьба с вредными привычками подопечных. Зазорным, к примеру, по причинам совсем непонятным, считалась игра в бильярд. Одно время в старом амакинском клубе стоял бильярд. Причем хороший «полный» бильярд с отличным ровным столом. Естественно, там собиралась публика и с интересом проводила время. Так вот этот бильярд не понравился Козловой-Елисеевой и по её настоянию был ликвидирован как вредное явление. Почему игра в бильярд считалась вредной, уразуметь трудно. Но это было так. В шахматы играть разрешалось, на игру в карты смотрели сквозь пальцы, а вот в бильярд играть было нельзя. Буржуазным пережитком смотрелась эта игра или по какой другой причине, но в экспедиции она была запрещена.
Очень не любили идейные товарищи из администрации и проведение геологических вечеров. Устроить в клубе вечер геологов, если это не в революционные праздники и не под Новый год, не разрешалось ни под каким соусом. Мало ли чего могут позволить на таком вечере эти непредсказуемые геологи, а особенно геофизики. Будут еще критиковать в самодеятельности экспедиционные порядки или петь непристойные частушки. Праздники Первого Мая или 7 ноября — это другое дело. Там все шло по заведённому порядку. Торжественное заседание, начальство и выборочные передовики в президиуме, доклад с подведением итогов, раздача грамот и благодарностей под аплодисменты рядовой массы — все честь по чести. В качестве развлечения — отрепетированная начальником отдела кадров Г. А. Широченским идеологически выверенная беззубая самодеятельность — и по домам. Водку пить только в семейном кругу за закрытыми шторами.
Естественно, в экспедиционную самодеятельность не допускались песни Визбора, Высоцкого, Окуджавы и прочих бардов 60-х годов. Хотя магнитофонные записи Высоцкого слушала вся Нюрба. Любопытно, что некоторые гонители самодеятельных песен из начальства тоже увлекались ими. Тот же Георгий Александрович Широченский, не допуская на вечерах песен бардов, дома имел полный набор записей Высоцкого.
Одной из постоянных забот администрации было укрепление трудовой дисциплины. Как только ее не укрепляли! Прежде всего контролировался своевременный приход и уход с работы. Утром и в обед у входа в камеральные помещения выставлялись пикеты, опоздавшие заносились в чёрный список с последующим наложением взысканий или упоминанием недобрым словом на профсоюзных собраниях. Конечно, борьба с нарушителями дисциплины в экспедиции велась всегда, но в период правления Чумака она велась особенно активно и целеустремленно. Ибо идеалом для него была зона, где подъём, отбой и распорядок дня регламентировали всю жизнь подопечных зеков.
Но амакинцы не хотели привыкать к лагерной дисциплине. Если кто и опаздывал, то уже не на пять-десять минут, а на целый час или на два. Журналы записи ухода с работы и возвращения к таковой упорно исчезали со стены в камералке или перемещались в туалет. Да и как вольный геологический народ приучить к заводской дисциплине? И была ли в этом необходимость? Работа по отчётам и проектам выполнялась в намеченные сроки, за это отвечали начальники партий и отрядов, которые и должны были следить за своими сотрудниками. Но тогда не было бы видимости борьбы с прогульщиками.
Ощутимых плодов такая борьба не приносила. Как привык, например, Юрий Петрович Белик поспать утром, так он это и делал довольно часто. Зато вечером мог работать до полуночи, что было и продуктивнее, поскольку не мешала дневная суета. Как не являлись выпивохи на работу с утра в понедельник, так и продолжали это делать, даже под страхом сурового наказания. Выталкивание алкашей на работу в понедельник было одним из самых хлопотных занятий начальника отдела кадров Широченского. Он самолично делал обход общежитий и гостиницы, где могли кучковаться любители опохмелиться. Правда, однажды он напоролся на неприятный разговор, когда опохмеляющиеся товарищи, вместо того чтобы извиняться и оправдываться, послали его на три известные буквы. После этого он стал опасаться в одиночку ходить по общагам.
«Ми будем бороться с этими прогульщиками», — любил повторять Михаил Александрович на собраниях по вопросу укрепления трудовой дисциплины. «Ми будем кончать этих танкистов», — заявил он однажды, когда после грандиозной попойки по поводу Дня танкистов человек десять не вышли на работу. Фраза эта стала крылатой как образец характерной для него демагогии. Конечно, борьба с пьянством была тоже своего рода показухой. Выпивохи не особенно беспокоили начальство. Оно понимало: если пьет человек, то он не бунтует. Куда больше руководящие товарищи опасались разного рода «критиканов», которые в середине 60-х годов вовсю «распоясались» и подрывали авторитет руководства. То на НТС оспорят принятую руководством точку зрения по какому-либо вопросу, то на партхозактиве выступят с критикой дальстроевских методов руководства, то в стенгазете пропечатают.
Очень не любил Михаил Александрович критиканов[3]. «Ми эти настроения будем кончать», — заявил он как-то на НТС, когда Лев Зимин выразил несогласие по какому-то пункту предлагаемого решения. «Ми бы Вас за такие настроения в карцер посадили», — вспомнил он былые, сладкие для него дальстроевские времена. Очень, наверное, жалел Михаил Александрович, что при Амакинке карцера нет. Тогда бы с критиканами разговаривать было куда как легко. А тут — как их ухватить? Работают нормально, дисциплины не нарушают, в пьянстве особливо не усердствуют, а уволить просто так профсоюз не разрешает. Трудно было Чумаку в последние годы правления. Лагерные порядки в Амакинке так и не привились, как ни старались выходцы из Дальстроя их внедрять. Но об этом в следующем повествовании.
ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ
Первое Всесоюзное алмазное совещание[4], если не считать кустового нюрбинского в 1954 году, состоялось зимой 1961 года в республиканском филиале Академии наук, в городе Якутск.
Незадолго до этого было построено новое здание филиала, и заседания проходили там в конференц-зале. В том же году была сдана первая очередь гостиницы «Лена», где разместились приезжие участники совещания.
Делегация Амакинской экспедиции была очень солидной: она насчитывала в своем составе 15 человек. Возглавлял её лично сам начальник — Михаил Александрович Чумак в сопровождении своей неизменной спутницы — «мамочки», к алмазной науке имевшей, правда, весьма косвенное отношение, но зачастую сопровождавшей мужа за государственный счет в командировочные поездки.
Сохранилась фотография участников совещания, стоящих толпой под колоннами филиала у парадного входа. Участников много, но из них амакинцев на фотографии всего ничего: Чумак с «мамочкой», Арсений Панкратов да Аркадий Лебедев, оказавшийся там явно по ошибке. Где же остальные амакинцы? Об этом и пойдет речь.
Совещание шло по извечно накатанной схеме: пленарное заседание, на котором зачитывались доклады корифеев алмазной науки, потом рядовая работа, где все прочие доклады, потом дискуссия и заключительное пленарное, на котором принимается решение с рекомендациями, куда двигать науку об алмазах дальше и как сделать ее более полезной для поисков месторождений. Как сказал один поэт о другом, правда, совещании:
Повестка не была убога — Докладов было очень много. Не все из них писал Ньютон, Но каждый, выступая с оным, считал себя почти Ньютоном, — Таков, друзья мои, закон!Отбарабанив доклады, так сказать, внеся свою лепту в летопись алмазной науки и спрятав рукописи в портфель, мы с Георгием Дмитриевичем Балакшиным обходили помещения филиала. Любопытство нас распирало. Мы открывали двери в разные кабинеты и лаборатории, заглядывали во все уголки. Кругом все сверкало чистотой и блестело. В лабораториях находилось какое-то новейшее оборудование непонятного назначения. Все как бы специально было рассчитано, чтобы привести нас в священный трепет перед высокой наукой.
Одна комната на первом этаже нас заинтересовала больше других. Туда мы осмелились даже зайти. В комнате стояло несколько столиков, накрытых белоснежными скатертями. В нише комнаты была оборудована стоечка, на ней расставлены разные закуски, в углу виднелись ящики с коньяком и винами. За стойкой орудовали две симпатичные девочки в белых фартучках. Они с любопытством разглядывали нас, явно кого-то ожидая, но кого точно, видимо, не знали.
Мы спросили, можно ли выпить коньячку. Ответили — пожалуйста. Мы причастились, чем-то вкусным закусили. Повторили. Но потом нас стала грызть совесть. Наши товарищи потеют в конференц-зале, слушая надоевшие всем славословия в честь корифеев алмазной науки (наверху шло заключительное пленарное заседание), а мы тут одни кайф ловим. Пошли зазывать своих. Как раз был объявлен перерыв, и мы увидели в коридоре Леню Красова. Придя в буфет, он мгновенно оценил ситуацию, быстренько нашел Гену Смирнова и еще несколько человек, сразу сколотив тесную компанию. Из неамакинцев в ней оказались какие-то веселые парни из Москвы, начальник Вилюйской экспедиции Андрианов и Наталья Николаевна Сарсадских. Столы сдвинули, соорудив один большой. Во главе посадили Леонида Митрофановича, единогласно избрав его тамадой, и пир начался.
Застолье наше мы скромно назвали «вторым пленарным», поскольку первое пленарное заседание шло на втором этаже. Тамада — председатель — вел заседание очень энергично и уверенно. Не допускал никаких разглагольствований на посторонние (особенно производственные) темы, выступления разрешал только по существу, тосты — короткие, анекдоты — свежие, песни — веселые. Среди разных прочих научно-технических проблем, которые обсуждались на втором пленарном, запомнилась проблема самогоно- и браговарения. Способы изготовлять брагу предлагались самые разнообразные, в том числе и «катанка», и «болтанка», и с помощью стиральной машины «Белка». Общее одобрение и рекомендацию в производство получил, однако, следующий способ: съедаются двести граммов дрожжей и два килограмма сахара. Запиваются пятью литрами теплой воды. Заворачиваются в шубу и ложатся на печь. Через два часа брага готова.
За этим шумным застольем родилась знаменитая потом песня — «Мистер Браун». Кто её тогда занес в нашу компанию, из головы совершенно выветрилось. Но помнится, что пели её очень дружно и энергично. Собственно, публикой скандировался припев, а куплеты вспоминались или сочинялись по ходу дела кем-то одним. Как известно, начинается песня словами:
Король шестнадцатый Луи Придворным отрубил ...по пальцу За то, что бедные страдальцы Кафтаны пропили свои.Далее идут куплеты про футболистов, снявших бутсы, про мушкетеров, про художника на пажитях, про лохматого русского попа, гладившего козу, и так далее. На шум песни в комнату заруливали новые посетители и подключались к общему веселью.
После торжественного закрытия алмазного совещания участников решили сфотографировать. Чумак начал собирать свою команду для общего снимка, но большая часть амакинцев как сквозь землю провалилась. Он послал нас разыскивать оказавшихся под рукой Владимира Маркияновича Гарагцука, потом Льва Зимина. Те нас нашли, но тут же присоединились к компании и возвращаться к Чумаку не стали. Так и оказались на фотографии М. А. Чумак с «мамочкой» в числе немногих амакинцев.
Веселье наше было в полном разгаре, когда дверь распахнулась и в буфет вошли Рожков Иван Сергеевич — директор Института геологии, организатор совещания, Соболев Владимир Степанович, Трофимов Владимир Сергеевич, кто-то еще из аксакалов, а за ними плелись в хвосте группы М. А. Чумак с «мамочкой». Иван Сергеевич привел корифеев в оккупированный нами потайной буфет, который был, оказывается, предназначен совсем не для нас, а для более почтенной публики. Мы, конечно, вскочили, тамада сделал широкий жест, приглашая гостей «к нашему шалашу», но тем явно не улыбалось присоединяться к подвыпившей компании простых смертных. Иван Сергеевич сделал вид, что не расстроен таким проколом в гостеприимстве, извинился перед нами и увел высоких гостей в другое место. Чумак узрел, где находятся его подопечные, и был немало удивлен. Но поскольку спешил вслед за корифеями[5], то мораль нам читать не стал. Буфет был нам оставлен на окончательное разграбление. Потрошили мы его допоздна, пока хватило «пороху в пороховницах».
Мы с Гошей уходили из буфета последними. Девочки дали нам в дорогу еще по бутылке коньяку, и мы покинули храм высокой науки. Коньяк запрятали в портфель. Но поскольку дорога к дому, как оказалось, была не торная и мы постоянно спотыкались, то бутылки оказались разбитыми. И что удивительно: коньяк начисто съел рукописные тексты наших докладов. Пришлось потом немало потрудиться, чтобы восстановить их для печатного сборника.
Такая вот правдивая история со «вторым пленарным».
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПОЗИУМЫ
Научный геологический симпозиум — это большое количество учёного и не слишком учёного народа, которое собирается в одном месте по какому-нибудь знаменательному поводу: круглая дата открытия известного месторождения, день рождения корифея геологических наук или просто по графику научных совещаний, запланированных в Академии наук или в отраслевом министерстве. Могут быть совещания (симпозиумы) по алмазам, по золоту, по траппам, по гранитам, по методике поисков, по методике картирования и т. п. В учёных коллективах типа ЦНИГРИ очень любят собирать симпозиумы по прогнозированию новых месторождений. Наука прогнозирования — дело беспроигрышное, ни к чему не обязывающее, дающее простор для самых экстравагантных гипотез и залихватских рекомендаций. За неоправдавшиеся прогнозы никогда еще никого не наказывали. А до того как выяснится, что они несостоятельны, авторы успевают получить награды и извлечь дивиденды в виде диссертаций, научных статей и монографий.
Симпозиумы по кимберлитам и алмазам раньше проводились регулярно в разных местах нашего пространного отечества. В столичных городах (Москве, Якутске, Санкт-Петербурге) или там, где поблизости водятся месторождения алмазов (в Мирном, в Архангельске). Но главным образом там, где алмазов нет и быть не может. А именно, в Симферополе, Алуште, Судаке. Там есть две маленькие зацепки — в Симферополе какой-то институт, в котором что-то делают с обогащением алмазов, а в Алуште или в Судаке квартира корифея алмазных наук четырежды академика Н. Н. Зинчука. Последнее обстоятельство — вполне достаточное, чтобы собирать кворум алмазников именно в Судаке или Алуште. Ну и, кроме того, близость тёплого моря, солнечные ванны, массандровские вина, свежий виноград, фрукты и прочее. Разве сравнятся с Крымом окрестности Мирного, Архангельска или даже Москвы? Поэтому все рвутся в Крым, а компания АЛРОСА щедро финансирует эти мероприятия.
Любой симпозиум готовится загодя. Прежде всего в заведении, где симпозиум имеет место быть, из наиболее активных деятелей науки создается оргкомитет. Оргкомитет составляет программу симпозиума, рассылает приглашения, теребит деньги с юридических участников (то есть с заинтересованных организаций), намечает даты начала и конца, организует гостиницы и прочие места жительства для приезжих, печатает программы, тезисы докладов, и т. д. и т. п.
После энергичных и суматошных подготовительных мероприятий симпозиум, наконец, начинается. Председатель оргкомитета торжественно открывает его. Первые доклады делают корифеи наук и высокопоставленные чиновники министерств и ведомств. Потом предоставляется слово заграничным ученым мужам, если таковые на симпозиуме объявились. И только после них вылезают на трибуну с докладами менее именитые ученые и простые российские геологи, доклады которых заявлены в программе.
Полный зал заседаний стремительно пустеет, когда начинаются рядовые доклады. Остаются на местах лишь те участники, интересы которых в какой-то мере переплетаются с интересами очередного докладчика. А таковых немного, поскольку ученые-алмазники настолько ушли с головой в собственные проблемы, что не в состоянии понять других ученых, тем более охватить проблему в целом. Исключение составляет разве что Владимир Иванович Никулин, который знает всё. Да и то со своими коллегами по интересующим вопросам участники совещания предпочитают беседовать в кулуарах симпозиума, в коридорах, на лестничных площадках, а то и в ближайших пивных и рюмочных.
К выступающим теоретикам интереса у присутствующих тоже немного. Ибо их редко кто понимает. Как известно, чем внушительнее теория, чем она пространнее, тем она менее понятна для слушателей. В идеальном случае никто ничего из доклада теоретика понимать не должен. Естественно, публики на таких докладах бывает немного.
К прогнозным докладам публика тоже проявляет мало интереса, поскольку бытует дежурное мнение о том, что почти ни один научный прогноз не оправдался. Все открытия делались по ошибке: то не там задали скважину, то не там взяли шлих, то не ту аномалию заверили[6]. Можно отметить, перефразируя один из известных законов Паркинсона, что прогресс науки обратно пропорционален количеству научных докладов на симпозиумах и числу опубликованных статей. А применительно к научной продукции алмазного филиала института ЦНИГРИ, обратно пропорционален квадрату количества их печатной продукции.
Когда народ в зале заседаний начинает задрёмывать, то опытный руководитель симпозиума выпускает на сцену докладчика с какой-нибудь экстравагантной гипотезой, резко расходящейся с общепринятым мнением или со здравым смыслом. Тогда публика просыпается и яростно набрасывается на докладчика. Излупив его, она уже в состоянии воспринимать следующие доклады. Опытные организаторы симпозиумов всегда имеют в запасе двух-трех ученых мужей для битья докладчика с оригинальными (безумными) идеями и гипотезами.
Полный состав участников симпозиума можно наблюдать только в банкетном зале, особенно если выпивка и закуска бесплатные. Там народу собирается даже больше, чем приглашено на симпозиум. И именно там происходит наиболее активный обмен мнениями по интересующим участников симпозиума вопросам, разрешаются многие проблемы и спорные моменты. От банкета бывает больше пользы, чем от всего симпозиума в целом. Затраты на него в научном плане полностью окупаются.
ДЕНЬ ГЕОЛОГА
В. Ф. Кривоносу
Геология — это наука? Иль призванье? А, может, любовь? Да, вопрос этот — сложная штука, Донимает он вновь нас и вновь... Отчего по весне тянет в поле, Что на месте едва усидишь? И в таежные дебри, на волю Ты, как птица к гнездовью, летишь? Отчего, почему наше рвенье Год за годом мотаться в глуши? Геология — это стремленье, Состояние нашей души! Потому с нею мы неразлучны — Без души человек не живет!.. А в итоге мы в жизни получим Только мысли свободный полёт... Знаем точно, что нашим раденьем Будут виллы хапужной братве, Нам останется лишь шелестенье Ног усталых в опавшей листве... Рюкзаки нагружая поклажей, Проклиная и мать, и отца, Мы бредём, надрываясь, что даже Позвонки вылезают с крестца!.. Да, средь нас неуёмных хватает, Нас никак не загнать на насест... С Днём Геолога я поздравляю! Что ж, неси ты свой каменный крест! Постараемся вместе держаться, Нам ведь нечего в жизни делить... Лучшей доли желаю дождаться! За неё предлагаю испить!Апрель 2008 года
ВЫСОКИЙ ГОСТЬ
Не так давно, в августе 2003 года, в Музей кимберлитов позвонили из геологического отдела компании АЛРОСА и предупредили, что через пять минут в музее будут высокие гости. И что их надо с честью встретить и показать им музей.
К приёму посетителей музей всегда готов, хоть и хлопотное это дело — проводить экскурсии с людьми, в разной степени подготовленными к восприятию информации о кимберлитах.
Я, бывший тогда заведующим музеем, открыл парадную дверь, и гости через короткое время появились в вестибюле. Среди группы экскурсантов был наш отечественный лауреат Нобелевской премии. Как известно, их у нас в России не густо: за последние десятилетия был всего один — Жорес Алфёров. Он-то и посетил музей. Сопровождали его президент Якутии Вечеслав Штыров, какие-то люди в штатском, по-видимому, сотрудники его аппарата, и высшие руководители компании АЛРОСА.
Нобелевский лауреат оказался очень контактным и интересующимся человеком. Он задавал много вопросов о месторождениях алмазов, о геологических причинах кимберлитового магматизма, о внутреннем строении кимберлитовых диатрем, о распределении алмазов в диатремах с глубиной и т. д. Внимательно рассматривал разнообразные включения сторонних пород в кимберлитах. Особенно его интересовали эклогиты и гранатовые перидотиты, вынесенные кимберлитовыми вулканами с глубин ста и более километров, где эти породы залегают под огромным давлением. Вероятно, глубинные образования интересовали его как физика, знающего, что такое давления в десятки тысяч атмосфер.
На некоторые вопросы лауреата я ответить не мог, не будучи достаточно подготовленным в алмазных делах специалистом. В частности, по содержанию и распределению в кимберлитовых трубках алмазов. На эти вопросы более подробно отвечали руководители компании. Интересовался лауреат и некоторыми рудными образцами из районов Восточной Якутии. Здесь его любопытство более чем я мог удовлетворить Штыров, хорошо осведомлённый о рудных месторождениях Республики.
Пока Нобелевский лауреат и президент обменивались вопросами-ответами и рассматривали экспозиции на витринах музея, я потихоньку пытался решить насущные проблемы музея, воспользовавшись присутствием руководителей компании. В частности, напомнил им, что затягивается внешнее оформление музея — ремонт фасада. Пожаловался на тесноту и закинул удочку касательно передачи музею первого этажа здания, где расположен промтоварный магазин. Руководители компании, как мне показалось, положительно отнеслись к идее расширения музея, а ремонт фасада обещали в 2005 году.
В ходе разговора с гостями я поделился впечатлениями о недавней поездке на Алтай и о посещении Колыванского гранильного завода, существующего уже более двухсот лет. Огромные вазы из алтайского камня, которые украшают Эрмитаж, изготовлялись именно на этом заводе (по заказу Екатерины Второй). Делают вазы на заводе и сейчас, но куда более скромных размеров. Хотя художественное оформление изделий завода осталось на прежнем уровне, мастера по камню не перевелись и в наше время. На мой вопрос, нельзя ли что-либо из продукции Колыванского завода приобрести для музея в Мирном в качестве образцов художественной обработки камня, руководители компании ответили, что рассмотрят этот вопрос.
В ходе обмена мнениями о будущем музея президент Республики высказал пожелание, чтобы музей был пополнен образцами руд и минералов из других районов Якутии. Он пообещал даже свое содействие в приобретении коллекций у музея Комдрагмета и у других музеев Республики.
В конце экскурсии Нобелевский лауреат поблагодарил меня и оставил свой отзыв в альбоме почётных посетителей, отметив уникальность музея и большой труд его создателя.
Визит в музей столь почётных гостей и заверения руководителей фирмы АЛРОСА о всемерной помощи музею в его обустройстве, оформлении и о пополнении коллекций окрылили меня. И я размечтался: будущее музея стало рисоваться мне в самых радужных картинах. Планов у нас было немало; хотелось работать, работать и работать.
В тот же день я стал готовить записку непосредственным своим начальникам в Ботуобинской экспедиции, к которой организационно был причислен Музей кимберлитов. Хотелось поделиться с ними информацией о разговоре с руководителями компании, с планами по дополнительному обустройству музея, по дизайну помещений и пополнению коллекций музея экспонатами.
Записка не была закончена, когда мне позвонили из отдела кадров экспедиции и попросили зайти по какому-то срочному делу. Ничего не подозревая, я пришел в кадры. Сотрудница отдела (даже не начальник его) предъявила мне бумагу, в которой содержалось уведомление, что с сегодняшнего числа я перевожусь на половинное содержание, то есть на 50% оплаты труда. В случае несогласия с таким решением руководства экспедиции буду уволен.
Какого-либо формального извинения начальника экспедиции, может быть, за такой вынужденный шаг с его стороны (возрастной ценз) не последовало. Так сказать, вот вам под зад коленкой и гуляйте на все четыре стороны. А что касается музея — мавр сделал свое дело, мавр может уходить. И сказать ещё спасибо, что не попросили из экспедиции совсем.
Вышел я из отдела кадров и побрёл в свой музей с невесёлыми раздумьями о его судьбе. Идти к руководителям экспедиции и делиться с ними планами на будущее мне уже не хотелось. Видимо, прав был древний мудрец: время собирать камни и время их разбрасывать. А ещё почему-то вспомнилось четверостишье известного поэта Губермана:
Мой горизонт хрустально ясен И полон радужных картин; Не потому, что мир прекрасен, А потому, что я — кретин!По любопытной случайности в этот день исполнилось ровно 47 лет, как я приехал в Якутию на поиски алмазов.
ТАЕЖНЫЕ БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ
МЕСТЬ СИНИЛЬГИ
Что Синильга водится в якутской тайге, никто из местных жителей не сомневается. Пошаливает она и в городах, если кто из аборигенов её попросит. После одной загадочной истории мы почти поверили в ее существование. А история произошла вот какая.
Мы направлялись на вахтовке «Урал» из Мирного на северные карьеры. По пути на обочине подобрали довольно молодую симпатичную особу с двумя детьми. Ей надо было попасть в Айхал. Там она работала, но была родом из какого-то то ли якутского, то ли эвенкийского наслега. Жила в Айхале, как выяснилось, без мужа. В нашей команде было два крепких парня, не очень молодых, но привлекательной для вдовушки внешности (усы, мускулатура и прочие достоинства мужчины). Молодая особа сразу положила на них глаз.
Дорогой мы ехали весело, с балдежем в будке, легкой выпивкой и домашней закуской. На Моркоке, как обычно, ночевали, устроив бивуак на галечном берегу реки. На наш раскладной стол молодая особа выставила даже свою бутылку водки и что-то вкусное из стряпни.
В Айхал мы прибыли под вечер. Парни помогли ей занести вещи в комнату общежития и едва отвязались от неё, поскольку она усиленно зазывала их к себе на ночлег. Возможно, парни обещали ей прийти, но струсили, обманули. Месть её не заставила себя долго ждать.
Мы ночевали в вахтовке, притулившись в леске на окраине города. Утром обнаружилось, что одно колесо у машины спущено. Долго его налаживали: искали где-то резину, поскольку своей не запаслись, вулканизировали её. Не так-то просто наладить колесо к «Уралу». Немного погодя, в тот же день выяснилось, что полетело и второе колесо. Такого с нами не бывало за все поездки по северным карьерам. Провозились мы с резиной еще полдня. Только собрались ехать на работу, как выяснилось, что порвался шланг маслопровода. В Айхале нашли ему замену с большим трудом. Для нас стало ясным, что без вмешательства местной нечистой силы дело не обошлось. Надо было срочно перебазироваться в Удачную, подальше от разгневанной молодой особы, что мы и сделали.
Через пару дней наш отряд вылетел в тайгу, на точку где-то в трехстах километрах от Удачной. И на таком же примерно расстоянии от эвенкского посёлка Оленёк. Здесь то, мы полагали, айхальская Синильга нас не достанет. Но не тут-то было! Как вскоре стало ясным, она только начала заниматься нами всерьёз.
Прилетели мы на место работы в яркий солнечный день. Стояла середина сентября, до зимы в тех местах было еще далеко. Однако на второй день после нашего прилёта погода испортилась: пошёл снег, вначале мокрый с дождем, потом основательный, с морозом. Снег шел непрерывно неделю и выпал в огромном количестве. Заснежило все кусты и деревья, ходить по тайге стало невероятно трудно. В реке Оленёк, на берегу которой мы расположились лагерем, стала подниматься вода и подтоплять впадающие в неё малые речушки.
Наши парни, обидевшие разбитную вдову, были высажены в тридцати километрах на водоразделе. Выполнив задание, на что им отпускалось трое суток, они должны были выйти пешком к речному лагерю. Для бывалых таежников тридцать километров не расстояние, даже если по горелой тайге. Тем более, что идти предстояло точно на юг, компасы и подробные кроки местности у них были. Непогода и выпавший снег осложняли задачу, но и в этом случае она была выполнимой. Казалось бы! Но вмешательство нечистой силы осложнило все: они заблудились! Как можно было заблудиться, мы потом долго не могли понять. Не пройдя и четверти пути, они свернули на юго-восток и почесали почти под углом полсотни градусов к меридиану. Вышли они к реке в сорока километрах от базового лагеря. Если в вологодских краях плутать заставляет леший, то здесь не иначе как Синильга. Ну не могли они сами по себе сделать такой крюк.
Если идти по заснеженной тайге очень непросто, то идти по заснеженному кустарнику по берегу реки — совсем мёртвое дело. Тем более, что косы были залиты водой, а малые притоки подтоплены. Надо было преодолевать густые заросли ивняка и чапыжника на террасах реки, форсировать или обходить плесы на притоках, иногда до километра в сторону. Все это создавало почти неодолимые трудности даже для молодых и здоровых парней. К тому же они не были готовы к длительному переходу и не запаслись продуктами. А имевшееся ружье оказалось бесполезным — ни зайца, ни куропатки они не встретили. Не говоря уже об оленях, которые в это время года попадаются там на глаза постоянно. Вдобавок ко всему один из них повредил ногу и сильно хромал, а второй искупался в ледяной воде и простыл.
Хорошо хоть у них были спички, и они каждый вечер разводили большой костёр и ночами сушились. Это их и спасло. В противном случае им пришлось бы невероятно тяжело. Да и так им досталось сверх всякой меры. Вышли они к месту нашей стоянки только на седьмой день к вечеру, измочаленные и совершенно обессиленные.
Парни, конечно, отчасти были сами виноваты, что подпали под власть Синильги и завихрились в пути. Мы же, двое, ожидавшие их, ни в чем не провинились перед Синильгой, но морально были травмированы тяжелейшим образом. Ждать семь дней где-то затерявшихся товарищей, мучиться мыслью, что они загибаются в тайге, а помочь им нет никакой возможности. Рации в отряде не было, вертолет на поиски мы вызвать не могли, оставалось только ждать, ждать и ждать. Нет ничего хуже такого ожидания в неизвестности!
Но наши злоключения на этом не кончились. Через пару дней после выхода парней из тайги за нами пришел плановый вертолёт. Место, где мы находились, пилоты должны были знать, хотя за нами прилетел другой экипаж. Но вертолёт пролетел в полутора километрах от нашей стоянки и, не заметив бегавших по берегу людей и палатки, ушёл вниз по реке. Там долго кружился, явно отыскивая нас. Назавтра вертолет появился снова, но опять пролетел мимо нашей стоянки, буквально в нескольких сотнях метров, и опять не обнаружил нас. И только с третьего захода наш лагерь, наконец, нашли, и то не пилоты, а отправленный на поиски геолог, который и заметил сигнальную ракету в сумерках.
Как можно было, пролетая совсем рядом, не увидеть на заснеженном берегу две палатки, бегающих туда-сюда людей, совершенно чёрную кучу дров и лодку на воде, уму непостижимо. Очевидно лишь одно, что без Синильги и здесь дело не обошлось: это она слепила глаза пилотам. Если кто скажет, что все описанные события были чистой воды случайностью, то он ничего не понимает в происках нечистой силы.
* * *
Вертолёт приходит или на день раньше, когда вы еще не готовы к вылету с поля, или на две недели позже того, как вы уже съели все продукты и «жданики».
Если сегодня погода стоит хуже некуда, то назавтра она может быть ещё хуже.
Уровень воды в реке поднимается только тогда, когда вы ушли в дальний пеший маршрут, не закрепив лодки на берегу.
Если стоящее около палатки дерево не должно было на палатку упасть, то оно обязательно в грозу падает именно на палатку.
Если в радиусе двухсот метров от вашей стоянки валяется доска со ржавым гвоздем, то гвоздь обязательно воткнется в ваш резиновый сапог, сделав отверстие в месте, где его наиболее трудно залатать.
Непрохождение радиоволн в эфире бывает именно в тот день, когда вам надо что-то экстренное сообщить на базу экспедиции.
Ну а если говорить о более высоких материях, то одно из следствий закона Паркинсона звучит так: сверхкомпетентность в геологической науке менее желательна, чем недокомпетентность.
ДОРОГА ЖИЗНИ — ДОРОГА СМЕРТИ
Недолог по масштабам России путь от Ленска до Удачного: всего каких-то семьсот километров грунтовой дороги, местами дороги ровной, местами колдобина на колдобине, но одинаково опасной для водителей. Летом в зной и пыль, зимой в холод и туман, весной и осенью в дождь и слякоть идут по ней машины. Огромные бензовозы, грузовые тяжеловесы, шустрые ЗИЛы и УАЗики, легковые машины разных иномарок и отечественные Жигули — наперегонки мчатся одна за другой в рабочие дни, в выходные и в праздники. Нет отдыха дороге, даже ремонт её ведется без прекращения движения.
Дорога — как живое существо. Она приветлива и снисходительна к осторожным и профессиональным водителям, сурова и беспощадна к лихачам, неумёхам, а особенно к нетрезвым водителям за рулем.
Множество могильных памятничков виднеется по сторонам дороги. То справа, то слева чуть ли не через каждый километр мелькают пирамидки. Некоторые упавшие, забрызганные грязью, стало быть давнишние. Некоторые — совсем свежие, с фотографиями погибших, со столиком и скамеечками на выровненной площадке, с букетами цветов. На фотографиях большей частью юные лица, знак того, что гибнут прежде всех прочих молодые водители, не набравшие еще опыта рейсовиков-дальнобойщиков. Особо грустное чувство вызывают групповые фотографии, на которых есть женщины и дети. Это значит, погибли целой семьей из-за неосторожности либо отца семейства, либо по вине встречного лихача. Пухом таким земля. Но за что дорога так безжалостна к детям, это не поддается разумению.
Разные уловки есть у дороги, чтобы сбить с толку неопытного водителя: и камни под колеса, и зверские колдобины, и нетвердые обманчивые обочины, и крутые повороты, и непроглядная пыль от впереди идущих машин, и грязь на лобовом стекле от встречных (а то и камни в стекло!), и крутые подъемы-спуски, и узкие мостики, и обледенелые участки полотна, и зайцы, выскакивающие под свет фар, — всё приходится испытывать рейсовику-водителю за пятьсот-семьсот километров дороги от Ленска—Мирного до Айхала—Удачного.
Редко доводилось проехать по этой дороге, не увидев три-четыре машины на обочинах, в придорожном лесу или в болоте. Это недавно сошедшие с полотна дороги и сравнительно легко повреждённые машины. А иногда увидишь и разбитый тяжелогруз на боку или вверх колесами. Это значит произошла серьёзная авария, возможно, с летальным исходом для водителя. Но такие машины очень быстро убирает дорожная спасательная служба, чтобы они не портили придорожный пейзаж. Весной местами отсыпка дороги уходит целиком в болото и тяжеловесные бензовозы вязнут колесами прямо посреди полотна. Вечная мерзлота играет с дорогой в свою игру, не всегда понятную даже учёным-мерзлотникам.
Более тридцати лет я ездил по этой дороге, начиная ещё с того времени, когда она была наполовину зимником, позднее, когда участками она была только отсыпкой, и, наконец, когда она стала настоящей круглогодичной дорогой, хотя и далёкой от совершенства. И за это время дорога покушалась на нашу с сотоварищами жизнь несколько раз. Вспоминаются два наиболее тяжелых случая.
В полевую геофизическую лабораторию, расположенную на берегу Вилюя, как раз посредине пути между Чернышевском и Мирным, мне приходилось ездить постоянно в течение десяти лет. Более охотно, чем легковые машины, начальство экспедиции давало для нас пятитонный самосвал ЗИЛ-5. Машина быстроходная, очень легко набирающая скорость и удобная в том отношении, что в кабину помещаются, помимо водителя, два пассажира.
Но кабина ЗИЛа просторна, когда машина в нормальном положении на своих колесах. А когда она лежит вверх колесами, то в кабине вовсе не так удобно и не так просторно. Когда и дверца ее с правой стороны заклинена, то и совсем некомфортно. Это и пришлось нам испытать однажды, возвращаясь в Мирный из лаборатории. Водитель то ли вздремнул, то ли по какой другой причине, но машина сошла с дороги и неуправляемая пошла чесать лесом в сторону. Больших деревьев на пути, к нашему счастью, не встретилось, а маленькие она подминала под себя, и в конце проложенной ею просеки с поваленными деревьями перевернулась.
В кабине нас с водителем было трое. Правую дверцу заклинило и пришлось нам выбираться через дверцу водителя. Очень это было неудобно: мешал руль и сверху на нас давило сиденье со всеми водительскими причиндалами, кои хранятся под сиденьем. Минут пятнадцать понадобилось, чтобы всем троим выбраться наружу. И весьма неприятное ощущение, когда из топливного бака, который оказался наверху, льётся на головы бензин, в любой момент могущий вспыхнуть. А если это происходит, то из практики таких аварий известно, что в считанные секунды и водитель, и пассажиры превращаются в головешки.
Второй, почти аналогичный случай произошел с нами на трассе между Моркокой и Мархой. Полевой музейный отряд добирался на вахтовке «Урал» до поселка Айхал. Машина была арендована другим подразделением экспедиции, и сотрудники отряда ехали в будке пассажирами. В кабине с водителем расположился молодой геолог экспедиции, никогда не упускавший возможности выпить. Да и водитель был из той же братии, всегда готовый заложить за воротник. Короче, в кабине они поддали и, видимо, основательно.
Время было осеннее, шёл мелкий дождь, временами с мокрым снегом. Дорога была скользкой и, естественно, опасной для движения. Но водитель лихачил и постоянно шёл на скорости 60—70 километров. В одном месте его прижал к обочине встречный бензовоз (по его словам в объяснительной записке), и он зацепил правыми колёсами бровку. Пытаясь выскочить на твердое полотно, круто повернул руль, и машина потеряла управление. После нескольких зигзагов по дороге её бросило на крупноглыбовый курумник влево и в десятке метров от полотна дороги перевернуло. Мы в будке оказались под полевым барахлом, придавленные, помимо того, камнями.
Ответственный за маршрут геолог вёз в Айхал несколько керновых ящиков с образцами горных пород. Ящики были расставлены в проходе между сиденьями, и когда машина перевернулась, они свалились как раз на меня. Голова моя оказалась между «рогами»-ручками ящиков, и это несколько ослабило удар. Хотя частично содрало «скальп», разбило ухо и повредило щеку. Другие пассажиры тоже отделались синяками и царапинами. В айхальской больнице нас подлатали и отпустили. А спасло нас только то, что аккумулятор от сильного толчка сорвало с крепления и отбросило в сторону. Поэтому машина не загорелась. Иначе быть бы нам уже на том свете. А на обочине стоял бы еще один столбик-памятничек.
ПОДВОДНИК ХЛЕБУНОВ
Одни из самых непредсказуемых на полевой работе в тайге людей — бывшие подводники. Не то чтобы нерадивые, неумелые или недисциплинированные. Работают они хорошо, многое умеют, а дисциплина у них в крови. Шесть лет службы на подлодках любого лодыря и анархиста приучат к работе и порядку. Но иногда в тайге бывшие подводники могут крепко подвести своих товарищей.
Находясь годами в замкнутом пространстве отсеков подлодки, не видящие ничего, кроме воды за бортом, они как бы дуреют, попав на природу. «Ошалевают», как говорят в Вологодской области. Их можно и понять: вместо тесных кубриков — пространство без конца и без края, море воздуха, бездонное небо над головой — всё это хоть кого из бывших подводников может свести с ума. Оговорюсь: не всех, разумеется, но вот такой пример.
В геофизической лаборатории Амакинской экспедиции одно время работал только что освободившийся из армии инженер Алексей Хлебунов. Армейскую службу он проходил на подводном флоте. Причем довольно длительное время: пять или шесть лет. Чем он занимался по службе, нам он не рассказывал, но инженерная подготовка у него была на высоте. Он знал моторы, разбирался в электротехнике и быстро освоил геофизическую аппаратуру.
Свои обязанности в полевом геофизическом отряде он выполнял умело и добросовестно. Не уклонялся и от любой хозяйственной работы, даже научился печь хороший хлеб в полевых условиях. Трудностей полевой работы он тоже не боялся. Приходилось ли топать на детализацию аномалии в дождливый день или ходить в маршруты в самое комариное время, — он не роптал и не уклонялся. Хотя с комарами и не был дружен, поскольку тайги до армии он не знал.
В 1965 году наш небольшой отряд высадился в верховьях реки Омонос, на притоке Биректе, близ природного коренного выхода кимберлитов — трубки Ленинград. Нам надлежало отобрать образцы пород из этой трубки и детализировать несколько аэромагнитных аномалий поблизости. Дело было в самом начале июня, когда тайга только что очистилась от снега и речной паводок был в самом разгаре.
На полевые работы Хлебунов попал впервые. Тайга произвела на него, по его словам, ошеломляющее впечатление. Весенняя зелень деревьев, бурная речка, чистейшие галечные косы, незакатное солнце (место это в Заполярье), обилие рыбы в воде и масса всяких пернатых в воздухе — всё это было ему в новинку, и восторженность прямо бурлила в нём.
У кого-то из знакомых еще в Нюрбе он позаимствовал ружьё. Охотником до этого он не был и с ружьем, по-видимому, имел дело впервые. Но в поле увлекся охотой не на шутку. Подстрелив несколько уток, он стал гоняться за гусями. Охота на гусей требует определённой сноровки, птица эта осторожная и подкрасться к ней на выстрел весьма сложно. Поэтому гуся он добыть не мог, хотя и очень хотел этого. Далеко отходить от лагеря я ему запретил, опасаясь, что он может заблудиться. Но однажды, вняв его настойчивой просьбе, разрешил пройтись вдоль речки до какого-то притока ниже по течению Омоноса, где он слышал, как гоготали гуси. Строго наказал не выходить за пределы долины реки. Контрольный срок возвращения назначил на вечер того же дня.
Вечером в лагерь Хлебунов не пришёл. Особой тревоги сразу это не вызвало, поскольку ночи в июне светлые и ходить по тайге ночью столь же безопасно, как и днём. Но он не появился на стоянке и утром следующего дня. Не пришёл и к обеду. Тут уже стало тревожно: ясно дело — заблудился.
Заблудиться в тех местах ничего не стоило, как и везде в равнинной местности Якутии. Если погода ненастная, то стоит отклониться от речной долины, и ты можешь мигом потерять ориентировку. В те дни, когда исчез Хлебунов, погода была пасмурная, солнце не показывалось, и шансов на то, что он может сам сориентироваться и выйти к лагерю, было немного. Компаса и топокарты он с собой не взял, определяться по деревьям в лесу — где север, где юг — не умел, словом, в лесу он мог запросто потеряться.
Когда он не пришёл и на утро третьего дня, мной почти что овладело отчаяние. Рации у нас в отряде не имелось, в те годы не было строгого запрета на вылет в тайгу без рации. Ближайшая геологическая партия, откуда мы могли связаться с базой экспедиции и вызвать вертолет, находилась в полусотне километров на реке Малая Куонапка. На нее мы и полагались, если бы в отряде случилось какое-то ЧП. Пройти летом полста километров в редколесье якутской тайги для опытного полевика особого труда не составляет. Но на тот момент стояла ранняя весна, все малые речки, летом почти пересыхающие, вздулись, и переправа через них стала целой проблемой. По меньшей мере пять полноводных речек надо было пересечь на прямом пути к Мало-Куонапской партии. Вода в речках снеговая, холодная, преодолевать их вплавь убийственно для здоровья. Малой резиновой лодки, которую можно было тащить на горбу, в отряде не имелось. Да и идти одному — тоже не полагалось по ТБ, а в отряде было всего три человека. Словом, обстановка сложилась безвыходная. Приходилось только ждать до того времени, пока упадет вода в речках. А каково в такой ситуации ждать! Кто бывал в таких передрягах, знает: можно свихнуться от беспрерывных мрачных мыслей.
Хлебунов вышел на стоянку только к концу четвёртого дня. И то по счастливой случайности: набрел на приток Омоноса и пошел по нему вниз. Это наставление он помнил: если заблудился и встретил ручей, то иди по течению, к большой воде, он тебя выведет. Конечно, он забыл о наставлении — держаться берега реки; погнавшись за гусем, он оказался за пределами долины и тут же потерял ориентировку. От души отлегло, но рубец на ней остался: даже по истечении сорока лет эта история не забылась.
Страсть Хлебунова к охоте оказалась какой-то неестественной: он готов был стрелять во всё, что двигается — летает, бегает, ползает. И когда он подстрелил гусыню с малыми гусятами (хотя разрешалось стрелять только в гусаков, которых легко опознать, поскольку они держатся на почтительном отдалении от выводков, а гусыни, защищая птенцов, бьются под ногами), ружьё пришлось у него отнять. Вернул ему ружьё я только через два месяца примерного поведения.
На следующее лето мы оказались с Хлебуновым на берегу озера Ожогино в бассейне нижнего течения Индигирки. Там повторилась та же история — он снова проштрафился, не вернувшись в контрольный срок с охоты. Отпросившись походить с ружьем три-четыре часа, вернулся только через двое суток. Особых опасений, что он заблудится, не было, поскольку озеро расположено в полугористой местности и со склонов возвышенностей просматривалось издалека. Но все жё тревожно: мало ли что с человеком может случиться в лесу. Подвернул ногу — и кукарекай, пока тебя не найдут. По возвращении его между нами произошел такой примерно диалог:
— Ты почему столько времени бродил в лесу?
— Я охотился.
— На кого ты охотился?
— На баранов.
— Ты что, видел горного барана?
— Нет, не видел. Но я сидел на тропе.
— А по этой тропе бараны ходят?
— Не знаю.
Такой вот азартный охотник, мог сутками сидеть на тропе и ждать горного барана. Тогда как бараны, может, раз в год проходят по этой тропе или совсем не бывают в этом месте. Привычка к охоте путём ожидания дичи на месте однажды крепко подвела Хлебунова.
Аэромагнитная партия, в составе которой мы были наземным отрядом, базировалась в полузаброшенном посёлке Ожогино на берегу Индигирки. У кого-то из сотрудников партии в один летний день отмечалась дата рождения и мы, как водится, дружно и весело её отметили. Выпили изрядно, но не сказать, чтобы чрезмерно. Хлебунов тоже был в компании и по окончании застолья попросил разрешения поохотиться на куропаток близ посадочной полосы. Разрешение на вечер ему было дано, но пришёл в поселок он только утром следующего дня.
Сразу мы не поняли даже, что с ним случилось. Его лицо опухло до неузнаваемости: один глаз заплыл совсем, другой едва просматривался через узкую щёлку, уши были в крови, словом, вид его был ужасен. На вопрос, что с ним произошло, он ответил, что лицо наела мошка. Оказывается, устав бродить, он прилег в сухом местечке и заснул. А поскольку был выпивши, то спал крепко и долго. Мошка же дело своё знала. Таким вот образом он был наказан гнусом за чрезмерное увлечение охотой.
Вскоре после возвращения с полевых работ на Индигирке его пришлось уволить за проступок в похмельном виде. Нельзя сказать, чтобы он много пил, но прикладывался к бутылке довольно часто. Выпивши, держался безукоризненно; сказывалось офицерское воспитание и, вероятно, выдержка подводника. Не всегда можно было поэтому определить — трезвый он или уже «под мухой». Однажды, обманутый его вроде бы трезвым видом, я отправил его работать в полевую лабораторию на дальнем Убояне. Там он, включая электростанцию АБ-4, забыл залить в картер масло. Естественно, клапаны заклинило, и станция была выведена из строя. В трезвом естестве он бы такой оплошности не допустил.
Мне не приходилось больше работать в тайге с бывшими подводниками, но предубеждение к ним осталось. Иногда даже закрадывается мысль: может быть, многочисленные аварии на наших подлодках тоже случались по причине приверженности некоторых членов экипажа к спиртным напиткам?
АХОВАЯ СИТУАЦИЯ
Так в народе называют почти безвыходное положение, в котором оказываешься по собственной ли глупости или по стечению не зависящих от тебя обстоятельств. Такое положение, которое грозит тебе потерей репутации, разорением или даже гибелью.
В подобную гибельную ситуацию занесло меня однажды, по неосторожности и из-за излишней доверчивости, в низовья реки Оленёк. Чуть-чуть было не пошли мы с напарником рыбам на корм, и спасло нас только чудо. Случилось вот что.
Закончив полевые работы, отряд наш вылетел в Мирный. Всех сотрудников одним рейсом самолета мы взять не могли, двоих пришлось оставить на последней стоянке. Базировался отряд на широкой косе, куда свободно мог приземляться Ан-2. Оставались ждать второго рейса два больших любителя рыбалки: Виктор Ильич Сорокин и Толя Коноплев, его закадычный друг. Виктор Ильич звал его «кореш». Это были такие друзья, которые ни минуты не могли пробыть, если оказывались вместе, без ссор и пререканий, но и жить друг без друга не могли. Они по доброй воле согласились ждать второго рейса, поскольку были заядлые рыбаки. А рыбалка в тех местах почти что сказочная. Тем более что по времени это была середина сентября, когда рыба спускается с притоков в большую реку на зимовальные ямы.
Самолёт удалось снарядить за ними не скоро, лишь во второй половине октября. Но за них мы не беспокоились; это были опытные таёжники, и продуктов у них оставалось достаточно.
Когда я летел за ними, стоял ясный солнечный день. Тайга и косы на Оленьке уже были покрыты снегом, река на плесах перехвачена льдом, но на прижимах с быстрым течением льда ещё не было. Палатки, в которых обитали Виктор Ильич с корешем, были видны издалека. Подлетев поближе, мы увидели В.И., который, хромая (одна нога у него была короче другой), обходил территорию без крупных валунов на косе, волоча за собой мешок с камнями. Таким путем он отмечал границы площадки на свежевыпавшем снегу, чтобы пилотам легче было ориентироваться при посадке.
Около палаток был заметен штабель, как нам с пилотами показалось, сложенный из мороженой рыбы. Но когда самолет подрулил к палаткам, мы увидели, что это не рыба, а дрова, заготовленные на случай долгого ожидания самолета. Лес от палаток отстоял далеко, натаскать такое количество дров стоило немалых усилий. Рыбы же у рыбаков не было совсем. Оказалось, что вскоре после ухода первого рейса по реке пошла шуга, потом начался ледостав, и они не могли ставить сети в нужных местах. Да и ленились, предпочитая возне с сетями в ледяной воде картёжную игру в тёплой палатке.
У нашего отряда была своеобразная традиция. Несъеденные за лето продукты, неистраченный бензин и кое-что из полевого снаряжения не вывозить после окончания работ на базу, а оставлять в тайге на месте последнего лагеря. Из того расчета, что в эти места все равно придется рано или поздно возвращаться. Если не на следующий год, то через год, а то и позднее. Продукты заколачивали в ящики, укладывали в железные полубочки или в непромокаемые мешки. Ящики и мешки подвешивали к прочному суку на высоком дереве, полубочки зарывали под мох в мерзлоту. Бочку с бензином прятали в лесу подальше от глаз проезжего люда.
Надо сказать, что такой способ оставлять на потом продукты редко бывал удачным. Ящики, несмотря на толстые доски, прогрызались какими-то хищными зверьками, верёвки подвеса тоже перегрызались, заначки падали на землю и доставались мышам и всякому мелкому зверью. Росомахи, на редкость пакостные существа, добирались до полубочек, переворачивали их и пожирали все содержимое. Несмотря, однако, на неудачный опыт в прошлом, привычка лабазить продукты оставалась.
И на этот раз надо было оставить на сохранение столитровую бочку бензина, не израсходованную незадачливыми рыбаками. На галечной косе залабазить ее было негде, тем более что паводковыми водами коса затоплялась. До леса катить бочку было далеко и несподручно. Решили переправить ее на другой берег, где и припрятать в курумнике на крутом склоне горы. На реке в этом месте был прижим с быстрым течением, русло сужалось до сотни метров, другой берег, казалось, вот он — рукой подать. Вода была совершенно чистой от шуги и льда.
У рыбаков имелись небольшая дюралевая лодка «Янтарь» и лодочный мотор «Вихрь». Последний они расхваливали как исключительно надежный и заводящийся с полуоборота. То есть проблемы переправить бензин на другой берег не было никакой. Бочонок закатили в лодку, я сел на весла, и мы с корешем отчалили.
Мотор действительно завелся с полуоборота. Мы лихо развернулись, я уже сложил весла, как вдруг... В двадцати метрах от берега мотор чихнул и заглох. Как ни дергал кореш за пусковую веревку, мотор не заводился. Я поспешил на веслах обратно к берегу, ибо течение несло нас под сплошной лед на плесе ниже переката. До берега было недалеко, но пристать к нему оказалось делом трудным. Береговая полоса реки была уже ранее покрыта льдом. Вода почти на метр упала, и береговая наледь на уровне груди не давала нам подойти к мелководью. Сильное течение было уже и под этой наледью, и нас несло дальше под сплошной лед на плесе. Если нас затянет туда, то, считай, все пропало: оказаться на кромке сплошного льда, хрупкого и ломкого в конце прижима, — верная гибель.
Лодку тянет под береговой лед. Кореш сидит, растерянный, и уже не пытается заводить мотор. Я изо всех сил цепляюсь за льдину, стараясь затормозить лодку. Руки скользят, обдираю их в кровь, но зацепиться не за что, лед скользкий, да и лодка уходит из-под ног. На помощь нам бегут пилоты и Виктор Ильич, но они явно не успевают, нас несёт быстрее них.
Но тут случилось чудо. То ли в течении около берегового льда образовалось завихрение, то ли течение воды замедлил береговой выступ косы, но лодку мне удалось притормозить и удержать ногами, пока не подбежали пилоты. Кореш бросил им чалку, и мы были спасены. Лодку вытащили на береговой лед, благо, он был прочным, и потащили её к самолету. Только взглянув на прижим реки с самолета, мы осознали, насколько близки были к гибели.
Такая вот невеселая история, но со счастливым концом. Злополучный мотор не заводился по той причине, что в карбюратор попала вода и там замёрзла. Но хорошо уже то, что мотор сдох вблизи берега, а не на середине реки. Иначе я не успел бы догрести обратно, прежде чем нас затянуло под лед.
ЧОЛОНЧОН
Не зная броду, не суйся в воду
Так называется один из притоков Большого Патома в его среднем течении. Это довольно крупная горная речка длиной около двухсот километров. Как и все горные речки — порожистая, а в период таяния снегов и после ливневых дождей — бурная и своенравная. Среди рыбаков Ленска она славится обилием хариуса, а среди охотников — оленями, медведями, соболями и прочей завидной для любителей охоты живностью. Попасть на Чолончон раньше было очень трудно, поэтому природа здесь долгое время находилась в первозданном состоянии. И лишь после появления вертолетов Ми-4 в конце пятидесятых годов на Чолончоне стали возникать заимки промысловиков и пристанища браконьеров. Среди лётного состава Мирнинского авиаотряда о Чолончоне ходили легенды, и любители охоты и рыбалки из пилотской братии правдами и неправдами стремились туда попасть.
Естественно, геологи и геофизики тоже не прочь были наведываться в этот район, когда представлялась такая возможность. Одно время туда засылались отряды Ботуобинской экспедиции для поисков золота, но работы эти были свёрнуты еще в конце шестидесятых годов. По алмазам же никакой зацепки не было, в складчатых районах Западного Алдана поиски их бесперспективны.
В конце семидесятых годов в районах, прилегающих к Большому Патому, велась Государственная гравиметровая съемка. Одна из партий экспедиции № 6, проводившей эту съемку, базировалась в знаменитом когда-то приискательском посёлке Витим (который прославлен Шишковым в «Угрюм-реке»). С инспекторской проверкой туда однажды направлялся Эрнст Келле, начальник шестой экспедиции. Мы с моим другом, Толей Верменичем, упросили его взять нас с собой, надеясь по случаю попасть на Большой Патом, который протекает невдалеке от Лены, почти параллельно ей. Надежды наши оправдались: через какое-то время мы оказались в устье Чолончона — в одном из самых живописных мест на Патомском нагорье. Забросил нас туда съёмочным вертолётом Генрих Желвис, начальник упомянутой гравиметровой партии. По времени года это были, как помнится, двадцатые числа мая.
В приустьевой части Чолончон разделяется на две протоки, как бы окаймляющие остров, поросший густым лесом. В день высадки с вертолёта от острова к руслу реки простиралась приличной ширины галечная коса. На ней в живописном беспорядке лежали толстые льдины, оставшиеся после спада паводковой воды. Мы выбрали на косе наиболее сухое место и расположились лагерем: поставили палатку, развели костер, смастерили кухонный стол, сварили что-то съедобное, отметили прибытие «материальчиком» и занялись текущими делами. Я ловил в протоках хариусов, Эрнст с Толей разделывали медведя, которого в тот же день привезли с гор вертолётчики. Медведь хоть и тощий был после зимней спячки, но все же хлопот с ним было немало. Тем более, что парни занимались свежеванием медведя впервые, и дело у них не очень спорилось.
Два дня прошли в хлопотах по хозяйству и освоению жизненного пространства на острове. Солилась пойманная рыба, провяливалась на солнце медвежатина, щипались и потрошились добытые Эрнстом утки. Словом, дел было много. Мы по-детски радовались, что попали в такое благодатное и живописное место. Тем более, что погода стояла по-летнему тёплая, а комары еще в большой массе не появились.
Но на третий день наше безмятежное существование было нарушено: мы заметили, что в Патоме начала подниматься вода. Этого мы никак не ожидали, полагая, что если льдины лежат на берегу, то паводок уже кончился. Лишь позднее мы узнали, что ледоход — это только начало паводка для горных рек. Да и не только для горных: по Лене первые льдины тоже остаются на берегу и лишь позднее смываются поднимающейся водой. С наступлением тёплых дней снег в горах начинает активно таять, что уже происходит после ледохода в реках, и только тогда имеет место наибольший подъем воды. Что и произошло с Большим Патомом. И тут мы оказались в пиковой ситуации.
Вода активно пожирала косу, и к концу третьего дня нашего пребывания в этом уютном уголке природы мы оказались прижатыми к лесу. Положение наше усугублялось тем, что мы не взяли с собой резиновых лодок для смены места, если нас будет подтоплять паводковая вода. Мало того, мы не догадались прихватить с собой приличный топор и двуручную пилу, если бы случилось рубить вертолётную площадку в лесу. Лес же на острове был с деревьями в обхват и рубить площадку надо было, даже при наличии инструмента, целую неделю. Рации у нас тоже не было, и запросить Желвиса о срочной помощи мы не могли. Такая вот сложилась ситуация, хоть караул кричи. Но кричи не кричи, никто не услышит, в радиусе сотни километров жилья нет. Вот в таком дурацком положении оказались мы, незадачливые любители рыбалки и охоты.
Вода уже залила наш костёр и место, где стояла палатка. Вещи пришлось переносить в голову косы, где еще оставалось немного сухого незатопленного берега. Еще пара часов, и пришлось бы нам перебираться в чащу леса, откуда забрать нас было бы чрезвычайно сложно. Вот в такой аховой ситуации и застал нас вертолёт, направленный Генрихом для нашего спасения. В Лене тоже стала подниматься вода, пилоты догадались, что на Патоме может быть то же самое. Колёсами вертолёт сел уже прямо на воду, хорошо ещё, что в голове косы было пока мелковато.
Таким вот образом мы познакомились с одним из живописнейших мест на Большом Патоме — одной из крупнейших рек в западной части Алданского щита. Ласково он встретил нас, но чуть было не искупал на прощанье. Долго потом «пилили» меня соучастники вылазки за то, что я, матерый полевик, вылетая на большую реку, не взял с собой резиновую лодку.
Медведя мы поделили на три части: желчь досталась Эрнсту (как лекарство для больной матери), шкуру навязали Анатолию Верменичу, которую он по приезде в Мирный тут же подарил какому-то приятелю, а я довольствовался мясом, с которым поимел немало хлопот: долго разносил его по знакомым в Мирном, пока избавился от последнего куска.
ГОРНОСТАЙ
Где-то году в 1960-м мы с техником-геофизиком Володей Скрябиным работали на Аламджахской трапповой интрузии, рассекаемой речкой Аламджах в ее среднем течении. Речка эта при слиянии её с речкой Олгуйдах образует крупный приток Вилюя — реку Ахтаранду, в приустьевой части ныне скрытую в водах Вилюйского рукотворного моря. В середине прошлого века там были почти нетронутые природные места с причудливыми скалами по бортам долины, с густым лесом по берегам, со множеством рябчиков в лесу и невиданными доселе нами в Якутии зарослями брусники. Был конец августа, брусника уже почти созрела и, видимо, привлекала медведицу с медвежатами, свежие следы которых мы каждодневно видели на песчаных отмелях реки. Естественно, мы побаивались, как бы медведица не пожаловала к нам в гости. Но она по всей вероятности тоже не жаждала встречи с нами и обходила наш лагерь стороной.
Как-то мимо нас проходили геодезисты с оленями. Мы воспользовались случаем забросить наши резиновые лодки в верховья
Аламджаха, где нам предстояло отобрать образцы. Завьючили их на оленей и вышли с отрядом геодезистов километров на десять выше по течению, миновав сильно порожистый участок реки, где тащить лодки вверх на бечеве было бы нелегко. Здесь геодезисты останавливались на ночлег, и мы притулились к ним тоже, поскольку свою палатку не взяли. Естественно, в дороге мы перезнакомились и почти подружились (встречники в тайге почти что всегда как родня). Для ночлега была наспех раскинута десятиместная палатка, без каркаса, поскольку назавтра им надо было продолжать свой путь, и не было смысла укреплять палатку и делать нары. На землю накидали веток, постелили брезенты и на них раскинули спальники.
По дороге на одном из перекатов я поймал спиннингом приличных размеров тайменя, и проводники-оленеводы сварили из него уху. К ухе и мы, и геодезисты вытащили свои заначки спирта, и ужин получился отменный. После оживленного балдёжа за костром все завалились в спальники и крепко уснули. Было нас в палатке девять или десять человек, не считая оленеводов, у которых имелось своё укрытие. Погода стояла тёплая, и дверь в палатку мы не затянули. У оленеводов было две собаки, которые вели себя тихо и не мешали нам засыпать.
И тут... Я проснулся от дикого вопля кого-то из соседей по палатке. Вопль сопровождался неистовым собачьим лаем и, как показалось, топотом по спальникам. Первая мысль — в палатку забралась медведица и кого-то уже дерет, потому он так дико кричит. Но оказалось, что он вопил просто от испуга, никто его не драл. А испугаться было чего, если собаки ворвались в палатку и с диким визгом стали носиться по спальникам.
Впрочем, продолжалось это лишь несколько секунд, после чего собаки выскочили из палатки и понеслись куда-то в сторону. Всех нас трясло, конечно, от шока, тем более, что в палатке было совершенно темно и вначале никто ничего не понял. С чего бы это взбесились собаки и ворвались ночью в палатку? Кто-то включил фонарик и все стали постепенно приходить в себя. Заснуть, конечно, никому уже не удалось.
Утром все прояснилось. Палатка наша была поставлена недалеко от дуплистого дерева, внутри которого обитал горностай. Ночью он, вероятно, прельстился остатками пищи около костра и подкрался к ним. Но тут собаки его заметили и бросились на него. Ему ничего не оставалось делать, как заскочить в палатку. Собаки за ним. Дав два или три круга по спальникам, горностай выскочил из палатки и увёл за собой собак. Вот и вся история, из-за горностая и был переполох.
Утром мы хорошенько рассмотрели виновника ночной тревоги. Собаки надрывались около полузасохшего дерева, а горностай явно дразнился и задирался с ними. У него был лаз в дупло снизу между корнями, и сверху, где-то на высоте около пяти метров. Он то показывался из дупла вверху, то между корнями дерева, около которых собаки лапами вырыли целую яму. Мордочка его мелькала между корнями, недосягаемая для собак, что, видимо, приводило их в бешенство. А он шипел на них и даже кидался на их морды. Судя по визгу одной из собак, он таки тяпнул её за нос. Ох, и злющий, оказывается, зверёк горностай. Нам подумалось, что будь он величиной хотя бы с кошку, то собакам пришлось бы несладко.
Один из владельцев ружей хотел было наказать горностая за ночную тревогу, но мы заступились за него, не дав зверька убить. За храбрость, с которой он оборонялся от собак, горностай заслужил жизнь.
СОБАКА-БИЧ
Собаку звали Цыган. Вероятно, кличку она получила за совершенно чёрную шкуру, без единого светлого пятнышка от носа до кончика хвоста. Его мне подбросили в вертолёт геологи, когда я вылетал из разведочной партии Амакинки, стоявшей в устье речки Чомурдах на Оленьке. Сопроводив словами: «Чтоб тебе было не скучно одному, без собаки в тайге нельзя».
Я удивился, что хозяин собаки не возражал. А потом обнаружилось, что хозяина, как такового, у Цыгана нет. Это была собака-бич.
Есть такая категория собак, которая существует и кормится в геологических партиях, при буровых бригадах, у шурфовщиков. Появляются такие собаки или потому, что когда-то их бросили хозяева, или они с рождения уже ничейные. Ко всем людям в лагере геологов они вроде бы ласковы, приветливы, особенно с теми, кто их чаще других подкармливает, но всегда держатся настороже и ни к кому сердцем не привязаны. Отъезд одних, приезд других людей при пересменках они воспринимают совершенно равнодушно (как иногда у людей: была без радости любовь, разлука будет без печали), новые люди их совершенно не озадачивают: лишь бы изредка кормили или хотя бы не гнали из лагеря.
Бывает, что геологи совсем покидают участок, а ничейных собак оставляют на призвол судьбы. Тогда, сбившись в стаю, собаки рыщут по тайге в поисках нового пристанища. Иногда им удается его найти, и тогда они (после драки с местными собаками) притуляются к новому стойбищу людей. Они живут рядом с людьми, даже если их не кормят. Летом они находят пропитание в тайге: мышкуют, ловят зайчат, птенцов куропаток, даже «рыбачат» на отмелях в пересыхающих заливчиках. Но зимой судьба их плачевна. Как правило, они бывают обречены: или становятся добычей волков, или попадают в охотничьи капканы, пытаясь утащить оттуда приманку.
Такая вот собака-бич и была придана мне для охранения и для развлечения, поскольку я работал и спускался по реке один, без напарников. Чтобы было с кем поговорить в дороге. Собака хоть и неважный собеседник, но примерный слушатель, и за неимением лучшего для такой ситуации вполне подходит. В вертолётах Цыган, видимо, летал не раз, поэтому не был обеспокоен шумом моторов. При посадке быстро выскочил из двери и начал обнюхивать окрестности. А спустя некоторое время уже лаял в стороне. Надо сказать, что охотничий инстинкт или приобретенная привычка к охоте у него были. Поэтому он постоянно в тайге кого-то облаивал, и, похоже, обижался на меня, когда я не подходил к нему с ружьем. А ружья у меня не было, и в его глазах я, наверное, казался совершенным недотёпой. Дичи и мяса в нашем меню, естественно, не имелось.
Зато рыбы было невпроворот! На реке шел нерест сига, и в драную нашу сетёнку, закинутую почти что вдоль берега (одному трудно ставить сеть, собака тут не помощник), набивалось за сутки до полусотни крупных сигов и ленков. Я варил Цыгану леночьи головы, еду, как известно, и для людей деликатесную. Первое время он просто обжирался: ел, ел, потом задремывал на время около кучки голов, потом опять ел, уже без жадности, явно насилуя себя.
Любопытно, что как бы ни был он сыт, но если предоставлялась возможность стянуть что-нибудь из еды с моего стола в палатке, то он не стеснялся, хоть и понимал, что неладно делает. Стибрил у меня кусок колбасы, который я не успел спрятать. Воровские наклонности у него были развиты не в пример воспитанной собаке. Но я на него не обижался, поскольку понимал, что не от хорошей жизни он заимел воровские привычки. Не раз, наверное, ему приходилось красть, чтобы не остаться голодным.
Через несколько дней, закончив работу, я свернул лагерь, загрузил лодку и стал спускаться вниз по реке. Цыган бежал за лодкой то по одному берегу реки, то, переправляясь, по другому, в зависимости от того, к какому берегу была ближе лодка. Казалось, холодной воды он совершенно не боялся.
Пройдя по реке километров восемь, я зарулил не в ту протоку и вскоре оказался на мели. Протащить лодку через мель не было никакой возможности, и я потянул лодку на бечеве вверх. Цыган внимательно следил за моими манипуляциями с берега, и вдруг куда-то из глаз исчез. Я протащил лодку вверх метров на триста и перешел в действующую протоку. Хотел было спускаться дальше, но Цыгана нигде не было видно ни на том, ни на этом берегу реки. Причалив к косе, я подождал с полчаса, покричал его, но Цыган не объявлялся.
Пораскинув мозгами, я стал догадываться, что он мог вернуться в лагерь. Увидев, что я с лодкой возвращаюсь обратно, он поспешил вперед, к недоеденным рыбьим головам. Так, видимо, оно и оказалось. Но нельзя друга бросать в тайге, тем более что он мог не понять, куда я девался, если не видел плывущую лодку. Пришлось мне идти обратно к покинутой стоянке.
В одном месте на песчаной косе (на гравийных косах берегов Оленька следов не видно) я увидел следы Цыгана. Точно, он спешил к старой стоянке, где ему столь сытно жилось. Но что это? В другом закоске, недалеко уже от покинутого лагеря, я увидел следы волчьих лап. Причём волков было явно двое. Тревожное чувство закралось в мою душу. Если Цыган нарвался на волков, то плохо его дело. Возможно, поблизости было волчье логово, а волки в этих случаях беспощадны.
Придя в покинутый лагерь, я увидел кучку рыбьих голов нетронутой, и все стало ясным: волки расправились с Цыганом, загнав его, по-видимому, в лес. На галечных косах следов расправы не было видно.
Жалко было Цыгана. И осталось чувство вины перед ним. Не поверни я обратно по реке с лодкой, Цыган бы не обманулся и от меня не ушёл. И не нарвался бы на волков.
В тайге без собаки действительно грустно. И немного боязно. Когда собака лежит рядом с палаткой, ты чувствуешь себя в полной безопасности и спокойно засыпаешь. А когда один, спать не дают какие-то звуки из леса, плески на реке, шорохи в кустах поблизости. Чёрт его знает, может, медведь к палатке подбирается. Хоть и редки на севере медведи, но всё же...
Словом, вышел я к поселку геологов виноватым: потерял по дороге собаку. На тот момент я ещё не знал, что Цыган собака-бич. Боялся укоризны хозяина. Но таковой не последовало, некому было по Цыгану сокрушаться.
Лишь мне его было жаль!
ЗВУКОВОЙ МИРАЖ
Многим путешествующим людям известен феномен, когда звук голоса человека или какой-либо иной звук слышен на весьма далеком расстоянии. На таком расстоянии, звук через которое не должен быть доступен человеческому уху. Подобно тому, как может быть увиден далёкий загоризонтный предмет моряками или жителями пустыни, называемый миражем.
Однажды с феноменом передачи звука на дальнее расстояние мы встретились на Ожогинской протоке в низовьях Индигирки. Протока эта соединяет крупное озеро Ожогино с рекой Индигирка и сама по себе довольно интересное явление природы. Длина протоки без малого 180 километров, тогда как по прямой от озера до реки не более двадцати. Протока узкой, но довольно глубокой канавой извивается среди залесенной низменности, образуя прихотливые излучины (меандры, как изъясняются геоморфологи). Ширина протоки всего лишь от десяти до двадцати метров, редко больше.
Гипсометрически уровень озера значительно выше уровня реки, поэтому течение в протоке быстрое, с частыми перекатами. Впрочем, порогов на ней нет и сплавляться по протоке на резиновых лодках можно совершенно спокойно.
Вода в верхней части протоки почти на сто километров чистейшая, как и в самом озере. Лишь в низовьях она замутняется, а близ впадения в Индигирку становится желтовато-грязной, как и в самой реке, тысячу километров текущей по четвертичной рыхлятине. Спускаясь по протоке, можно наблюдать постепенный переход от чистой воды к совершенно непрозрачной, до предела насыщенной взвесями ила и песка.
Протока являет собой чудо природы по насыщенности рыбой. Её невероятно много, как в ином аквариуме. С любого места берегов протоки можно видеть в воде косячки сигов, в десятки и даже сотни штук отдельно кормящихся под струями воды хариусов, снующих туда-сюда гольцов и стоящих в ямах крупных сигов-шокуров. Хариус в протоке крупный, до килограмма весом, а то и больше. В самом озере сетями ловятся экземпляры покрупнее, до двух с половиной килограммов, но в протоке особо крупный хариус не держится.
Рыбачить в протоке сетями нельзя, быстрое вихревое течение не позволяет их ставить. Можно ловить хариусов спиннингом, а сигов удочками, но серьезные рыбаки на озере такими пустяками не занимаются, поэтому в протоке рыба жирует безнаказанно.
Мы закончили свои работы в окрестностях озера и должны были спуститься по протоке и выйти к поселку Ожогино на берегу Индигирки. Помощником моим был Алексей Хлебунов — страстный охотник и рыбак. Каждую свободную минуту он проводил на берегу протоки, дергая хариусов, или уходил в тайгу стрелять куропаток.
Спускались мы по протоке на большой резиновой лодке, загрузив её образцами и своим скарбом. Шли на веслах, меняясь поочередно. Но не столько гребли, сколько отворачивали от многочисленных подводных коряг и от нависающих над водой кустов и деревьев. Хотя плыли мы довольно быстро и за два дня прошли до полусотни километров. Помогало идти быстрое течение.
На третий день мы ожидали встречи с сотрудниками аэромагнитной партии Будимиром Андреевым и Сергеем Удовенко. Те обещали встретить нас на полдороге, поднимаясь по протоке на дюралевой лодке с мотором. Весь день мы прислушивались, ожидая звука лодочного мотора. Но его не было. Однако под вечер, когда начало смеркаться, нам вдруг почудились голоса. Притормозили лодку, прислушались, точно — голоса. Говорят неразборчиво, но голоса слышны отчетливо и без сомнения принадлежат Будимиру и Сергею. Мы поспешили вперед, полагая, что за ближайшим поворотом их увидим. Обогнули одну излучину — никого на берегах нет. Обогнули вторую излучину, то же самое — ни лодки, ни людей. И голоса тоже пропали, как мы ни прислушивались.
Что делать? Уже смеркалось, дальше плыть было рискованно; можно в темноте напороться на коряги. Мы остановились на ночлег, поставили палатку, разожгли костер, сварили ужин и перед сном терялись в догадках, где же наши встречающие. Когда рассвело, мы свернули лагерь и тронулись дальше. Моторки не было слышно, хотя парни при нормальном раскладе должны были плыть нам навстречу. И быть где-то близко. Но прошло ещё два часа до того момента, как мы, наконец, встретились с ними. Они стояли на том же месте, куда причалили накануне вечером и долго возились с мотором, который барахлил и требовал ремонта. Накануне, под вечер, они сидели у костра и разговаривали друг с другом. Их голоса мы и слышали. Но расстояние!
По топокарте мы прикинули, что от их лагеря до места, где мы услышали голоса, было по прямой около пяти километров. Слишком уж далеко! Но сомнений в том, что мы слышали именно их голоса, у нас с Хлебуновым не было; слуховые галлюцинации могут быть у одного человека, но не сразу одни и те же у двух.
Анализируя обстановку, мы пытались объяснить физическую природу этого явления: рассматривали топокарту, вспоминали вчерашнюю погоду. Какую-то роль могла сыграть небольшая возвышенность, тянувшаяся вдоль протоки и ограничивающая её долину. Может быть, вдоль края возвышенности и распространялись звуковые волны. Могла повлиять низкая и сплошная облачность, которая накануне нависала над протокой. Возможно, она служила каким-то многократно отражающим экраном для звуковых волн.
В конечном итоге мы сошлись на мнении, что этот феномен правдоподобнее всего объяснить вмешательством якутских божеств — Баяная или Синильги. Возможно, они прониклись к нам симпатией за то, что мы признавали их и частенько вспоминали, отливая из стопок понемногу в огонь любимого их напитка. И они в благодарность хотели сделать нам приятное, перетащив звуки голосов аж за пять километров.
Расположение местных богов мы чувствовали и всю остальную дорогу до поселка Ожогино. Лодочный мотор работал, как часы, топляки и упавшие в воду деревья под винты не попадали, и мы очень быстро добрались до базы партии. А по пути охотники набили еще два мешка уток и гусей, во множестве плававших на протоке и на ближайших к ней кормовых озерках. Столько дичи, как в районе Ожогинской протоки, никому из нас видеть прежде не приходилось.
БЫЛА ЛИ ПАЛАТКА?[7]
Памяти Жени Потапова
Женя (с годами Евгений Евгеньевич) Потапов долгое время работал в Ботуобинской экспедиции. Одно время он руководил полевой аналитической лабораторией, позднее ЛОКом (что означало «лабораторно-обогатительный комплекс»), в который входили аналитическая лаборатория, фабрика № 6 и экспедиционный геологический музей. По вопросам музея мы частенько стыковались с ним на работе. За коллекциями образцов иногда вместе вылетали в тайгу, на естественные коренные выходы кимберлитов. В частности, на трубки Чомурдахского и Куойко-Беемчименского кимберлитовых полей. Запомнились два эпизода совместной с ним полевой работы.
Один из них такой. Отряд наш из трех человек стоял лагерем в устье небольшого притока реки Оленёк. Полевые работы были закончены, и отряд ждал вертолёта. По времени это была вторая
половина сентября. Стояла тихая солнечная погода, теплая днем и с умеренным похолоданием ночью. Казалось, что лету не будет конца. На месте нам, естественно, не сиделось, но отлучаться далеко от лагеря мы не могли из-за того же вертолета, который мог придти неожиданно. Но под очередные выходные мы узнали по рации, что вертолёта в ближайшие два дня не будет, и решили подняться по реке до места, где водились крупные таймени. Расстояние до него не близкое, около 20 км, но у нас была лодка с мотором, и расстояние нас не смущало.
Первого октября мы тронулись в путь. Выше нашего лагеря на протяжении 7—8 километров течение Оленька было быстрым, в малую воду местами почти перекатистым, и небольшой лодке с грузом и с тремя людьми (третьим в нашем отряде был камнерез Володя Чайников) было трудно осилить прижимы, поэтому меня отправили по берегу пешком, чтобы потом подобрать, когда быстрина кончится. Пока мои компаньоны собирались в дорогу и грузили лодку, я отправился налегке по галечным косам. Вода в Оленьке сильно упала, косы обнажились, и идти по ним было одно удовольствие. Тем более что комар уже схлынул, и мошка при небольшом ветерке не донимала.
Пройдя около десятка километров, я услышал звук мотора, компаньоны меня догоняли. Как договорились, они должны были взять меня на борт, поскольку выше пошли плёсы, и я уже не был лодке в тягость. Но когда лодка приблизилась (шли они посредине реки и меня пока не видели), передо мной оказался ручей, довольно глубокий, и я побежал искать брод. В полусотне метров я его нашел, но место оказалось отгороженным от реки намытой этим ручьем террасой, поросшей высоким кустарником. С реки меня не было видно, хотя лодочникам казалось, что берег хорошо просматривается. Пока я выбежал на открытое место, лодка ушла далеко вперёд.
Делать нечего, я побрел пешочком дальше, хотя уже изрядно подустал. Знал, конечно, что они меня будут искать и шёл им навстречу. Через какое-то время я услышал, что лодка возвращается. Дойдя до намеченного места и меня на берегу не обнаружив, компаньоны были весьма удивлены, но поняли, что я где-то остался на берегу незамеченным. Разгрузив лодку и оставив Потапова оборудовать лагерь, Чайников вернулся меня разыскивать. И надо же было случиться, что когда лодка приблизилась, я вновь оказался в той же дурацкой ситуации: ручей, намытый им мысок галечника, поросший кустами и закрывающий от меня реку. Пока я обегал его, лодка ушла вниз, Чайников меня снова не увидел.
Тем временем начала портиться погода. Пошёл дождь, потом мокрый снег, похолодало, и мне стало не по себе. Добираться по мокрым косам до места предполагаемой стоянки, да ещё в темноте (стало смеркаться) совсем мне не светило. Когда лодка снова шла вверх, было уже довольно темно, мне мог помочь только костёр (фонарика при себе не оказалось; обычная растяпистость, да такую ситуацию и трудно было предвидеть). Но разводить костер против мелководья тоже было нельзя, моторист мог порвать шпонку, приближаясь к берегу. Пока я добежал до глубокой около берега воды, пока возился с костром (в мокроте и без сухих щепок развести его совсем непросто), Чайников снова пропорол мимо. Но хорошо то, что шпонку он очередной раз все-таки порвал, и порвал где-то выше по реке. Пока он с ней возился и лодку течением сносило вниз, я успел в пределах его видимости развести костер. Только тогда он меня заметил. Тихонько подрулив к берегу, он подобрал меня и доставил к месту их высадки. Там уже стояла палатка, в ней натоплена печка, раскинуты спальники, на костре кипела уха (Женя успел наловить ленков). Меня отогрели спиртом, напоили чаем, накормили ухой, и мрачная перспектива мокрой ночевки около костра сменилась лучезарной — в тепле и уюте. До чего же приятно после подобной передряги засыпать в сухом спальном мешке внутри тёплой палатки.
Таким вот образом на открытом берегу реки в ясный солнечный день оказался не замеченным товарищами, плывущими по реке и видящими каждый крупный камень на берегу, не только движущегося человека. Без Синильги тут дело, конечно, не обошлось.
Второй казус произошел со мной и Женей в тех же местах двумя годами позднее. Точно так же мы ждали вертолета по окончании полевых работ. С нами были двое маршрутных рабочих и один кандидат наук. Рабочие и кандидат жили в бане, построенной когда-то Юрием Петровичем Беликом, а мы с Женей поставили поблизости палатку и устроились в ней. В бане места было много, но мы предпочли всё же палатку с добротной печкой, благо, в дровах недостатка не было.
Как-то наши рабочие и кандидат отлучились на рыбалку, а мы с Женей, поужинав, стали устраиваться на ночлег. Постелили на земле кошму, раскинули спальники и залегли. Печка топилась, в палатке было тепло и ничего не предвещало близкой катастрофы. Засыпая, я вдруг почувствовал, что в палатке посветлело и пахнуло дымом. Открыв глаза, увидел, что палатка горит и над нами уже чистое небо. Женя тоже не успел заснуть и выскочил из спальника.
Кто когда-либо горел в палатке, знает, что брезент горит очень быстро. Несколько секунд и нашей палатки не стало. Догорали и тлели лишь приземленные борта, которые мы в темпе стали затаптывать ногами. Спальники, кошму и рюкзаки успели откинуть в сторону, и ничего из вещей не пострадало. Вокруг сгоревшей палатки потушили пламя быстро, за исключением одного ее угла, где огонь вспыхивал вновь и вновь. Едва мы его уняли. Как оказалось, при последующем разборе ситуации, там в кармашке палатки находились флакончики с бензином, которым заправляли обогреватель рук (был у нас такой приборчик). От нажима сапога флакончики лопались, и бензин вспыхивал по-новой.
Управившись с огнем, мы перетащили вещи в баню и устроились там на нарах. Остатки сгоревшей палатки и все следы пожара ликвидировали, как будто ничего и не случилось. Поздним вечером явились рыбаки, за ужином кандидат вдруг заинтересовался, почему мы с Женей в бане, а не в своей палатке. Потапов только этого вопроса и ждал.
— В какой палатке? — осведомился он.
— Ну, в той, где вы жили.
— Не знаем мы никакой палатки, мы всё время жили в бане.
— Да, не может быть, вы же вчера ставили палатку, — упорствовал кандидат.
— Ничего мы не ставили, лишь примерялись, а если тебе почудилось, то окстись, может, наваждение пройдет. И не пей лишней рюмки из запасов Саврасова.
Так мы и не сознались, что палатку сожгли. Рабочие хоть и догадались, но помалкивали, а кандидат так и остался в неведении.
А причиной пожара оказалась печка. День был довольно ветреный. Дверка палатки не была закреплена и колыхалась туда-сюда. И при сильном порыве ветра зацепила угол печки. Сухой брезент моментом вспыхнул, и палатки как не бывало. Вот так два бывалых полевика проморгали возможное загорание от топящейся печки. Даже для новичков подобное ЧП было бы непростительным, а нас, конечно, извинить было нельзя. Благом явилось лишь то, что мы не успели заснуть. А если бы пожар начался во время сна, то так легко мы бы не отделались.
РЕКОРД ВЫЖИВАНИЯ[8]
Сколько может выдержать человек в якутской тайге: один, без еды, без огня, без крова, без теплой одежды и обуви, без защиты от гнуса в самое комариное время? Опытный таежник скажет: две недели, не более, а потом человек не сможет двигаться, будет лежать обессиленный и умирать от голода. Так вот: этот опытный таежник будет неправ. Чистым экспериментом стал случай в Амакинке в 1981 году. Запас жизненных сил в человеческом организме, оказывается, на удивление большой. Добавим, правда, в хрупком женском организме.
15 июня 1981 года из своей палатки в лагере отряда Эрика Алексеева (партия Б. Н. Полунина) исчезла студентка-практикантка Наташа Косорукова. Вышла утром в лес по своим делам и... пропала. Ни в обед, ни вечером в лагере не появилась. Не пришла и на следующее утро. Хотя ночи в июне светлые, она могла вернуться и ночью. Стало ясно: заблудилась в лесу, сама выйти не может, надо что-то предпринимать. Поиски близ лагеря результатов не дали, на крики и выстрелы Косорукова не отзывалась. Значит, отошла от лагеря далеко, если не случилось худшее (нападение медведя было маловероятным, но не исключалось).
17 июня после безуспешных самостоятельных поисков начальник партии сообщил по рации о ЧП в экспедицию. Партия базировалась недалеко от Нюрбы в нижнем течении правого притока Вилюя — реки Батамайки, всего лишь в 50 километрах, что впоследствии значительно облегчило поиски.
Начальник Амакинской экспедиции В. Ф. Кривонос поднял людей как по боевой тревоге: была срочно сформирована поисковая группа опытных геологов из 22 человек, которые камеральничали на базе экспедиции. Ответственным за наземные поиски был назначен главный геолог экспедиции В. М. Подчасов, а вертолетные поиски и общую координацию поисков взял на себя начальник экспедиции (который ежедневно сам участвовал в поисковых облетах, затрачивая до двух санитарных норм летного времени вертолетов Ми-8 и Ми-2). Исчезновение студента в тайге — дело очень серьезное, налагающее большую ответственность на руководство экспедиции.
Ход событий лучше всего проследить в хронологической последовательности.
17 июня. Вертолет Ми-8 высадил поисковую группу в районе работ партии Полунина и сделал облет района, затратив полный дневной ресурс. Результат нулевой: на свободных от леса пространствах человека не обнаружено, дыма от возможного костра нет. Наземная поисковая группа исхаживает тайгу вокруг лагеря.
18 июня. На поиски снова занаряжен вертолет Ми-8: выброшена дополнительная поисковая группа во главе с работниками аппарата экспедиции Г. М. Казанковым и Э. П. Домашевским, сделан облет территории с более широким охватом. Экспедиция вынуждена сообщить о ЧП в Якутск, в Геологоуправление.
19 июня. Звонок в экспедицию начальника ЯТГУ В. А. Биланенко, крайне обеспокоенного происшествием. В том сезоне это был уже третий случай пропажи людей в Амакинской экспедиции (незадолго до этого исчезли рабочие Белых и Преловский). Предложено принять самые энергичные меры, чтобы найти студентку. В. Ф. Кривонос вылетает на поиски вместе с начальником геологического отдела Т. П. Хюппененом. Облет территории на дополнительном вертолете Ми-2 снова ничего не дает. Наземные поисковые группы тоже не обнаруживают каких-либо признаков человека: ни следов, ни сломанных веток, ни кострищ.
20, 21 июня. Поиски продолжаются. Группы следопытов исхаживают тайгу что называется вдоль и поперек, все время расширяя территорию опоискования. Наземные отряды перебрасываются вертолетом Ми-8 на новые места. Ведутся облеты на Ми-2 с визуальным наблюдением. Поискам сильно мешает дождь. С целью заметить и забрать Косорукову, если она выйдет на берег Вилюя, направляются для патрулирования две моторные лодки.
22 июня. Якутск интересуется результатами поисков, звонки идут постоянно. В Нюрбу вылетает замначальника отдела по ТБ Ю. И. Бубелов. Встретив его, Кривонос уже с Подчасовым облетели территорию на вертолетах, затратив полный ресурс. Старший геолог геолотдела А. А. Потуроев координирует наземные поиски. Результатов никаких.
23 июня. Начальник и главный геолог экспедиции за весь день с 8 утра до 12 ночи, естественно, облетели на Ми-2 и Ми-8 район возможного местонахождения Косоруковой. Организована и заброшена еще одна поисковая группа численностью 11 человек под руководством Ю. А. Ломакина. Наземными поисками заняты уже 33 человека. Руководство экспедиции вынуждено сообщить родителям об исчезновении дочери. Они крайне взволнованы (родители жили в Солнечногорске Московской области).
24 июня. Наконец-то обнаружены следы! Очень далеко от стоянки отряда Алексеева. И по следам установлено, что Косорукова идет не к лагерю, а в обратном направлении. Поисковые отряды начинают срочно перебрасываться вертолетами в район, где обнаружены следы.
25, 26, 27 июня. Наземные поисковые группы под руководством Ю. П. Белика и А. А. Потуроева прочесывают местность в районе обнаруженных следов. В. Ф. Кривонос и И. И. Скобелев с раннего утра до глубокой ночи, меняя вертолеты, облетают квадрат за квадратом новую территорию. Организуются две дополнительные группы поисков в составе 12 человек, куда включены и женщины-добровольцы. Два мотоцикла патрулируют дорогу Кюндядя — Батамайка. На речку Хонхор высажен лодочный десант.
28 июня. Начальник экспедиции вылетает с Бубеловым к отрядам, занятым наземными поисками. Подобрана новая группа под руководством Хюппенена для опоискования вилюйского склона.
29 июня. Беда, как известно, не приходит одна. В этот день в экспедицию поступает сообщение из Эбеляха, что проходчик А. В. Шнырев попал под винт вертолета и получил смертельную травму. Туда вылетают замначальника экспедиции А. П. Сорокин и геолог А. А. Ярош вместе с представителем ЯПГО С.М. Саранчуком. Поиски Косоруковой продолжаются, но новых следов нет, поисковые группы в растерянности.
30 июня. Геофизик Н. Н. Федоров вылетает со следователями в район Конончана на Среднюю Марху, где незадолго до этого исчез рабочий Преловский. Поиски Косоруковой ведутся активно, подключаются из аппарата экспедиции А. Бардаков и С. Чухнов, но положительных результатов нет.
1, 2 июля. В район поисков направляется еще одна группа геологов и других работников экспедиции в составе Зимина, Николаева, Борисова, Плешкова, Коновалова и Романчикова. Родители Наташи звонят ежедневно, но ничего ни утешительного, ни определенного из экспедиции сообщить им не могут. Облеты на Ми-2 и Ми-8 продолжаются, но вылетам и визуальному наблюдению мешают дожди. Наземным отрядам трудно ходить по мокрому лесу. Все меньше становится шансов найти студентку живой. Бубелов потерял надежду на благополучный исход поисков и улетел в Якутск.
3 июля. Обнадеживающее известие! Обнаружены относительно свежие следы в 40 км выше по Батамайке от ранее найденных следов. То есть вопреки обстоятельному инструктажу, проведенному перед полевым сезоном, и вопреки здравому смыслу Косорукова идет (или шла) вверх по течению речки, удаляясь от Вилюя. В этот день похороны Шнырева, тело которого привезли с Эбеляха...
4 июля. Кривонос с Подчасовым снова летят в район найденных новых следов. Поисковые группы перебрасываются на Ми-8 туда же, в верховья Батамайки, а также на ближайшие к этому месту водотоки и геодезические профили. Последние следы обнаружены в 88 километрах от Нюрбы. Недалеко от этого места разбросаны обломки вертолета Ми-8, разбившегося в 1980 году с 11 человеками на борту. Гиблые места!
5, 6, 7 июля. Поиски Косоруковой продолжаются, хотя надежды найти ее живой уже почти ни у кого не осталось. Пожалуй, надежды не теряет только начальник экспедиции, и то скорее из безысходности ситуации. Ибо на нем лежит основная тяжесть ответственности. Из Якутска интересуются расследованием несчастных случаев со Шныревым, Преловским и Белыхом. Белых — рабочий Южно-Оленекской партии. Еще 4 июня ушел на рыбалку и не вернулся. Труп его нашли в 30 км от того места, где он построил плот. За месяц с небольшим в экспедиции три умерших и пропавшая студентка. В управлении ПГО не настаивают на продолжении поисков, но искать хотя бы тело надо.
8 июля. Очередная переброска поисковых отрядов на возможные пути движения заблудившейся. В 23 часа 30 минут по рации получено сообщение Колесникова о том, что группой Алексеева обнаружены следы Косоруковой в верховьях ручья Хоронох, впадающего в реку Тонгуо, устье которой почти в 100 км ниже по течению от Нюрбы. Туда Алексеев был вывезен накануне в 5 часов вечера. Следы относительно свежие, значит, есть надежда, что Косорукова жива.
9 июля. По рации сообщено в поисковые отряды, чтобы готовились к переброске на новое место, где найдены следы. Переброска задерживается из-за неисправности Ми-2 почти на три часа, но с 12 часов до конца дня ближайшие поисковые группы были доставлены на точки в радиусе 10—12 км от последних следов.
10 июля. В. Ф. Кривонос делает облет поисковых групп Л. И. Николаева (4 человека), В. Н. Полунина (4 человека), Ю. А. Осипова (2 человека), Э. А. Алексеева (4 человека). Все группы замыкают кольцо поисков вокруг истоков ручья Хоронох, где Лазарем Николаевым обнаружены новые свежие следы. Алексеев остается на месте найденных следов, остальные прочесывают местность. После дозаправки вертолет перебрасывает отряд Птичкина и дополнительно завозит отряд Широченского.
Вечернее сообщение по рации: Косорукова нашлась! И живая!! Ее обнаружил в лесу Эрик Алексеев между 19 и 20 часами. Слава Богу! Нашли ее в 75 километрах по прямой от места, где была ее палатка. Если учесть ее петляние по тайге, она прошла за это время не менее 200 километров. Причем она была на ногах и не выглядела слишком изнуренной.
В 9 часов вечера Кривонос забирает на борт Ми-2 беглянку и привозит ее в Нюрбу, где огромная ликующая толпа нюрбинцев их встречает. После доставки Косоруковой в больницу на поджидаемой машине «Скорой помощи» врачи интересуются прежде всего самочувствием пострадавшей от столь длительного пребывания в тайге без еды и крыши. И получают ответ: «Самочувствие нормальное». Это после 25 дней голодовки! На следующий день Косорукова неожиданно для всех просит выписать ее из больницы и поселить в общежитие, мотивируя это тем, что она уже совершеннолетняя (26 июня ей исполнилось 18 лет) и вправе самостоятельно принимать решение. Врачам пришлось ее отпустить.
Когда к концу этого трудного, но радостного дня до предела измотанный начальник экспедиции вернулся домой, его встречали уже подгулявшие амакинцы, отмечавшие счастливое завершение сей необыкновенной эпопеи выстрелами из ракетниц и откупориванием шампанского.
Интересно заметить, что незадолго до описываемых событий в партии Полунина были Белик с Хюппененом и, как бы интуитивно предчувствуя этот невероятный случай, проводили инструктаж по ТБ со студенткой Косоруковой и молодой специалисткой Шевцовой. Им подробно растолковывалось, что если заплутаешь в лесу, то иди вниз по первому же попавшемуся ручью. Заблудиться в тех местах, конечно, нетрудно: местность ровная, как скатерть, и покрыта густым лесом. Но если идти вниз по ручью, то не позднее чем через сутки, от силы двое, выйдешь к Вилюю. А на Вилюе всегда люди есть.
Но то ли Косорукова поняла все наоборот, то ли проявила обычное женское упрямство, но, встретив речку Батамайку, она пошла не вниз, а вверх по течению. Более того, поплутав в верховьях, она вышла на другую речку — Тонгуо и опять пошла вверх по течению. Такое поведение заблудившейся, вопреки инструкциям и здравому смыслу, и сбивало с толку искавших ее людей. Почему поиски и затянулись так надолго даже после первой находки ее следов.
Вторым обстоятельством, осложнившим поиски, было то, что она оставляла мало следов. На ней были кроссовки, поэтому она старалась идти по сухим местам, чтобы не замочить ноги. А в сухих местах отпечатков обуви практически не остается.
Третьей причиной и, пожалуй, даже основной, была гордыня, смешанная со стыдом. Косорукова стремилась вернуться в лагерь непременно самостоятельно, стыдясь своей ошибки. И первое время она даже пряталась от искавших ее вертолетов. Об этом она поведала начальнику экспедиции лишь при прощальной беседе.
Нельзя сказать, чтобы она была совсем уж несообразительной. При ней были спички и лупа. Но отсутствие опыта привело к тому, что спички она замочила в первую же ночь. А попытка через лупу зажечь бересту успехом не увенчалась: береста от солнечных лучей не загорается. Разжечь же сухой трухлявый пень ей не приходило в голову. В лесу она, естественно, искала что-нибудь съестное. В основном это была прошлогодняя брусника. Пыталась она есть и старые засохшие грибы, но, пожевав, выплевывала, поскольку этот природный продукт совершенно несъедобен.
После того как поиски благополучно закончились, в камералке экспедиции разгорелись бурные дебаты по вопросу, кто должен идти в геологию. Коллектив раскололся на два непримиримых лагеря. Одни говорили, что таких чувих гнать надо подальше от геологии. Еще не кончила техникума, а уже принесла огромные убытки приютившей ее экспедиции. Семьдесят человек, занятых на поисках, были оторваны от работы, от своих личных дел, вымотались в тайге. Потрачена масса вертолетных часов, что в ущерб плановым работам экспедиции. Другие рассуждали примерно так: люди с таким здоровьем, с такой выносливостью — клад для полевой геологии. Только такие в тайге и нужны. А первая ошибка пойдет ей впрок, не будет ее больше водить леший по лесу.
Спорщики затихли понемногу, не приходя к единой точке зрения. А о дальнейшей судьбе Косоруковой ничего неизвестно: прижилась она в геологии или нет. Вероятнее всего родители не пустили ее по этой стезе. Слишком много они пережили за эти 25 дней.
За настойчивые, хорошо организованные и успешные поиски потерявшегося в тайге человека начальник экспедиции, начальник геологического отдела, начальник партии и начальник отряда были... наказаны.
ГРОБ НА «ЧАЙКЕ»
Около прииска Депутатский есть небольшая возвышенность, в недрах которой когда-то разведывалось кварц-касситеритовое месторождение. Рудник получил название Чайка. В разведочных целях еще в пятидесятые годы здесь были пройдены две или три горизонтальные выработки-штольни, к середине шестидесятых годов заброшенные и в приустьевых частях обледенелые.
В 1966 году аэромагнитная партия Амакинской экспедиции вела договорные работы с Янским райГРУ. Целью работ было геологическое картирование и оценка возможностей аэромагнитного метода для поисков коренных месторождений олова и вольфрама. Отряд физических свойств обеспечивал интерпретаторов аэромагнитных карт сведениями о магнитных свойствах касситеритовых руд и вмещающих их геологических образований.
Чтобы набрать представительный материал для исследований, нам надо было попасть в упомянутые выше заброшенные разведочные штольни. После некоторых колебаний руководство разведочной партии разрешило нам побывать в них. Заполучив планы выработок, мы поднялись к устьям штолен и попытались проникнуть внутрь. Как уже упоминалось, штольни были пройдены лет десять назад, и устья их затянуло льдом. В одну из них попасть мы не могли совсем, в другую оказалось возможным, но с немалым трудом. Образовавшаяся наледь оставляла только узкий пролаз между льдом и кровлей выработки. Изощряясь, как спелеологи, порвав кое-где на себе одежду, пролаз этот мы преодолели. Наледь простиралась метров на десять, а далее открывалась обширная выработка шириной около трех метров и высотой до двух с половиной. Почти как в московском метро. Крепь в штольне практически отсутствовала. Горные породы были настолько прочными и монолитными, что при проходке штольни в ней не было необходимости. Условия для отбора образцов имелись поэтому великолепные. Мы осмотрели приустьевую часть штольни и принялись за работу.
Электричества в штольне, естественно, не было. Пользовались мы свечами в стеклянных банках и фонариками. Впрочем, батареи у фонариков скоро сели, но свечи исправно служили нам несколько часов.
В полусотне метров от входа мы обнаружили крутопадающие жилы касситеритовых руд. Тех самых, ради которых проходились разведочные выработки. В стенках и потолке штольни жилы смотрелись многоцветьем отраженных от свечек огней и были очень красивы. Образцы руд, вынесенные нами наружу, тоже были красивы, но такой игры огней даже при солнечном свете в них не наблюдалось. Впрочем, нам было не до красоты, предстояло в холоде штольни работать.
Отбивать образцы в монолитных породах не так просто. Тем более, разнообразие руд и вмещающих пород было таким, что глаза разбегались и хотелось отобрать как можно больше разновидностей геологических образований. Работа затянулась надолго, в штольне мы находились шесть или семь часов. И промерзли, конечно, основательно. Хотя одеты и обуты были тепло: в ватниках, в валенках с шерстяными носками, в шапках-ушанках и в меховых рукавицах. Но температура в штольне была минусовой, где-то около 10—12 градусов (температура вечной мерзлоты в Верхоянье), поэтому к концу работы мы промерзли насквозь.
Упаковав и уложив собранные образцы в рюкзаки, мы двинулись к выходу. Подойдя ближе к устью штольни, мы не увидели просвета между наледью и кровлей. А просвет должен был быть, снаружи всё же полярный день. Да мы и видели этот просвет отчётливо, когда уходили в глубину выработки. Что за чёрт! Вход в штольню явно кто-то закрыл и замуровал нас. Дверей у входа в штольню не было, просто так закрыть её было нельзя. Значит, кто- то сознательно загородил нам выход. Недобрые чувства стали закрадываться в наши души. Вспомнился индеец Джо в известной повести Марка Твена.
Надо заметить, что у штольни было два выхода, и мы об этом знали. Но выход в противоположном её конце был закрыт наглухо; там располагались продуктовые склады местного ОРСа; штольня использовалась как природный холодильник. Во всяком случае выйти через орсовские склады не было никакой возможности.
Скрывая друг от друга тревогу (в штольне со мной был наш сотрудник Алексей Хлебунов), мы стали карабкаться ближе к выходу. Что же это там за препятствие? Привыкшие к темноте глаза стали замечать светящиеся щелочки около стенок пролаза; выход все же не был закупорен полностью.
Медленно с трудом продвигаемся ближе к закрывшему выход препятствию. Впереди ползёт Алексей, таща за собой тяжеленный рюкзак. Наткнувшись на препятствие, он долго там возится, определяя, видимо, что же там загородило нам выход. Наконец, вместо чертыханья и мата я слышу:
— Гроб мы с тобой заказывали?
— Какой еще гроб, что ты мелешь?
— Да гроб тут стоит и тяжеленный. Я его не могу сдвинуть с места.
Действительно, проход был загорожен гробом, и гроб был явно с тяжелым содержимым. Мистика какая-то! Мы не сразу сообразили, зачем тут оказался гроб и почему именно в то время, когда мы были в штольне.
Но делать нечего, надо было как-то выбираться. Мы поочередно стали расшатывать гроб, пододвигать его, используя геологические молотки как рычаги. С большим трудом, пообломав ручки молотков, мы все же вытолкнули гроб из узкого пролаза наружу и выбрались сами. Гроб затолкали обратно.
В камералке геологов мы не стали рассказывать об этой странной истории, и пенять (а о нас они попросту забыли!), почему нас замуровали в штольне. Но поинтересовались, не было ли где в округе несчастного случая со смертельным исходом. Оказывается, был. В одной из полевых партий погиб человек; то ли имела место «бытовуха», то ли случилось что-то на производстве. Пока ситуацию выяснял следователь, гроб с его телом вывезли в поселок Депутатский и поместили в пустующую штольню, куда более холодную, чем любой морг. О нас никто из геологов не вспомнил.
Надо было еще благодарить Бога, что вход в штольню не забили досками. А то бы пришлось нам разделить участь того, кто лежал в гробу.
Такая вот история. Нет-нет да и возникает в памяти наша возня с гробом в темноте штольни.
Б-р-р!
ШКУРА ЗАЙЦА
Когда в тайгу попадают люди, к ней непривычные, особенно если это для них впервые, то старым таежникам-геологам бывает истинное удовольствие за новичками наблюдать, а иногда их и разыгрывать. А если ещё новичок попадается с каким-то гонором, что-то воображает, а не учится, как вести себя в тайге, то над такими, бывает, и зло подшучивают. Впрочем, к настоящему рассказу сие не относится, шутка над новичком была просто добродушной и весёлой.
С нашим отрядом напросился в тайгу один сотрудник института, кандидат наук, сугубо городской житель, в лес ходивший разве что в окрестностях Мирного за ягодами и грибами. Он не умел даже развести костер, не говоря уже о том, чтобы приготовить на костре какую-либо пищу. Ни охотником, ни рыбаком любителем не был, ондатру и зайца видел разве что только по телевизору.
Отряд вёл работы до середины сентября, а потом ждал вертолет. Ждал долго. Подступала уже середина октября, а вертолёта всё не было. Обычная ситуация в конце сезона для многих геологов. Надо было как-то заполнять бездельное время. Хуже всего при таком ожидании —невозможность надолго и далеко уходить от лагеря. Тем более, что рация вышла из строя, и мы не могли заранее узнать, когда же за нами вышлют вертолёт. Поэтому развлекались на месте, как умели, не отлучаясь далеко от лагеря. Одним из развлечений была охота на зайцев.
Лагерь отряда располагался при впадении некрупного притока в реку Оленек, в приустьевой части которого были обширные плавни, заросшие обычным для тех мест ивняковым кустарником. Год был «заячьим», то есть с обилием зайцев по тайге, что случается раз в десять-двенадцать лет. Потом зайцы от каких-то заморов исчезают или количество их резко сокращается. Но в упомянутый год, видимо, имел место пик заячьей численности, и их в кустарниковых зарослях было множество.
Выпавший снег обнажил заячьи тропы, тем самым создав благоприятные условия для охотников. Зайцев ловили петлями, делали загоны. Трое загонщиков с кастрюлями, сковородками, вёдрами устраивали с какого-либо боку плавней шум и гнали зайцев на стрелков. Те палили в выскакивавших на них перепуганных зверьков и, в зависимости от меткости стрельбы, добавляли на свой счет трофеи. Помнится, один только матёрый заяц долго нас дразнил, но так под выстрел и не попал. Он был заметен тем, что оставлял специфический след. Сорвавши поставленную на тропе петлю, он бегал с проволокой на шее. И след от проволоки был виден на снегу. Так мы его и звали: Косой с петлей на шее.
Рыбалка тоже развлекала какое-то время. Но рыбой уже были заполнены все ёмкости, да и начавшийся ледостав прервал это занятие. Впрочем, когда по уловам реки лед окреп, то началась подлёдная рыбалка. Кандидата наук мы учили долбить лунки и ставить закидушки.
Долгими вечерами умевшие играть в преферанс расписывали очередную пульку. Кандидат наук в преферанс играл неплохо и был непременным участником игры. Как-то в очередной раз мы вчетвером сидели при свечах за картами и без особого интереса развлекались этим делом. Жили мы в старой бане, построенной когда-то Юрием Петровичем Беликом. Баня была просторная и вмещала всех нас — шестерых. Железная печка из полубочки прекрасно согревала помещение, но требовала неимоверного количества дров. Дрова, впрочем, не были проблемой, так как в устье речушки при паводках скапливалось много плавника, только знай разделывай топляки двуручной пилой.
Снаружи избушки в тот момент у костра оставались двое. Сергеев точил напильником пилу, Чайников потрошил зайцев и готовил ужин.
В какой-то момент научный сотрудник, прислушиваясь к звуку точимой пилы, спросил у остальных, что это там за звук снаружи. Женя Потапов, никогда не упускавший случая извлечь юмор из ситуации и за словом в карман не лазавший, ответил, что это Чайников зайца обдирает. Шутке внимания не придали, поскольку полагали, что N юмор понимает. Даже не среагировали, когда он переспросил, неужели у зайца такая прочная шкура. Потапов ответил, что, надо полагать, очень старый заяц попался. Наверное, тот русак, который бегал с петлей на шее. И лишь когда N вышел на улицу и увидел Сергеева за точкой пилы, он понял, что это за звук. Вернувшись к столу, он сказал, что и в самом деле принял звук пилы за обдирку шкуры зайца. Тут мы все зашлись от хохота, чуть не катались по полу. Я не помню другого такого случая, чтобы мы так много и от души смеялись. Оказывается, человек в солидном возрасте никогда не слышал звука точимой пилы и мог поверить, что это звук сдираемой шкуры зайца.
Он обиделся на нас, долго с нами не разговаривал, и на следующий сезон в тайгу с нами не просился.
НЛО
Долгое время я не верил в существование НЛО (то бишь неопознанных летающих объектов). Тем более, что сплошь и рядом сообщения в газетах об их появлении в том или ином месте были не что иное, как розыгрыши доверчивых журналистов со стороны скучающей публики, шутки озорных подростков или видения в воспалённом мозгу алкоголиков.
Но недавно мне рассказали историю о появлении НЛО в наших краях, к которой я не могу отнестись с обычным скептицизмом и недоверием.
В небе над Мирным однажды появился непонятный объект. Был он, несомненно, летающим и в конечном счете остался неопознанным. Засекли его локаторы. Впрочем, расскажу в той последовательности, какой придерживался старый пилот, имевший к этой истории самое непосредственное отношение. Повествование пойдет от его лица.
«Случилось это в 1973 году. В один пасмурный день прихожу в аэропорт, как обычно к пяти утра. Летал я тогда командиром Ил-14. В тот день наш экипаж стоял в резерве, но по заведённому распорядку мы обязаны были быть в порту рано утром. В диспетчерской царило необычное для такого времени оживление. Там был командир отряда и находились какие-то незнакомые люди (как я понял потом, сотрудники известных ведомств, обязанных охранять покой советских граждан). Шла оживлённая дискуссия, лица у всех были растерянные и озабоченные; по-видимому, случилось какое-то чрезвычайное происшествие. Из разговоров узнаю, что это действительно так. Невероятно, но локаторы показывают, что в небе над Мирным завис какой-то странный объект. И висит уже несколько часов. Размеры объекта довольно большие, по радиолокационным данным, в сечении около 800 квадратных метров. Визуально объект не наблюдаем, поскольку небо затянуто густой облачностью.
О том, что подозрительный объект появился в небе над Мирным, знают уже военные Москвы, Новосибирска и Читы. Оттуда поступают разноречивые указания, как с этим объектом поступить: сбивать его или не сбивать. Но сбить практически невозможно, поскольку он находится высоко, где-то в 20—25 километрах от земли. Пока шли дебаты и переговоры с военными и решалось, что в данной ситуации предпринять, объект стал постепенно снижаться и одновременно двигаться в сторону Сунтар. Когда он опустился до высоты, доступной самолетам, из Забайкальского военного округа поступило распоряжение — объект сбить. Меня вызывает командир Объединенного отряда и дает задание выполнить это распоряжение. Приказ начальника — закон для подчиненного. Но как это сделать? Что это за объект? Как его найти при сплошной облачности, если самолет не располагает бортовым локатором? И что если это не просто воздушный шар, а нечто более совершенное и управляемое? Словом, иди туда — не знаю куда, сделай то — не знаю что,
Можно, конечно, отказаться выполнять приказ, поскольку погода нелётная. Видимость в районе аэропорта практически нулевая. Экипаж вертолета Ми-8, получивший по всей вероятности такое же задание, поднимает машину над взлётной полосой и тут же сажает её обратно. В сплошном «молоке» пилоты лететь отказываются. Но я, посоветовавшись со своим экипажем, решаю рискнуть. В надежде на то, что, поднявшись над облачностью, объект этот увидим. А там уже примем решение. Любопытство берет верх.
Погода плохая, по-видимому, на всей территории Якутии. Об этом можно догадываться, поскольку запасным аэродромом ставят в задании Иркутск. Баки самолета заправляем под завязку на тот случай, если действительно придется туда лететь. В состав экипажа (радист, второй пилот, бортмеханик) придаётся дополнительно опытный штурман. На борт садятся пятеро солдат с винтовками и их командир с рацией. Винтовки с оптическими прицелами. Солдаты занимают места около иллюминаторов, и мы взлетаем. Идём как на боевую операцию.
Набираем максимальную высоту, но из облачности выйти не можем. Ко всему прочему сильная болтанка. Наземный локатор ведет самолет на «точку», как её называют с земли. Диспетчер сообщает расстояние до нее: «десять км, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, три, три» (на этой цифре как бы заедает, меньшее расстояние локатор не улавливает).
Видимости никакой, облачность сплошная, объект где-то рядом. Встреча с ним ничего хорошего нам не сулит. Убираю газ и с разворотом ухожу в сторону. Искать объект в «молоке» нет никакого желания, но приказ надо выполнять. Делаю вторую попытку. Результат тот же. Замечаю лишь, что при подходе к объекту облачность вроде бы густеет. Как будто он прячется в самых плотных облаках. Делаю третью, четвертую, пятую, шестую попытки. На счёт диспетчера «три» ухожу от возможного столкновения на разворот. Объект по-прежнему невидим.
Экипаж нервничает. Мне тоже не по себе. Столкновение с «точкой», даже если это обычный воздушный шар, грозит всем нам гибелью, это мы начинаем четко осознавать. А на борту 11 человек. Да и неясно, что это за объект. Может, он имеет средства активной самозащиты. При критическом сближении сработает автоматика, и нас как не бывало. И такие мысли приходят в голову. Штурман больше всех волнуется и настойчиво просит землю отменить приказ о преследовании. Наконец, не выдерживает и кричит в микрофон: «Вы что, толкаете нас на лобовой удар, что ли!?» С земли как бы нехотя соглашаются отменить операцию. Облегченно вздыхаем и прекращаем попытки сближения с объектом.
Самолет находится в ста сорока киломерах от Мирного, где-то в районе Тойбохоя. Возникает проблема: где приземляться. Ближайшие аэродромы все закрыты, лететь до Иркутска очень уж далеко. Решаем садиться всё же в Мирном, на знакомую полосу.
Видимости по-прежнему нет, но знание обстановки и везение выручают: приземляемся благополучно.
При заходе на посадку слышим переговоры пилотов двух истребителей, вызванных из Иркутска нам на помощь. Улавливаем фрагмент разговора: «Точка управляемая, с приближением самолетов уходит в облака». Узнаем также, что объект от Вилюя круто повернул и пошел в направлении Витима. Истребителям дана команда: объект преследовать, но не сбивать. Особо прислушиваться к эфиру не приходится, садимся в сложнейших условиях.
После приземления бросаю штурвал и отправляюсь домой, не заходя в диспетчерскую. Самочувствие отвратительное, нахожусь почти на грани нервного срыва. Только сейчас начинаю в полной мере осознавать, сколь безрассудным делом мы занимались и какой опасности подвергались.
В дальнейшем об этом объекте мы не слышали ничего. Если военные что-то и узнали, то не считали нужным делиться информацией со штатскими».
Вот такую историю поведал нам Юрий Николаевич Карновский, который и был тем самым командиром Ил-14, преследовавшим загадочный объект. Таковой, бесспорно, над Мирным появлялся, выдумать такую историю невозможно. Был объект летающим, и остался он неопознанным. То есть по всем признакам — типичный НЛО. Сторонники внеземных цивилизаций могут зачислить этот факт в свой актив. Скептики вроде меня могут только развести руками.
Но одна маленькая деталь заставляет усомниться в его инопланетном происхождении. На пахотное поле в четырех километрах от поселка Жархан упал с неба контейнер. Это видели трактористы, работавшие невдалеке. И упал контейнер именно в то время, когда Ил-14 гонялся в небе за прятавшимся в облаках подозрительным объектом. В контейнере находились аккумуляторы, какая-то фотоаппаратура, плёнка, словом, вещи вполне земные. Но с непонятными надписями на каком-то иностранном языке. Вездесущие мальчишки растащили эти предметы по дворам, но прилетевшие вскоре на вертолете военные дяди у них эту добычу поотбирали. Может быть, правда, кое-что и удалось им припрятать. Говорят, что жители Жархана хорошо помнят об этом небесном подарке. Бывшие пилоты экипажа Ил-14 тоже не могут об этой истории забыть.
P.S. Годом позднее, после публикации настоящего рассказа в «Мирнинском рабочем», в музей заглянул бывший работник известного ведомства, который как раз и летал с солдатами сбивать упомянутый объект. Он рассказал об этой операции более подробно и сообщил о конечном ее результате. В районе Тойбохоя упал не только контейнер, но и весь воздушный шар. Оболочку его вывезли на двух вертолетах. Добавила хлопот лишь операция по отнятию у жителей подаренных им с неба предметов. Оказывается, не только пацаны позарились на содержимое контейнера, но и взрослые дяди. У учителя школы пришлось почти силой отбирать часы, которые он приватизировал и упорно не хотел отдавать.
Неопознанный летающий объект оказался в конечном счете обычным воздушным шаром. Но с какой целью он зависал над Мирным, остаётся лишь догадываться. Не разгадали эту загадку и сотрудники известного ведомства.
ШАХМАТИСТКА
Амакинцы любили играть в шахматы. Зимой на камеральных работах развёртывались шахматные баталии между партиями, разыгрывалось личное первенство, иногда экспедиция выставляла команду шахматистов на районные соревнования. Да и просто так любители играли друг с другом и гоняли «блиц» в обеденные перерывы и длинными зимними вечерами. Иногда в камералке засиживались допоздна и собственно игроки, и болельщики. Особенно много последних собиралось, когда выясняли отношения лучшие игроки. Кое-кто играл, конечно, на «интерес», но интерес заключался разве лишь в том, кому бежать в магазин. На деньги не играли никогда.
Уровень игроков был разный, но большая часть любителей играла в силу третьего разряда, лишь некоторые едва дотягивали до второго. Был в экспедиции сильный шахматист — Володя Щукин, но он обычно в соревнованиях не участвовал. Да и не интересно с ним было остальным любителям играть, поскольку победить его никто не мог. Шахматные баталии приобретают смысл и интерес, лишь когда силы партнеров примерно одинаковы.
В один прекрасный день устоявшаяся шахматная жизнь амакинских любителей была нарушена вторжением в их ряды сильной шахматистки из города Львов, приехавшей на работу в экспедицию после окончания университета. В вечерних баталиях она начала разделывать под орех всех мужчин подряд, не считаясь с их положением в иерархии шахматных любителей экспедиции. Играла она действительно хорошо и увлечённо. Вскоре она уже положила на лопатки всех более или менее сильных игроков, добившись встреч с ними или в камералке, или даже на дому, куда она приходила со своими шахматами. Отказываться от игры с женщиной было неудобно и вскоре почти все любители шахмат испытали горечь поражения.
Только один любитель не стал с ней играть, это Петр Николаевич Меньшиков. «Играть с бабой, ни за что!» — наотрез отказался он. Само собой, он уже знал о результатах её встреч с другими шахматистами и, надо полагать, слегка трусил. Хотя был неплохой игрок и не обязательно бы потерпел поражение.
Я тоже всячески уклонялся от встреч с ней, но она меня поймала на квартире у моих знакомых, где мы собрались по поводу дня рождения или какого-то другого события. И когда она появилась, я уже был в подпитии и расхрабрившись, не стал от игры отказываться. Тем более и друзья мои на меня насели: ты что, дескать, трусишь, не позорься! Пришлось играть.
Надо сказать, что когда она играла в присутствии болельщиков, то вела себя крайне дерзко. Задирала партнера, кидая обидные реплики — «поливки», как принято говорить в среде шахматистов. Причём совершенно не считаясь с мужским самолюбием. Это вызывало к ней острую неприязнь как партнеров по игре, так и болельщиков. Её не любили все.
Так она вела себя и в игре со мной. Она была явно сильнее, и уже к середине партии я лишился слона и пешки. Проигрыш мой был явный, и болельщики мои приуныли. Но я не сдавался. Надо сказать, что когда-то в институте я входил в состав сборной факультета и не раз участвовал в соревнованиях. А одна из заповедей командного игрока — никогда не спешить сдаваться, даже если твоя позиция совершенно безнадежна. Это в тех видах, чтобы не деморализовать других игроков команды, ещё не закончивших партии.
В очевидно проигрышной позиции я тянул время. Это раздражало партнёршу. Она начала отпускать ядовитые реплики насчет моего умения играть в шахматы, пикировалась с болельщиками и перестала внимательно следить за доской. Естественно полагая, что победа уже обеспечена. И была наказана, проворонив матовую ситуацию. Причем классическую, известную из шахматной литературы, что опытному игроку непростительно. Ликованию моих болельщиков не было предела! Она же, сконфуженная и раздосадованная, предложила сыграть вторую партию, но тут уж я решительно отказался. Рисковать своей репутацией шахматиста более было нельзя; вторую партию я бы, вне всякого сомнения, проиграл, поскольку она была настороже и такого бы промаха больше не допустила.
Первое поражение в Нюрбе её хотя и огорчило, но не отрезвило. Тем более, что проиграла она случайно. И она вознамерилась помериться силами с самим Щукиным, о котором была уже наслышана. Она заявилась к нему вечером на дом со своей шахматной доской и предложила пари: если она проиграет две партии, то отдаст свои фигурные шахматы (а шахматы у нее были ценные, фигурки выточены из слоновой кости), а если выиграет, то потребует с хозяина то ли «американку», то ли ещё что-то, теперь забылось, что именно.
Но тут у неё сорвалось! Она проиграла подряд три партии и, заплакав, ушла. Шахматы оставила победителю. Мы не раз впоследствии играли в эти шахматы, не упуская случая упрекнуть Щукина за то, что он обидел даму, отняв у неё шахматы. Это не по-джентльменски. Тот оправдывался, что не сам же он был инициатором и не он определял условия игры. После этого фиаско шахматистка более ни с кем из амакинцев за шахматной доской не встречалась.
Отличалась она и некоторыми другими странностями и была нелюбима в коллективе экспедиции. Она окончила два университета. Помимо геологического, имела еще какой-то диплом и этим кичилась. Но в силу, по-видимому, излишней учёности была абсолютно непригодна к какой-либо конкретной полевой или камеральной работе. Бестолковость её просто поражала начальников партий, и те стремились всеми способами от неё избавиться. Покочевав из партии в партию около года, она уволилась и куда-то исчезла.
В своей житейской практике мне не раз приходилось убеждаться, что люди, оканчивавшие два курса наук, бывают малопригодны для практической деятельности. То ли они растрачивают свои потенциальные творческие способности в процессе длительной учебы, то ли по каким-то другим причинам, но ни на производстве, ни в науке они ничем не выделяются. В лучшем случае бывают обыкновенными середняками, в худшем — такими, как упомянутая выше шахматистка.
Последний раз мы увидели её с горки на окраине поселка в марте месяце. Она стояла на лыжах, но вела себя как-то странно. В одной руке она держала книжку, в другой лыжные палки. Сделав шаг на лыжах, она заглядывала в книжку, потом делала второй шаг и снова смотрела в книжку. Таким образом, с остановками для чтения, она продвигалась вперед. Кто-то из нас догадался, что она держала в руке самоучитель ходьбы на лыжах и по нему осваивала этот вид спорта. На это нельзя было смотреть спокойно; мы попадали в снег и ржали до икоты. Она же не обращала на нас никакого внимания и продолжала свое занятие. Вероятно, теоретический курс она освоила блестяще, но скоро снег растаял, и до практики дело, по-видимому, не дошло. На следующую зиму она уже нас не развлекала. Такая вот история с шахматисткой.
СТУДЕНТКА И «АННА ОНЕГИНА»
В какой-то полевой сезон я примкнул к отряду научных работников из одного НИИ, проводивших ревизионные работы по кимберлитам на севере Якутской алмазоносной провинции. В отряде было пятеро мужчин и одна молодая девушка — студентка третьего курса университета. Полевые работы были довольно напряженными, приходилось иногда ходить в трудные маршруты к отдаленным от места стоянок проявлениям кимберлитовых пород.
В полевой обстановке студентка проявила себя с хорошей стороны. Была вынослива в тайге, не боялась комаров, умела готовить нехитрую еду из консервов и крупы, аккуратно вела полевую документацию. Словом, не была отряду в тягость, как бывает с некоторыми универсантками, избалованными в родительском доме.
Однажды она отличилась тем, что нашла в одном из небольших ручьев довольно крупный обломок кимберлитовой брекчии. Естественно, вынесенный из не столь отдаленного кимберлитового тела выше по ручью. Кимберлиты в тех местах не редкость, но все они, за немногим исключением, не алмазоносны. Поскольку в шлихах из ручья алмазов не было, то искать коренное тело не стали. Но нарекли ненайденную трубку именем студентки, и образец кимберлита сохранили как курьезный экспонат для музея.
Надо сказать, что это был не первый случай находки кимберлитов в русловых отложениях современных водотоков, где коренные кимберлитовые тела не были обнаружены. К примеру, известный амакинский геолог Иван Галкин нашел несколько образцов кимберлитовой брекчии величиной с кулак в русловом аллювии на речке Беемчиме. Трубка выше по течению так и не была найдена ни им, ни при последующих поисковых работах. Назвал он эту не найденную трубку «Лира». Образцы с этой трубки тоже имеются в музее кимберлитов.
Впрочем, к теме рассказа эти истории не относятся.
Все сотрудники отряда на стоянках жили в одной шестиместной палатке, в том числе и студентка. Специально для нее палатка не ставилась; это было хлопотно, поскольку отряд передвигался и менял стоянки чуть ли не каждый день. По вечерам перед сном парни обычно травили всякие байки, развлекая друг друга бывальщинами и небылицами, кто во что горазд. Я иногда читал им стихи Василия Федорова, Ручьёва и Рубцова. Но даже хорошие стихи в неважном исполнении не всем нравятся, поэтому я не увлекался и редко соглашался что-либо декламировать. Студентке же стихи вроде бы нравились, и мне интересно было перед ней порисоваться знанием поэзии. Все мы были молоды, а в молодости тщеславны.
Студентка как-то прознала, что я знаю наизусть «Анну Снегину» и стала меня упрашивать, чтобы я поэму прочел. Не сразу я согласился, поскольку боялся сбиться, ибо заучивал поэму давно. Но поскольку студентка настойчиво меня уговаривала, то пришлось согласиться. По утрам, когда голова свежа, я восстанавливал в памяти забытые строчки, и через неделю мог уже сравнительно чисто цитировать поэму целиком.
В один памятный вечер, когда все забрались в спальные мешки и разговоры на дневные темы стихли, я начал читать «Анну Снегину». Поэма всем известна, чтение ее (если, как говорится, с чувством, с толком, с расстановкой) занимает не более сорока минут. Я и читал, стремясь доставить удовольствие студентке, с выражением, и с некоторым даже пафосом. Стихи поэмы изумительны, они завораживают и слушателей, и самого чтеца. Я воодушевился и, как мне казалось, читал не хуже профессионального артиста-декламатора. Особенно последние строчки:
...Иду я разросшимся садом, Лицо задевает сирень. Так мил моим вспыхнувшим взглядам Погорбившийся плетень. Когда-то у той вон калитки Мне было шестнадцать лет. И девушка в белой накидке Сказала мне ласково: «Нет». Далекие, милые были! Тот образ во мне не угас; Мы все в эти годы любили, Но, значит, любили и нас!Закончив читать, я ждал отклика от вроде бы внимательно слушавшей студентки. Но она молчала. Кто-то из парней насмешливо заметил: «Да она давно спит!» Парни дослушали поэму до конца, студентка же сладко заснула где-то на середине.
Больше я ей стихов не читал.
ГЛИССЕР
Глиссером принято называть быстроходное маломерное судно на воздушной тяге: движущей силой является не обычный гребной винт в воде, а лопасти авиамотора в воздухе.
В своё время на складах авиаотряда в Нюрбе скопилось несколько списанных моторов с ушедших в историю самолётов По-2, Як-12 и еще каких-то, летавших над Якутией в прежние годы. На новые самолеты их ставить было нельзя, а выбрасывать жалко. Рачительный хозяин такие вещи не выбрасывает, а стремится приспособить их для каких-либо хозяйственных надобностей.
Первым человеком, который нашел применение списанным моторам, был Алексей Иванович Гловяк, в то время заместитель главного инженера Амакинской экспедиции. Он предложил поставить авиамоторы на лодки, превратив их в глиссеры. На таких плавсредствах можно было развивать по глади Вилюя фантастическую скорость. Идея понравилась руководству Амакинки. С авиационным начальством быстро договорились о передаче двух списанных моторов геологам, и вскоре первый глиссер был построен и готов к «судовым испытаниям».
Но где же испытать его, как не на охоте за утками по Вилюю? Тем более, к моменту спуска глиссера утка была уже на крыле, и сезон охоты начался. Изъявили желание участвовать в испытаниях глиссера главный инженер экспедиции Суматов, парторг Скороженко, районный геолог Скульский (самый меткий стрелок в экспедиции) и еще кто-то из «элиты». Возглавил группу охотников сам Михаил Несторович Бондаренко, начальник экспедиции.
Охотники погрузились в лодку и оттолкнули ее от берега. Но не успел еще Алексей Иванович «нажать по газам», как лодка стала медленно клониться набок, а потом, видимо, в полном соответствии с законами физики, перевернулась. Охотники, искупавшись в холодной воде, без особых потерь имущества и травм выкарабкались на берег. Но, естественно, Алексею Ивановичу досталось от них «по первое число». Бон сказал, правда, всего лишь одно слово: М...дак!
История эта известна мне со слов Владимира Николаевича Щукина, наблюдавшего «судовые испытания» глиссера с крутого берега Вилюя.
На этом первая попытка сделать в Амакинке быстроходный катер закончилась. Незадачливый конструктор был отослан в полевую партию, а посудина куда-то исчезла. Но идея не заглохла. Она была подхвачена Леонидом Митрофановичем Красовым, начальником физической лаборатории. Его конструкторская мысль не могла пройти мимо заманчивой перспективы «довести до ума» скоростную лодку — глиссер. У него были хорошие знакомые в авиаотряде, и вскоре почти новенький авиамотор уже лежал под брезентом около его дома. Бондаренко к тому времени уволился из экспедиции, и возрожденный глиссер не был бы ему неприятным напоминанием о холодном душе.
Новая лодка строилась долго, едва ли не полгода. Её сколачивали все желающие из многочисленных знакомых Красова. Стимулом было обещание прокатить с ветерком по Вилюю, когда лодка будет готова. В конструкции лодки были учтены наиболее очевидные промахи, допущенные при строительстве первой модели. Принимались во внимание, кроме всего прочего, рекомендации журнала «Катера и яхты», который выписывал Борис Викторович Бабушкин. Тот тоже строил себе лодку по типу одной из описанных в журнале. Но и у него первая попытка также не увенчалась успехом, поскольку он не сумел правильно подобрать соотношение эпоксидной смолы и затвердителя (новых для того времени клеящих материалов). Эпоксидка «схватилась» у него раньше времени, не закрыв швы между бортовыми досками.
А у Красова лодка получилась, да ещё какая — устойчивая и крепкая! Мотор на ней был прикреплён таким образом, что лодка не теряла остойчивости даже на самых крутых разворотах. Лёня Красов с гордостью демонстрировал приятелям ходовые качества лодки и катал по реке всех небоязливых желающих. Скорость лодки была удивительной, наверное, под сто километров в час. Когда Красов носился на ней вдоль Нюрбы по Вилюю, на берегу собиралась большая толпа зевак.
Но недолго длился триумф Красова. Как известно, некоторым людям бывает плохо, когда другим хорошо. Районные начальники, едучи на рыбалку, не могли выносить ситуацию, когда их тихоходные казанки с мотором «Москва» кто-то со скоростью ветра обгоняет по Вилюю. Разве можно было такое терпеть?
И вот начались проверки: где Красов взял мотор? Есть ли у него разрешение на работу с авиационными двигателями? Положено ли по ТБ использовать глиссеры на геологических работах? Да и мало ли к чему можно было придраться районному начальству, которое не столь давно «съело» даже самого Бондаренко. Словом, обложили Красова, как волка флажками, со всех сторон. Ну, а полунамеками, без огласки, советовали продать глиссер кому следует.
Поупирался Лёня Красов, повозмущался, но понял: против местных властей не попрёшь. Глиссер он продал, но не им, а одному из нюрбинских пилотов. Какому-то заслуженному лётчику, который болт забил на всё районное начальство. Но и тот ездить по Вилюю на глиссере всё же не решался. Куда-то потом он его переправил, вероятно, по месту жительства на «материк». Так нюрбинцы и не увидели больше на Вилюе чудо-лодки. А прочие списанные моторы с лёгких самолетов так и сгнили на складах авиаотряда.
«АМАКИНСКИЕ РЕБЯТА» И «ТОНКИЕ РЯБИНКИ»
В составе самодеятельности Амакинской экспедиции в семидесятые годы было великолепное трио балалаечников — «Амакинские ребята». Многие годы оно выступало в неизменном своем составе: Иван Галкин, Саша Ефимов, Володя Синицын. Бог ростом их не обидел: все как один за метр девяносто пять.
«Амакинские ребята» были гвоздем программы самодеятельных концертов на многих праздничных вечерах. Появление их на сцене приветствовалось бурными аплодисментами массы зрителей и жидкими хлопками управленческих работников, беспокойно ёрзавших на стульях в первом ряду. Что-то на сей раз поднесут в частушках «Амакинские ребята» работникам аппарата экспедиции? Чьё имя будет подвешено на смех зрителей? Кого просклоняют в рифмованных строчках?
Но, как правило, трио гигантов было настроено благодушно, и в репертуаре их преобладал юмор, а не сатира. Но какой юмор!
Хоть хороших трубок мало, — Волноваться не резон... Всё равно в конце квартала Нас поздравит Лейзерзон!(Лейзерзон был в те годы председателем теркома Якутского геологоуправления и обычно поздравлял амакинцев с праздниками, с выполнением геологических заданий и прочими памятными событиями).
Или, например, не раз звучавшую актуально после сезона поисковых работ в новых районах алмазоносности, не всегда удачных:
Амакинские ребята В новый двинули район: Раскопали два карата, Закопали миллион.Когда происходил очередной бум с лауреатством, а некоторые амакинцы пытались прорваться в науку, в репертуаре «Амакинских ребят» появилась частушка:
Не попасть в лауреаты, Слишком много их вокруг. Лучше двинуть в кандидаты Хоть каких-нибудь наук.В классический репертуар амакинской самодеятельности вошли частушки «Мы гуляем — дело знаем», «Мы не сеем и не пашем» и многие, сейчас позабытые, но для своего времени злободневные и остроумные.
Достойными напарницами «Амакинских ребят» были «Тонкие рябинки». Сколько эмоций вызывало у зрителей появление их на клубной сцене! Тонкие как тростиночки — что вдоль, что поперек! А с каждым годом пропорции все круглее и круглее. В их репертуаре были, к примеру, такие частушки:
Посмотрите, как красиво Выступает, грудь вперед! Наша женщина-дружинник Хулиганов бить идёт.Это когда женщин стали включать в добровольные дружины по наведению порядка в Нюрбе.
Или про дома с центральным отоплением, горячей водой и со всеми удобствами в квартирах, которые появились в семидесятые годы:
В нашем доме все удобства, Но уже который год Всё, что может, промерзает, Что не может, то течёт.Не очень продуманные мероприятия руководства экспедиции по экономии зарплаты или по части сокращения штатов вызывали у частушечников соответствующую реакцию:
Сила есть — ума не надо, Управлению споем: Урезать у нас зарплату — Недозволенный прием. В экономике с трудом Геолог разбирается; Как же это — план растёт, А штаты сокращаются?Запомнилась частушка, закруглявшая выступление «Тонких рябинок» на одном из геологических вечеров:
Мы не только петь умеем, Мы и делать можем всё. А при случае — и рюмку Мимо рта не пронесём.МАМОНТ
Амакинцы любили шутку. И ни одно 1 апреля не проходило без розыгрышей. Они были самыми разнообразными: от примитивных («тебя вызывает начальник» или «в магазине водку продают») до весьма изощренных и остроумных. Один такой розыгрыш имел место в 1982 году и благодаря поэтическому его оформлению сохранился в памяти амакинцев.
Владимир Феодосеевич Симоненко, начальник Эбеляхской партии, прислал в Нюрбу радиограмму, в которой уведомил руководство Амакинки, что в одном из разведочных шурфов найден замерзший мамонт. Начальник экспедиции Валентин Филиппович Кривонос отдал РД главному геологу экспедиции Валерию Макаровичу Подчасову с припиской, что вряд ли это вероятно для изучаемых современных отложений. Тот, не посмотрев на дату отправки радиограммы и не вникнув в ее суть, тотчас позвонил в Якутское геологоуправление (что называется, не заглянув в святцы, да бух в колокол). Там тоже не придали значения числу месяца, и эту радостную весть сообщили в ЯФАН. Естественно, ученые всполошились и обрадовались. Да это и понятно: не каждый день в мерзлоте находят останки мамонтов. Тут же снарядили двух «мамонтоведов» проверять заявку.
Дальше история несколько запутанна. То ли «мамонтоведы» прилетали в Нюрбу, то ли не успели прилететь, поскольку амакинцы дали отбой, сообразив, что весть о мамонте — первоапрельская шутка, осталось невыясненным. Но билеты на самолет они брали, это точно. Вероятно, потом ученые попеняли геологам за обман, а может, и не попеняли, но тем самим было неловко (естественно, так дешево купиться!), но продолжение истории было такое. Симоненко наказали: то ли вынесли административное взыскание, то ли лишили премии за то, что «засоряет пустяками эфир» (классическое выражение бывшего заместителя начальника экспедиции П. Д. Мартыненко). Словом, первоапрельская шутка вышла ему боком. Впоследствии он точно не попал в африканскую командировку.
А поскольку общественный резонанс был очень широк и продолжителен, то через какое-то время шутку обыграли в стихах (автор Г. Г. Камышева):
Однажды Симоненко Владимир Федосеич, А может быть, Зарецкий Михалыч Леонид Отправил с Эбеляха в Нюрбу радиограмму, А может, не отправил, а лично доложил? В ней срочно сообщалось, что где-то в неогене Шурфом раскопан мамонт, а может, овцебык. Чтоб в этом разобраться, чтоб не было двух мнений, Пришлите кандидатов каких-нибудь наук. Ученые собрались, на крыльях прилетели! А мамонт вдруг встряхнулся и рысью припустил... Товарищ Симоненко Владимир Федосеич На первое апреля немножко пошутил! Пока в Нюрбу тот мамонт, а может, и не мамонт, А может, мамонтиха, а может, овцебык Бежал себе тихонько, а может, и быстрее, А может, и в снегу залег? В Нюрбе раздался крик: «Товарищ Симоненко, — сказал ему Подчасов. А может, не Подчасов, — сам батька Кривонос? — Что будет есть в дороге проснувшийся тот мамонт? Как думаете в целом решать такой вопрос?»Здесь надо отвлечься и заметить, что фраза «решать вопрос в целом» была одной из любимых и часто употребляемых В. Ф. Кривоносом. Наблюдательные амакинцы не преминули это подметить в стихе:
«Чтоб мамонт тот не помер, дошел живой-здоровый, Чтобы наука знала, как он в пути живет, С тринадцатой зарплатой придется Вам расстаться, Она пойдет на корм тому, кто к нам пешком идет!» Вот время пролетело, уехал Симоненко, В Чернигове с семьею спокойно он живет. Но помнит Амакинка, что Эбеляхский мамонт, А может, мамонтиха тайгою все бредет. «Мы рады сообщить Вам, Владимир Федосеич, Что мамонт ваш живучий и даже дал приплод! С восторгом сообщаем, что первого апреля От этого животного родился бегемот!!!»АМАКИНСКАЯ ПЕСНЯ
Потому, что мы народ бродячий, Потому, что нам нельзя иначе, Потому, что нам нельзя без песен, Потому, что мир без песен тесен!Можно сказать без преувеличения, что кипучая история Амакинской экспедиции отразилась и воплотилась в песне, как ни в каком другом проявлении экспедиционной духовной жизни. В песнях находили свое воплощение радости и печали геологов, праздничное настроение и будничные заботы, возвышенное и смешное. Всего коснулась песня.
Вряд ли можно назвать точную дату, когда зародилась амакинская песня. Наверное, она появилась с первым отрядом геологов, который пришел на якутскую землю искать алмазы. Были, по-видимому, среди первопроходцев и незаурядные песенники. Не зря сохранилась память об одном прорабе (хотя фамилия его забылась), который так проникновенно пел:
Что затуманилась, зоренька ясная, пала на землю росой, Что пригорюнилась, девица красная, очи покрылись слезой...Из слышавших его никто и никогда потом не мог воспринимать эту песню с полным удовлетворением ни в каком другом исполнении.
Песни «киндейцев»[9]
Да простят меня более старые, чем я, амакинцы (не в смысле возраста, а с начала работы в Амакинке; я — с 1956 года), если я осмелюсь утверждать, что амакинская песня началась с «киндейцев». Была такая легендарная съемочная партия Натальи Владимировны Кинд. Партия, состоявшая почти исключительно из женщин — молодых специалисток и студенток, веселых, жизнерадостных, музыкально одаренных. Очевидцы рассказывали, что в необыкновенно трудной своей работе, в маршрутах истинных первопроходцев редко бывали у них вечера без песен — в палатке или у костра. И совершенно точно, это я уже могу засвидетельствовать, — не было ни одного вечера без песен в Нюрбе, на камералке, в кругу друзей и любителей песни.
Репертуар киндейцев был обширен. Здесь и студенческие, и московские, и геологические, и таежные сибирские, и прочие разные, неизвестно откуда взявшиеся песни. В те далекие теперь уже годы амакинцы только начинали привыкать к Якутии, к ее безлюдью и просторам, суровому климату, комарам и болотам. Не случайно, по-видимому, родились такие строки на мотив популярной тогда песни «Индонезия»:
Лесами хилыми покрытая, Дождями изредка омытая, Страна любимая Якутия, Не знаю, что к тебе влечет. Тебя ласкает солнце бледное, В лесах мошка ютится вредная, А поперек тебя могучая Река Вилюй течет...Несмотря на вроде бы пессимистические слова последнего куплета,
Нас кормят наши ноги верные, Мы все ревматики, наверное, А голова для накомарника Всего лишь нам дана,песню любили самые заядлые оптимисты. Распевали ее часто и повсюду, в каждой компании, при любом стечении публики. Поется она «стариками» и сейчас, но реже и, конечно, не с таким вдохновением, как в былые времена.
Не всем москвичам (а киндейцы были в основном москвички) были по душе якутская тайга, комары летом, морозы зимой, поэтому не меньшей любовью пользовались и другие, «негативные» по отношению к якутской природе мелодии. Например:
Ах, если б знала мать моя, что в Якутии буду я, Она бы никогда меня на свет не родила!Часто пелась в те годы не то чтобы грустная, но и не очень жизнерадостная песня «Зачем забрал, начальник, отпусти!»:
Раз в московском баре мы сидели, (Жора Лавренев туда попал!), И когда порядком окосели, Он нас на Вилюй завербовал В края далекие, гольцы высокие, Где лишь Макар над картами сидит, Без вин, без курева — житья культурного — Искать стране таежный кимберлит.Песня кончалась страстной мольбой к начальнику, чтобы отпустил он завербованных обратно:
К вину и к куреву — житью культурному — Скорее нас, начальник, отпусти!Большой любовью у киндейцев пользовались старинные народные, но в те годы удивительно актуально звучавшие песни «Глухой неведомой тайгою», «По диким степям Забайкалья», «Далеко в стране Иркутской». Как душевно они пелись у костра, посреди самой что ни на есть глухой и неведомой тогда еще тайги. Правду сказать, не менее душевно они звучали и под крышами гостеприимных домов в Нюрбе.
Зажигательно пелась «Бригантина», тогда еще только приобретавшая известность:
Пьем за яростных, за непохожих, За презревших грошевой уют. Вьется по ветру веселый Роджер, Люди Флинта песенки поют!В репертуаре киндейцев были любимые в геологической среде песни «Закури, дорогой, закури», «Я смотрю на костер догорающий», «Я по свету немало хаживал», «Глобус»:
Я не знаю, где встретиться Нам придется с тобой. Глобус крутится, вертится, Словно шар голубой. И мелькают города и страны, Параллели и меридианы, Но таких на нем пунктиров нету, По которым нам бродить по свету.И много других, веселых и грустных, озорных и серьезных, задорных и унылых песен на любой случай жизни, под любое настроение. Но гвоздем репертуара киндейцев была бесподобно исполняемая ими «Бодайбинка»:
Ой да ты, тайга моя густая, Раз увидев, больше не забыть! Ой да ты, девчонка молодая, Нам с тобой друг друга не любить...Бодайбинка так хорошо рифмовалась с Амакинкой. Не случайно потом, через много лет, среди тех, кто навсегда расставался с Амакинской экспедицией, родились такие слова на мотив «Бодайбинки»:
Отшумели годы Амакинки, Мы ушли с Вилюя навсегда.Песни геофизиков пятидесятых годов
Трудно сказать точно когда, но песенная болезнь как-то незаметно перекинулась на буйную ватагу геофизиков, перекочевавшую в Амакинку из Восточной экспедиции Западного геофизического треста. Это была сплоченная «банда» молодых и старых специалистов, главным образом ленинградцев, которых судьба и собственный авантюрный характер собрали под предводительством Петра Николаевича Меньшикова в нюрбинских хотонах в 1955—1956 годах. Было их до полусотни, они были полны сил, энергии, задора и дружны между собой. Праздники и дни рождения справлялись почти еженедельно, при большом стечении гостей, и непременно в сопровождении стихов и песен.
Песни пелись часами, а иногда и ночами — до утра. Репертуар был пестрый и удивительный. Следом за торжественной «Ленинградской застольной» могли запеть «Фай-дули-фай», сразу за серьезной «Песней о нормандских летчиках» можно было услышать «Сюзанну», «Ну-ка, Машка, эх, она каналья!» или «Кузнечик, который коленками назад».
Такую что ли «всеядность» к любой песенной продукции, наверное, трудно понять строгим ценителям музыки, но объяснить ее можно. Почти все тогда были молодыми, общительными, песни буквально так и рвались из груди. А перечень песен, поставляемых штатными композиторами и рекламируемый с экрана кино, был не в пример беднее, чем уже, к примеру, в восьмидесятые годы. Магнитофонная эра еще не наступила.
Битлов, бардов, «Голубых огоньков», конкурсов эстрадных песен не было и в помине. Вот почему пелось все, что случайно попадалось кому-нибудь из амакинских песенников. Конечно, хорошие песни из кинофильмов тут же подхватывались. Например, сразу была взята на вооружение отличная песня из кинофильма «Земля Санникова»:
Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, Именно он называется жизнь.Точно так же сразу была принята «Надежда», пришедшая в Нюрбу то ли с экрана кино, то ли по радиосети:
Надежда — мой компас земной, А удача — награда за смелость. А песни — довольно одной, Чтоб только о доме в ней пелось...В основном же песни привозились из поездок на «дикий запад». Скажем, побывал кто-то из поющих амакинцев в Москве, слышишь, вскоре после его возвращения уже ходит по Нюрбе новая песня. Так появилась, к примеру, «Чува»:
Ой, ты чува, моя чува, тебя люблю я, За твои трудодни — дай поцелую...Или «Охотный ряд»:
Сюда приходят девушки весной, Надев свой самый праздничный наряд. Их не пугает Карла Маркса борода. Охотный ряд, Охотный ряд!..Или как сатирический отклик на лозунги тех оптимистических лет «Чтобы жизнь была легка»:
Друзья, вперед! — догоним США По производству мяса, молока, А после перегоним США По потребленью вин и табака! Нас ждет молочная река и мясные берега, Избыток потребления на душу населения.Привозились песни из курортных мест — из Крыма, с Кавказа. Одно время, например, с удовольствием распевалась «Голубая пижама»:
Снаряженье мое — туфли-лак и панама. Изумляет Сухум мой туристский костюм — голубая пижама!Часто слышалась шуточная, студенческая или туристическая песня про Анапу:
Поеду я в город Анапу, куплю себе черную шляпу И буду сидеть на песке в своей непонятной тоске...Как-то появилась в Нюрбе песня-пародия, сочиненная на стихи известного в те годы поэта, в которых он возмущался безнравственностью молодежи в курортных местах. Стихи его почти дословно цитировались в пародийной песне:
Среди залива Коктебеля лежит роскошная земля — природа, бля, природа, бля, природа! Но портят эту красоту сюда наехавшие тунеядцы, бля, моральные уроды! Вид у девчонки очень гол, куда же смотрит комсомол и школа, бля, и школа, бля, и школа?И все остальное в том же духе. Кончалась песня куплетами:
И если скажут, что статью я для рубля писал свою, не верьте, бля, не верьте, бля, не верьте! Статью писал не для рубля, а потому, что был я, бля, и есть я, бля, и буду, бля, до смерти!Часто в компаниях исполнялись песни про Одессу. Или, как говорят одесситы, «за Одессу». Почему была такая тяга именно к песням об Одессе, непонятно. Одесситов среди амакинских геологов и геофизиков не было, если не считать приехавшего позднее начальника экспедиции М. А. Чумака. Но и тот был скорее не любителем, а разве что героем сочиненных амакинцами песнопений, или, если точнее, жертвой последних.
С великим удовольствием мужчинами распевалась одна из одесских песен:
Я с детства был испорченный ребенок, На папу и на маму не похож; Я женщин обожал еще с пеленок... Эх, Жора, подержи мой макинтош!Но коренной песней про Одессу была, пожалуй, известная «Поэма за Одессу», в которой перечислялись чуть ли не все знаменитости, побывавшие в этом городе:
За Бальзака не надо говорить — В Одессе он набрался вдохновенья. А Сашка Пушкин тем и знаменит, Что вспомнил тут он чудное мгновенье. Я за Одессу вам веду рассказ: Бывают сцены здесь и с матом, и без мата, Но если вам в Одессе выбьют глаз, То этот глаз уставит вам Филатов.В конце поэмы выражалась твердая уверенность, что Одесса когда-нибудь станет центром мира:
Одесса-мама радует мой глаз, И об нее вздыхает наша лира. И верю я, что недалек тот час, Когда Одесса станет центром мира.Очень популярной из одесского цикла была и бесподобно солируемая Юрой Усовым песня о «Вышибале Алехе»:
В губернский розыск поступила телеграмма, Что наступил критический момент: Одесса-мама переполнена ворами, И заедает темный элемент. Алеха шпарит на баяне, Гремит посудою шалман. В дыму в табачном, как в тумане, Плясал одесский уркаган!Но, пожалуй, первое место по частоте исполнения занимала фривольная «На Дерибасовской открылася пивная». Сочинение, по-видимому, нэповских времен. Несмотря на пикантное содержание, а может быть, именно поэтому, песня была очень популярной у амакинских холостяков — любителей красивой жизни:
На Дерибасовской открылася пивная, Там собиралася компания блатная: Там были девочки Маруся, Роза, Рая И ихний спутник Васька-шмаровоз.Конечно, скромные семейные товарищи воздерживались от участия в таких песнопениях, предпочитая морально выдержанные песни про ту же Одессу. Такие, к примеру, как «В тумане скрылась милая Одесса», «Одесский порт в ночи простер», или утесовскую «Одесса — мой солнечный город». В крайнем случае выбирали нейтральные куплеты:
Мне здесь знакомо каждое окно, И девушки — хорошие такие; Одесса, мне не пить твое вино И не утюжить клешем мостовые!У каждого из геофизиков были свои любимые песни, каждый солировал и не заставлял себя упрашивать, когда приходила его очередь запевать:
Андрей Орлов — «Если не попал в аспирантуру», «Сурово плещет Баренцово море»; Евгений Саврасов — «Фай-дули-фай», «Мы идем по Африке»; Майя Орлова — «Когда запас бензина маловат», «Электричество»; Юра Усов — «Таганка», «Воркута — Ленинград»; Неля Мурашкина — «Киса-Мурочка», «Дура»:
Я не знал, что ты такая дура, Как корявый пень твоя фигура, Морда, как лепешка, а еще немножко, И в зверинец можно отвести...;Исаак Березин — «Ночь. Париж. Свет тусклых фонарей»; Виктор Сипаров — «Я в Рио-де-Жанейро приехал на карнавал»; Тамара Кутузова — «Сам я вятский уроженец»; Джемс Саврасов — «Куда ведешь, тропинка милая», «Виновата ли я»; Коля Романов — «Океан шумит угрюмо», «Зашел я в чудный кабачок»; Толя Лебедев — «Дуня-тонкопряха»; Толя Уставщиков — «Ты не плачь, не плачь, моя хорошая», «Что-то мне, товарищи, не сидится дома».
Разумеется, не менее дружно пелись и «бесхозные» песни, в том числе модного тогда Ива Монтана, только что вернувшегося из-за границы Вертинского, вездесущих Бунчикова и Нечаева, Клавдии Шульженко.
Вздрагивала спящая Нюрба, когда среди ночи слышался пронзительный голос Николая Романова, поддерживаемый мощным хором из доброй дюжины глоток:
Хорошо в степи скакать, Вольным воздухом дышать. Лучше прерий места в мире не найти, Вар-вар-вар-вары! Мы ворвемся ночью в дом И красотку уведем, Если парня не захочет полюбить...Подарком для гостей в день рождения Бориса Викторовича Бабушкина была совершенно неподражаемо исполняемая им старинная русская песня «Цареградские сапожки» под собственный аккомпанемент на гитаре:
Спит курган во мраке ночи, В долине стелется туман. Ты приходи ко мне, красотка, На тот на дальний на курган...Кто хоть раз слышал эту песню в его исполнении, тот навсегда становился ее рабом. Трудно словами передать то чувство, которое возникало у слушателей, песня просто зачаровывала. Мелодия долго потом звучала в памяти, но воспроизвести ее так, как мог Борис Викторович, не удавалось никому.
Непревзойденным певцом-актером был Станислав Станиславович Кульвец. Песенный багаж его не был обширен. Он знал всего три песни: «Туча», «Приглашен был к тетушке» и «Расскажу я, братцы, как я воевал». Но как он их исполнял! Он не просто пел, он играл песню. Перевоплощался в героев песни и изображал их перед зрителями. Надо было видеть и слышать, как он заканчивал «Тучу»:
В район идет машина, Водителю смешно...При этом «крутил баранку» и заразительно смеялся. Как тот самый водитель, который увидел:
Стоят, обнявшись, двое, А дождь прошел давно.Как уморительно изображал он финальную сцену из «Тетушки»:
Я проснулся раньше всех... Морда вся украшена: Фонари навешены, рыло стало страшное. Весь пиджак изодратый, на нём жир от курицы, Один сапог на столе, а второй на улице.В своей третьей песне, переделанной во время войны какими- то танкистами из песни батьки Махно в известной роли Бориса Чиркова, куплеты пелись только самим Кульвецем, а припев подхватывали слушатели:
Башенный с радистом бинтует раны мне, А моя машина догорает в стороне. Эх, любо, братцы, любо, любо, братцы, жить, В танковой бригаде не приходится тужить!Расцвет песенного творчества геологов-алмазников совпадает в основном с нюрбинским периодом, когда Амакинская экспедиция, базировалась в пос. Нюрба и был сплоченный геологический коллектив единомышленников. Позднее часть молодых специалистов разъехалась, часть геологов переехала в г. Мирный в Ботуобинскую экспедицию и другие организации. Со временем стали уезжать из Якутии и ветераны. Однако песни продолжали жить, хотя чаще всего, особенно в городских условиях, они стали звучать в небольших компаниях. И лишь при крупных встречах старых друзей, связавших с алмазной геологией многие годы своей жизни, амакинские песни вновь звучат в полную силу.
ШЕДШИЕ ВПЕРЕДИ
ГРИГОРИЙ ХАИМОВИЧ ФАЙНШТЕЙН: Я ЛЮБЛЮ ГЕОФИЗИКОВ[10]
— Люблю геофизиков! — таким восклицанием обычно приветствовал меня Г. X. Файнштейн, когда наши с ним дороги пересекались где-нибудь в Мирном, на косе Соколиной или в Иркутске.
Такое приветствие появилось у него после того, как однажды он побывал в одном многолюдном застолье с амакинскими геофизиками, как всегда проходившем в непринужденной дружеской обстановке, с обилием песен под баян и гитару, со стихами-экспромтами. Надо сказать, что у геологов-алмазников такие массовые компанейские встречи бывали реже. Большей частью они были разъединены по семьям, да и меньше случилось в их среде песенных и музыкальных талантов. У геофизиков же сложился дружный песенный коллектив еще тогда, когда они существовали в Нюрбе отдельной небольшой экспедицией от Западного геофизического треста. Да и позднее, когда геофизическую эспедицию поглотила Амакинка, в их коллектив неоднократно вливались песенные и музыкальные таланты выпускников МГРИ и других вузов. Григорию Хаимовичу, при его кипучей и общительной натуре, импонировало такое сообщество, и он этого не скрывал: Молодцы, геофизики!
Наши с Г.Х. приятельские отношения начались, пожалуй, с тех дней, когда он снимался в фильме какого-то залётного чешского режиссера. Почему первое кино про алмазников делал чех, а не наши киношники, осталось для меня загадкой, но это было так. Снимался фильм то ли в 1958 году, то ли годом позже, сейчас забылось. Я жил в одной из комнат только что построенного двухквартирного дома 200-й партии, которая отводилась под гостиницу. Ко мне подселили Г.Х. и Юру Хабардина, прилетевших в Мирный специально для киносъемок. До этого знакомство наше было шапочным, а за несколько дней совместного проживания мы почти что подружились.
Утром Г.Х. и Хабардин уходили на съёмки, где-то бродили по горящей тайге (специально поджигаемой!), импровизируя переходы через огонь с навьюченными лошадьми. Вечером приходили домой грязные, задымленные и от души матерились.
— Ни разу в такой передряге, как сегодня, мы не были, — возмущался как-то Файнштейн. — На работе такого не случалось! С чего бы это мы полезли в огонь?
Фильм, однако, должен был получиться хорошим. На фрагментах его было видно, как Коля Дойников (коллектор Файнштейна) ведёт упирающихся лошадей, как от огня чуть ли не тлеют вьючные сумы. К сожалению, в цельном виде фильм так и не появился. Возможно, его не запустили в прокат; всё же алмазы в те годы были полузасекреченными.
Запомнилась давняя встреча с Г.Х. в городе Якутск. По каким- то делам они с Хабардиным прилетели в столицу то ли с проектом, то ли с отчётом по своим работам. Жили мы в одном номере гостиницы «Тайга», что на улице Орджоникидзе («Лена» еще не была достроена). Жили в тесноте, но, как говорится, не в обиде. Попасть в «Тайгу» тогда было непросто, она была единственной гостиницей на весь город, но если кто из амакинцев заселялся, то остальные командировочные проникали в неё нелегально и жили иногда впятером в однокомнатном номере. Служительницы гостиницы смотрели на это сквозь пальцы. Таким путем и мы оказались с Г.Х. и Юрой в гостинице «Тайга».
Развлечений в те годы в Якутске не было считай что никаких. Русский театр вроде бы уже функционировал, но нам и в голову не приходило пойти в театр, никаких позывов к этому не появлялось. Ходили мы обычно по треугольнику: Геологоуправление — ресторан — гостиница. Иногда, правда, наведывались еще в баню, находившуюся поблизости. Так и в тот раз. Жили уже дня три или четыре. Геологические темы разговоров были на пять рядов перелопачены, и жилось нам скучно. Это обстоятельство и толкнуло Г.Х. на неожиданный для его возраста поступок: мы попали с ним на танцы!
Дело было так. В какой-то вечер после ужина в ресторане «Северный» (тоже в те годы единственном на весь город, если не считать ресторанчика в аэропорту) мы шли по городу и решительно не знали, куда себя девать. Но тут мне в голову пришла шутливая идея: а не пойти ли нам всем на танцы? Идея была не беспочвенная: в тот вечер я был приглашен знакомыми девчонками из лаборатории физических свойств в клуб МВД на какой-то концерт и последующие танцы. Туда я собирался направиться, но никак не предполагал, что на эту идею клюнет и Г.Х. Тем более, что на нём была обычная геологическая спецовка, кирзовые сапоги и неизменно на боку висящая полевая сумка (цивильную одежду в те годы он презирал). Но он вдруг согласился и решительно заявил: «Пойдем!»
Клуб МВД находился на улице Дзержинского. Туда мы и направили свои стопы. Завалились в клуб бесцеремонно, Г.Х. и Хабардин даже не стали раздеваться, уселись на скамейку около стенки зала, в котором уже вовсю резвилась молодёжь. Меня девчонки сразу же потащили танцевать, а Г.Х. с Юрой внимательно наблюдали, с кем это я танцую. Девчонки, правда, не прочь были вытащить и их на круг, но тут уж те застеснялись: все же в такой амуниции танцевать было не совсем прилично. Остаток того вечера прошел в гостинице без обычной скуки: Г.Х. и Хабардин живо обсуждали достоинства и недостатки, на их взгляд, моих партнёрш по танцам.
Перейдя работать в Иркутск, Г.Х. уже редко навещал алмазные края. Но в Иркутске мы стали встречаться регулярно; оттуда была моя жена, и по семейным обстоятельствам мне приходилось наведываться в этот город часто. Когда я заходил в его кабинет на четвертом этаже ВостСибНИИГГиМСа, где он работал, то слышал неизменное: «Люблю геофизиков!» Одно время он жил поблизости от института на улице Карла Маркса. Как-то зазвал меня на обед, познакомил с женой Галей и показал свой большой рабочий стол с тумбами и выдвижными ящичками.
— Здесь я буду работать над диссертацией, — сказал он, преисполненный, по-видимому, благих намерений. Но диссертация у него не состоялась: не тот он был человек, чтобы упорно сидеть над бумагами. А идеями его, без каких-либо ссылок, воспользовались после его смерти не очень чистые на руку сотрудники его лаборатории, считавшиеся его учениками.
В 1969 году, подсобрав свои материалы по магнетизму кимберлитов, я зашел к Г.Х. в институт. После его традиционного «Люблю геофизиков!» и обмена новостями я поведал ему о цели своего визита. Сказал, что собираюсь поступить в аспирантуру и имею с собой материалы к будущей диссертации. Хотелось их показать главному алмазнику Иркутска Одинцову. Не раздумывая долго, Г.Х. снял трубку и позвонил Михаилу Михайловичу. Сказал, что у него тут появился соискатель из Якутии, некто Саврасов, и неплохо бы посмотреть его материалы. Тут же договорились о встрече, и через пару часов мы уже были в кабинете у Одинцова. Встреча эта мне запомнилась на всю жизнь, как и сам Михаил Михайлович, здоровяк, за директорским столом в обширном и довольно прохладном кабинете.
Пока Файнштейн и Одинцов говорили о каких-то своих делах, я раскладывал на столах кабинета свои рисунки и прикнопливал чертежи. Мих. Мих. внимательно просмотрел рисунки, задал несколько вопросов и остался, видимо, материалами доволен. Особенно его заинтересовали включения траппов в кимберлите трубки Мир и оценка предполагаемого возраста интрузий, из которых они попали в кимберлит. Тут у них с Г.Х. разгорелась целая дискуссия. Да и я её подогрел, сообщив, что в трубке Мир трапповые породы только среднепалеозойского (по В. Л. Масайтису) возраста, с чем Мих. Мих. решительно не хотел соглашаться. После дебатов на эту тему Одинцов позвонил заведующему лабораторией кимберлитов Борису Михайловичу Владимирову и попросил его зайти. Когда тот появился в кабинете, Мих. Мих. без всяких околичностей предложил ему быть моим научным руководителем. Тот пробовал отнекиваться, дескать, он геолог, а не геофизик, и ему несподручно быть руководителем геофизической работы. Но Мих. Мих. не стал слушать возражений: «Ерунда! Справишься!»
Ровно через год я уже вышел на Ученый совет ИЗК с защитой своей диссертации. Учёный совет вел Одинцов. На заседании рассматривались сразу две кандидатские. Напарник мой был из Инстатута геохимии. Моя защита прошла довольно быстро, а его затянулась, и я долго переживал за свою оценку. Хотя Г.Х. меня и подбадривал: «Не волнуйся, всё нормально!»
После защиты главная моя забота была загрести на банкет возможно большее число членов Ученого совета. И обязательно председателя, Михаила Михайловича Одинцова, которого мой напарник мог перехватить. В конечном итоге Мих. Мих. все же оказался за нашим столом, возможно, не без помощи Григория Хаимовича, принимавшего самое активное участие в подготовке банкета.
Тогда ещё не было запрета на этот вид благодарности от соискателей членам ученых советов после защиты диссертаций. Банкет готовился открыто в столовой института. Дверь из вестибюля в столовую была стеклянной и члены Ученого совета, прогуливаясь в перерывах по вестибюлю, могли видеть сервировку стола через стеклянную дверь. Там шаманил Игорь Кузьмич Шалаев, мой друг и старый работник 200-й партии Амакинки. Расставлял на столах наши с трудом добытые (такое было время!) спиртные запасы, и даже бутылки с коньяком, которые он ухватил где-то за городом, потому что коньяк в магазинах Иркутска достать было невозможно.
Помимо директора института за нашим столом оказались два его заместителя и несколько ведущих сотрудников ИЗК (Института земной коры). Банкет проходил очень оживленно. На похвалы соискателю присутствовавшие не скупились, но не в приторно-слащавой, а в иронической и остроумной форме.
ГХ. сидел на краю банкетного стола и, пропуская первые тосты, что-то быстро писал, не обращая внимания на шум и гвалт окружающих. Как оказалось, он готовил тост в стихотворной форме. И когда тамада дал ему слово, у него в руках уже был длиннющий стих, наверное, на целые две страницы рукописного текста. Своим зычным голосом (каким он обычно читал Маяковского) Г.Х. с воодушевлением прочел импровизированный стих, вызвав аплодисменты присутствующих. Надо отдать ему должное, и с рифмой, и с юмором в этом стихе было всё в порядке. Стихотворный талант у ГХ, несомненно, был. Тост его, к сожалению, не сохранился, но центральная идея его запомнилась: «Молодцы, геофизики! Люблю геофизиков!»
Когда Г.Х. исполнилось 75 лет, мне поручили поздравить его с юбилеем от Ботуобинской экспедиции. В Иркутск я прилетел с какими-то дешевыми подарками и с мизерной суммой денег, которую профком «Якуталмаза» выделил, для легендарного первооткрывателя. Мне стыдно было такую сумму вручать, но деваться было некуда.. Впрочем, юбилей прошел на должном уровне. После торжественного заседания в актовом зале института общественность устроила в его честь банкет. Застолье оборудовали в кабинете директора института, и там продолжалось чествование в присутствии близких ему людей. Трогательную речь произнес директор института П. М. Хренов, в основном делая упор на то, что он (юбиляр) не изменил великим принципам (коммунистическим). Люба Комина с блистательным юмором вспоминала о совместной работе с Г.Х. на косе Соколиной. Люся Житкова читала когда-то сочиненные Г.Х. стихи и с большим чувством юмора комментировала их. Много было сказано лестных слов в адрес юбиляра и другими присутствующими, вполне заслуженных слов, ибо Г.Х.пользовался любовью и уважением коллег и помнящих его старых алмазников Якутии.
Болезнь горла уже прогрессировала, он не мог громко, как обычно, сказать ответного слова. Лишь слабым голосом поблагодарил присутствующих. Мне тоже довелось сказать юбиляру несколько слов приветствия, в том числе и поздравить его от имени геофизиков-алмазников, к которым Г.Х. относился с такой симпатией. Я сидел с ним рядом, поэтому услышал его слабый голос: «Молодцы, геофизики!»
Последний раз мне довелось встретиться с ним на его квартире на улице Академической. Приехали мы с В. Н. Щукиным и В. И. Никулиным проведать его, поскольку он был уже в очень плохом состоянии и не выходил из дому. Голос он практически совсем потерял, и слова его лишь с трудом можно было услышать. Тем не менее, с В.Н. они обменивались воспоминаниями о далеких годах совместной работы и даже спорили по каким-то не совсем нам понятным вопросам. Старым соратникам и соперникам в работе, им было о чем поговорить.
Григорий Хаимович был очень доволен нашим визитом, это было заметно по его гостеприимству. Прощаясь со мной, он не преминул сказать, хотя и едва слышным голосом: «Люблю геофизиков!»
ЛАРИСА ПОПУГАЕВА
Лариса Анатольевна Попугаева — человек-легенда! О ней столько написано статей, очерков, мемуарных воспоминаний, книг, сколько ни о ком другом из первооткрывателей алмазных месторождений. Неслыханная ее популярность связана не только с тем, что она открыла первое в стране коренное месторождение алмазов — трубку Зарница, но и с тем, что она после этого открытия перенесла массу страданий, унижений, оскорблений. Перенесла все муки ада, какие даже врагам не принято желать, моральные муки, которые бывают тяжелее физических.
В бытность работы в Амакинской экспедиции в Нюрбе с Ларисой Анатольевной мне общаться в узком кругу не приходилось. Было обычное шапочное знакомство на уровне «здравствуйте» и только. В Нюрбу я приехал работать в 1956 году, а в 57-м она уже насовсем отбыла из Якутии. Нам, молодым специалистам, было известно лишь то, что у неё какие-то осложнения по работе с начальником экспедиции М. Н. Бондаренко и что она допустила какую-то ошибку в связи с переходом из ВСЕГЕИ в Амакинку. Потом досужие всезнайки из камералки говорили, что Бон уволил ее из экспедиции за три дня опоздания на работу из отпуска. Впоследствии стало известно, что это неправда: она сама подала заявление об уходе по собственному желанию. Впрочем, дыма без огня не бывает: может, ей пригрозили увольнением и вынудили подать такое заявление. С её характером и славой она руководству Амакинки была не нужна. Тем более, все проблемы с первооткрывательством были уже закрыты.
Общаться с Л.A. мне пришлось в середине семидесятых годов; она дважды прилетала в Мирный по своим делам, когда уже работала в институте ВНИИювелирпром в Ленинграде. Оба раза она навещала меня в геофизической камералке. Я тогда уже слыл коллекционером, рабочая комната моя была завалена камнями, в том числе аметистами из кимберлитов, исландским шпатом, гроссулярами и ахтарандитами. Камнецветы и редкие минералы ее интересовали, это было уже в профиле ее работы, поэтому она детально знакомилась с моей коллекцией.
Из ее старых знакомых 50-х годов по Нюрбе нас в Ботуобинской экспедиции было двое: я и начальник экспедиции Владимир Николаевич Щукин. По какой-то причине она с В.Н. встречаться не захотела. Вероятно, из-за старой на него обиды в связи с открытием трубки Удачная. Мне это было непонятно, поскольку В.Н. никогда о Попугаевой плохо не отзывался. Наоборот, рассказывал, когда давал интервью журналистам, что именно она в 1955 году (будучи его начальницей, это он подчеркивал) послала его в маршрут по направлению к Удачной, а сама пошла опоисковывать площадь близ трубки Зарница. Могло быть наоборот, и тогда бы она, бесспорно, сама открыла трубку Удачная. Но коль так случилось, то зачем, казалось бы, держать многолетнюю обиду на более удачливого товарища по работе? Однако обида осталась. Хотя, может быть, имелись и другие поводы к неприязни, которыми она со мной не делилась.
В Мирный Л.A. прилетала уговорить руководство «Якуталмаза» извлекать из кимберлитов, попутно с алмазами, полудрагоценные минералы-спутники: гранаты-пиропы, хризолиты (оливины), цирконы. Сами по себе эти минералы тоже имеют большую ценность, поскольку из них можно делать великолепные ювелирные украшения. В качестве образцов таких украшений она привозила изделия из чешских гранатов: браслеты, подвески, кольца с крупными обработанными кристаллами и еще какие-то сувенирные поделки. Кстати, об известном «гранатовом браслете», описанном в повести Куприна, она говорила, что этот браслет был изготовлен из чешских гранатов. Привозила она и ограненные кристаллы пиропов и цирконов из кимберлитовых трубок Якутии. И демонстрировала всем, что по качеству они не хуже чешских, а по крупности даже превосходят их.
Показываемые Попугаевой изделия вызывали живейший интерес у сотрудниц Ботуобинской экспедиции. Как помнится, два дня в первый ее приезд комната моя была переполнена любопытными женщинами. Все стремились посмотреть привезённые ею украшения. Пытались их и купить, но она ничего не продавала, коммерция в те годы была ещё не в моде.
Главной целью её приезда в Мирный, как я уже говорил, было убедить руководителей обогатительных фабрик, технологов извлекать ювелирные минералы-спутники алмаза в процессе обогащения руды, поскольку эти минералы имеют самодовлеющую ценность, и извлечение их может быть рентабельным. До этого Л.A. была на приеме у Косыгина и имела на руках какие-то одобрительные документы касательно этой идеи.
Но идея не находила отклика у обогатителей алмазного сырья. Чтобы попутно извлекать цельные кристаллы гранатов и оливинов, надо было менять всю технологическую цепочку обработки алмазной руды, усложнять принятую технологию обогащения. На это никто из непосредственных руководителей производства не шёл, а вышестоящее начальство «Якуталмаза» обязать их не могло. В принципе идею поддерживали все. Соглашались, что было бы очень хорошо извлекать из кимберлита другие компоненты и получать прибыль. Но дальше одобрительных слов дело не шло. Когда Л.A. рассказывала о встречах с руководителями «Якуталмаза», она возмущалась, обзывала их нехорошими словами (тупицами, бюрократами и т. п.)
Однако не все руководители производств давали ей от ворот поворот. Некоторые в силу своих возможностей пытались ей помочь. Интересна в связи с этим её встреча с начальником фабрики № 3 Анатолием Павловичем Верменичем. Я их познакомил в нерабочей обстановке на квартире одного нашего общего друга, тоже обогатителя. Они много говорили об её идее, спорили, как-то сошлись характерами и потом долго поддерживали дружеские отношения. Анатолий Павлович заходил к Л.A. домой, когда бывал в Ленинграде, познакомился с её мужем, с детьми и очень хорошо отзывался об их дружной семье.
Как помнится, именно на фабрике № 3 были предприняты первые попытки массового отбора минералов-спутников попутно с алмазами. Но после ухода А.П. с фабрики и со смертью Л.А. эти попытки были прекращены.
Лариса Анатольевна привозила с собой в Мирный и образцы камнецветов, которые сама находила на месторождениях: лазуриты и бирюзу с Памира, уваровиты и амазониты с Урала, аметисты с Кольского полуострова, еще какие-то редкие камни, не припомню, откуда и с каких месторождений. Она с увлечением рассказывала о своих поездках по Уралу, в Среднюю Азию в поисках забытых месторождений камнецветов. Возмущалась равнодушием местных властей к проблемам возобновления их эксплуатации (не стремятся к своей же выгоде!). Чувствовалось, что она увлечена своей работой, переживает заброшенность месторождений цветных камней в стране. С руководителями ведомства, отвечающего за добычу экзотических пород и минералов (вроде бы «Союзкварцсамоцветы»), она была в глубоком конфликте, отзывалась о них с презрением, как о людях случайных и непорядочных. О конфликтах с руководителями организации, где она работала, дважды писали ленинградские газеты. Её честность и непримиримость к недостаткам не устраивали дельцов из этого ведомства, и от неё стремились всячески избавиться. И на этой работе ей хватало нервотрепки, как когда-то и на алмазах.
Между прочим, она многого добилась в своём деле. По её настоянию (опять же через Косыгина) в Москве был организован «Салон цветного камня», торговавший поделочными камнями и коллекционными минералами. Руководитель салона, некто Куварзин, говорил мне, что они своим существованием обязаны именно Ларисе Попугаевой. Салон организовывал экспедиции в разные концы Союза, вывозил в Москву крупные коллекции камнецветного сырья и устраивал аукционы по его продаже. Правда, хорошая идея иногда обращается в свою противоположность. Через этот салон продали иностранцам десятки тонн уникального камня — чароита — в глыбах до нескольких сот килограммов. Цена на него была сбита настолько, что он стоил дешевле обычного и столь распространенного нефрита. И распродали все его запасы, сейчас единственное в мире месторождение чароита полностью исчерпано. Но это уже издержки неумелой торговли, продавать его надо было не тоннами, а наперстками. В этом Лариса Попугаева виновата, конечно, не была.
О своей работе в Амакинке и в Центральной экспедиции ВСЕГЕИ Л.А., будучи в Мирном, ни с кем не говорила. Видимо, воспоминания были бы для нее тягостны. Спрашивать же её об этом было бы нетактично.
Мы (геологи-алмазники) узнали со временем о том, что произошло после открытия трубки Зарница. Конечно, не во всех подробностях, какие поведал Виктор Людвигович Масайтис в своей книге воспоминаний «Где там алмазы?». Узнали, в частности, что Л.А. перешла задним числом из Ленинградской экспедиции ВСЕГЕИ в Амакинку и лишила коллектив экспедиции первооткрывательства. Как-то все мысленно осуждали её за это, не задумываясь о том, что её заставило это сделать. И лишь годы спустя поняли (во многом благодаря книге В. Л. Масайтиса), сколь безвыходна была её ситуация в тот момент, сколь серьезны были причины, заставившие её так поступить.
В самом деле, счастливая и радостная после находки коренной алмазоносной породы, она прилетает в Нюрбу, ожидая похвал и почестей от руководителей Амакинки, того же от руководителей 3-го Главного управления Министерства геологии (все они были в Нюрбе на алмазном совещании!). И что она встречает? Зависть со стороны менее удачливых коллег-геологов, холодность и раздражение руководителей Амакинки, равнодушие к её судьбе главного алмазника страны А. П. Бурова (когда она обратилась к нему с просьбой о защите, он её же и отчитал). А потом неожиданное силовое давление начальства Амакинской экспедиции, обязывающее ее оформить задним числом переход в Амакинку. И только потому, что её отряд получил от Амакинки по договору какие-то небольшие деньги на транспортировку и зарплату сотрудникам. Давление наглое, непредвиденное, повергшее её в полную растерянность. И ни от кого из окружающих она не видела защиты.
Ей угрожали. В каких словах и чем конкретно ей угрожали, никто об этом не узнает. Два человека, кроме неё, знали об этом: сам Бондаренко и главный геолог Амакинки Юркевич. Они молчали, потому что деяние их было постыдным, если не преступным. Она же молчала, потому что угроза была реальной и пугала её. А предать гласности эту угрозу она не могла. Чем её пугали? Возможно тем, что отец её был репрессирован.
Надо помнить то время, оно ещё было страшным. Только что ушёл из жизни кровавый палач, державший в страхе всю страну. Сотни тысяч невинных людей еще сидели в лагерях. Малейшее нарушение режима секретности, связанной с алмазами, могло жестоко караться. А она сделала маленькую оплошность, показав найденный кусочек алмазоносной породы геологам НИИГА в Яральине. Ничтожный проступок, не стоящий в другой ситуации ни малейшего осуждения. Но они могли раздуть его до уголовного и даже политического преступления. Им ничего не стоило сделать из мухи слона. Вся власть была в их руках, она опиралась на поддержку самого министра геологии (Бондаренко был его свояком).
В алмазных делах Бондаренко был всесилен. Не зря его боялись даже такие крупные в прошлом руководители, как Гаврилов и Меньшиков, безропотно отдавшие впоследствии свои экспедиции под власть Амакинки. Зная свою силу, Бон не стеснялся, угрожая Попугаевой, даже в присутствии в Нюрбе главного алмазника Мингео А. П. Бурова, да и других чиновников высокого ранга, находившихся в сентябре 1954 года в Нюрбе. Никто из них не смел вступиться за Ларису. Сохранилось свидетельство, что она со слезами на глазах обращалась за помощью к Бурову. Но тот лишь добавил горечи, в грубых словах осудив её за показ кусочка кимберлита сотрудникам НИИГА. Этим самым он ушел в сторону от возможного конфликта с Бондаренко. Слишком осторожен был Буров, помнивший судьбу Д. И. Мушкетова и Н. М. Федоровского, репрессированных в 30-е годы сразу после возвращения с XV Геологического конгресса в Южной Африке.
Он общался с этими геологами и даже знал от них, что такое гранаты-пиропы, и что они есть спутники алмазов. Знал, но никогда об этом не говорил, ибо знания, полученные от «врагов народа», могли и для него обернуться лихом. Поэтому напрасно к нему обращалась за советом и помощью Л. А. Попугаева. Даже помочь ей улететь из Нюрбы он не хотел. Она оказалась в капкане. Можно себе представить, что она пережила.
В конечном итоге её сломали. 15 ноября она подписала заявление о переходе в Амакинку задним числом. Подлое дело с триумфом для его инициаторов было завершено. Естественно, после этого ей отдали отобранные у нее материалы — дневники и образцы кимберлитов. И выпустили из Нюрбы.
Но в Ленинграде её поджидала не менее кошмарная ситуация. Старые знакомые, коллеги в Центральной экспедиции ВСЕГЕИ, сочли её переход в Амакинку как предательство и устроили дикую обструкцию. Ужасно, когда десятки близко знакомых тебе людей перестают с тобой здороваться и всячески демонстрируют тебе свою антипатию. Никто не интересовался, почему она это сделала. Предательница — и только!
Пережитые страдания, гордость и самолюбие (в хорошем смысле этого слова) не позволяли ей в чем-либо виниться перед коллективом, да и не могла она рассказать всю правду, чем её запугали Бондаренко и Юркевич; опасность репрессий с их стороны ещё не миновала. Гордость не позволяла ей просить прощения у своих коллег из ВСЕГЕИ. Да это и не могло поправить ситуацию. И ей пришлось уйти из Центральной экспедиции, вынести атмосферу отчуждения она долго не смогла.
В злополучных для Л.A. событиях осени 1954 года пытался разобраться В. Л. Масайтис, непосредственный участник алмазного совещания при Амакинке в том же году. Он же начальник договорной 182-й партии Амакинской экспедиции, которая частично финансировала работы отряда Попугаевой. Целый ряд деталей этих событий освобожден им от словесной шелухи неточных и предвзятых мемуаров некоторых других участников совещания, написанных в последующие десятилетия. Документальная достоверность его воспоминаний позволяет в какой-то мере понять сложившуюся вокруг Попугаевой атмосферу осени 54-го года. Но и с ним Л.А. не делилась подробностями разговоров с руководителями Амакинки. Тяжелейшую эмоциональную нагрузку она носила в себе. Чем они ей угрожали, осталось тайной.
Во время встреч Л.A. с геологами Ботуобинки в Мирном каких-либо разговоров о прошлых событиях не было. Мы старались деликатно не задавать лишних вопросов, поскольку понимали, что ей это неприятно. В основном разговоры велись о минералах-спутниках, о перспективах и способах их промышленной добычи, о камнецветном сырье в районах Западной Якутии.
Как-то зашёл разговор о научно-фантастическом рассказе Ивана Ефремова «Алмазная труба», о котором знали все алмазники. Геологи удивлялись его пророчеству: он почти угадал географическое место находок будущих месторождений алмазов. Лариса Анатольевна поделилась воспоминаниями о Ефремове; оказывается, она еще в детстве была знакома с его семьей и часто бывала у них дома. Такой вот тесный мир и такие удивительные совпадения!
От встреч с Ларисой Анатольевной в Мирном осталась память о ней, как об очень усталой и издерганной женщине. Она вся была сплошной комок нервов. Многочисленные душевные травмы не прошли для неё даром.
P.S. Оправдывая насилие над Л. А. Попугаевой, защитники М. Н. Бондаренко нередко оперируют следующими аргументами. Дескать, почти семь лет амакинцы тяжелейшим трудом и с огромными затратами вели разведку россыпных месторождений алмазов и постепенно подбирались к коренникам. А тут на их территории появляются какие-то варяги, смежники (как их обзывали в Амакинке), да ещё женщины, и, не хлебнув лиха многолетних поисков и тяжелой разведки, уводят из-под носа у амакинцев коренное месторождение, которое амакинцы вскоре бы открыли и сами. Да ещё и работы свои ведут на деньги Амакинки. И участки своих работ определяют, используя опыт и наработки амакинцев. Если бы не было разведанных амакинцами россыпей на Средней Мархе, никто бы в верховьях Мархи поисками алмазов не стал заниматься.
Все это так. Аргументы вроде бы веские, но насилия над Л. А. Попугаевой они все же не оправдывают. Кроме того, в них есть определенная доля лукавства, и вот в чём. Упрекая стороннюю организацию в том, что та ведет поисковые работы на территории Амакинки (в данном случае поиски велись на сопредельной территории), руководители последней должны были ответить на вопрос, почему они сами не организовали там поисковые работы. Ведь им должно было быть понятным, что алмазы на Среднюю Марху могли поступать с верховьев реки. Пять лет шла разведка здесь россыпей и ни разу в верховья Мархи не были посланы поисковые отряды. Хотя некоторые ведущие геологи Амакинки доказывали на научно-технических советах, что алмазы в россыпи поступают с верховьев Мархи. Ну, не владели ещё пироповым методом поисков, но и по алмазам можно было выйти на такие крупные коренные источники, как Удачная. Тогда не пришлось бы прибегать к насилию над более сообразительными и удачливыми смежниками.
И второе — это шлиховой метод поисков по пиропам. Всё же предложили его, освоили и успешно внедрили в производство именно сотрудники Центральной экспедиции ВСЕГЕИ Наталья Сарсадских и Лариса Попугаева. Это в корне изменило всю методику поисков месторождений алмазов. Не зная этого метода, найти трубки было трудно даже в таком открытом районе, как Далдынский. Поиски, возможно, затянулись бы надолго. Тем более, что могла помешать быстрому открытию и планово-проектная система организации геологических поисков. Трубка Мир, возможно, была бы открыта на год-два позже, если бы Наталья Кинд не нарушила проектное табу и не вышла на Малую Ботуобию вопреки запретам руководства Амакинки.
Таким образом, законное право на приоритет открытия первого коренного месторождения алмазов имели прежде всего ленинградцы, а не амакинцы. Насилие над Л. А. Попугаевой не может быть морально оправданным.
МИНЕРАЛОГ ИЛУПИН[11]
Совесть будет беспокоить меня всю оставшуюся жизнь, потому что я не ответил вовремя на письмо Иосифа Петровича, а когда собрался написать ему недели через три, было уже поздно — его не стало.
В письме он ничего не сообщал о своём житье-бытье, не передавал приветы от знакомых, не жаловался на свою болезнь, не писал о прочих несущественных (по его мнению) вещах. Он всего лишь просил уточнить координаты трех малоизвестных кимберлитовых тел на севере алмазоносной провинции. Местоположение двух я знал, но третьего в каталогах музея не было, и узнать о нем можно было только в Амакинской экспедиции. Поэтому я тянул с ответом.
Конечно, запрошенные им сведения вряд ли бы ему потребовались, ибо дни его жизни были сочтены. Очередную свою научную работу он не смог бы, конечно, закончить, но все же... Какое-то минутное удовлетворение от моего ответа он бы получил. Но даже этого я ему не доставил.
Работал он непрерывно и думал о работе, видимо, даже на больничной койке до последнего своего часа. Он был великий труженик. Из всей плеяды геологов-алмазников, выросших в Амакинской экспедиции и ставших известными учеными, он выделялся своим исключительным трудолюбием. Может быть, именно благодаря этому качеству он стал настоящим исследователем. Широкая эрудиция сочеталась в нём с упорным, последовательным и исключительно добросовестным трудом. В круг его научных интересов входили минералогия и петрография кимберлитов, генезис алмазных месторождений, методика их поисков и разведки.
У него не так много опубликованных статей, как у некоторых других плодовитых и поэтому большей частью легковесных авторов. Но всё, что им опубликовано в статьях и монографиях, добротно, достоверно и сделано им самим. Он никогда не паразитировал на соавторах, и в любой подготовленной с кем-либо совместной статье львиная доля труда была всегда его.
В алмазной науке, как, по-видимому, и во всякой прочей науке, бывают публикации, которым трудно верить. Даже авторитетные ученые нередко приводят сомнительные результаты исследований, к примеру, с цифрами анализов вещества, подкорректированными под какую-нибудь идею. Или просто наспех публикуют полученные данные, которые позднее опровергаются или существенно уточняются в процессе более тщательных исследований. Но если сведения о веществе горных пород приводились в статьях И. П. Илупина, то им можно было безусловно верить. Об этом знали все алмазники — и производственники, и научные работники.
Чистота анализов — главное качество научной минералогической или геохимической работы. Не всегда можно доверять подготовку проб даже опытным лаборантам. Иные из них могут что-то перепутать или не так обработать пробу. Поэтому Иосиф Петрович нередко сам готовил пробы для анализов, сам растирал в фарфоровых чашечках вещество исследуемых пород, сам взвешивал его и упаковывал. Его иногда упрекали, зачем он, кандидат наук, тратит столько времени на рядовую лаборантскую работу. Но он только отмахивался или посылал советчиков подальше. Он знал, что главное в исследовательской работе минералога — чистота эксперимента. И он её добивался. Поэтому авторитет его в мире алмазников был непререкаем.
Иосиф Петрович был инициатором создания геологического музея в Амакинской экспедиции ещё на заре её существования. И отличный музей возник во многом благодаря его самоотверженному труду. Образцы в полевых партиях собирались, конечно, многими геологами, но он следил за поступлением в камералку интересного материала, убеждал, упрашивал разведчиков и поисковиков передавать образцы в музей. Сам паспортизировал образцы, перетаскивал на горбу коллекции из старого здания камералки в новое на берегу Вилюя, готовил выставочные стенды, составлял каталоги, словом, проводил большую музейную работу, не входящую в его прямые производственные обязанности. Всё делал на энтузиазме. И набралась интереснейшая коллекция из сотен экспонатов, которая до сих пор является основой геологического музея Амакинской экспедиции.
И он был первым директором музея в условном, конечно, понимании слова «директор», поскольку он был один: и собиратель, и ответственный за музей. Как и всякий заядлый коллекционер, он был скуп и принципиален, не любил что-либо отдавать из музея любителям поживиться красивыми экспонатами, даже если это были высокие начальники. И когда однажды главный геолог экспедиции Юркевич снял с витрины и отдал заезжему чиновнику из Москвы один интересный образец, Иосиф плюнул, хлопнул дверью, и в музей больше не заходил никогда. Хотя коллекции образцов для научных исследований накапливал методически, не жалея времени и труда на маркировку образцов, их описание, на подготовку шлифов и полировок.
«Человек с рюкзаком» — такое прозвище было у него и в Нюрбе, и в Мирном, где он позднее работал в Ботуобинской экспедиции. Старый, выцветший, но очень аккуратно подшитый рюкзак всегда был у него за плечами, шел ли он на работу, в магазин или просто в гости к знакомым. Казалось, рюкзак —неотъемлемая часть его верхней одежды.
Иосиф Петрович был ярко выраженный индивидуалист в хорошем понимании этого слова. Он любил временами заходить поболтать к знакомым, иногда появлялся в шумных компаниях, но всегда был как бы независим от других людей. Появлялся в обществе и уходил на работу или домой, когда считал нужным. К себе в семиметровку, в которой он обитал в Нюрбе, приглашать посторонних не любил. Сторонился он также выпивох и болтунов, поскольку сам спиртного не употреблял и не тратил времени на пустопорожние разговоры. Прийти к нему домой без риска «получить от ворот поворот» можно было лишь с целью послушать музыку. Классическую музыку. У него были проигрыватель и приличный набор пластинок с записями Чайковского, Баха, Вагнера и других известных композиторов. Пожалуй, из амакинских геологов он единственный, кто увлекался серьезной музыкой. Слушать её он предпочитал в одиночестве, не отвлекаясь от очередной своей научной работы. Но и привечал тех людей, которые серьезной музыкой интересовались.
В еде Иосиф Петрович был неприхотлив: питался почти исключительно кашами. Главным образом овсянкой. Даже в Москве, приглашая гостей к себе домой, он угощал их овсяной кашей. Мяса он не готовил и дома не ел, хотя в полном смысле вегетарианцем не был. В гостях он мог уважить хозяев и съесть котлетку или пирожок с мясом.
Спиртного не пил никогда. Даже если в компании его уговаривали выпить красивые женщины. Ходили, правда, слухи, что когда- то, где-то одна настойчивая дама, которой он симпатизировал, уговорила его выпить бокал шампанского. Но и то он разбавил его наполовину водой. Впрочем, история эта могла быть и выдуманной. Даже на заседаниях общества холостяков, которое существовало в Нюрбе и которое он охотно посещал, к спиртному Иосиф не притрагивался.
Многие считали его скупым, поскольку Иосиф Петрович не любил давать деньги взаймы. Особенно, если просили его по мелочам выпивохи. Но хорошим знакомым, когда требовалось им помочь, он мог одолжить и крупную сумму. Деньги у него всегда водились. Он не любил их тратить и хранил на сберкнижке. В чем и жестоко поплатился, поверив государству, на заре перестройки.
Скупость — не совсем то слово, которое можно было приложить к Иосифу Петровичу. Скорее его можно было назвать расчётливым. Зарплату свою он раскладывал в записной книжке по полочкам, на что и сколько потратить: на еду, одежду, на хозяйственные принадлежности, на подарки женщинам. Была у него в перечне намечаемых расходов и графа «для друзей». И если там было записано — купить бутылку вина, скажем, для компании холостяков или ко дню рождения кого-либо из приятелей, то бутылка к означенному сроку неукоснительно появлялась. Такая расчётливость в тратах вовсе не обязательно признак скупости: просто у человека такая натура, такая прихоть.
Иосиф Петрович долго оставался в холостяках. Не потому, что был женоненавистником (скорее наоборот), а просто такая, видимо, была у него судьба. В свою личную жизнь он не допускал никого, поэтому даже друзья не знали, почему у него не складываются отношения с женщинами. И где-то уже на пятидесятом году жизни он решил покончить с одиночеством, присмотрел в Айхале среди геологинь одинокую симпатичную женщину и увёз ее в Москву. Казалось бы, началась нормальная семейная жизнь. Но недолго она продолжалась. Зоя (так звали его жену) неожиданно заболела и скоропостижно умерла. Иосиф Петрович опять остался один. Так было, видимо, написано у него на роду.
Несмотря на, казалось бы, здоровый образ жизни, Иосиф Петрович никогда не отличался крепким здоровьем. Он постоянно прибаливал и нуждался в помощи врачей. Возможно, поэтому он не любил полевой геологической работы и органически не переносил переездов на вертолетах или самолетах. Стихией его была научная работа за микроскопом, за бинокуляром, в геологических фондах и библиотеках. Для такой работы лучше всего приспособлена Москва, куда он со временем и перевёлся. Тем более, что сам москвич. Но и московские врачи не смогли притормозить его прогрессирующую болезнь, которая и привела его к преждевременной смерти.
Немного уже осталось в живых людей, которые его помнят. Но кто помнит, всегда помянет его добрым словом. Пухом ему земля!
ОБОГАТИТЕЛЬ ЛЕЙТЕС
Один из основоположников обогатительного дела на фабриках объединения «Якуталмаз» Анатолий Борисович Лейтес приехал в Якутию летом 1957 года. После окончания Московского горного института по специальности «обогащение полезных ископаемых» он получил направление в Амакинскую экспедицию ПГО «Якутскгеология», подавшую, вероятно, заявку в министерство на выпускников этого профиля. Специалисты-обогатители нужны были экспедиционной физической лаборатории, занимавшейся вопросами обогащения алмазного сырья и извлечения алмазов. Лабораторию возглавляли Леонид Митрофанович Красов и Вадим Викторович Финне, видные специалисты в области люминесцентной сепарации.
В Горном институте Толя Лейтес получил, по его словам, основательную профессиональную подготовку. Когда по приезде в Якутию он включился в работу по специальности, то с благодарностью вспоминал о своих преподавателях, вложивших в него основы обогатительной техники и принципы её технологических расчётов. В будущей работе по обогащению алмазной руды это определило круг его профессиональных интересов. Он с одинаковым увлечением создавал или реконструировал мельницы, дробилки, отсадочные машины.
Первое время в физической лаборатории Толя Лейтес занимался сухой отсадкой. И одновременно, не имея под рукой справочной литературы, разработал проект оригинальной шаровой мельницы и центробежного обеспыливателя, не имевшего до этого аналогов в обогащении определенных типов руд (глинистые пески после дезинтеграции в мельницах необходимо обеспыливать, отделяя от зернистой массы мелочь крупностью менее 0,5 миллиметров). Позднее, будучи уже признанным авторитетом среди обогатителей-алмазников, он с признательностью вспоминал своих помощников по работе в Амакинке. Он говорил, что, не имея навыков слесарных и сборочных работ, при конструировании мельниц иногда ошибался, закладывая нерациональные технические решения. На слесарей и станочников, делавших ему замечания, он не обижался, а стремился овладеть их мастерством. Этих ребят он считал своими учителями. Позднее, знакомясь с изготовлением обогатительной аппаратуры на Сызранском гидротурбинном заводе и на Уралмаше, он продолжал накапливать опыт изготовления станочного оборудования. Но Нюрбинский опыт в небольшом конструкторском бюро экспедиции он считал самым главным в своей жизни.
Как ни увлекательна была работа в экспедиционной физической лаборатории, но специалисту-обогатителю широкого профиля негде было применить весь багаж полученных в институте знаний. В то же время к 1958 году в Мирном (точнее, в будущем городе Мирный, тогда еще город только начинал строиться) разворачивалась подготовка к строительству крупных обогатительных фабрик, и там нужны были специалисты по обогащению алмазных руд. Анатолий Борисович переезжает в Мирный и какое-то время работает в конструкторском бюро рудника «Мир» у Долгова Владимира Ивановича, которого он вспоминает потом с большой теплотой.
После образования «Якутнипроалмаза» Лейтес становится начальником конструкторского отдела института, а спустя некоторое время заместителем директора института А. Ф. Галкина по научной части. По его признанию, административная работа его совершенно не привлекала и он, проработав заместителем директора три года, по собственному желанию уходит в отдел обогащения на должность заведующего лабораторией рудоподготовки. Всё же за время своей административной работы А.Б. внёс, по свидетельству его коллег, немало полезного в общее направление деятельности института. Им, в частности, был разработан перспективный план по обогащению кимберлитовой руды, надолго определивший технологию обогатительных фабрик ПНО «Якуталмаз».
В отделе обогащения Анатолий Борисович занимался многими вопросами обогащения алмазсодержащих руд, всеми, как он вспоминал, кроме пенной сепарации. Вот перечень наиболее важных разработок, к которым он имел прямое отношение и которые дали большой экономический эффект:
— отсадочная машина ОВМ-5р для надрешетной отсадки. С её помощью повышалась крупность обогащения с 20 до 50 миллиметров и какое-то время (до создания В. В. Новиковым сепаратора ЛС-50) только на ней извлекались самые ценные крупные алмазы;
— разработал и смонтировал (будучи начальником конструкторского отдела) опытно-промышленную мельницу самоизмельчения. Впервые в нашей стране был внедрен в эксплуатацию процесс самоизмельчения кимберлитовых руд, в корне изменивший технологию их обогащения. Позднее А.Б. много времени уделял сохранности алмазов в бесшаровых мельницах, созданию методик технологических расчетов их параметров, разработке технических заданий на все типоразмеры ММС (мельниц самоизмельчения), в том числе импортных. Внедрение самоизмельчения на всех фабриках объединения позволяло получать выход алмазов из кимберлитов на 25—30% больше, чем при шаровом измельчении;
— доведение производительности фабрики № 12 до проектной при запуске ее в работу. Производительность новой фабрики сдерживалась пропускной способностью головной дробилки ККД-1500, не рассчитанной на мерзлые руды с большим содержанием льда. Такое сырье встретилось впервые в практике обогатительного дела. Не смог в этом помочь и разработчик проектной техники — институт «Механобр». Задача была решена А. Б. Лейтесом. По его рекомендации был изменен угол захвата машины. После реконструкции дробилки фабрика не только достигла проектной мощности, но позднее и значительно превзошла её;
— опытный образец отсадочной машины для совместного обогащения классов —4+2 и —2+0,5 мм. Это позволило конструктору Н. П. Ларионову (ученику Анатолия Борисовича) создать и внедрить в практику машины с пневматическим приводом большой единичной производительности.
По воспоминаниям коллег, Анатолий Борисович щедро делился идеями с теми, кто в них нуждался. И опыт его был для них большим подспорьем. Бывший главный обогатитель компании В. И. Евдокимов говорил, что, работая с Лейтесом, он получил более серьезную теоретическую подготовку, нежели довелось таковую заиметь, обучаясь и в Горном техникуме, и в Горном институте.
Друзьям, которые знали его с момента приезда в Нюрбу, он запомнился чрезвычайно скромным, добрым и мягким человеком. Таким собственно он и оставался всю свою жизнь. От него странно было бы услышать матерное слово или грубость в общении с подчиненными. Он был интеллигентом в полном смысле этого слова.
По семейным обстоятельствам он вышел на пенсию довольно рано и уехал в Москву. Но и там он занимался конструкторской работой, заведуя сектором новой техники в ЦНИГРИ, а позднее став главным обогатителем в золотодобывающем предприятии.
А. Б. Лейтес был яркой творческой личностью. Он автор 24 научных изобретений, приоритетных и запатентованных.
Жизнь его и жены Ирины была страшно омрачена гибелью их любимой дочери в подростковом возрасте. Возможно, стресс после этого и осложнился тяжелой болезнью, потребовавшей ампутации обеих ног. Болезнь и приближающуюся смерть А.Б. переносил мужественно. Поняв, что болезнь неизлечима, он перестал принимать пищу и через десять дней скончался.
Пухом ему земля и добрая память в сердцах знавших его людей!
ГРУСТЬ ПО ИГОРЮ[12]
Игорь Богатых любил петь. Одной из самых любимых его песен была песня о погибшем в горах альпинисте:
Ветер тихонько колышет, Гнёт барбарисовый куст. Парень уснул и не слышит Песни сердечную грусть.Иногда мы пели эту песню с ним вдвоём. Я, конечно, лишь подпевал, солистом всегда был Игорь. Тоска-печаль пронизывает песню, товарищам погибшего до боли в сердцах жаль похороненного в горах друга:
А на вечернем досуге В скалах мерцает огонь: Грустную песню о друге Где-то играет гармонь. Ветер тихонько колышет, Гнёт барбарисовый куст...Не думалось нам, не гадалось, что эта песня станет пророческой, что один из нас сорвется со скалы и ляжет в землю раньше отведённого природой срока. Именно Игорю выпала такая участь. Нелепый случай или жестокость судьбы вырвали его из нашего узкого круга друзей-товарищей, бывших амакинцев, когда-то встретившихся на гостеприимной нюрбинской земле.
О первой встрече с Игорем и Ритой, его женой, мне приходилось писать в одном из рассказов. Это было, когда в начале 60-х годов мы с Гошей Балакшиным вломились в домик к прибывшим в Амакинку молодам специалистам и предложили им соревноваться в песнях, кто больше знает и кто лучше поёт. Мы были уверены в своей победе, ибо в загашнике песен у нас было немало да и спевка многолетняя. Но случилось непредвиденное: оказалось, что они знают песен больше, а поют под гитару вообще бесподобно. Мы были побеждены, и... с радостью приняли свое поражение. С этой памятной ночи мы подружились и подружились навсегда.
Другим памятным эпизодом из первых лет нашего знакомства было трехдневное «сидение» в аэропорту посёлка Оленёк по пути на полевые работы: Игорю с Ритой на Большую Куонапку, кому-то из геологов на Малую Куонапку и на Эбелях, мне на речку Омонос, на коренной выход трубки Ленинград. Три дня мы ждали вертолёта и три дня были в приподнятом лирическом настроении. Игорь и Рита были в ударе, гитара у них имелась, и они самозабвенно пели. Но как они пели! Ни от одного из прославленных бардов тех лет мы не слышали ничего подобного.
К их палатке (в порту мы обосновались со своим жильём) собирались все, ожидавшие вертолёта, чтобы послушать их песни. У геологов было какое-то восторженное песенное состояние. Да и молоды мы были тогда, не испарилась еще из наших душ романтика. Впереди у многих были геологические маршруты по неизведанному Анабару (это был сезон 1966 года, когда амакинцы впервые вышли с геологическим картированием на кристаллический щит), интереснейшая работа с поисками кимберлитов по Малой Куонапке, по Анабару, по Эбеляху в малоизученном Анабарском районе..
С грустью мы расставались, когда пришёл вертолёт и начал разбрасывать нас по точкам. На прощанье Игорь и Рита спели нам одну из своих самых любимых песен:
Перепеты все песни, расставаться нам жаль. В этой песне последней прозвучала печаль: Чтобы ты не спешила уходить от огня, Чтобы ты полюбила за песню меня.Песенное настроение сохранилось у многих из нас весь полевой сезон. Осенью, после поля, мы уже принимали Игоря и Риту в свою геофизическую семью, как самых дорогих и любимых родственников. Так и говорили тогда завистники о нашей компании: «геофизики и примкнувшие к ним Богатые».
В камеральные зимы тех лет сколько было перепето песен: геологических и туристических, студенческих и бардовских, жизнерадостных и грустных, да и всяких прочих. Приходится с тоской вспоминать о тех счастливых днях.
На встречах наших чередовались «старые» песни Георгия Дмитриевича Балакшина, привнесенные позднее песни Юлии Плесум и Наташи Каревой, ну и пришедшие им на смену песни Игоря и Риты Богатых. Для присутствующих всегда был праздник, когда в компании появлялись Игорь и Рита. С приходом их сразу же начинались песни. И пели долго и самозабвенно.
Вот немногое из того, что они пели, что сохранила моя память. Риту часто просили спеть очаровательную и её любимую «Синие сугробы»:
Песню — зачем из дома понесу, Если могу найти её в лесу. Знаешь, какой красивый лес зимой — Её с мороза принесу тебе домой.Рита была коренной москвичкой, поэтому песни о Москве занимали немало места в её и Игоря репертуаре:
О, Москва, Москва святая, В переулочках кривых, Тополиный пух летает Вдоль умытых мостовых. Ты не просто город где-то, Ты видна в любой ночи. Разнесли тебя по свету В своих песнях москвичи...Вдобавок нередко вспоминалась и песня Городницкого «Полярная звезда», тогда еще бывшая в новинку:
А там, в Москве, улыбки и концерты, И даже солнце всходит каждый день, А мне всё реже синие конверты Через снега приносит северный олень...Пожалуй, более всего пришлись по душе геофизикам и быстрее всего пришлись к застольям две песни Игоря и Риты. Это прекрасная геологическая песня о Магадане:
На рассвете роятся над бухтой туманы, На рассвете и выйду я из Магадана По тропиночке узкой на северо-запад Мягко выстелил стланик мохнатые лапы. Не сердись и собраться мне в путь помоги, Этой ночью решил я начать всё сначала. Ночью ветер принёс хвойный запах тайги, И дорога под сердцем моим застучала...Чудесные слова, лиричность мелодии сделали эту песню коронкой многих товарищеских встреч. Вторая песня, которая особенно полюбилась ветеранам предпенсионного возраста, «Кто сказал, что я сдал?»:
Мокрый клён за окном, след дождя на стекле; Так зачем о былом песню даришь ты мне? Кто сказал, что я сдал, что мне рук не поднять, Что я с песней порвал, что рюкзак не собрать? Соберу в рюкзаке, что хранил, что берег, Что осталось со мной после трудных дорог: Неба синего синь, скал щемящий оскал; Сроки мне отодвинь — я своё не сказал..Конечно, после изрядного количества тостов, когда начинала играть в жилах кровь, когда забывались радикулит, печень, почки и прочие хвори, начинало казаться, что дай тебе рюкзак, и ты небрежно кинешь 20-километровый маршрут по тайге. Припев повторялся неоднократно и с особым вдохновением:
Кто сказал, что я сдал, что мне рук не поднять? Кто сказал?!.Другие, часто исполнявшиеся из необъятного числа привезённых Игорем и Ритой песен:
«Алые паруса»
Эй, не грусти, капитан, Волнам отдай свою боль. Скоро к лазурным придём берегам, Встретит с улыбкой Ассоль.«За белым металлом»
В промозглой мгле ледоход, ледолом. По мерзлой земле мы идем за теплом — За белым металлом, за синим углем, За синим углем — не за длинным рублем! Ровесник плывёт рыбакам в невода, Ровесника тянет под камни вода. А письма идут неизвестно куда, А дома, где ждут, неуместна беда.«У Геркулесовых столбов»
У Геркулесовых столбов лежит моя дорога. У Геркулесовых столбов, где плавал Одиссей. Меня оплакать не спеши, ты подожди немного, И тёмных платьев не носи, и частых слез не лей.«По Смоленской дороге»
По Смоленской дороге леса, леса, леса, По Смоленской дороге столбы, столбы, столбы. Над дорогой Смоленскою, как твои глаза, Две холодных звезды, голубых, моей судьбы...«Листопад»
Тихим вечером, звёздным вечером Бродит по лесу листопад. Ёлки тянутся к небу свечками И тропа отходит назад...«Горы белоснежные Тянь-Шань»
И опять я ухожу наверх, И опять со мною нет тебя. Только ветер бьет в лицо с разбега, Вихри белоснежные крутя. И уносит песню с высоты Горный ветер в голубую даль. И летит она туда, где ты, — В горы белоснежные Тянь-Шань.«Мой друг рисует горы»
Мой друг рисует горы, далекие как сон, Зеленые озера да черточки лесов А рядом шумный город стеной со всех сторон, Мой друг рисует горы, далекие как сон.«Снег идет по улице давно»
Снег идёт по улице давно, Пальмами узоры на окошке. Снегом запуржило, замело К сердцу твоему пути-дорожки...«У романтиков одна дорога»
Много их скиталось на чужбине, Баламутя души на пути. Много их осталось там поныне, Не прийти им больше, не прийти. Не смотреть нездешними глазами, Не сидеть с соседом до утра, И не слушать древние сказанья, И не петь с бродягой у костра.«Тундры голубое созвездье»
Тундры голубое созвездье Где-то за Полярной дугой. Отчего не рада приезду, Отчего встречаешь пургой. Звёздами заносишь дороги, Двери Заполярья прикрыв.Отчего так много тревоги В розовых туманах твоих?..«Ночами долго курят астрономы»
Какой корабль, надеждой окрылённый, Рванется разузнать, что там в огне? Какие убиваться будут жёны Сгоревших в неразгаданной стране? Но кто-нибудь опять начнет атаки, Чтоб засветить открытий фонари. Но ты держись подальше от той драки, Не открывай меня — сгоришь!«Прости, что бегу от насиженных мест»
Холодные волны бушуют окрест, В них рыба гуляет шикарная. С левой руки моей — Южный крест, С правой — звезда Полярная...Много всяких прочих, самых разнообразных по тематике песен было в памяти Игоря. Но, пожалуй, чаще других он повторял суровую альпинистскую песню «Боксаны»
Там, где день и ночь бушуют шквалы, Тонут скалы грозные в снегу, Мы закрыли напрочь перевалы И прорваться не дали врагу. День придет решительным ударом, В бой пойдем, друзья, в последний раз. И тогда все скажут, что недаром Мы стояли насмерть за Кавказ!И «Кострому»
По судну «Кострома» стучит вода, В сетях антенн качается беда. И ты ключом, приятель, не стучи, Ты в эти три минуты помолчи...И ещё одна из любимых его песен:
А наша звезда, как сон, пестра, Её мы нашли с тобой вчера, Ты стала моей судьбой вчера, Ты стала моей женой вчера...Шло время. В конце 60-х годов жизнь разбросала нас по разным углам Якутии. Кто-то оказался в Якутске, кто-то в Мирном, кто-то в Айхале. Игорь и Рита тоже перемещались по своему жизненному пути: Нюрба — Айхал — Якутск — Мирный — Москва. Встречаться мы стали реже, но при каждой встрече опять зажигались песнями. Репертуар Игоря обновлялся, появлялись новые мелодии. Однажды он прекрасно спел Галича «Мы похоронены где-то под Нарвой»:
Мы похоронены где-то под Нарвой, Мы были — и нет! Так и лежим, как шагали, попарно, И — общий привет! Эй, поднимайтесь, такие-сякие, Ведь кровь — не вода. Если зовет своих мёртвых Россия, Так значит — беда!При следующей встрече, не помнится уже, где и когда, он великолепно исполнил «Баньку» Высоцкого:
Протопи, ты, мне баньку по-белому, Я от белого свету отвык. Угорю я и мне, угорелому, Пар горячий развяжет язык...Конечно, со временем, когда Игорю уже было за пятьдесят, он стал петь реже, да и голос стал сдавать, но любовь к пению у него не иссякала. Иногда пел он и песни на слова Есенина, но не все, лишь некоторые из них. Замусоленных и часто повторяемых он не любил. Чаще всего он исполнял эту:
Ты поила коня из горстей, в поводу, Отражаясь, берёзы ломались в пруду. Я смотрел из окошка на синий платок; Кудри черные змейно трепал ветерок. Мне хотелось в сиянии пенистых струй С алых губ твоих с болью сорвать поцелуй, Но с лукавой улыбкой, брызнув на меня, Унеслася ты вскачь, удилами звеня...Песни эти привлекали его своим трагизмом, да как и многие другие песни. Одной из самых любимых его была лермонтовская «Выхожу один я на дорогу»:
И весь день, всю ночь мой слух лелея, Про любовь мне сладкий голос пел. Надо мной чтоб, вечно зеленея, Тёмный дуб склонялся и шумел.Не дуб, но другое ветвистое дерево склоняется, Игорь, над твоей могилой. Пусть оно долго, долго охраняет твой покой.
Не один ты ушел из жизни по этой дороге. Вслед за тобой уже последовали душа нашей компании Наташа Карева, виртуоз игры на гитаре Женя Газелериди, поклонник Есенина Виктор Минорин, воздушный ас, бортоператор Сергей Удовенко. Скоро дойдет очередь и до всех нас. Но пока мы держимся. И когда тоска по ушедшим особенно щемяще берет за сердце, вспоминаем твою любимую песню:
Ветер тихонько колышет, Гнёт барбарисовый куст, Парень уснул и не слышит, не слышит Песни душевную грусть.ПОДДУБНЫЙ И ПУЛКОВО
Было это в 1960 году или годом позже, память стала изменять. Во время какого-то геофизического совещания при ВИРГе или ВИТРе (опять забылось) я познакомился с известным в геологических кругах изобретателем по фамилии Поддубный. Он занимался гравитационными вариометрами, конструировал их в одиночку и во многом преуспел. Его приборы потом применялись в геофизической разведке рудных месторождений. На упомянутом совещании всерьёз обсуждался вопрос: отдать ли его тематику заводу «Геологоразведка» или... завод придать к Поддубному. Так сформулировал эту ситуацию гравиразведчик Леонид Яковлевич Нестеров, бывший в то время директором ВСЕГЕИ.
Но речь о другом. При встрече с Поддубным я посетовал, что мне негде измерять физические свойства образцов, поскольку в черте города из-за промышленных магнитных помех работать с измерительной аппаратурой почти невозможно.
А предыстория этого разговора такова.
Во второй половине 50-х годов на территории алмазной провинции в Западной Якутии широко велись аэромагнитные съемки. Многочисленные региональные аномалии, выявленные этими съемками, требовали интерпретации, то есть объяснения их геологической природы. Вызваны были они кристаллическими породами архейского метаморфического фундамента, залегающими на глубинах от одного до пяти километров под чехлом осадочной толщи палеозоя, но какими именно породами, было неясно. О магнитных свойствах докембрийских образований не имелось сколько-либо достоверных сведений.
В то же время на Анабарском кристаллическом щите, где эти породы выходят на дневную поверхность, работали ленинградские геологи из Лаборатории докембрия в Ленинграде. Они собрали крупные коллекции метаморфических образований по территории бассейна Большой Куонапки, в юго-восточной части щита. Вёл там работы известный ученый профессор А. А. Каденский. С ним мы списались и договорились, что его коллекцию нам можно будет изучать. Но где? В Ленинграде или Нюрбе? В Нюрбе есть все условия, но пересылать из Ленинграда сотни образцов хлопотно и дорого. А в Ленинграде? Но как получить длительную командировку?
В Нюрбе находилась в это время проездом Елена Владимировна Францессон, в то время уже известный специалист по кимберлитам. У неё было какое-то дело к главному геологу Амакинки Юркевичу и с ней мы продумали следующий тактический ход. Надо было заинтересовать Юркевича и подвести его к мысли, что желательна командировка в Ленинград. Вместе мы зашли к нему, и в ходе разговора как бы ненароком задели вопрос об изучении физсвойств кристаллических пород Анабарского щита. Я расписывал необходимость расшифровки геологической природы магнитных аномалий на севере алмазной провинции. Лена хорошо отозвалась о А. А. Каденском и о его коллекции, но выразила опасение, что он вряд ли отдаст коллекцию на изучение в Нюрбу. Собирал он ее несколько лет, коллекция представляет большую ценность.
Ростислав Константинович внимательно слушал нас, а потом спросил: «А разве нельзя коллекцию изучать в Ленинграде?» Мы переглянулись и, как бы только что сообразив, ответили, что, вероятно, можно и даже вполне целесообразно, но нужны командировка и время. «Ну, командировку мы дадим, если есть необходимость, езжайте».
Что нам и надо было! Не мы клянчили командировку, а нам ее предложило начальство. Это совсем другое дело, если инициатива исходит от начальства. Лене я был весьма благодарен за поддержку, без нее, может быть, идея и не выгорела бы.
Таким вот образом я оказался в Ленинграде. С А. А. Каденским мы быстро договорились об условиях изучения его коллекции (совместные публикации материалов и т. п.) и я, наняв в помощники студента, готов был приступить к работе. Но где работать? Как уже было сказано, в центре города промышленные помехи оказались слишком сильными: магнитная система прибора «плясала», как ненормальная, погрешности измерений далеко выходили за рамки допустимых пределов.
В этот момент мне и подвернулся Поддубный. Он предложил работать в его мастерской, которая находилась в подвале Пулковской обсерватории.
— Давайте ко мне, у меня места много. И заводов поблизости нет, индукционные помехи не должны быть большими.
Приехав в назначенное время в Пулково, я убедился, что места в подвалах действительно много и блуждающие токи не так велики, чтобы осложнить работу с магнитометрами. Обсерватория в те годы была в полуразрушенном состоянии (как известно, немцы обстреливали оттуда город, и наши с кораблей на Неве тоже немало снарядов запустили в ту сторону) и, как помнится, не функционировала. Во всяком случае никакого начальства на территории, у кого надо было бы спрашивать разрешения на въезд и на работу в подвалах, мы не нашли. Поддубный нас приветливо встретил, и мы стали осваиваться. Настроили магнитометр М-2 на оптимальную чувствительность, установили циферблатные весы для определения плотности и объёма образцов и приступили к работе.
Отобрав партию образцов в Лаборатории докембрия, мы везли ее на такси до Пулкова, там измеряли образцы и отправлялись за следующей партией. Работа шла чётко, и за два месяца мы изучили около полутора тысяч образцов. Командировку мне продлевали неоднократно, а бухгалтерия исправно переводила зарплату (причём с якутским коэффициентом, так что жить в большом городе можно было с комфортом). А. А. Каденский изредка консультировал нас по петрографии пород и поставлял информацию о местах отбора образцов. Вернулся я в Нюрбу с ворохом материалов по магнетизму пород докембрия, и проблема с интерпретацией аэромагнитных аномалий на севере алмазоносной провинции Якутии была закрыта.
Результаты наших исследований весьма заинтересовали владельца коллекции А. А. Каденского, но совместно обрабатывать материалы нам не пришлось; в те же годы он скоропостижно скончался, а следы его коллекции затерялись.
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА
Холодные зимы Якутии в конце 50-х годов. Геофизики Амакинской экспедиции разбросаны по «углам» во всех концах Нюрбы, а дружеские встречи по традиции организуются постоянно. Иногда по морозу приходилось топать из одного конца Нюрбы в другой. Но если путь пролегал по улице Советской близ районного центра, то остановка непременно делалась в старом домике Балакшиных. Двери домика для гостей всегда были открыты. А хозяйка, Александра Николаевна, всегда с непритворным радушием принимала входящих погреться.
Сын ее, Георгий Дмитриевич, учился в Москве и в 1956 году, по окончании института приехал работать на родину. Через него мы и познакомились с его матерью и со всей её дружной семьёй.
Принимать гостей, особенно незваных или нежданных, — дело хлопотное. А для многих хозяек и досадное. Поэтому воспитанные люди не вваливаются в чужие дома просто так. Понимая все это, тем не менее, невзирая на этикет, мы заходили к Балакшиным в любое время без упреждений. Потому что знали: в этом доме гостям — друзьям сыновей Александры Николаевны, всегда будут рады. И рады непритворно.
Александра Николаевна приветливо встречала нас, ее невестка и внучки тут же начинали хлопотать около стола, на котором неизменно появлялось что-нибудь вкусное из домашних припасов и... бутылка вина. Лучше всего мне помнятся годы, когда из сыновей Александры Николаевны при матери жил только самый младший — Руслан. Он уходил с матерью в дальнюю комнату, а потом, торжествующий, возвращался с бутылкой и ставил ее на стол. У Александры Николаевны всегда была «заначка» для гостей. Припасала её Александра Николаевна, наверное, тайно от домашних на свою скудную пенсию и одаривала гостей в подходящий момент. Трогательными были радушие и гостеприимство.
В домике Балакшиных друзья их семьи собирались и по случаю дней рождения. Семья была большая, но дни рождения каждого члена семьи отмечались неукоснительно. Тут уж не одна заветная бутылочка распивалась, и застолье всегда проходило дружно и весело. Под баян или трехрядку Георгия Дмитриевича пелись песни, самые разные — и студенческие, и бардовские, и народные, и всякие прочие, набор которых у Георгия был велик и разнообразен.
Песни Александра Николаевна любила. Не всё, наверное, нравилось ей из бардовских текстов тех лет, но она терпеливо слушала и подпевала. Плавные лирические мелодии были ей больше по душе, мы все это знали. Любимая ее песня была «Подмосковные вечера». Песня эта, из уважения к хозяйке и чтоб «потрафить» ей, исполнялась всегда первой и с большим чувством. По лиричности эта песня, конечно, бесподобна, не зря её Александра Николаевна так любила.
Обязательным, почти ритуальным было посещение дома Балакшиных после праздничных демонстраций. От митинговой площади дом был недалеко, и мы, озябшие и возбуждённые, заваливались в гости к Александре Николаевне целой оравой. Тут уж начиналось веселье по высшему разряду. Песни и танцы, хотя и тесноваты были комнаты при обилии гостей, продолжались допоздна. Иногда Александру Николаевну приглашали на танец, она не отказывалась, хотя и полновата была уже её фигура для быстрых движений. Знавшие ее знакомые нюрбинцы вспоминали, что в молодости она была неутомимой плясуньей и певуньей. Не случайно она, будучи ещё гимназисткой, покорила сердце приехавшего в Якутск из Иркутска молодого Дмитрия Ильича Балакшина.
Нелегка была жизнь Александры Николаевны. Родить, вырастить и воспитать пятерых сыновей и дочь — сам по себе подвиг для женщины. А потом потерять двух из них, трагически погибших, — надо было это потрясение пережить и сохранить после этого жизненную силу для воспитания внуков и внучек.
К нам, друзьям её сыновей, Александра Николаевна относилась просто, по-матерински. Она, наверное, нас по-своему жалела. Её сыновья всё же были при ней или неподалеку, а у наших матерей сыновья находились Бог знает где, за тридевять земель. И видели нас наши матери неделю-две в году, а то и реже. Но она никогда не выказывала жалости вслух, хотя изредка и деликатно интересовалась, как там наши матери живут.
У всех её сыновей был отличный музыкальный слух. Старший, Костя, очень любил песни и душевно их исполнял. О среднем, Гоше, говорить не приходится: он признанный музыкальный талант, известный всей геологической общественности Якутии. Младший сын, Руслан, тоже имел очень тонкий музыкальный слух. Перешёл ли им музыкальный дар от матери или от отца, трудно сказать, но, определенно, мать немало сделала, чтобы привить сыновьям любовь к музыке, к песне.
И еще один бесценный дар своим детям, который определенно привит им матерью, — это терпимость к окружающим людям. Я не помню случая, чтобы в разговорах о совместных знакомых Александра Николаевна сказала что-нибудь плохое о ком-либо из них, о соседях, возмутилась какой-либо несправедливостью с их стороны. Хотя обиды у неё, несомненно, были, не могло их не быть. Поэтому она, как мне кажется, не имела врагов. Про таких, как она, в наших краях, на севере Вологодской области, говорят: «Святая женщина»!
Много доброго она сделала окружающим людям.
ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
О КНИГЕ «ИСТОРИЯ АЛМАЗА»[13]
В газете «Мирнинский рабочий», № 107 от 20 июля 1999 года помещена рецензия на названную книгу, написанная А. А. Маракушевым и В. И. Фельдманом. Рецензия хвалебная. Но у старых геологов Амакинской и Ботуобинской экспедиций есть и другое мнение об этой работе, не столь лестное. Этим мнением мы и считали целесообразным поделиться с читателями МР (№ 57 от 11 апреля 2000 года).
Безусловно, «История алмаза» — труд объёмистый, насыщенный самой разнообразной информацией. Жанр его очень трудно определить. Как серьёзное научное исследование об алмазах оно не смотрится, ибо в нём слишком много довольно мелочных «лирических» отступлений, к науке ни с какого боку не относящихся. К разряду научно-популяризаторских сочинений его тоже трудно отнести, ибо некоторые сведения об алмазах и спутниках (к примеру, изотопный состав углерода в минералах) интересны только узкому кругу специалистов. Историко-познавательной книга тоже не является, поскольку из обширной и многогранной картины поисков алмазов в Якутии выхвачены лишь мелкие и далеко не самые существенные эпизоды, касающиеся главным образом личного участия авторов в тех или иных событиях, для широкой публики, да и для будущих исследователей истории поисков алмазных месторождений мало интересных. Но некоторые эпизоды из книги надо прокомментировать, ибо они или неверно освещают прошлое, или преувеличивают роль авторов книги в описываемых событиях.
История открытия трубки Интернациональная и трубки им. XXIII съезда КПСС излагается авторами (в данном случае первым автором — А. Д. Харькивым) в таком аспекте, что читатель может понять: если бы не диагностика пиропов в ореолах рассеяния с этих трубок, сделанная А. Д. Харькивым, то трубки, возможно, не были бы открыты и по сей день. Что-то, помнится, это было не совсем так или, точнее, совсем не так. В Ботуобинской экспедиции имелись и другие минералоги, которые с таким же успехом могли определить «дальний» или «ближний» перенос спутников. О своих коллегах по такой диагностике А. Д. Харькив предпочитает не упоминать. В то же время нелишне отметить, что в числе первооткрывателей упомянутых трубок А. Д. Харькив не числится.
Память авторов весьма и весьма избирательна. К примеру, А. Д. Харькив, описывая алмазоносные эклогиты (лакомый кусочек для многих исследователей!), вспоминает, что к одной находке он «имел отношение». Какое отношение, в тексте не расшифровывается. А напрасно! Коллекцию алмазоносных эклогитов мог собрать в те годы и собрал её Анатолий Иванович Боткунов, главный геолог ПНО «Якуталмаз». Она была единственной и в своём роде уникальной. Боткунов показывал её научным работникам и кое-кому давал образцы для исследований. В том числе, по всей видимости, и А. Д. Харькиву. Вот и всё «отношение».
Но на фамилию Боткунова в тексте книги наложено табу. Он нигде не упоминается. Даже при описании классификации кимберлитов трубки Мир. Хотя именно на основе классификации А.И. Боткунова эта трубка отрабатывалась и отрабатывается до сих пор. Все прочие исследователи трубки Мир, даже второстепенные и незначащие, перечисляются, а Боткунова в перечне нет. Несмотря на то, что отработку «Мира» Боткунов вёл тридцать лет. Изучив тысячи и тысячи алмазов из этой трубки, он пришёл к выводу, что определённые классы кристаллов на фабрике № 3 недоизвлекаются. Именно он настоял на совершенствовании обогатительного процесса, в результате чего извлечение алмазов из трубки Мир повысилось более чем на 20 процентов. Его заслуга в этом была признана руководством ПНО «Якуталмаз», есть соответствующие документы. О докторской диссертации А. И. Боткунова на эту тему авторы книги не могут не знать, но упоминания о ней и ссылок на неё нигде в книге нет.
То же самое касается трубки Зарница. Авторы книги довольно пространно пишут о том, как была проведена доразведка трубки, после чего она вошла в разряд промышленных месторождений. Но фамилия Боткунова снова не упоминается. А ведь именно он взял первую крупнообъемную пробу на этой трубке (около 100 тысяч кубов) и повысил содержание алмазов за счет крупных классов. И лишь по его инициативе была проведена доразведка трубки бурением. Если бы не его настойчивость, трубка Зарница, возможно, до сих пор считалась бы непромышленной. О таких вещах «историкам» алмазов забывать непростительно. Если, конечно, не делать этого сознательно.
Умолчание роли других исследователей ещё в какой-то мере можно извинить. Забыли и забыли, к старости память слабеет, какой тут разговор. Но если заслуги других исследователей приписываются себе, то это уже говорит не о забывчивости, а, наоборот, об очень цепкой памяти. К примеру, рассматривая тектонику кимберлитовых трубок и околотрубочного пространства, авторы пишут: «Нами ... были разработаны критерии, которые позволяют определить, от какой трубки отторгнут блок кимберлита...». Но фамилия исследователя, который первый изучил явление отрыва и переноса верхних частей трубок под воздействием трапповых интрузий, опять же не упоминается. Хотя есть на эту тему статья И. Я. Богатых, опубликованная еще в 80-е годы, в которой таковые критерии в достаточной мере освещены.
Авторы хорошо помнят сведения о физических свойствах кимберлитов и приводят их в изрядном количестве по целому ряду объектов. Но начисто забыли о первоисточнике этих сведений. Хотя упоминать первоисточники принято не только по соображениям научной этики, но и с той целью, чтобы читатель мог оценить достоверность приводимых данных (не все источники заслуживают доверия).
То же самое касается геологических разрезов, планов, объёмных моделей кимберлитовых трубок. Они помещены в книге без ссылок на первоисточники, или с примечанием: «По материалам Амакинской или Ботуобинской экспедиций». То есть дается понять, что авторы используют материалы, но вносят в них что-то дополнительное, своё, новое. А когда же берётся готовый разрез из геологического отчета, и у этого отчёта есть автор, то о корректности заимствований с такими ссылками нет и речи.
Описывая историю поисков месторождений алмазов, авторы с большим удовольствием смакуют ошибки и заблуждения предшественников. Не пощадили даже старика Файнштейна, которому вменяется в вину, что он неправильно ориентировал в свое время поиски коренных месторождений. Критикуют сотрудников НИИГА, которые не диагностировали когда-то кимберлит трубки Ленинград и проворонили Эбелях и Попигай. Все это верно, но есть один нюанс.
Старые алмазники, конечно, знают, что сотрудники Биректинской экспедиции НИИГА, сплавляясь в 1952 году по речке Омонос, вышли на коренное обнажение кимберлита, но не сочли его таковым. В результате не стали первыми в открытии кимберлитов на Сибирской платформе. История грустная, если не сказать трагическая.
Авторы книги чувствуют, однако, что критиковать поисковиков-алмазников, не имея за плечами никакого своего опыта поисковых работ, с их стороны не совсем прилично. Поэтому они подводят под свою значимость некоторого рода теоретическую базу. Они называют себя «микроскопистами» в противовес «молоткистам». И пишут, что если бы «молоткисты» более чутко прислушивались к «микроскопистам», то просчётов, подобных вышеупомянутым, могло и не быть. С этим трудно спорить, но вот беда: Накынское кимберлитовое поле сравнительно недавно открыли опять же экспедиционные «молоткисты», или, выражаясь языком авторов, «скважинисты», но никак не научные «микроскописты». Как, впрочем, и любое другое. Поэтому высокое мнение авторов о прошлых заслугах «микроскопистов» никак разделить нельзя.
К вопросу о прогнозах. Как известно, с прогнозированием новых алмазоносных площадей по Западной Якутии у теоретиков ЦНИГРИ никогда ничего дельного не получалось. Хотя они и застолбили когда-то в качестве перспективной чуть ли не половину территории Мало-Ботуобинского алмазоносного района. По их рекомендациям пробурена масса скважин. И всё впустую. На рекомендованных ими площадях больше десяти лет работала 12-я экспедиция. Результат нулевой, прогноз ничем серьёзным не был обоснован.
Свои промашки с локальным прогнозом (о чём в книге, естественно, умалчивается) они с успехом компенсируют, если можно так выразиться, планетарным охватом всего и вся. Перечисляя страны и континенты, на территории которых могут быть найдены новые месторождения алмазов, они не забывают и Антарктиду. Оговариваясь, правда, что поискам там препятствует двухкилометровая толща льда. Но когда лед растает, этак через миллион лет, их прогнозам, надо полагать, не будет цены.
Следует признать, что в методику поисков кимберлитовых трубок авторами действительно внесено нечто новое. Таковым можно считать четкую формулировку известного метода обнаружения трубок по высыпкам кимберлита в русловых отложениях речек и на склонах долин. Метод назван «обломочно-валунным». Подробно описывается, как применял его на Муне геолог Г. и какой конфликт был у него на этой почве с геологом С. Геолога Г. высадили с вертолета на Муне, и он, бродя по берегу речки, нашел обломки кимберлита из расположенной поблизости кимберлитовой трубки, опередив тем самым геолога С., который до этого места с поисками не дошёл. Конфликт, собственно говоря, пустяковый, упоминания не стоящий; таких конфликтов в годы поисков были сотни. А не найти трубку в том месте на Муне было просто невозможно: на косе валялись валуны кимберлита с баранью голову (до 30 сантиметров в поперечнике, по словам авторов).
По аналогии с «обломочно-валунным» можно сформулировать «обломочно-скальный» метод (чур, в названии наш приоритет!). Если под скалой валяются глыбы кимберлита, значит, скала есть не что иное как коренной выход последнего. Не знал Иван Афанасьевич Галкин, найдя трубку Обнаженная, что он использовал именно «обломочно-скальный» метод поисков.
Восстановление исторической справедливости по отношению к забытым или неправедно обойденным в свое время наградами лицам, к чему авторы призывают, можно бы только приветствовать, если бы оно не сводилось к таким, к примеру, мелочам, как спор о том, кто первый построил дом в будущем городе Мирный. Все старожилы уверены в том, что его построил прораб Иннокентий Прокопьев. Ан нет: это сделал, оказывается, другой житель поселка 200-й партии, у которого А. Д. Харькив позднее квартировал. И построил на неделю или на две раньше Прокопьева. Может, оно и так, хотя еще не известно, был этот дом с крышей или без и чей дом прочней и просторней. В истории алмазных открытий нет, по-видимому, более важного дела, чем прояснение истины в этом вопросе.
Об одном из униженных и оскорблённых лиц, Андрее Александровиче Гаврилове, А. Д. Харькив (он — один из авторов книги — знал этого человека) вспоминает, что тот был «генерал-директор 2-го ранга» и «исключительно остроумный рассказчик». Оставив в стороне «генерал-директора» (таких званий в горном деле не было даже в царское время), отметим лишь, что Андрей Александрович был действительно незаурядным человеком. И не только по части остроумия. Он был прекрасным организатором и руководителем, что называется, высшего класса. Он долгое время возглавлял Всесоюзный аэрогеологический трест, проводивший работы по всему Союзу. Михайловскую экспедицию, которую он создал, и начальником которой позднее стал, неправедным образом «проглотила» Амакинка (объединение экспедиций произошло по волевому приказу министра геологии П. Я. Антропова вопреки протестам А. А. Гаврилова). Было ли это полезным или, наоборот, вредным для дела поисков, никак авторами не комментируется. А поразмыслить на эту тему стоило бы. Опоискование северных территорий Якутской алмазоносной провинции было бы куда удобнее и экономичнее вести с базы Михайловской экспедиции на Арга-Сале, нежели с базы Амакинки на Вилюе. Всё же ко всем объектам работ севернее Оленька это было бы на тысячу километров ближе. Но что там до таких размышлений авторам книги. Им куда важнее описать в деталях мелкую склоку между двумя геологами об открытии какого-то мелкого тела кимберлитов.
Вообще при чтении книги создается впечатление, что она творилась по методу ноздрёвского повара, который, как известно, клал в суп всё, что под руку попадет: «...перец ли, он клал и перец, горох ли, капусту, ветчину, словом, катай-валяй, было бы горячо, а вкус какой-нибудь выйдет». Так и тут. Есть под рукой старые портреты Сесила Родса и «Сэра Эрнста Оппенгеймера», туда их в текст, хоть и нехорошие они люди, по мнению авторов. Один из них «хищник», а второй «оздоровил алмазную промышленность ЮАР», «...десятки тысяч рабочих выбросив на улицу» (из такого текста не вполне понятно отношение авторов к данной акции: то ли они одобряют ее, то ли, наоборот, осуждают). Есть на памяти расхожая байка, как алмазы ловят подошвами сандалий, тоже её туда. Есть в закромах АЛРОСЫ перечень именных алмазов, ну как же не поместить его в книгу, тем более, когда еще «Вестник АЛРОСЫ» соберётся его публиковать.
Кстати, об именных алмазах. В перечне их много, на момент издания книги есть, по-видимому, все. Даже фигурируют два алмаза безымянных, числящихся под номерами. Но одного крупного алмаза в перечне нет. Именно того, который называется «Анатолий Боткунов». Просто удивительно, как хочется авторам книги вытравить память об этом выдающемся человеке.
Нельзя не обратить внимания и на рекламный аспект в послесловии. Там написано буквально следующее: «Работы ЦНИГРИ обеспечили открытие и разведку многих месторождений алмазов...». Каких месторождений, не уточняется, именно многих — и всё тут! Хоть бы одно упомянули, но и это сделать авторам затруднительно. Ибо таковых месторождений, которые помогли бы открыть «микроскописты» из ЦНИГРИ, на территории Якутии нет!
В числе продукции ЦНИГРИ, помимо «открытия многих месторождений», числятся:
— коллекции алмазоносных и неалмазоносных кимберлитов с трубок Мало-Ботуобинского и Верхне-Мунского районов, которые в книге рекомендуются для продажи;
— геологические схемы и разрезы кимберлитовых трубок.
Как известно, коллекции каменного материала поступали в ЦНИГРИ из экспедиций и геологических отделов ГОКов вовсе не для перепродажи, а для научных исследований. Кто разрешил ЦНИГРИ делать бизнес на материале кимберлитов, который ему не принадлежит? Тем более, продавать алмазоносные кимберлиты, что не рекомендуется даже подразделениям самой фирмы АЛРОСА.
А геологические схемы и разрезы трубок есть не что иное, как материалы разведки и эксплоразведки алмазных месторождений. Эти материалы получены в результате многолетнего и далеко не лёгкого труда экспедиционных и рудничных геологов. И вот: результаты этого труда оптом и в розницу распродаются цнигровскими бизнесменами не только, по-видимому, внутри России, но и за рубежом. А то, что эти материалы имеют огромную ценность, ясно всем, кто имел отношение к разведке алмазных месторождений. Кто дал право сторонней организации торговать строго конфиденциальными материалами фирмы АЛРОСА? А если у ЦНИГРИ такого права нет, то почему почтенные авторы книги «История алмаза» берут на себя инициативу по рекламе пиратской по сути продукции?
Перечисленными замечаниями негативное отношение геологов к книге далеко не исчерпывается. Конечно же, содержание книги не отвечает её названию. Это околоалмазная история, содержащая, несмотря на многословность, лишь малый процент полезной и достоверной информации о поисках алмазных месторождений в Якутии.
НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗНАДЕЖНОСТЬ[14]
Современная наука не есть сфера человеческой деятельности, участники которой только и заняты поисками истины. Наука содержит в себе не только научность, как таковую, но и антинаучность, которая глубоко враждебна научности, но выглядит гораздо более научно, чем сама научность... Научность избегает использовать те средства, без которых можно обойтись. Антинаучность стремится привлечь всё, что можно привлечь под тем или иным предлогом. Научность стремится найти простое и ясное в сложном и запутанном. Антинаучность стремится запутать простое и сделать труднопонимаемым очевидное.
А. Зиновьев
В опубликованной книге В. А. Цыганов задался целью приспособить теорию надёжности механических систем к проблемам геологических поисков. Архитрудное, да и не нужное это дело, ибо между механическими системами и геологией очень уж мало общего. Но автор не убоялся трудностей и смело взялся за невыполнимое, казалось бы, дело. Рассуждения автора о геологии, о геофизике, о системах вообще, и о технических системах в частности, донельзя пустословны, перенасыщены чуждыми для геологов терминами, содержат массу несуразностей и языковых огрехов, и вообще, деликатно говоря, трудночитаемы. Если же вычленить из многословного текста то немногое, что поддается пониманию, то получается следующий калейдоскоп нелепостей:
1. Надежность механических систем никак не соотносится с надежностью геологического опоискования территорий. Вот выдержки из текста с соблюдением лексики автора: «Под надёжностью любой механической системы принято понимать её способность сохранять качество при определённых условиях эксплуатации». А «качество продукции — это совокупность свойств, обусловленная её пригодностью удовлетворять определённым потребностям в соответствии с назначением».
Автор вроде бы и осознает несовместимость понятий надёжности в технических системах с надежностью опоискования в геологии, поскольку пишет: «...надёжность решения исследователем сложных геологических задач определяется существенной индивидуальностью каждой задачи. Правильность решения многих задач, помимо уровня профессиональной подготовки, определяется конкретными способностями исследователя к научному творчеству». Разумное заключение, поскольку геолог — не серийная машина из тысяч себе подобных. Но тем не менее, упорно навязывает «конкретному исследователю» систему оценки «научного творчества» с позиций таковой в технике и машиноведении.
2. Существующую в алмазной геологии классификацию перспективных площадей по степени сложности их опоискования В. А. Цыганов напрочь игнорирует и вводит свои понятия «отказов поисковых систем» в зависимости от придуманных им «модулей» (вещественно-индикационного, технико-метрологического и других). При этом простейшие вопросы методики поисков запутываются до такой степени сложности, что автор сам уже, по-видимому, перестает понимать, чего же он добивается своими «модулями».
3. На десятках страниц книги обсуждается вопрос о связи магнитной восприимчивости кимберлитов с их химическим составом, в том числе с содержанием кремнезема, кальция, магния и пр. Но для чего сие? И какое это имеет отношение к «надёжности поисковых систем»? Известно из учебников, что магнитная восприимчивость горных пород зависит только от состава и количества содержащихся в них ферромагнетиков, которых всего, как тоже известно, 4 или 5 видов. И в кимберлитах магнитная восприимчивость и зависимость её от состава ферромагнетиков давно и досконально изучены. От нечего делать можно, конечно, исследовать корреляционные связи восприимчивости со всеми 70-ю минералами, встречающимися в кимберлитах. Но никакого смысла в этом бесплодном занятии нет. Разве что автору было нужно наполнить чем- то раздел «Вещественно-генетические аспекты анализа надёжности модуля» (с. 70—80) или показать свою учёность. Из повторения азов видно, что автор толком не знаком ни с опубликованной литературой по означенному вопросу, ни с известными широкому кругу геофизиков отчётными материалами.
4. Целую главу книги занимает «Изучение причин формирования естественных вариаций фонового поля», в том числе магнитного поля над траппами. А для чего эти причины изучать, если они давно изучены на материале многих сотен буровых скважин по линиям профилей на площадях развития трапповых интрузий? Структура магнитного поля зависит от морфологии интрузий, их мощности, намагниченности и характера распределения в породах ферромагнитных минералов. Знание всего этого абсолютно не приближает нас к решению сложнейшей проблемы выделения полезных аномалий от кимберлитов на фоне помех от траппов или других сильно намагниченных вмещающих пород.
Но В. А. Цыганов далеко стороной обходит сложные проблемы поисковой геофизики. Куда легче нагромождать «причины создания естественных вариаций», создавая видимость учености. И вот опять же на двух десятках страниц мусолятся в труднопроизносимых терминах «особенности ландшафтно-геологической среды» с экскурсами для чего-то далеко за пределы кимберлитовой провинции. Здесь и «гипергенные геохимические барьеры» на Полярном Урале, и «ландшафтно-геологические редукции» неизвестно где, и методики изучения таковых, в которых «геологические системы в соответствии с уровнем организации материального мира иерархически от простого к сложному подразделяются на...».
Правда, с высот чистого ландшафтно-геологического теоретизирования автор спускается до рассмотрения структуры магнитного поля и причин её формирования на двух маршрутах аэромагнитной съемки. Выборка из сотен тысяч пройденных над траппами маршрутов негустая, но всё же хоть что-то приземлённое есть. И по двум лишь этим маршрутам автор делает вывод об «определяющей роли геометрических характеристик трапповых тел в формировании вариаций фонового поля». Вывод частично верный, но в отношении научной новизны несколько запоздалый. Сорок лет назад об этом уже знали все геофизики-алмазники.
5. Одним из ключевых слов в тексте книги является слово «отказ», тоже взятое из области машиноведения. В переводе на нормальный геологический язык оно означает ситуацию, когда поисковые методы не могут обнаружить кимберлитовую трубку в силу тех или иных геологических причин. Скажем, если трубка перекрыта какими-то породами и аномальный эффект от нее ослабляется, экранизируется или затушевывается. На языке Цыганова это выглядит так: «...Поисковый объект утрачивает первоначально высокие индикаторские параметры, обусловленные динамическим воздействием на объект поисков процессов формирования компонентов модуля ландшафтно-геологической среды». Кошмар! Без перекура не поймешь.
Нет смысла анализировать эти построения автора. Да это при здравом подходе и невозможно. Приводимые формулы расчетов, таблицы, графики — это какая-то эмпирическая отсебятина, для которой нет подходящего названия. При кажущейся математичности математики и геометрии здесь нет и в помине. Какой же математик станет, к примеру, подсчитывать вероятность с точностью до миллионной доли после запятой, если она меняется от 0 до 1 (с. 199). Когда одной десятой для поставленной цели за глаза достаточно. Вся аналитика при расчетах вероятности некорректна или, хуже того, подогнана к тенденциозным выводам, в корне неверным. К примеру, автору надо во что бы то ни стало доказать, что ромбическая сеть при поисках кимберлитовых трубок эффективнее квадратной. Что для этого предпринимается? Прежде всего напускается туману. На протяжении десятка страниц этот простой в принципе вопрос усложняется до такой степени непонятности, что автор сам уже путается в приведенных формулах, графиках, диаграммах. Понять и переварить текст стороннему человеку невозможно. И в результате появляется вывод, что эффективность ромбической сети, при условии подсечения объекта одной точкой наблюдений, на 23% выше, чем квадратной (с. 198).
Если бы это было действительно так, то такое открытие стоило бы Нобелевской премии. Оно начисто отвергает все постулаты теории вероятности. Как же предшественники могли прозевать подобный феномен?
Они его, конечно же, не прозевали. Но на этом вопросе надо остановиться несколько подробнее. Действительно, есть соотношение размеров кимберлитовых трубок и элементов поисковой сети, когда эффективность ромбической (треугольной, шахматной) сети выше, чем квадратной.
Легче всего это проследить на численном примере. Пусть сеть скважин будет квадратной, 100 х 100 метров. Этой сетью с полной вероятностью будут выделяться круглые объекты диаметром примерно 141 метр. Треугольной же сетью (сдвинутые на 50 метров скважины по соседним профилям) с полной вероятностью выделяются объекты уже диаметром 122 метра. Это нетрудно подсчитать аналитически, но можно и просто прикинуть на миллиметровой бумаге. То есть налицо кажущаяся более высокая эффективность треугольной сети. И она действительно на 22—23% выше квадратной. Но! Это справедливо лишь для объектов в диапазоне диаметров от 122 до 141 метра. Тела же диаметром более 141 метра и менее 122 метров будут выделяться той и другой сетью с равной вероятностью.
Но нам надо искать трубки не только с размерами от 122 до 141 метра. Надо искать любые: от минимально промышленных с диаметром 40—50 метров до крупных тел с размерами до 500 метров и более в поперечнике. В перечне известных кимберлитовых тел диаметры от 122 до 141 метра имеют лишь 5—6% трубок. Если учесть весь диапазон искомых трубочных тел, то эффективность ромбической сети будет всего лишь на 1,5—2% выше эффективности квадратной. Даже если отбросить такие мелочи, что трубки в диапазоне диаметров от 100 до 122 метров квадратной сетью 100 х 100 метров будут выявляться с большей вероятностью. Все это известно из теории поисковых сетей, которую В. А. Цыганов или не знает, или высокомерно не замечает.
Даже то небольшое (конечно, условное) преимущество ромбических сетей сходит на нет, когда используются прямоугольные поисковые сети со сближенными точками наблюдений по геофизическим профилям или линиям буровых скважин. Это не нужно доказывать, это само собой разумеется.
Словом, или автор намеренно искажает реальность в своих рекомендациях по определению параметров поисковых сетей», распространяя частный случай на всю общность явлений, или, запутавшись в своих построениях, не понимает, что творит. А недобросовестное искажение просматривается в том, что в некоторых случаях он сравнивает ромбические и квадратные сети с разным количеством точек наблюдений на единицу площади. Что совсем уж неприлично для исследователя в этой области.
Так что ни теория поисково-разведочных сетей, ни постулаты теории вероятности не пострадали от манипуляций с «надежностью механических систем». Никаких ощутимых преимуществ ромбические сети перед квадратными не имеют ни при поисках, ни при разведке, ни при геологическом картировании. Встречаются лишь редкие частные случаи, где они немногим эффективнее, но не в такой, конечно, степени, как от 17 до 30%.
Если же задаваться условием, чтобы две точки наблюдений попадали на искомый объект (в инструкциях по геофизическим съемкам это считается обязательным), то квадратная сеть всегда эффективнее ромбической. Это аксиома теории поисковых сетей, в которой наш исследователь, видимо, абсолютно некомпетентен. Иначе он не стал бы приводить фантастическую цифру экономии горных выработок при использовании треугольной сети вместо квадратной в 54%! Впрочем, тут он не вдается в пространные рассуждения, а ограничивается одним лишь простейшим рисунком, из которого в общем-то ничего такого не следует. Цифра, бесспорно, просто взята с потолка.
Математический анализ в трудах В. А. Цыганова весьма своеобразен. К примеру, «оценку средних надёжностных характеристик» он производит посредством «измерения площади путем переноса схемы на кальку с последующим вырезанием по контуру и взвешиванием вырезанных частей на аналитических весах» (с. 207). Гаусс и Колмогоров повесились бы от зависти, узнав при жизни о таком своеобразном способе расчетов вероятностей.
Текст книги нафарширован всякого рода ортодоксальными заявлениями. То автор утверждает, что «расположение объекта поисков всегда конкретно и закономерно» (хотя это как раз наоборот; во всех кимберлитовых полях расположение трубок и неконкретно, и незакономерно). То заявляет, что круг лучше эллипса аппроксимирует кимберлитовые тела вытянутых форм, то обвиняет геологов и геофизиков, что при выборе участков работ они «нарушают принцип унаследованности» (то есть надо полагать, по его мнению, лепят поисковые участки, где Бог на душу положит, без всякого на то соображения об изученности территории).
Последнее уже слишком! Или кабинетный теоретик не знает инструкций Мингео, в которых кратность строго оговорена, или просто говорит чепуху. Все используемые при геологических поисках и разведке сети горных выработок и геофизических наблюдений предусматривают кратность в целях последующей детализации. Если же какой-нибудь неопытный проектант попробует заменить кратный масштаб 1 : 2 000 на не совсем кратный 1 : 3 000, то проект тут же зарежет экспертиза.
Будучи на словах сторонником кратности «регулярных» поисковых сетей, автор предлагает в качестве параметров рекомендуемых им к внедрению «нерегулярных» сетей масштаба 1 : 10 000 такие расстояния между точками геофизических наблюдений или горными выработками, как 97 и 117 м, что уж ни в какие ворота не лезет. Это, конечно, смех сказать, но геодезистам бывает не до смеха, когда надо разбивать на местности подобные «нерегулярные сети».
Книга В. А. Цыганова перенасыщена пространными разглагольствованиями о всяких разных вопросах, как касающихся темы повествования, так и главным образом побочными, к теме никакого отношения не имеющими (вроде «анализа работоспособности промывальщиков»). Конечно, никакой пользы делу поисков кимберлитовых трубок или геофизической науке эти рассуждения принести не могут. А вред — несомненно! Он уже вполне ощутим самим фактом траты денег на издание этого опуса. Да и сколько раз калечились поисковые сети в Ботуобинской экспедиции по настоянию Цыганова. И сколько было заверочных скважин на участках, где кимберлитовых трубок явно нет, но где их прогнозировал Цыганов с позиций «теории надежности технических систем».
В конце своей книги В. А. Цыганов протестует против (якобы имеющейся) «абсолютизации возможностей основного контингента операторов, работающих с аппаратурой, и документаторов, непосредственно описывающих обнажения» (с. 294). И считает, что «...для разработки рабочих моделей познавательного процесса необходим весьма существенный объем инженерно-психологических наблюдений, направленных на изучение устойчивости и изменчивости возможностей всего контингента непосредственных исполнителей работ». Уф! От одной этой фразы становится дурно.
О ЗДРАВОМ СМЫСЛЕ В ГЕОФИЗИКЕ[15]
Я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы обратить внимание своих коллег, особенно молодых, на ненормальную, по моим понятиям, ситуацию, сложившуюся в последние годы в алмазной геофизике — в науке и практике. Ситуацию эту я назвал бы застоем. Может быть, это и не совсем точно, но что-то близкое к этому. Застой — это не значит, что никто ничего не делает. Вовсе нет. Очень активно в этой ситуации действуют товарищи, которые тянут геофизическую науку куда-то в бок. А всевозможные экстрасенсы, лозоискатели, биоэнергетики — те аж резвятся на фоне застоя. Для них тут самый фарт, ибо геологи все чаще начинают прибегать к их услугам, поскольку нормальные геофизики не в силах помочь им найти месторождения.
Но экстрасенсы и лозоискатели — это мелочь, с ними нетрудно разобраться и вытянуть их, как говорится, за ушко да на солнышко. Есть более серьёзные застойные явления. О них не принято говорить, да и вообще критика существующего порядка вещей нынче не в моде. Если вы заметили, критики нет ни в журнале Разведка и охрана недр», ни в академических журналах, ни в тематических сборниках разных НИИ, хотя всякой абракадабры публикуется там предостаточно. К проектам и отчётам производственников тоже не встретишь основательных критических оценок рецензентов, одни лишь поверхностные и в основном похвальные отзывы. На НТС и ученых советах почти нет серьёзных дискуссий и борьбы мнений оппонентов, как будто все единомышленники. Повсюду тишь да гладь и Божья благодать! Если и спорят на НТС при защите отчётов, то только по поводу того, какую дать оценку отчёту — хорошую или отличную.
Как в Минводхозе, о чём недавно писал Сергей Залыгин: рука руку моет, все довольны, все смеются. Одни лишь журналисты волнуются, да страдает природа. Чем дороже и убыточнее проект по какой-нибудь переброске вод, тем лучше, тем быстрее он пройдет экспертизу. То же и у нас в геофизике: чем больше будет затрат на проверку, скажем, одной аномалии, тем похвальнее. Чем бессмысленнее и утопичнее какое-нибудь наукообразное предложение по методике поисков, тем быстрее оно принимается к внедрению. Чем это не застойные явления? Чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров.
Первый пример. С конца семидесятых годов по инициативе ПГО «Рудгеофизика» для поисков месторождений алмазов опробуется метод ВП (вызванной поляризации) и несколько позднее его модификация — МПП. Слов нет, опробование новых геофизических методов, в том числе и электроразведочных, — дело нужное, хотя другие методы электроразведки не давали в прошлом поисковых результатов.
Метод опробуется, но чётких доказательств его эффективности опытные работы не дают. Кимберлиты не обладают сколько-либо контрастной поляризуемостью, участки расположения известных кимберлитовых тел тоже какими-либо особыми признаками в поле вызванной поляризации не выделяются. Тем не менее, вся центральная часть Мало-Ботуобинского района закрывается съёмкой методом ВП. Трубочных аномалий в этом поле нет, выделяются лишь обширные зоны с повышенным влиянием ВП. Эти зоны разбуриваются, никаких следов кимберлитов не обнаруживается. Есть лишь поля развития карбонатных пород илгинской свиты верхнего кембрия.
Казалось бы, самое время, обменявшись мнениями, закрестить этот метод, как ничего не обещающий при поисках кимберлитов. Но дискуссии по этому вопросу нет. Метод продолжает ставиться и за пределами Мирнинского кимберлитового поля. В 1984—1987 годах методом ВП закрывается обширная площадь на междуречье рек Вестях и Прелях к северу от Мирного. Затрачивается на это миллион с хвостиком. И что получено в результате? Цитирую текст отчета: «Получены новые данные, указывающие на связь пород илгинской свиты с процессами ВП», и далее: «Продвинуто вперёд понимание влияния вызванной поляризации на переходный процесс с точки зрения поисковой значимости признака». Вот и весь результат.
На защите отчёта по этим работам не было даже намёка на дискуссию о том, стоило ли тратить миллион рублей на оконтуривание пород илгинской свиты и на «продвижение вперёд понимания влияния ВП», если метод ничего не даёт для поисков кимберлитов и если это давно всем ясно. Рецензент об этом даже не заикнулся. И члены НТС не сочли нужным затронуть вопрос, разумно ли потрачен миллион. И как результат: метод продолжает ставиться на смежных площадях до сих пор, хотя никто уже от него ничего путного не ждёт. Разве это не застой?
Второй пример. Несколько лет назад появился в Мирном теоретик с так называемой «дистанционной геохимией». Трудно представить себе, что такое геохимическая съёмка без отбора литохимических проб. Но еще труднее понять руководство ПГО «Якутскгеология» и НТС Ботуобинской экспедиции, когда такая съемка благословляется и на неё выделяются экспедиционные деньги. Теории нет (она якобы секретна!), опытных исследований нет, никаких аргументов в доказательство правомочности постановки работ нет. Ничего нет. Есть лишь голословные заверения инициатора, что метод может искать всё: золото, алмазы, воду, полиметаллы, бокситы, железную руду (это уже явный признак лженауки, когда метод может искать всё, без исключения). И что удивительно: деньги выделяются.
На эти деньги ведётся что-то такое, что съемкой назвать язык не поворачивается. И результат: через два года выдаются на обозрение геологов так называемые «карты геохимического прогноза» и выделяются под заверку аномалии. В том числе две аномалии на участке Тымтайдах. Для их заверки предлагается пробурить 140 (!) скважин 70-метровой глубины. Можете мне не поверить, но целесообразность заверки аномалий таким количеством скважин одобрена НТС, и это записано в протоколе. Почти десять тысяч погонных метров бурения! И это на открытой площади, где нет ни траппов, ни мощной юры. И где геологи-поисковики давно уже пришли к заключению, что кимберлитов там нет. Посмотрев «карты геохимического прогноза», главный геофизик экспедиции Б. С. Парасотка пришёл в ужас. Но когда он высказал своё мнение об этих «прогнозах» на одном из совещаний, вы помните, чем это кончилось.
Казалось бы, это такой случай, когда товарищам надо вежливо сказать «до свиданья» и навсегда с ними распрощаться. Ан нет! Вопреки здравому смыслу, вопреки элементарной логике аномалии стали разбуривать. Не такое астрономическое количество, но двадцать скважин всё же прошли, затратив более погонного километра бурения. Результат, как и следовало ожидать, нулевой. На аномалии ГХИ-18 вскрыли тело «существенно монтмориллонитового состава», а если проще, то обычную кору выветривания палеозоя. На аномалии ГХИ-21 вскрыт «контакт полого- и крутозалегающих пород палеозоя», то есть элементарное тектоническое нарушение. Теперь-то вроде бы всё ясно: блеф с дистанционной геохимией очевиден.
Но опять же нет! Дальнейшее развитие событий напоминает армянский анекдот. В Ботуобинской экспедиции появляется письмо двух известных руководителей ВАГТа, в котором рекомендуется «проследить комплексом геофизических методов монтмориллонитовое тело по простиранию и на глубину... до 400 метров на предмет обнаружения глубинного возмущающего объекта, формирующего дистанционную аномалию». О кимберлитах уже речи нет, важно выяснить, с чем же связана «аномалия ГХИ», как будто такая существует в природе и как будто это столь важно. И что вы думаете? Скважины бурятся, одна из них глубиной 248 метров.
Рассказанное стало возможным лишь потому, что не было нормального обсуждения предлагаемого метода поисков среди специалистов, не было сколько-либо серьёзной его экспертизы. Одинокий протестующий голос Б. С. Парасотки не был услышан руководителями экспедиции среди текучки неотложных дел и острой необходимости выполнять план по бурению. Абы хоть где-нибудь задать скважины, если нет обоснованно подготовленных объектов.
Третий пример. Сотрудником филиала ЦНИГРИ В. А. Цыгановым даются рекомендации по изменению параметров поисковых сетей в алмазоносных районах. При поисках кимберлитовых трубок предлагается использовать разную сеть скважин или геофизических наблюдений. К примеру, рекомендуется вместо 100 метров ячейки квадратной сети использовать сеть 97 х 113 метров. Казалось бы, столь серьезное предложение, которое удорожает поисковые работы и ведёт к непредсказуемым последствиям, должно быть серьёзно обсуждено в кругу специалистов. Прежде всего среди тех, кто хорошо знаком с проблемами выбора поисковых и разведочных сетей, а также с основами теории вероятности. Такие специалисты есть в геологических институтах и по Союзу известны. Их можно было бы привлечь для экспертизы. И только после этого принимать новаторство к внедрению.
В данном случае, и в этом я совершенно убеждён, предложение по изменению параметров поисковых сетей не выдержало бы любой критики. Сразу обнаружились бы неверность исходных посылок и некорректное использование математического аппарата. Стало бы ясным, что вовсе не надо калечить общепринятые сети поисков кимберлитовых трубок любых размеров и в самых разнообразных геологических условиях. Но такой экспертизы не было. И вот уже слышно, что кое-где предложения В. А. Цыганова принимаются за чистую монету и внедряются в практику поисков. Жаль тех геодезистов, которые будут впустую мучиться с разбивкой на местности нестандартных сетей.
Я мог бы привести и другие подобные примеры. В моём поле зрения их немало. Закрытость работ на алмазы и келейность принятия многих решений как следствие этого и приводили к таким вот перекосам здравого смысла. Закончу предложением — шире применять независимую экспертизу всех дорогостоящих проектов, смет и отчётов. Для этого не только прибегать к услугам экспертов со стороны, но и воспитывать рецензентов в своей среде. Таких, которые не боялись бы испортить отношения ни с наукой, ни с товарищами по работе. И которые дорожили бы своим имиджем, именем профессионала в своей области.
И ещё одно обстоятельство. Я не настолько наивен, чтобы не понимать некоторых элементарных вещей. Сомнительные геофизические аномалии разбуриваются не потому, что в них так уж уверовали ведущие геологи, принимающие решения. Поскольку учёные мужи, невзирая на отсутствие доказательств, продолжают считать, что в Мирнинском кимберлитовом поле есть еще не открытые крупные месторождения, то почему бы не бурить и под сомнительные идеи. И в надежде на чудо искать потерянные деньги вокруг фонарного столба...
Но увы, чудес в геологии не бывает!
ИЗ ТУМАНА ДАЛЁКОГО ПРОШЛОГО
ОТЕЦ
Почти всегда первый вопрос, который задают мне журналисты или просто знакомящиеся со мной люди (а журналисты обязательно): «Почему у Вас имя Джемс?» Иногда это меня раздражало, иногда забавляло, но со временем я привык к такому вопросу и стал отшучиваться: «Потому, что мой отец был английско-подданным. У Остапа Бендера, как известно, отец был турецко-подданным, у меня английско-подданным».
Да-да, я не вру, в самом деле, это так. С отцом была следующая история. Когда в годы Гражданской войны английский экспедиционный корпус дошёл по Северной Двине до Шенкурска, то отец, тогда еще молодой парень, находился в то время там. Через три дня красногвардейцы англичан из Шенкурска вышибли. Но я вправе считать отца английско-подданным. Это, конечно, шутка. А вот почему отец назвал меня Джемсом, сестру Терезой, вторую сестру Кларой, третью сестру Розой, осталось невыясненным. Отец погиб в начале войны, я ещё не дорос до возраста, когда сыновья задают отцам такие вопросы.
Вероятнее всего, отец был интернационалистом коммунистического толка. Тогда понятно, откуда взялись имена Роза и Клара; в те годы имена Розы Люксембург и Клары Цеткин гремели. А вот откуда взялись Джемс и Тереза, не совсем ясно. Возможно, отец был наслышан о Джемсе Уатте. Бесспорно, отец по части имяобразования был реформатором. Но хорошо ещё, что он не поддался моде того времени и не присвоил новорожденным имена типа Трактор, Владлен, Новомир, Ленгвард и так далее. Как секретарь сельского совета, регистратор рождений и смертей по должности, такую возможность он имел.
Мой отец, Саврасов Илья Фёдорович, родился в довольно многодетной семье. У него было четыре сестры и один брат, все старше него. Был, правда, еще один брат, не родной, по матери (моей бабушки, которая вышла за вдовца, уже имевшего сына), но последний как бы не считался своим, жил отдельным домом на отшибе и с моим отцом был, по-видимому, не в очень приязненных отношениях.
Семья отца была бедняцкой. Вероятно потому, что предки его не были крепко привязаны к земле, а больше занимались побочными промыслами. Прадед вообще считался в деревне лодырем. По легенде — он любил сидеть на завалинке своего дома и кидать (шибать) камнями в прохожих, за что домочадцы его и получили кличку Шибаевские. Сельчан в вологодских деревнях зачастую знают не по фамилиям, а по таким вот прозвищам, перешедшим к ним от дедов и прадедов. Дед мой был заядлым лесовиком и постоянно пропадал на охоте или рыбалке. Работать на земле он не мог по состоянию здоровья. Не сохранилось сведений, какой был у него надел земли в общине и как мог он кормить такую большую семью, пахотой почти не занимаясь. Из-за бедности семьи дочери его, сестры отца, не раз уходили на сезонные заработки в Ярославскую область. А одна из дочерей добралась даже до Петербурга, где какое-то время зарабатывала себе на пропитание в прислугах.
Во всяком случае к семнадцатому году семья отца в деревне была почти что самой бедной. Да, видимо, и во всей округе, где насчитывалось 11 небольших деревень по 20—40 домов. Поэтому в двадцатые годы отец попал в комбед, что и определило его дальнейшую судьбу. В смутное время Гражданской войны он был ещё молодым парнем, окончившим три класса церковно-приходской школы. Учился он хорошо и даже был по окончании третьего класса награжден именным евангелием («За отличные успехи и примерное поведение»). Любопытно, что будучи потом последовательным атеистом, разрушителем местной церкви, подаренное евангелие он все же уберёг, не уничтожил, что следовало бы сделать правоверному коммунисту. И оно, с похвальным автографом учительницы, сохранилось до сих пор.
В годы НЭПа отец, по-видимому, работал дома по хозяйству и на извозе. Однажды он ухитрился каким-то образом попасть под копыта лошади, остался глубокий шрам на лбу. По воспоминаниям бабушки, он с трудом выжил после травмы: отметина же на лбу осталась на всю жизнь. Отец неплохо умел обращаться с топором. Перед войной он собственноручно срубил на задах огорода просторную баню, которой многие годы пользовались чуть ли не все жители деревни.
Одним из его любимых занятий в детстве и молодости было плетение из березового лыка различных предметов хозяйственного обихода. Ступни — это само собой, иногда их называют «лаптями», но это неверно; лапти — изделия из липовой коры и имеют несколько иную форму. Ступни в бедняцкой семье — предмет первейшей необходимости. Их изготовляли даже женщины. Бабушка, к примеру, очень ловко плела ступни, и даже меня, малолетку, пыталась этому научить. По глупости я стеснялся, о чём сейчас приходится сожалеть.
Отец плёл из берестяного лыка не только ступни, но и корзины (зобеньки), некое подобие котомок или рюкзаков (пестери), солонки, хлебницы, шкатулки и даже детские игрушки. Долго хранились в доме мячики, петушки, коровки, самолётики. Изделия из дранки — «бураки» и разных размеров корзины для всяких хозяйственных надобностей тоже были ему сподручны.
Лес, который начинался в трехстах метрах от деревни и простирался на десятки верст (сузём), был его родной стихией. Штатным охотником он, правда, не был, и даже своего ружья не имел, но из лесу никогда не возвращался с пустыми руками. То глухаря принесёт, то зайца, то лисицу, то тетеревов. Однажды притащил даже живого филина, которого я очень боялся. Филин щелкал клювом, взъерошивал перья и казался очень злым. Всю эту живность он ловил петлями, а клестов силками. Ловить клестов он научил и меня. Детская эта забава весьма пригодилась в голодные годы войны: зимой клесты ранообразили наш стол. Они очень вкусны, в отличие от воробьев, которых тоже иногда приходилось есть.
Даже с тремя классами образования отец считался в нашем местечке грамотеем. Не зря в последние годы перед войной он был секретарем сельского совета. До председателя он, правда, «не дорос». К тому были, вероятно, свои причины. А именно, его мягкотелость, любовь к водочке да и к женщинам. С первой женой (моей матерью) он разошелся в середине тридцатых годов. А новых жён, по слухам, у него была даже не одна. Хотя в родительском доме они не появлялись, а существовали где-то на стороне.
Было в его биографии и еще одно тёмное пятно, тоже, видимо, портившее ему карьеру. Он сидел в тюрьме. Правда, недолго и по причине неполитической, но всё же. А случилось вот что. В какое-то время он работал в лесосплавной конторе. И однажды, будучи начальником сплавного участка, проворонил аварию с запанью. Из- за большого наплыва леса или по какой-то другой причине в верховьях Северной Двины прорвало запань. А чтобы не случилось большого затора, ближайшую запань ниже по реке надо было открыть, что входило в обязанности отца. С этим приказом к отцу был послан конный нарочный, но он отца не нашёл. Тот где-то загулял с приятелями и появился на работе только через сутки. За это время сплавляемый лес до нижней запани дошёл и образовал огромный затор, серьезно осложнивший лесосплав на этом участке реки. В итоге — большие убытки по лесосплаву, и отец загремел в тюрьму.
Вскоре, однако, его выпустили, и на рубеже двадцатых-тридцатых годов он уже проводит в своих местах коллективизацию. Надо полагать, это был нелегкий период его жизни. Окулачивать и выселять на возможную погибель своих односельчан, своих близких знакомых — это малоприятное и тяжелое дело. Куда легче с подобной работой было справляться герою Шолохова из «Поднятой целины» Макару Нагульнову, пришельцу со стороны, не имевшему корней в подопытных селах.
Но отцу... Ох, как было нелегко ему выполнять эту грязную работу! Если даже он и свято верил в коммунистические идеалы.
Понимал ли он, что его руками творится преступное деяние? Сейчас уже не спросишь его об этом. В оправдание его можно сказать лишь то, что он проводил раскулачивание не слишком ревностно. В целом по нашему местечку (Косковскому сельсовету) была выслана лишь самая малость населения — примерно десятая семья, или даже менее того. В то время как в соседних волостях раскулачивалось до 30—40 процентов живущих там крестьян. Кроме того, рискуя своей головой, некоторых из подлежащих раскулачиванию мужиков он уведомлял об этом решении комбеда: приходил ночью и говорил им, чтобы они немедленно скрывались. Назавтра милиция уже не заставала хозяев дома. Конечно, кто-то знал об этих поступках отца, но никто его не выдал. Зла на него раскулаченные не держали, понимая, что он действовал подневольно.
Был ли отец действительно атеистом, понять сейчас трудно. Он активно выполнял указания вышестоящих инстанций: ломал приходскую церковь, приспосабливая её под клуб, описывал церковное имущество, щепал иконы. Но делал ли это он только по приказу или имел внутреннее убеждение о вредности религии, никто не может теперь сказать. Иконы с божницы в доме он пустил на растопку, но, как уже упоминалось, подаренное ему в школе евангелие сохранил в целости.
Крестить детей в церкви отец, конечно, запретил. Мать не смела, но бабушка тайно водила меня к батюшке, когда мне было два или три года. То ли окрестили меня тайно, то ли просто бабушка водила к причастию, узнать потом мне было не дано. Когда я повзрослел, а отца и бабушки уже не было в живых, то я узнал лишь смешную сторону этого посещения церкви. С именем Джемс мне не дали бы даже причастия. Бабушка сказала священнику, что меня зовут Женей. С таким именем можно сойти и за мальчика, и за девочку. Когда я попробовал с ложечки вино (причастие), то попросил у батюшки ещё, таким сладким показался мне этот напиток. На что батюшка улыбнулся и сказал: «Какая бойкая девочка Женя». Таким вот образом я сошёл в церкви за девочку.
Отец был беден. Беден даже не то слово; он был совершенно неимущим. Правда, дом и приусадебный участок в тридцать соток, с которого кормилась наша семья, он имел. А секретарская его зарплата составляла мизерную сумму, что-то около полутораста рублей. Из неё он часть денег отдавал нам на покупку хлеба, а сам питался, где придётся. Дома он бывал редко, поскольку с матерью моей был не в ладах.
Когда он ушел в армию, из его вещей остались не новый уже костюм, две или три рубахи да поношенные сапоги. Более у него не было ничего. Расставаясь со мной, он сунул мне в руку масленку из-под ружейного масла (почему-то она мне врезалась в память), да показал, где лежит ящичек с нехитрым инструментом: молотком, кусачками, плоскогубцами, гвоздодёром. Осталось от него еще два топора, один из которых (плотницкий) бабушка спрятала и не давала его мне до конца войны. Несмотря на похоронку, она все время надеялась, что сын с войны вернётся.
Но он не вернулся. Погиб отец в боях под Калининым в феврале 1942 года.
КТО ПРИДУМАЛ ЭТУ МОДУ
О предках нашей семьи мало что известно. Дальше прадедов — полная темнота. Дед по матери погиб в лагерях Воркуты, о прадеде никаких сведений нет. Дед по отцу был охотник и рыбак, но никудышный земледелец (из-за какой-то болезни он не мог работать на земле), поэтому семья его жила в бедности. О прадеде сохранилась легенда, что он сочинял стихи и пел песни на свои слова.
А еще старики в деревне помнили, что он любил сидеть на завалинке перед домом и кидать в прохожих камушки («шибать» — по старому наречью). Прадед поэтому и получил кличку Шибай, а подворье наше стало называться Шибаевское.
Сохранилась в памяти потомков прадеда Шибая только одна песня, определённо им сочиненная:
Кто придумал эту моду, Провалиться тому в воду, курить табачок! Курить табачок: во первых-то выступали Господа-купцы Косковцы, тут и Островцы!(Косково — это местечко по реке Пежма, а Остров — деревня в этом местечке, где жил прадед Шибай)
Тут и островцы. Деревенские бахвалы, У них денежек не мало, на табак-от есть! Сюртучки как на дворянах, Трубки медные в карманах, с длинным чубуком! Поведут они усом, Дым распустят колесом, словно из трубы; из пожарные! Еще боле нафрантят себе цигарок, разных папирос! Старики узнали моду, И прославили народу, стали нюхать в нос! И последняя заглума, Что табак кладут за губу, всячески жирут! Эх, да парень я не здешный, Из Москвы бежал, сердешный, я Сибирью шёл..(Сибирь— это не та Сибирь, которая за Уралом. В Олонецкой губернии была своя Сибирь, или Лапотная Сибирь. Она, видимо, была на пути моего предка)
— я Сибирью шёл! Потихонечку без грому Наливал стакан я рому, и речь говорил, — и речь говорил: Чьи вы, девушки, такие, Переулки здесь частые, я б вас проводил!Песня вроде бы авторская, оригинальная. Может быть, содержание и позаимствовано из какого-нибудь литературного источника или фольклора староверов, но слова «косковцы» и «островцы» привязаны к местности и если вставлены в заимствованный текст, то явно местным жителем, то есть прадедом Шибаем.
Еще от прадеда остались в памяти народа две песни «Шумел, горел пожар московской» и «Сунженцы». Первая песня общеизвестная, но не народная, а на слова какого-то поэта XIX столетия. Откуда её знал прадед, можно только гадать:
Шумел, горел пожар московской, Дым расстилался по земле, А на стене, вдали, кремлёвской Стоял он в сером сюртуке. И призадумавшись, Великий, Скрестивши руки на груди; Он видел огненное море, Он видел гибель впереди...Вторая песня, нигде в сборниках песен и в антологиях стихов мне не встречавшаяся, о Сунженских казаках:
Пыль клубится над дорогой, Слышны выстрелы порой; То с разбоя удалого Едут сунженцы домой. Они едут близ станицы, Едут, свищут и поют. Жены, старцы и девицы Все навстречу им идут. Градом сыплются вопросы Из толпы со всех сторон: Жив ли муж? И мой сыночек? Жив ли братец мой родной?Возможно, прадед был из казаков, но вряд ли он мог служить в Забайкалье. Скорее всего он все же из Москвы. Если судить по словам песни «Из Москвы бежал, сердешный...». Может быть, за какие-то грехи его выслали из столицы на север или сам убежал. И обосновался на реке Пежма среди густых в то время лесов. И с тоски сочинял стихи, которые люди запоминали.
Это бывает часто. О человеке забывают, а слова его живут.
МЕЛЬНИЦЫ
В детстве, где-то в предвоенные и военные годы, я любил бывать на водяной мельнице, стоявшей на речке Пежма в километре от нашей деревни.
Речку перегораживала плотина из накатов бревен, перемежавшихся с набросами крупных камней. Высотой плотина была около двух с половиной метров при перепаде верхнего и нижнего уровней воды до двух метров. По плотине можно было перейти на другой берег реки, где стояла вторая мельница. Две мельницы при одной плотине — не такой уж редкий случай, но он был возможен только на сравнительно крупных речках с приличным водосбором. И при дружеских отношениях владельцев, конечно. С нашего (левого) берега мельница была действующей, а с правого заброшенной, по- видимому, с начала коллективизации. Торчал лишь её сруб без крыши, с которого взрослые парни прыгали в яму, вымытую водой под бывшим мельничным колесом. Дух захватывало у нас, пацанов, когда они ласточкой (вниз головой) с высоты почти четырех метров пыряли в воду.
Около плотины нас привлекала рыбалка. Под сливом воды в ямках ловились уклейки, иногда сорожки (красноглазки) и окуньки. А ловить их было интересно, поскольку в прозрачной воде сверху видны были и рыбки, и крючки с наживкой.
Водохранилище выше плотины простиралось в длину на километр, если не на полтора. Оно местами заросло кувшинками, по берегам обрамлялось густым ивняком. Местами обнажался песчаный берег, с которого мы до одури плескались с приятелями в тёплой воде. В таком глубоком искусственном плёсе водились и крупные рыбы — щуки и налимы. Их мельник ловил в большие мордушки, но при пацанах мордушки он никогда не проверял. Боясь, вероятно, как бы мы их не стали потрошить без него.
Иногда мы заглядывали внутрь мельницы. Было интересно знать, как она работает. Огромное деревянное колесо с широкими лопастями медленно крутилось под действием падающей на лопасти воды. Два высоких и толстых бревна, пестами называемые, то медленно поднимались по очереди, то падали вниз под своей тяжестью на зерно, насыпанное в корытообразное углубление. На валу от колеса были выступы, которые цепляли углубления в пестах и поднимали их. Простейшее устройство, безотказно работавшее многие годы.
Если воды поступало мало и колесо переставало крутиться, то затвор на сливе опускался и вновь открывался, когда водохранилище наполнялось до нужного уровня.
Множество водяных мельниц было когда-то на Руси, ибо обилие рек и речушек позволяло строить их во всех концах необъятной страны. С началом коллективизации мельницы стали исчезать, хотя еще во время войны они кое-где действовали, уже обобществленные, принадлежавшие коллективным хозяйствам. Но вскоре после войны их повсеместно забрасывали, и через короткое время они исчезли совсем.
Мне долго было непонятным, почему власти предержащие с таким остервенением душили именно мельницы. Церкви — это понятно: опиум для народа, поповщина, никаких материальных благ для народа не производящая, от трудовых процессов его отвлекающая. Но мельница — вещь чрезвычайно полезная и необходимая в крестьянском хозяйстве. Кому они могли помешать? Вырастил урожай ячменя, ржи, овса — тут же повёз его на ближайшую мельницу, смолол зерно в муку без каких-либо особых хлопот и затрат.
А когда мельниц поблизости не стало, председателям колхозов даже для котлового питания в страду приходилось добывать муку издалека (к примеру, от нашего местечка ездить за мукой к отдаленной станции железной дороги почти за сотню километров).
Но если связать воедино два общеизвестных факта, то всё становится понятным. Первый тот, что крестьянские мельницы сразу были занесены в разряд мелкобуржуазных средств производства. А владелец мельницы, будь он хоть трижды беден (положив всё своё достояние на строительство мельницы), подлежал раскулачиванию в первую очередь. Раз мельник, значит кулак, даже если у него нет ни скота, ни лошадей, ни приличного дома. И более того, враг социализма. Не зря появилось изречение «лить воду на мельницу врага». Не куда-нибудь, а именно на мельницу, как на олицетворение эксплуататорского средства закабаления трудящихся.
И второй факт — высказывание В. И. Ленина, гласившее, что у буржуазии надо отнять хлеб, тогда она на коленях приползет к пролетариату, хлеб распределяющему, и никакого другого насилия не потребуется. Расчёт верный, хотя в принципе аморальный, если не преступный.
Но как отнять хлеб у тех, кто его выращивает, кто превращает зерно в муку? С созданием коллективных хозяйств производство зерна на колхозных полях стало контролироваться государством. Тут был полный порядок. Но как отнять хлеб у тех, кто его выращивает на своих приусадебных участках? Хоть и небольшие участки, по 20—30 соток, но на них можно вырастить, помимо картошки и овощей, урожай в 10—12 пудов ячменя или ржи. Его крестьянин повезет на ближайшую мельницу. Даже если она и колхозная, он найдет способ помолоть зерно, ночью, в обход запрету. А если таких мельниц десятки тысяч, а желающих смолоть зерно миллионы, то, значит, часть выращенного в стране хлеба будет утекать из-под контроля властей. А раз так, то сельские мельницы надо порушить, чтобы и те три-четыре мешка личного зерна крестьянин не мог использовать для себя, а сдавал колхозу.
Но не стал крестьянин сдавать зерно со своего приусадебного участка колхозу, он просто перестал засевать даже часть его. А весь участок засаживал картошкой, с которой налоги не брались, и мельница для помола её не была нужна. Хоть и голодали люди, питаясь одной картошкой, и умирали от недоедания, но зерно не выращивали. Великое неудобство создавалось для хлебороба, да и ущерб громадный для государства, но кто когда подсчитывал этот ущерб.
Нет ныне на малых реках России водяных мельниц, нет плотин и водохранилищ, которые бы накапливали воду, многолетний лесосплав разрушил последние из них до основания. Речки, на которых раньше было множество искусственных водоемов, летом почти пересыхают, в половодье весной вся вода из них скатывается в крупные реки.
Не осталось и той природной красоты, которая сопутствовала мельничным комплексам, и нет разной живности — рыбы и птиц — вокруг и около них. Да и выращивать хлеб стало некому, крестьянина в северных районах России извели под корень.
КОЛЯ и ВЕРА — ЗОЛОТЫЕ КОПЫТЦА
В годы войны в наших местах на Вологодчине появилось множество нищих. Особенно много было в самом голодном 1942 году. Крестьяне (колхозники) не были готовы к войне, никаких запасов провизии на зиму 41/42 года не имели. После полуголодных тридцатых годов к началу сороковых положение с продовольствием несколько улучшилось, в магазинах появились кукурузный хлеб, масло, сладости. Но денег у крестьян не было, в колхозах на трудодень не полагалось почти ничего, так что в начале войны у жителей не оказалось в запасе даже самого главного продукта — картошки. Весной 41-го года её посадили как обычно немного, и у большей части семей её едва хватило до посадок 42-го года. Да и то в почву кидали не целиком клубни, а срезанные верхушки с наибольшим количеством ростков. Всё остальное потреблялось вместе с кожурой.
Нищие в деревне появлялись нередко по нескольку человек за день. Подавать им было нечего, окромя той же картошки. Но мать редко кому отказывала, одну-две картофелины сунет-таки в руки просителю. Среди нищих объявлялись какие-то дальние родственники, о которых раньше мать и не слыхивала. Однажды появился подросток, действительно оказавшийся родственником, его деда бабушка наша знала ещё будучи молодой. Ну, коль настоящий родственник, то надо было принять и чем-то угостить. Но в дом сразу пускать его было нельзя, настолько он был грязный и обовшивевший.
Первым делом мать зачерпнула в решето снегу и гребнем очистила его волосы, наклонив голову над решетом. Снег стал серый от вшей и грязи. До сих пор эта кошмарная сцена стоит у меня перед глазами. Потом мать долго соскребала с него грязь и мыла в бане, и лишь тогда пустила ночевать в избу.
Досаждали цыгане. Они всегда норовили попасть в дом, когда взрослые были на работе. А мы, дети, их побаивались, не всегда могли уследить за ними и не дать им что-либо украсть. Однажды с полки в сенях нашего дома цыганка стянула баранью голову от зарезанной накануне овцы (мясо и шкуру положено было сдавать государству, только внутренности и голова доставались владельцам овцы). Так и то голову утащила цыганка. Ох, и досталось мне от матери вечером, когда она пришла с покоса.
Однако не все нищие были убогие, малолетки или всем надоевшие местные попрошайки. Была одна пара нищих, которых встречали в деревне с удовольствием, приходу их были даже рады. Это была семейная пара Коля и Вера по кличке Золотые копытца. Такая кличка прилипла к ним, вероятно, потому, что они оба пели частушки и приплясывали, развлекая публику. У Коли был какой- то музыкальный инструмент, что-то вроде маленькой гармошки. Одеты оба были в тряпьё, но относительно чистое и по-своему опрятное. На ногах были лапотки, видимо, собственноручного Колиного плетения.
Частушки их не были шибко охальными, но иногда и не без «картинок»... Некоторые вроде бы их собственного сочинения. Несколько в памяти сохранилось:
Золотое ремесло — На руке перевесло; Нет ни горя, ни тоски, — В корзине брякают куски.(«перевесло» — это ручка от корзины; слово, вышедшее ныне из употребления);
Все бабёнки, как бабёнки, Моя милка — сатана: Завалилася в канаву И кричит: «Давай вина!» Пошла плясать, Дома нечего кусать, — Сухари да корки, На ногах опорки.С приходом Коли и Веры деревня оживлялась. Все бабы вечером собирались в избе попросторнее. Мы, пацаны, тоже не упускали случая и забирались в этой избе на печь или на полати. Интересно было Колю и Веру посмотреть и послушать.
Коля и Вера давали своего рода концерт. Они пели частушки, приплясывали под гармошку, забавно ссорились между собой, как спустя много лет телевизионные Маврикиевна и Авдотьевна, словом, как могли потешали публику. В те времена развлечений в деревне было не густо, поэтому Коле и Вере были всегда рады. Их привечали, кормили, пускали ночевать. Из деревни с пустыми «зобеньками» (плетёными из лыка корзинками) они не уходили.
Появлялись они в деревне не часто, раза два или три в год. Ареал их кормления, если можно так выразиться, был у них довольно большой, может, даже целая волость. Помимо «концертов» они ещё разносили всякие новости, передавали приветы и поклоны от знакомых, словом, являли собой как бы живую почту.
В долгие зимние вечера у жителей деревни было ещё одно развлечение — это столоверчение. Почему-то оно ассоциируется по времени в памяти с приходом Коли и Веры, хотя спиритизмом они вроде бы не занимались. Кто-то из чужаков приходил, по- видимому, вместе с ними и показывал фокусы общения с давно умершими людьми — родственниками или великими когда-то фигурами: Наполеоном, к примеру, Александром Македонским и иже с ними. За чисто вымытый большой стол (обязательно без гвоздей) садились несколько человек и клали пальцы рук на перевернутое вверх дном блюдечко или тарелку. По краям стола наклеивались бумажки с буквами алфавита. Через какое-то время блюдечко начинало шевелиться и двигаться по столу. В это время задавался какой-либо вопрос к умершему человеку. Блюдечко, двигаясь от буквы к букве, отвечало на этот вопрос. Иногда вопрос содержал какую-нибудь каверзу, тогда умершее лицо отругивалось, нехорошими словами обзывая задателя вопроса. Тогда всем было смешно и весело.
Фокусы с блюдечком, конечно, дирижировались кем-то из участников, его руками блюдечко и подталкивалось в нужном направлении. Но что странно и необъяснимо, стол тоже можно было заставить двигаться, не прилагая к этому никаких усилий. Участники садились за стол с двух сторон и клали руки на столешницу. Через пять-десять минут, когда ладони рук едва стали чувствовать теплоту дерева, стол начинал раскачиваться и как бы двигаться, переваливаясь с двух боковых ножек на две других. Руки при этом, казалось, не имели никакого отношения к раскачиванию стола. Почему он двигался, было не понятно и немного жутковато.
Фокус это или действительно стол «оживал», не понятно мне и по сей день.
БИЗНЕС НА ТАБАКЕ
Недоброй памяти 1944-й год. Война в разгаре. Отец погиб на фронте, была на него похоронка. Бабушка едва живая, совсем поникшая от слез по любимому и единственному сыну. Мать бьётся в тисках непрерывной работы. Весь летний день на колхозной работе — от зари до зари. Ночью надо запасать корм для коровы: косить на лесных полянах, таскать траву в свой огород, сушить её там, закидывать сено на поветь, окучивать и под осень копать картошку, обихаживать корову, да и масса всяких прочих дел по хозяйству. Кормить двоих детей не так накладно, когда картошка и молоко от коровы есть. Но во что их одевать?
Сын в будущем году идёт учиться в десятилетку. Это далеко — в городе Вельске, что за шестьдесят километров от дома. Будет жить в людях, поэтому его надо приодеть. А во что? Приличной одежды нет никакой; единственный отцовский костюм давно уже перелицован и изношен. Обуви тоже нет. Когда учился поблизости, годились и стоптанные ботинки, но как в них добираться до города? Да и там ходить надо в чём-то поприличнее.
Мать неотвязно думала, как бы раздобыть деньги для покупки одежды и обуви сыну. Ждать денег было неоткуда. Пенсия за отца смехотворная, каких-то двадцать семь рублей в месяц. На них можно было купить разве что две пары лаптей. Картошки в огороде накапывалось много, но продать её можно было только в городе. А добраться до города было не на чем, в колхозе лошадь не допросишься.
Сама сообразила мать, или кто-то из стариков курильщиков её надоумил, но выход был найден. В то время в большой цене был табак-самосад. За стакан табака в городе (табак отмеряли не на вес, а именно гранёными стаканами) давали пятнадцать-двадцать рублей. Мать прикинула, что если посадить даже небольшую грядку табаку, то кое-какую одежду сыну можно будет справить.
Почти все местные старики в годы войны табак выращивали сами. Хотя никакого опыта в этом деле мать не имела, но табак был посажен. И, что самое удивительное, вырос отменный. Стебли табака были почти как у подсолнуха, и с огромными листьями. По осени стебли и листья были провялены на чердаке, слегка подсушены и изрублены в деревянном корытце специальной сечкой, позаимствованной у соседа курильщика Ивана Васильевича. Он же потом дегустировал табак и похвалил его крепость. Матери было приятно это слышать, и она наградила дегустатора изрядной порцией своего самосада.
Табачной крошки набралось более восьмидесяти стаканов. Причём каждый стакан я насыпал с горкой, чтобы учесть последующую утруску. По прикидке матери, вырученных за табак денег, если считать по двадцать рублей за стакан, должно было хватить и на костюм, и на ботинки.
Знающие люди посоветовали не торопиться с продажей табака, зимой он стоил дороже. Поэтому выждали время, и торговать табаком я отправился лишь в зимние каникулы. Мать сшила мне вместительную холщовую котомку, в которую и были засыпаны все восемьдесят стаканов плюс два на подарок земляку из деревни, жившему в городе Вельске. Хоть табак сам по себе и не тяжёл, но все же восемь десятков стаканов — ноша для заморыша семиклассника довольно тяжёлая. Да и продукты в дорогу — молоко, яички, колобки — приходилось тоже нести с собой. В городе на обильное угощение рассчитывать не приходилось. Там жила тетка, эвакуированная с Украины, но хлеб она получала по карточкам и сама с двумя детьми бедствовала.
До Вельска путь неблизкий, и дорогу за один приём осилить невозможно. На семейном совете, с приглашением знающих дорогу в город соседей по деревне, решено было, чтобы я переночевал на «Базе» — лесопункте, отстоящем от нашего местечка вдоль дороги на двадцать километров. Там работал мой двоюродный братишка Сергей. Он был чуть старше меня, допризывник, но уже был командирован от колхоза на зимние лесозаготовки.
* * *
До базы я дошел без особых приключений, дорога была не слишком заметена снегом, да и мороз не прохватывал. Пришёл я уже потемну, кое-как отыскал барак, в котором жили лесорубы из нашего сельсовета. Сергей позаботился о моём ночлеге и отыскал для меня даже свободную койку. Само собой, он поинтересовался, зачем я иду в город и что несу в котомке. Я не стал скрывать, и всё ему рассказал. В этом была моя оплошность. Говорить, что я несу табак, в бараке, где полно курильщиков, было крайне неосмотрительно. Ко мне стали приставать, чтобы я продал им немного табаку. Поскольку я не решался сразу открывать котомку, то меня стали пугать. Дескать, по дороге к Вельску часто встречаются беглые или расконвоированные зеки из «Речлага», которые грабят прохожих. А табак они точно отберут, тут Ванька не чешись.
Сергей тоже стал меня уговаривать и с ним поделиться, курить он уже пристрастился. В цене он и его приятели не торговались, сразу давали по двадцать рублей за стакан. Мне ничего не оставалось делать, как согласиться. Тем более, что предложение казалось разумным: зачем тащить табак в город за сорок верст, когда его можно за такую же цену продать здесь.
Я раскрыл котомку и стал торговать. Где-то раздобыли стакан, и торговля пошла бойко. Самосад оказался зело крепок и всем барачным курильщикам понравился. Тут же они растрезвонили о нем по соседям, и в наш барак началось паломничество. Образовалась даже очередь. Я едва успевал насыпать стакан и принимать деньги. Через каких-нибудь полчаса котомка моя была пуста.
Вырученные деньги я не стал сразу пересчитывать, полагая, что не поздно это сделать и в городе. Карман с деньгами я заколол булавкой, ватничек положил под голову, хотя и не очень боялся; люди кругом были хорошие, не стали бы они пацана обкрадывать. А что денег было больше, чем предполагалось выручить, я не сомневался, поскольку некоторые платили даже не по двадцать за стакан, а и более того. Мне думалось, что это добавка за крепость табака, за его качество.
Добравшись налегке до города и разыскав тетку, я занялся пересчитыванием денег. Но как я не считал, вырученная сумма не дотягивала до ожидаемой. Даже тысячи рублей не набиралось. Семь раз я мусолил бумажки, но результат был один и тот же. Я терялся в догадках, куда же девались деньги. Обокрасть меня не могли, ватничек был у меня под головой. Утруски табака, чтобы в котомке оказалось не восемьдесят, а полсотни стаканов, тоже быть не могло. Просто какая-то чертовщина.
Тетке я ничего не сказал, купив на вырученные деньги явно не то, что ожидала мать. На обратном пути я снова зашел в тот барак, где жил братишка. Все обитатели барака были на работе в лесу, но я увидел на столе тот самый стакан, которым отмерял табак. Он был гораздо больше обычного граненого стакана. Это был даже не стакан, а какая-то стеклянная кружка. Вот где, оказывается, была зарыта собака! И вот почему более совестливые курильщики платили мне сверх оговоренной цены.
Обидевшись на братца (впрочем, такого же простофилю, не усмотревшего, что тара не та), я не стал даже останавливаться в бараке ночевать, а побрел домой. Матери я не мог сознаться, что меня облапошили, было стыдно, и я упорно молчал, когда она допытывалась, куда же я девал деньги. Сказал я ей об этом лишь через тридцать лет. «Ну и дурак! — отреагировала она. — Я всё подозревала тетку, что она тебя обокрала».
Таким вот образом закончился мой первый опыт торговли, после которого я приобрёл стойкое отвращение к этому роду деятельности.
ДВАЖДЫ ЗАМЕРЗАВШИЙ
Дважды в жизни я чуть не замёрз, и только счастливая судьба (а может, Бог) спасли меня от смерти или увечья. Случаи эти были давно, но помню их во всех подробностях, как будто это было вчера. Вероятно, потому, что нервное потрясение от них было нешуточным.
Школа-десятилетка в городе Вельске, где я учился, находилась в шестидесяти километрах от моей деревни. Примерно раз в месяц за период зимней учебы я наведывался домой: подкормиться у матери и запастись провизией на очередной срок моего пребывания в юроде. Худо-бедно, но и в эти голодные годы у матери находилось что дать для пропитания сыну. Впрочем, даже сухая картошка, грибы и вареная репа были деликатесом в ту пору. Особенно на отшибе от родного дома. Помнится, на сей счет была даже частушка:
На чужой-то, на сторонке холод, голод и тоска; Утром встанешь, есть охота, хлеба нету ни куска.Да и просто так побывать в родном доме всегда хотелось. К тому же приятели в деревне, с ними всегда тянуло пообщаться. Время для побывки дома было всегда ограничено, школьные занятия нельзя было пропускать. Меня взяли в Вельскую школу из соседнего района в порядке исключения. В нашем районе была своя десятилетка и положено было учиться в ней. Но одна наша родственница, эвакуированная в Вельск с Украины и имевшая в городе связи, решила, что мне надо учиться именно в Вельске, поскольку там грамотнее учителя. Как она договорилась с дирекцией школы, я не знал, но меня приняли. И предупредили, чтобы учился хорошо, иначе пообещали изгнать.
Домой я направлял свои стопы, когда предстояли праздники или каникулы, обычно сразу после занятий. Быстренько собирался и первые километры от города буквально бежал, стараясь скорее добраться до дому. Путь, однако, был неблизкий. Лишь к полуночи я добирался до домика Иларьи в деревне Берег и там несколько часов спал. Но иногда, если оставались силы, попив чайку, спешил дальше.
От Берега до Морозова около двадцати километров, и дорога почти вся лесом. В ночное время обычно никого на дороге не встретишь. И вот бредешь, бредешь один и спать хочется жутко. Особенно ближе к восходу солнца. Ну, неудержимо тянет на сон! Идешь — засыпаешь на ходу, успеваешь даже увидеть какой-то сон, спотыкаешься, падаешь и просыпаешься. Но сон не отходит, снова засыпаешь и в очередной раз падаешь.
Таким вот образом я двигался к дому однажды в марте месяце. Погода стояла сравнительно тёплая, мороз не более десяти градусов. На ходу согрелся, ватничек нараспашку, казалось, теплынь кругом. И сон гнёт и гнёт к земле. В голове крутится: только прилечь бы, вздремнуть минут пятнадцать, и сонная одолень пройдет. И вот однажды я не удержался и прилег около придорожного кустика — чуток вздремнуть и дать отдохнуть ногам. Хотя и знал, что нельзя ложиться в снег отдыхать, не раз об этом предупреждали взрослые.
Забылся я сразу. Даже не то слово — забылся; я заснул мертвым сном! И спал долго, вероятно, не менее полутора часов. Проснулся от санного скрипа. Какой-то добрый человек ехал спозаранку в сторону Морозова, скрип полозьев меня разбудил. Долго потом благодарил я его в душе, хоть и не удалось мне узнать, кто это был.
Промёрз я зверски. Пальцы рук и ног не чувствовали, тело как будто одеревенело. С трудом я поднялся на ноги и пошел. Потом побежал, пытаясь догнать лошадь. Догнать её не смог, мужик меня не заметил и не остановился. Но на бегу я разогрелся и понял, что чудом избежал вечного забвения. Еще бы минут двадцать, как мне потом объяснил врач, и... поминай, как звали. А так я приморозил лишь пальцы на ногах, с которых потом слезли ногти, да кончики пальцев на руках.
С тех пор я четко осознал, что самый страшный мороз не сорок-пятьдесят градусов, при котором люди обычно берегутся, а тот, который всего лишь чуть ниже нуля. Сколько раз приходилось слышать потом, что уставшие или сильно выпившие люди замерзали именно при такой не очень низкой температуре. Или даже при плюсовой температуре, близкой к нулю.
Второй раз я чуть было не замёрз в те же школьные годы, но уже не по своей глупости, а из-за черствости людской.
На зимние каникулы в 47-м году я отправился к тетке, родной сестре моей матери, жившей в местечке по реке Кокшеньга. Опять же с целью подкормиться, тем более, что тётка жила в более хлебных местах. И у нее водились даже настоящие мучные пироги — житники. Правильная есть пословица: голод— не тётка. Тем более тётка, племянника любившая и всегда готовая его накормить досыта.
К тётке надо было добираться через станцию Костылево железной дороги Конаша—Котлас. До станции, конечно, зайцем, а дальше — пешочком по лесной дороге, всего лишь каких-то тридцать километров. Считай, в два раза путь короче, чем до родного дома.
Поезд на станцию Костылево приходил поздно вечером, переспать на станции было негде и приходилось топать в ночь. Оно бы и ничего, но зима в том году была очень холодная: на улице мороз был под сорок градусов. Идти при таком морозе трудно, особенно по полям, где гуляет ветер и дорогу заметает снег.
Одежонка на мне была не слишком тёплая, не рассчитанная на такую температуру. Поэтому промёрз я за первые часы пути основательно. И ноги мёрзли даже при ходьбе; то ли не были подшиты валенки, то ли не были надеты шерстяные носки.
Где-то на средине пути была деревенька, в которой я рассчитывал согреться, а если пустят, то и переночевать. Стучаться с просьбой о ночлеге я начал с первого дома, в котором ещё горел свет. Но женским голосом мне было заявлено, что на ночлег они не пускают, дверь так и не открылась. Во втором доме не откликнулись даже на настойчивый стук. В третьем доме пообещали слупить на меня собаку, злобный лай которой не обещал ничего хорошего (собаку в такой мороз держали в доме, а пустить на обогрев подростка жалости не хватило). Так я простучал все двенадцать или тринадцать домов, но дверь мне не открыли нигде. С таким бессердечием я встретился впервые. Обычно в деревнях по Пежме, когда сильные морозы, в ночлеге школьникам не отказывали.
У каждого дома приходилось топтаться минут по десять, пока тебе дадут от ворот поворот. А мороз не считается с тем, что ты плохо одет и обут, да еще для согрева не двигаешься. Потоптавшись у последнего дома и получив очередной отказ, я растерялся. Я уже плохо соображал и не знал, что делать дальше. Идти по- новой, стучаться во все дома я уже не решился. Да и боялся, что замерзну около какого-нибудь крыльца. Руки закоченели, пальцы на ногах потеряли чувствительность, дрожь пробирала тело, словом, кранты!
И тут чувство самосохранения подсказало мне единственное, по-видимому, правильное решение — бежать. Не идти неспешным шагом, а именно бежать. Из последних сил я потрусил дальше по дороге. Около деревни на целый километр простирались открытые поля, где дорогу частично замело снегом. Бежать было трудно, ноги вязли в снегу, дыхание перехватывало, но я бежал. Падал, поднимался и снова бежал. Вконец обессиленный, я достиг леса, где не было пронизывающего ветра, и дорога не была заметена. И что удивительно, я согрелся. Хотя пальцы на ногах и не чувствовали, а на руках ныли от боли, но я уже понимал, что спасен. Можно было дальше идти нескорым шагом, экономя силы.
Под утро я добрёл до тётки, получил изрядную порцию аханий, слез и упреков, что я в такой мороз попёрся от станции один. Да еще в ночь, когда никого на дороге нет. Ноги я долго отмачивал в тёплой воде, но совсем не отогрел; на кончиках пальцев кожа всё-таки потом слезла, и ноги долго болели.
Многие годы я мстительно хотел ту деревню сжечь. Правда, более в тех местах я не бывал и не мог бы, даже при желании, осуществить своего замысла. Но и до сих пор закипает кровь, когда я вспоминаю ту безжалостную ночь. Деревня же была Богом наказана: она исчезла с лица земли, как и многие другие деревни на Руси. Но почему Бог наказал и те деревни, где жители были более гостеприимными, только он один ведает.
ИЗ ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ
Передо мной письмо матери моей, Павлы Петровны. Без числа отправки, но по времени это март месяц 1947 года. Она пишет мне корявым своим почерком без знаков препинания на тетрадном листочке (образование её — деревенские курсы всеобуча в двадцатые годы). Листочек пожелтел от времени, не всегда текст можно разобрать, но большая часть слов сохранилась:
«...Жемс (так она звала меня) кое-что я хотела тебе привести дак у меня случилось несчастье... я только доехала до Берега (деревня на пол пути от наших мест до Вельска, где я учился в десятилетке) моя лошадь Первик несколько не пошла... обратно от Морозова еле её пригнала а дровни на другой лошади привезли вернулась домой только боле расстроилась... когда тебе будет выходной ты дойди до Берега там я оставила табак и картошки мешок хотя ты немного унесешь дорога скоро распадет в Вельск не попасть больно мне хотелось к тебе приехать да не пришлось».
Содержание письма о том, что мать везла мне в город картошку для пропитания и с полсотни стаканов табаку-самосада для продажи. Чтобы я на вырученные деньги мог что-то купить из обуви или одежды. Но до города доехать она не смогла, лошадь отказалась тащить даже полупустые дровни. Пришлось матери оставлять картошку у кого-то в деревне Берег и вести ослабевшую лошадь обратно в поводу. Увязая валенками в намокшем уже снегу, постоянно в напряжении, чтобы лошадь не упала, тридцать километров тащить её обратно до дома. В таком состоянии, давно некормленая, лошадь если упадет, то может и не подняться. А тогда беды не оберешься, лошадь-то колхозная. Да и жалела она лошадь по-человечески. Сколько на ней она переборонила полей, сколько проделала прочей колхозной работы, не перечесть. В другом письме она пишет: «...корма в колхозе нет нисколько кони голодом но ето говеем будет худо если кони падут очень я жалею лошадей». Бескормица в тот год была страшной!
Вот такая картина. Сколько же матери надо было испытать душевных мук, сколько перенести страданий за эту злополучную посадку. Одно сознание того, что сын где-то голодает, а она ничем не может ему помочь, надо полагать, вгоняло мать в слёзы, в тоску неимоверную. Будь проклято то время!
Еще в одном письме мать пишет: «...мы с Терезой (сестрой моей) живем хорошо да только с часу на час ждем тебя... надо огород садить сама все на поле нет времени никак не могу все сделать». Мать никогда не жалуется, каждое письмо начинается со слов: «Мы живем хорошо». Какое уж там хорошо! Когда нет денег уплатить проклятый сельхозналог, скатать валенки или починить обувь, что-то купить из одежды сыну и подрастающей дочери. Да и дотянуть до весны с кормом для коровы, единственной надежды семьи, без которой погибель. Но как-то все это мать переносит без особых нареканий к судьбе, считает нищету и нехватку денег неизбежным злом.
Одно только ее нервирует и угнетает: почему сын редко пишет письма. Она со слезами упрекает меня: «Кабы я была грамотна то каждый день тебе стала писать письма... мне писать письмо одна только темна ночь... карасину нет в лавке дак как его достанешь». В полутьме, при свете коптилки, мать все же ухитряется сыну писать чаще, чем он ей.
Стыдно и горько сознавать, что столь черствым я был к матери в молодые годы. Ну что стоило отправлять матери хотя бы по одному письму в неделю. Чего-чего, а грамоты было более, чем достаточно; как-никак учился я в десятилетке. Но нет, не находил времени даже для короткого сообщения, что жив и здоров. Мать упрекает меня в очередном письме: «...я только очень обижаюсь на тебя в том что десятый год тебя учу неужели слишком трудно написать матери...».
Я отписываюсь, конечно, изредка. Стараюсь её не огорчать. Что тоже живу хорошо, что картошки занял у Феди (домохозяина, где я квартировал), что есть знакомый на колбасной фабрике, где я могу покупать кости и варить бульон. Но сердце матери разве этим успокоишь. Снова и снова она не спит ночами, думая о сыне, о плохой его одежде, о том, что он голодает, а послать ему картошки или молока для пропитания нет никакой возможности.
Прошли годы. Давно нет уже в живых великой труженицы Павлы Петровны. Но труды её не пропали даром: детей она вырастила и дала им образование. А неблагодарного ее сына и через много лет нет-нет да и кусанёт совесть, что в труднейшее голодное время он был таким глухим и чёрствым к родной матери.
МИТЯ НЕКРАСОВ
В моей памяти он так и остался Митей, хотя в зрелом возрасте он был всеми уважаемый Дмитрий Иванович Некрасов, секретарь горкома КПСС по культуре, третье лицо в местной партийной номенклатуре.
Мы учились вместе с ним сразу после войны в 8— 10-х классах единственной тогда в городе Вельске средней школе. Близкими друзьями мы не были, он держался несколько в стороне от нашей шумной компании, состоящей в основном (кроме меня) из городских ребят. Приходил он на занятия со своего Аргуновского завода, что в трех или четырех километрах от города, и уходил после занятий сразу к себе домой.
Учился он средне, кончил 10-й класс без медали, и с институтом сразу у него не получилось. Сдавал экзамены в Ленинградский политехнический, но не прошёл по конкурсу и вернулся обратно в Вельск. Позднее он окончил Учительский институт в Архангельске, но в школе почти не преподавал, перейдя вскоре на партийную работу инструктором в горком или в райком партии. Там он нашёл свое призвание, заведуя отделом культуры. Много ездил по району е лекциями, собирая попутно материал по истории города Вельска.
Надо сказать, что Вельск весьма древний город. Он расположен в месте слияния двух крупных притоков Северной Двины — Вели и Ваги, видимо, служивших в древности путями передвижения новгородцев на север и на восток. Дима часто рылся в сохранившихся архивах, выискивая памятные события и даты. В каких-то документах он нашёл сведения, что город Вельск на сто лет старше Москвы. И сведения оказались, по его словам, вполне достоверными.
Как опекун культуры края, он заботился о краеведческом музее, находившемся тогда в чердачных помещениях Дома культуры — бывшего церковного собора, полуразрушенного в тридцатые годы. Он радовался любой своей находке по истории края, передавая ее в музей на сохранение. Мечтой его было собрать и разместить в пригороде Вельска сохранившиеся по району древние строения: избы, амбары, гумна, ветряные и водяные мельницы, крестьянский сельхозинвентарь (по примеру Малых Карел вблизи Архангельска). Мечты его не сбылись, как всегда у районных властей не хватало денег на культуру. Да и жизнь его для такого большого дела оказалась короткой.
Он с озабоченностью говорил, что в районе исчезают старые Ремесла и художественные промыслы. В некоторых местечках некому уже сделать обычные деревянные грабли, сподручное косовище к литовке, смастерить табуретку или изготовить кадушку для солений. Не говоря уже о дровнях, санях, хомутах и прочей сбруи для лошадей. Впрочем, и лошади стали повсеместно исчезать из жизни крестьянина. Как будто трактора и комбайны могли заменить лошадей на всех видах сельхозработ северной деревни.
Любопытный пример его заботы о крестьянских ремеслах. Когда-то повседневной обувью северного крестьянина были лапти. Точней, не лапти (которые плетут в более южных областях из липовой коры), а ступни, изготовляемые из березового лыка. Ступни имеют несколько иную форму, нежели лапти, более сходную с калошами. Эта обувь, подогнанная к ноге, очень удобна в пользовании. Даже при ходьбе по сырым местам. Влага, проникая в ступни на болотине, при выходе на сухое место отжимается, и портянки становятся как бы сухими, ноги не мерзнут от сырости.
Но со временем лапти и ступни были вытеснены кожаной обувью, спроса на них не стало и искусство плетения обуви из лыка начало хиреть. Старики-лапотники поумирали, не имея возможности передать своё умение кому-либо из молодежи. А это не такое простое дело — сплести лапти, можно сказать даже — тонкое дело. И когда в Вельском районе остался всего один умелец этого древнего ремесла, то Дмитрий Иванович пошёл к нему на выучку. И научился у того плести взаправдашние ступни. Даже научился «троить» их, делая более прочными (то есть вдобавок к двум переплетенным лыкам вставлять третье, для прочности). Освоил он также навыки «лыкодера»: снимать бересту с дерева узкими длинными лентами с помощью костяной пластинки. Это тоже требует определенных навыков, аккуратности и терпения.
Конечно, инструктор райкома, плетущий лапти, казался смешным в глазах чопорной партийной элиты, да и просто сторонней публики, но Дмитрий Иванович не боялся насмешек и продолжал совершенствоваться в своем мастерстве. Две пары лаптей (ступней) его производства, мне подаренные, я храню как дорогую реликвию.
Встречаясь с ним в шестидесятые — восьмидесятые годы, когда он секретарил, мы почти никогда не говорили о политике. Он знал, что я беспартийный и критически отношусь к некоторым постулатам коммунистического мировоззрения, а я уважал его веру в коммунистические идеалы, его нелегкий труд во благо общества, и мы в разговорах не задевали скользких тем. И без них нам было о чем поговорить.
Лишь однажды нам пришлось нарушить это табу. Когда-то, провожаясь после очередной моей побывки в родных краях, мы сидели с бутылкой и немудреной закуской около полуразрушенной церкви в местечке Морозово. Колокольня церкви была снесена, а в самом куполовидном здании содержался склад какой-то колхозной техники. Через зарешечённые оконные проемы были видны великолепные росписи на стенах, удивительно хорошо сохранившиеся. На мой немой упрек Дмитрий Иванович обронил тогда фразу, которая мне навсегда запомнилась: «Наверное, зря мы разрушали такую красоту». Он сказал «мы», то есть честно брал вину и на себя. Хотя лично он никогда бы не стал разрушать святыни. Даже в такой мелкой детали проявилась его порядочность.
С годами он стал душой нашего школьного товарищества. Он скликал» на очередной— через 5—10 лет— юбилей окончания школы выпускников нашего класса. Списывался с иногородними, намечал время, встречал нас и провожал, устраивал «стыковки» с молодёжью в школе и пикники за городом. Словом, обеспечивал всем, насколько это было в его власти. И мы стремились попасть на эти встречи: с разных концов страны, кто где жил и работал, собиралось до 14 человек (из 20 окончивших десятый класс в 1948 году). Правда, на 40-летие явились уже немногие.
Распад компартии Дмитрий Иванович, конечно, сильно переживал. Но, по-видимому, он понимал, что перемены в партийной жизни необходимы. Иногда в его репликах по тому или иному поводу это всё же проскальзывало. Хотя верным партии он оставался до конца. Может быть, за верность идеалам, а может, за его моральную чистоту (он никогда не злоупотреблял властью в своих личных интересах) коммунисты-ленинцы района избрали его в начале перестройки первым секретарем. Фактически это была уже общественная должность, от которой он никакой материальной выгоды не имел. Не получал даже ничтожной зарплаты. Пенсий ему и его жене едва хватало для пропитания и для содержания внучки, которая росла у них на руках. Он вынужден был прирабатывать двести-триста рублей дворником при детском садике.
Много времени он отдавал даче, построив там своими руками дом. Картошкой и овощами он обеспечивал семью на всю зиму. От старой номенклатурной должности он особой корысти не имел, разве что квартиру в каменном доме да старенький разбитый газик, который он постоянно ремонтировал и на запчасти уходило до половины его не очень высокой пенсии.
Здоровье его в последние годы было незавидным. Мучило давление, нередко он подолгу лежал в больнице. Умер он, не дожив до 65 лет.
Думается, что если бы все коммунисты были такими же бескорыстными и преданными великой идее, то она не была бы отброшена цивилизованным человечеством и сохранила свою притягательную силу.
ПЕТРОВИЧ И МАЛАЯ ГЭС
Александр Петрович был сельским врачом в местечке Морозово Верховажского района. Небольшая его больничка обслуживала около тридцати деревень и лесопунктов округи на севере района. В годы войны и до конца 50-х годов он был, по-видимому, единственный лечащий врач округи, одновременно исполняя обязанности заведующего больницей. Лечил он от всех болезней и, видимо, небезуспешно. Во всяком случае, к нему уважительно относились все жители деревень. От клиентов его о Петровиче можно было услышать только хорошее; он был непререкаемым авторитетом среди людей пожилого возраста. Он и зубы дергал умело. А зубная боль — это бич многих пожилых женщин в деревнях, удалённых от городских поликлиник, избавление от боли они считали за великое благо. И были бесконечно благодарны Петровичу, если тот удалял больной зуб.
Как у всех сельских врачей, практика у него была огромная, поэтому он знал многое о разных болезнях. Но возможности лечения больных у него, конечно, были ограниченные, не имелось в те годы достаточного количества лекарств, да и антибиотики еще не получили широкого распространения. Но он лечил иногда и трудных больных, не имея под рукой лекарств. Возможно, в каких-то случаях он использовал и психотерапию, и в какой-то мере обман, давая больным безвредный порошок и внушая им его целительную силу. Не будем строго осуждать его за это.
Но не о врачебных его приёмах ниже пойдет речь. Петрович был хорошим хозяином. Больница у него была на редкость ухоженной, чистой, подходы к домам по гравийным дорожкам, летом вдоль дорожек клумбы с цветами. При больнице имелся приличный огородик в десяток соток, засаженный летом картошкой и всякими овощами (подспорье для питания лежачих больных). По периферии этого огородика сложены были в три ряда высокие поленницы. Проходя мимо в школу (в годы войны), мы всегда завидовали этим запасам; в деревнях дрова всегда были большой проблемой. Хотя лес вроде и рядом, но заготовить и привезти дрова из сухостоя для рядовых колхозников — целое дело. Вероятно, Петрович использовал для заготовки дров не слишком тяжелых больных, может быть, даже придерживая некоторых в больнице и дольше положенного срока, лишь бы они работали на колке дров и в огороде.
Но не только болезнями своих подопечных и хозяйственными нуждами больницы занимался Александр Петрович. Была у него и своя мечта. А мечта вот какая: построить гидростанцию на речке Пежма, протекавшей рядом с больницей. Когда мы с моим другом Вадимом Торопановым (сыном школьного товарища А.П.) были в гостях у него, летом 49-го или 50-го, то у хозяина был разговор только на тему о ГЭС. Он рассказывал нам, какие блага принесет в Морозово электричество. В больнице и в деревнях загорятся лампочки Ильича, на молокозаводе будут работать электросепараторы, на скотных дворах — электродоильные аппараты, на льнозаводе — механические трепалки. И прочее, и прочее. О многом фантазировал Александр Петрович.
Надо пояснить, что в те годы в деревнях не было электричества. Дома и производственные помещения освещались керосиновыми лампами. Имело место строжайшее запрещение Сталина подключать деревни к государственной энергосети. Но запрещение это было негласным, о нем в газетах не распространялись. А что писали в газетах и о чем много шумели в прессе и по радио, то это о строительстве многочисленных небольших ГЭС на малых реках. Имела место как бы дымовая завеса, прикрывающая ущемление деревни в части энергетики со стороны правительства. Ну и тут же подсказывалось решение проблемы; пусть, дескать, колхозники построят сотни тысяч малых ГЭС и потом хоть купаются в электричестве.
И что интересно: многие вроде бы и светлые умы поверили в это. Да и, казалось бы, чего разумнее и проще: перегороди плотиной небольшую речку, поставь турбинки и генераторы, а потом черпай электричество пригоршнями. Вот и сельский врач Петрович заразился этой идеей и со всей присущей ему энергией подключился к строительству ГЭС на Пежме вблизи своей больницы.
Надо сказать, что в обмане населения активное участие принимали и проектировщики Ленгидропроекта. Они имели от этого свой кусок хлеба и заваливали деревенских гидростроителей своими прожектами, не вдаваясь в детальные расчеты: во что обойдется стране строительство многих тысяч малых ГЭС на равнинных реках и будет ли от этого серьезная выгода. Как бы то ни было, сооружение малых ГЭС началось во многих районах России.
Вернёмся конкретно к Морозовской ГЭС. Петрович с великим энтузиазмом подключился к её строительству. Выбрал место в полукилометре от больницы, договорился с колхозами о транспорте, о рабочих, о стройматериалах. Начал завозить лес на сваи, камни, цемент и пр. Естественно, где-то на колхозные деньги закупали оборудование, оснащение, провода. Хлопот было множество, и все они ложились на голову сельского врача. Строительство велось, конечно, ни шатко, ни валко с 1947 по 1951 год, но все же продвигалось вперёд. Сил у местных колхозов едва хватало на текущие дела — с пахотой, сенокосом, уборкой урожая, содержанием скота, да еще с принудительными лесозаготовками и лесосплавом. Поэтому усилия на гидростроительство тратились по остаточному принципу.
Но всё же, когда мы были в гостях у Петровича, строительство гидростанции близилось к концу. И Петрович ликовал. Он даже не реагировал на наш полуехидный вопрос, как же будут через плотину пропускаться бревна при лесосплаве. А сплав леса по Пежме в паводок шёл тогда ежегодно. И мы знали, что плотины бывших водяных мельниц, отобранных у раскулаченных крестьян, или смыты, или основательно повреждены лесосплавом. Как помнится, Петрович ответил, что это не нарушит работы гидростанции, что пропуск леса предусмотрен проектировщиками.
Через какое-то время, наверное, лет через десять, мне удалось проездом побывать в Морозове. Я поинтересовался у местных жителей, как тут работает Малая ГЭС, в такие-то годы построенная. «Какая ГЭС? Не знаю я такой», — ответил один из них. Второй оказался осведомленнее и рассказал, что станции давно нет. Что работала она всего несколько лет, а потом её разрушило лесосплавом. И от бывшей плотины остались лишь корешки — поваленные сваи. А энергии она давала мало, мощность ее была всего 90 киловатт, и даже для освещения домов в деревнях Морозова ее не хватало. Правда, эпизодически работало на ней несколько электромоторов на пилораме и зернотоках.
Конечно, много ли могла создать запас воды речка, почти пересыхающая зимой, при высоте плотины всего 1,5 метра. Шумиха в газетах о роли малых ГЭС в сельском хозяйстве оказалась обычным блефом. В 60-е годы лесопункты и деревни Верховажского района были подключены к государственной энергосистеме, и всё стало на свои места.
Петровича к этому времени уже не было в живых. Как он переживал крушение своих надежд, не удалось узнать об этом ни у кого.
Наверное, нелегко ему было сознавать, что столько сил и энергии потрачено впустую. Но, наверное, нельзя всё же сказать, что впустую. Отрицательный результат — тоже результат. Куда более серьезные ошибки были совершены в те же годы, когда построили крупные ГЭС на Волге, затопив громадные пространства плодородных земель. Но об этом сейчас никто не вспоминает.
ЛЮБОВЬ ОРЛОВА
В молодости все мы тщеславны. Может быть, не все в равной мере, но тщеславие не чуждо и самым скромным молодым людям. Многие из них гордятся знакомством с великими мира сего: с известными артистами, спортсменами, поэтами, писателями. И всегда находятся завидующие им, иначе не было бы интереса похваляться.
Я когда-то хвалился знакомством с Любовью Орловой. Знакомство было несколько односторонним: я её по кинофильмам знал хорошо, а она меня не очень. Лишь однажды она сказала мне «спасибо» и сделала ручкой прощальный жест. Но и этого было достаточно, чтобы я всем своим знакомым при случае упоминал, что я был лично знаком с великой актрисой — самой Любовью Орловой.
А дело было так. На рубеже сороковых — пятидесятых годов прошлого уже века в нашем Горном институте зимой проводились довольно оживленные студенческие вечера: с самодеятельностью, концертами артистов и танцами в заключительной части вечеров. Обычно такие вечера проводились совместно с каким-нибудь гуманитарным или медицинском вузом, где студенческий контингент составляли преимущественно девушки. Преследовалась благая цель — знакомить горняков с будущими невестами, а в перспективе женами.
На один из таких вечеров было приглашена Любовь Орлова. Вроде бы она уже не в первый раз посещала Горный институт. Организаторы вечера из комитета комсомола говорили, что она охотно соглашалась давать концерты на студенческих вечерах, если ее удавалось поймать. И оплату за свои выступления не заламывала чрезмерной, как певец тех же лет Леонид Кострица. Тот знал всего три песни (в том числе известную «Не нужен мне берег турецкий»), но гонору было у него сверх всякой меры. И деньги драл без зазрения совести.
Так вот. В тот вечер, когда давала концерт Любовь Орлова, я состоял в числе дежурных у главного входа в институт. Наша цель была не пускать сторонних лиц, которых у входа толпилось обычно немало. В том числе молодых девиц, которые всегда стремились попасть на вечера геологов. Некоторых, на наш взгляд симпатичнее прочих, мы все же пропускали. Да и как тут было устоять молодым и холостым студиусам перед заискивающими девицами.
Концерт шел в конференц-зале. Тогда ещё в нем разрешалось проводить мероприятия с большим количеством присутствующих. Не возбранялись даже танцы. Лишь позднее, в середине 50-х годов, вечера там были запрещены из-за угрозы обрушения пола. Здание главного корпуса было древним, построенным еще Воронихиным, и частично поврежденным обстрелами немцев с Пулковских высот.
Но в тот вечер выступление Орловой шло на сцене конференц- зала. Мы, дежурные, не всё время торчали у выхода, а норовили тоже посмотреть и послушать великую актрису. Она пела и танцевала, повторяя кадры из фильмов, легко и грациозно, как молодая девушка, хотя ей в то время было уже за пятьдесят. Студенты, конечно, с радостью её приветствовали и по окончании концерта устроили овацию.
Провожая ее после концерта, оргкомитетовцы вызвали такси, и машина подошла к лестнице главного входа. Когда в сопровождении ответственных за вечер лиц Орлова вышла из дверей, то я подсуетился и открыл ей дверцу такси. Она поблагодарила, помахала ручкой и уехала. Я был безмерно счастлив! Еще бы! Лицезреть вживую любимую актрису и услышать от нее «спасибо»! Это ж надо, чтоб так повезло!
Когда закрыли конференц-зал для студенческих вечеров, то у горняков не осталось просторного помещения с приличной сценой, где могли бы выступать артисты. Концерты с приглашением знаменитостей, как мне помнится, прекратились. Вечера встреч с девчатами из Педагогического института им. Герцена, областного Учительского и из Медицинского институтов проводились и позднее, но уже в аудиториях, примыкающих к «деканатскому проспекту». Так звали длинный коридор на третьем этаже соединительного корпуса главного здания с уцелевшими учебными зданиями во дворе института (часть корпусов во дворе лежала еще в развалинах). В «деканатском проспекте» было тесновато, но публика не боялась тесноты, и на вечерах всегда было весело.
Позднее вечера танцев стали устраиваться в новой пристройке на первом этаже, которая примыкала к главному корпусу. В этой пристройке были две или три просторные аудитории и довольно вместительный «портретный» зал (с ликами по стенам корифеев горного дела и геологической науки).
С этим помещением связано еще одно яркое воспоминание. В один из вечеров отдыха, уже без концерта заказных артистов, в портретном зале и в примыкающих к нему аудиториях танцевали под какую-то музыку. В числе сторонней публики попали на вечер два пьяненьких матроса, мешавших другим танцевать. Дежурные пробовали их успокоить, но они еще больше стали куражиться. Тогда их взяли под белые рученьки и выкинули на улицу.
Через какое-то время к институту подбегает человек тридцать матросов, все навеселе и с ремнями в руках. Дежурных у входа смели, ворвались в портретную галерею и начали охаживать бляхами танцующих парней. Конечно, тут переполох, ругань, визг девчонок. Оказать достойное сопротивление мы не могли, не было под рукой, чем обороняться. Хоть и стыдно было перед девчонками, но пришлось отступать на лестничные площадки ко второму этажу. Когда перепадает бляхой по телу, то это очень чувствительно, даже через пиджак. Да и много было матросов, где против такой организованной массы устоять.
Но тут случилось непредвиденное. Кто-то из нападавших или оборонявшихся кинул в противников пустую бутылку, и та попала в большой портрет Сталина, висевший под стеклом в конце галереи. Стекло разбилось, и тут крик: «Ах, вы Сталина!» Хоть и под мухой были матросы, но тут быстренько сообразили, что дело пахнет керосином, и моментально ретировались. С портретом Сталина были шутки плохи.
Оказывается, к нам наведались матросы с подводной лодки, которая стояла на причале у берега Невы, близ Горного института. Б тот день был какой-то праздник, и по этому поводу матросы поднабрались. А тут недалеко от лодки музыка и танцы — как не зарулить туда. Двое наиболее шустрых и прорвались, но когда их обидели, то все остальные дружно за них вступились.
Назавтра в комитете комсомола и у директора института состоялись жаркие дебаты, подавать куда следует жалобу на матросов пли нет. Очень хотелось некоторым студиусам наказать матросов за синяки и шишки. Но нашлись умные головы, которые посоветовали конфликт не раздувать. Он легко мог перерасти в политический, а тогда последствия могли быть непредсказуемыми. Так дело и замяли, здравый смысл возобладал. Стекло на портрете сменили па следующий же день.
БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ
В начале 50-х годов прошлого века в нашей стране разворачивалась борьба с «тлетворным влиянием Запада» в разных сферах общественной жизни. Особенно беспокоило наших идеологических вождей «тлетворное влияние» запада на молодежь. Конечно, не в области общественных наук, тут молодежь нетрудно было держать в рамках существующих доктрин марксистко-ленинской философии и социалистического реализма в литературе. Шаг вправо, шаг влево от этих доктрин был заметен сразу и неуклонно карался.
Но музыку, танцы и песни, проникавшие с запада, трудно было удерживать в каких-то принудительных рамках. Запреты мало помогали: танцевальная музыка не прямо, так окольными путями (через радио, магнитофонные записи) улавливалась молодежью и определенно разлагала её. С песнями ещё куда ни шло: советские композиторы поставляли их исправно и в большом количестве. Многие песни, к примеру Дунаевского, были к тому же неплохие и зажигательные.
Но танцевать под эти песни было трудно. Да и что танцевать? Танго, фокстрот и, какое-то время вальс были под запретом, не водить же хороводы или плясать камаринскую. Куда как веселее было танцевать фокстрот «Весельчак», но можно это делать только где-то на квартире, закрыв плотно дверь, чтобы не услышали соседи.
Запреты не всегда достигают цели, это руководители культуры знали. И понимали, что «западные» танцы надо заменить другими танцами, которые увлекли бы молодежь. Но какими? Если с песнями был относительный порядок (русские народные были вытеснены песнями советских композиторов), то танцы заменить было нечем. Новых «советских» танцев или не существовало, или появлялись такие суррогаты, что под них никто из молодых людей не хотел двигать ногами.
Тогда в головы культуртрегеров пришла бесценная мысль: воскресить стародавние танцы, которые танцевали наши бабушки с дедушками, и увлечь ими молодёжь. И вот появились разрешенные танцы па-де-грае, па-де-спань, па-де-патенер, миньон и даже лихая мазурка, которую отплясывали когда-то на великосветских приемах гусары и аристократические девицы.
Как по мановению волшебной палочки, в Ленинграде (а возможно, и в других городах) появились многочисленные школы «бальных танцев». Поскольку же на молодёжных вечерах дозволялось только их и танцевать, то пришлось студентам учиться прабабушкиным развлечениям. Не стоять же в стороне на студенческих вечерах, когда другие танцуют. Обучали танцам на полном серьёзе невесть откуда взявшиеся «балетмейстеры», набившие руки (то бишь ноги) на этом деле. Привлекательность бальных танцев была и в том, что на этих курсах можно было познакомиться с симпатичными девчонками, которые тоже стремились свести знакомство с парнями в красивой горняцкой форме.
Конечно, смешно было со стороны видеть, как вытанцовывают какие-либо старинные па, взявшись за руки, двое молодых людей, подпрыгивая и кружась. Как в пародийной песне того времени:
Две шаги налево, Две шаги направо, Шаг вперед и поворот...Юмористическая сторона этого дела культуртрегерами как бы не замечалась. Хотя не могли же они не знать о прецеденте, имевшем место в истории США то ли в конце девятнадцатого, то ли в начале двадцатого века. Один престарелый американский миллионер очень не любил песни и танцы современной молодежи. И чтобы их не видеть и не слышать, он закупил большой пароход, нанял оркестр музыкантов, собрал большую кампанию своих сверстников, бабушек и дедушек, и отправился в плавание. Как они там резвились на море, танцуя прабабушкины танцы и распевая старинные песни, история сведений не сохранила. Но над ними потешалась вся Америка.
Распорядок вечеров отдыха молодежи в Ленинграде, скажем, в Мраморном зале Кировского дворца культуры на Васильевском острове, был примерно таков. Вначале выступал самодеятельный песенный коллектив организаторов вечера (Горного института или какого-либо гуманитарного вуза, с кем стыковались вечера горняков). Исполнялись ритуальные песни вроде «Партия — наш рулевой» или «Сталин и Мао — братья навек». Потом все в зале вместе с хором дружно распевали что-нибудь из песен советских композиторов. Наиболее часто:
Нам песня строить и жить помогает, Она, как друг, нас зовет и ведёт. И тот, кто с песней по жизни шагает, Тот никогда и нигде не пропадёт...Очень зажигательная была эта песня. Даже сейчас, в возрасте за 70 лет, вспоминая её, напеваешь куплеты с удовольствием.
Потом начинались бальные танцы. Наиболее простые из них мы уже довольно сносно танцевали и смело приглашали партнёрш. Не умевшие танцевать наши товарищи стояли около стенок и насмехались над нами. Но мы, закончившие курсы бальных танцев, не обращали на них внимания, пусть себе иронизируют. Им ничего другого не оставалось делать.
Но бальные танцы быстро надоедали. Они довольно утомительны. Может быть, бабушкам и дедушкам в молодости они и нравились, но нам не очень. Все ждали, когда же оркестр сыграет танго или вальс. Ближе к концу вечера раздавались, наконец, звуки вальса. Какое же это было удовольствие — кружиться в вальсе между колоннами обширного мраморного зала, особенно с послушной в вальсе партнёршей (редко кто из женщин хорошо танцует вальс). Под аплодисменты танцующих иногда разрешался второй тур вальса, или по настоянию публики танго под мелодию модной тогда «Бесаме мучо».
Но на этом вечер заканчивался. Фокстрот был под запретом, и редко когда оркестр осмеливался его исполнять. Не говоря уже о рок-музыке, которая была под тройным идеологическим замком.
Так резвилась студенческая молодежь Ленинграда в начале 50-х годов двадцатого столетия.
ЗЕМЛЯЧЕСТВО И МГУ
После завершения учёбы и защиты дипломов в декабре 1953 года мы с моим другом Вадимом Торопановым надумали посетить Москву. Посмотреть столицу, взглянуть на новый университет, воздвигнутый на Ленинских горах и широко разрекламированный, и собрать землячество студентов из города Вельска, что учились в институтах Москвы. Ехать по распределению на места работы мы не торопились, справедливо полагая, что там обойдутся временно и без нас. Деньги у нас пока водились, оставшиеся после «хлебной» практики пятого курса, так что мы могли себе позволить некоторые купеческие вольности: вдоволь поесть мороженого, побывать на сельскохозяйственной выставке и даже сходить раз-другой в ресторан.
Опыт проведения земляческих встреч у нас был. В Ленинграде мы неоднократно собирали до кучи своих знакомых — студентов и студенток из Вельска, учившихся в разных вузах и друживших между собой. Как правило, все охотно откликались на наши «повестки». Встречи проходили обычно в «дядюшкиной» квартире на Выборгской стороне. Дядюшка Вадима — военный — служил в Германии и его пустующая трехкомнатная квартира была нам весьма кстати.
Землячества проходили очень весело и как-то сближали выходцев из города Вельска — из разных институтов, с разных курсов обучения, а также укрепляли наш патриотизм. Мы считали город Вельск лучшим и самым достойным городом России, не считая, конечно, Ленинграда, в котором тоже признавали кое-какие достоинства. Но то, что город Вельск на сто лет старше Москвы, переполняло нас гордостью. А девушек, студенток из Вельска, мы считали самыми красивыми, даже если сравнивать со столь богатым женской красотой Невским проспектом Ленинграда.
Побывав до этого в Вельске, мы собрали адреса выпускников нашей школы, учившихся в Москве, и по приезде в столицу стали всех объезжать. Надо сказать, что в этом деле весьма преуспели: на встречу землячества дали согласие человек пятнадцать, большей частью девушки, поскольку парни всегда более тяжелы на подъем. Хотя двух-трех парней удалось все же уговорить.
Жить нам в Москве первое время было негде. На три ночи мы с Вадимом притулились у моего двоюродного брата-милиционера. Обитал он с семьёй в малюсенькой комнатке коммуналки, чем-то напоминавшей «Воронью слободку» Ильфа и Петрова. В комнате помещалась одна кровать, маленький столик и тумбочка. А у них с женой было уже двое малолетних детей. Так что на ночь нас размещали на полу в коммунальной кухне, да еще поблизости от общего туалета. Хорошо хоть мы рано вставали и поздно возвращались, мотаясь днями по Москве. Неудобства быта мы стойко переносили три ночи, зато потом...
Один из вельских студиусов в Москве имел приятеля с гуманитарного факультета МГУ, который был уже поселён в общежитие нового здания на Ленинских горах. Апартаменты для студентов там были потрясающие. Тогда, в начале 1954 года, каждый студент имел в этом общежитии отдельную комнату. С этим приятелем (звали его Рашид и был он сыном какого-то крупного партийного руководителя в Татарии) мы договорились, что арендуем на время его комнату. По счастливому стечению обстоятельств в соседстве с Рашидовой имелась еще одна, куда более просторная, комната какого-то аспиранта, который был в отъезде, а ключ оставил Рашиду. Кроме того, рядом был обширный холл с мягкими диванами и креслами, и все эти помещения находились в тупиковом конце коридора. Словом, лучшего места для встречи друзей трудно было в Москве не только найти, но даже придумать.
Мы все просочились в общежитие МГУ, кто нагло игнорируя вахтеров, кто по каким-то спецпропускам, которые оформлял Рашид. Собралось почти два десятка человек. В комнате аспиранта оформили стол, в холле танцевали (надо сказать, что эта секция общежития казалась совершенно пустынной, коренных обитателей не было даже видно). Мы с Вадимом чувствовали себя совершенными именинниками, поскольку собрать такую прорву народа, да еще затащить её в новый университет, можно было считать героическим деянием. Тщеславие наше не имело предела.
Встреча, как и следовало ожидать, получилась на славу. Много было вина, тостов, песен, стихов. Была гитара, какая-то девушка умела на ней играть и аккомпанировала поющим. Коронной нашей песней была тогда:
С нашим завтрашним днём мы ведём разговор, Мы берём его в крепкие смелые руки; Ведь не зря на простор светит с Ленинских гор МГУ — величавая крепость науки. Нам студенческих песен вовек не забыть, Наш московский задор понесём мы по свету; Коль дружить — так дружить, а любить — так любить Горячей и сильней, чем Ромео Джульетту!Такие вот романтики мы были: даже любить мы мечтали «...сильней, чем Ромео Джульетту». Только так мы мыслили себе наше будущее.
Наше веселье продолжалось два дня. Парни и некоторые девчонки так и ночевали в комнатах аспиранта и студента. Положение москвичей осложнялось тем, что вторично оформлять пропуска на территорию университета было трудно, не хотелось утруждать этим Рашида. А нам с Вадимом это было и не нужно; мы прекрасно устроились с жильём и вовсе не хотели перебираться обратно на коммунальную кухню. Жили мы в университете целую неделю. Все в университетских зданиях было к нашим услугам: магазины, буфеты, столовые. А из продуктов — чего душа изволит! Да и сам университет смотрелся, как музей: новенький, с иголочки, с мраморными залами, скоростными лифтами, богато украшенными вестибюлями. Словом, роскошью быта университетских студиусов и профессоров мы насладились за неделю в полной мере.
Обнаглели мы настолько, что даже возмечтали когда-нибудь устроиться в Университет преподавателями. Естественно, защитив диссертации и получив признание в науке. Наивные люди! С годами мы поняли глупость такой затеи, и нас калачом нельзя было бы заманить для работы и жилья в эти каменные мешки, закрытые от солнца, от воли, от зелени садов. Но тогда мы были горды сознанием того, что побывали в прославленном Университете, и хвастались всем встречным и поперечным.
ВЫСТРЕЛ
Случилось это летом 1953 года. Именно в то самое «холодное лето 53 года», о котором снимался знаменитый фильм, и снимался в тех же примерно местах, где произошла описываемая ниже история, на берегу озера Имандра.
Небольшой коллектив Мончегорской ГРП вместе с двумя сотрудниками Печенгской геофизической экспедиции — это были я и топограф Саша Н. — выехал на пикник в один из живописнейших уголков местной природы, что-то около двадцати километров от города Мончегорска. Дело было в субботу, добирались туда мы па катере БМК, который вечером в воскресенье должен был придти за нами и вывезти обратно в город.
В нашей компании было восемь или девять человек. Из них — четверо девчонок из ГРП, молодых и весёлых. Организатором выезда на природу был главный геолог ГРП Иван Васильевич Галкин, самый старший из нашей компании. Парни оборудовали стол прямо на берегу озера, девчата украсили его цветами и сервировали, выставив привезённые из дому деликатесы. И начался пир! После многих дней напряженной работы в тесных камеральных помещениях ужин на природе — настоящий праздник. Вечер был тёплый, комары и мошка не особенно докучали, ветерок с озера сгонял их в лес. У всех было великолепное настроение, много было песен, шуток и даже танцы под патефонные пластинки.
Ночевали мы в каком-то дощатом строении, пустующем и холодном, но с приличной крышей, которая выручила нас, когда под утро пошёл дождь. Впрочем, у всех были спальные мешки, так что непогода нас не страшила.
Поутру, а точней, ближе к середине дня застолье наше было продолжено. Девчонки опять накрыли стол, а припасов у нас было с избытком, даже спиртного. Но не одним застольем сыт человек, требуются и прочие развлечения. Кому-то из присутствующих пришла в голову мысль пристрелять ружье, которое привез на пикник Иван Галкин. Он недавно вернулся из турпоездки в ГДР, где и купил трехствольный «зауэр». Хозяин ни разу еще из ружья не стрелял. И взял его за город не столько для охоты на куропаток и зайцев, сколько с целью опробовать его на мишенях.
Идея пострелять из ружья знаменитой фирмы всем парням понравилась. Тут же быстренько отмерили расстояние в полсотни метров, установили фанерный щит, нарисовали на нём круги и приготовились к соревнованию на лучшего стрелка. Первым предложили стрелять мне как самому молодому в компании. Но я, поколебавшись, отказался. Хоть и лестно было стрелять первым, но стрелком я в недавних военных лагерях был неважным, поэтому боялся осрамиться перед девчонками: вдруг промажу.
Очередь стрелять передали Саше Н. Он был заядлым охотником, поэтому так и рвался к ружью. Да и стрелял он неплохо, по совместной работе с ним я это знал. Так что нас, гостей в этой компании, он подвести не мог.
Кто разбирается в ружьях, тот знает, что такое трехствольный «зауэр». Третий ствол в нем нарезной, под винтовочные пули. И располагается он ниже двух гладких стволов. Заманчивым в этом ружье был его малый вес, чеканная насечка на дульной части стволов и затейливая резьба на ложе. Стоило оно, по-видимому, немалых денег.
Саша долго приноравливался стрелять. То пытался с колена, то стоя, то, наконец, приспособился лежа. Стрелял он с левого плеча, поскольку был левша.
Мы все стояли поблизости, готовясь бежать к мишени, — смотреть, насколько точно он попал в цель. И когда раздался выстрел, то, не медля и не оглядываясь, рванули к щиту. На бегу я услышал сзади какой-то жуткий душераздирающий крик: это кричала одна из девчонок. Обернувшись, я увидел страшную картину: Саша стоял во весь рост и держал правую руку левой, а правая была вся в крови и неестественно велика. Все бросились к нему, не зная, что делать.
Произошло вот что. Пулевые патроны у Галкина оказались не от «зауэра», а от какого-то другого нарезного оружия. В патронник патрон вошел (как потом Саша вспоминал, вошел с трудом) и затвор закрылся. Но в ствол пуля не пошла, казенную часть ствола разорвало. Отбившийся осколок прошил правую руку, располосовав её до локтя. Именно поэтому она казалась такой большой.
Что было дальше, я плохо помню. Перепуганные насмерть, мы метались, не зная, что предпринять. Девчонки перевязывали Саше руку (аптечка и бинты у нас были), Иван Васильевич пытался связаться с городом и вызвать гидросамолет (неподалеку от опоры высоковольтной линии имелась телефонная будка и связь с городом, хоть и не очень надежная, но была). В обычное время вызвать помощь не составляло труда, но в воскресный день где кого из начальства можно было найти. Да вдобавок ко всему ещё и непогода разыгралась: озеро бушевало, и приводниться гидросамолет не мог бы. Оставалась вся надежда на катер, который из города по вызову вышел, но в шторм пробирался по озеру медленно и с большим трудом. Ждали мы его часа три или четыре.
Саша мужественно переносил боль в руке, но потерял слишком много крови и временами впадал в беспамятство. Мы с ужатом наблюдали, как он теряет силы и бредит. А на Ивана Васильевича все старались не смотреть, он страшно переживал и морально мучился. Катер, казалось, полз до города целую вечность.
«Скорая помощь» ждала нас на пристани, и Сашу увезли в больницу. Оттуда в ГРП шли звонки, срочно требовался пенициллин. Вероятно, для того чтобы исключить возможное заражение.
Иван Васильевич метался по городу, добывая лекарство, бывшее тогда большой редкостью. С невероятным трудом, но пенициллин он все же достал. Операция прошла успешно: руку Саше зашили и «делали переливание крови. Кровь мы сдавали все, но не каждая подходила. Порванные сухожилия руки целиком сохранить не удалось, два пальца остались бездействующими, но за сохраненную кисть руки надо было благодарить хирургов. Рука по излечении действовала, хотя и была здорово покалечена.
Счастье Саши (мужицкое, конечно), что он стрелял из положения лежа. Если бы он стоял или стрелял с колена, то осколок прошил бы его насквозь.
Таким вот печальным событием закончился наш банкет на берегу озера Имандра «холодным летом 1953 года».
БУХТАРМА
Однажды наша партийная (имеется в виду геофизическая партия) полуторка не могла пробиться к деревне Печи, в которой базировался наш геофизический отряд. Прошли дожди, дорогу вдоль Бухтармы размыло и связь через неё прервалась. В одном из посёлков на «Восточном кольце» находилась подбаза нашего отряда, где и остановилась машина. До этого поселка имелась конная тропа, которая была в два раза короче проселочной дороги вдоль Бухтармы, но тянулась от реки через крутой склон горы и через невысокий перевал. По этой тропе я и поехал на лошади выручать привезённые из Усть-Каменогорска письма, посылки и какие-то детали к приборам, которые были отряду срочно нужны.
До подбазы я добрался благополучно, забрал почту и все прочее, что поместилось во вьючные сумы, и отправился восвояси. Но по каким-то причинам пришлось в поселке задержаться, и когда я добрался через перевал до спуска к реке, стало уже смеркаться. В темноте по крутому склону спуск был небезопасен, и мне ничего не оставалось делать, как провести ночь на перевале. А там было крайне неуютно. Местность на перевале совершенно голая, безлесная, дров не найти, чтобы развести костер и перекимарить ночь около огня. По времени это был конец сентября, на горе под ветром чертовски холодно, да к тому же начал накрапывать мелкий дождик.
На моё счастье, по перевалу стояли мелкие копешки сена, заготовленные местными жителями и ещё не убранные. Я расседлал лошадь, пустил её пастись, а сам забился в сено, пытаясь согреться. Но копешка оказалась маленькой, продуваемой ветром, и к утру я основательно промерз. Чуть рассвело, и я уже начал спускаться в долину, держа лошадь в поводу.
Тропа петляла, как и все горные тропы: то тянулась вдоль склона, то круто уходила вниз. Спуск по ней не представлял особых сложностей, хотя после дождя почва размякла, и лошадь часто скользила копытами и спотыкалась. Опасности этого я не учёл, что и привело к трагедии.
Местами тропа пролегала поперёк крутого травянистого склона, очень опасного для лошадей. Если на таком участке тропы лошадь падала, то она могла не подняться на ноги и неминуемо скатиться вниз по склону. Об этом я понаслышке знал и пытался вести лошадь очень осторожно. Но одного я не учёл: тропа была мокрой после дождя и потому очень опасной. Как я ни осторожничал, лошадь поскользнулась и упала. Я растерялся, но всё же сообразил, пока она минуту-две не билась и лежала тихо, перерезать подпруги седла и ремни вьюков. Почувствовав, что освободилась от тяжести поклажи, лошадь попыталась встать на ноги, но напрасно, копыта скользили по траве, и её неудержимо тянуло вниз. Сколько мог, я держал её за уздечку, левой рукой ухватившись за какой-то кустик карагайника. Но силёнки, конечно, было мало, не мог я удержать почти на весу взрослую лошадь, да и скатиться мог по склону вслед за ней. Я отпустил уздечку, и лошадь со всё убыстряющейся скоростью покатилась вниз. Где-то в сотне метров от тропы она ударилась о выступ скалы и затихла.
Я поспешил вниз за подмогой. До лагеря алмаатинских геологов, к которому выходила тропа, оставалось минут двадцать ходьбы. Я им поведал о своих злоключениях, и они попытались мне помочь. Лошадь спасти они, конечно, уже не смогли, пришлось её пристрелить, но вьюки мои спустили вниз и доставили в наш отряд.
Как помнится, день был воскресный, или чей-то день рождения, и в нашем отряде была закуплена на пасеке бражка-медовуха. Очень сладкая и очень, как оказалось, крепкая. С горя (жалко было лошадь и стыдно за свою ошибку) я увлёкся бражкой и хватил лишку. Потом целый день и ночь спал, а проснулся со страшной головной болью. Казалось, не выживу и отброшу копыта, как и моя бедная лошадь. Однако выжил, но с тех пор к медовухе на пасеках стал относиться с большой опаской.
Это была третья по счету лошадь, загубленная в тот сезон в нашем отряде. Одна из лошадей сломала ногу в сурковой норе, вторую парни каким-то образом утопили при переправе через Бухтарму. Дважды мы обращались к местному ветеринару, чтобы он нас выручил. Он давал справку, что лошади были безнадежно больны и должны были вскоре подохнуть сами. Поэтому расходы на их приобретение бухгалтерией списывались. С третьей лошадью идти к ветврачу было неудобно, стыдно, и я решил выручить деньги продажей мяса. Торговля шла бойко. Местные жители-казахи покупали охотно, потому что лошадь была молодая и довольно упитанная. Да и приезжие геологи не брезговали; кто долго работал в Казахстане, тот к конскому мясу был приучен.
За мясо я выручил около семисот рублей, почти столько же, сколько заплатили в колхозе за эту лошадь. Убытков отряд не понёс.
А лошадь мне жалко до сих пор. Ну что было не подождать, пока просохнет тропа! Нет мне оправдания!
ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ
ИСТОРИЯ МУЗЕЯ КИМБЕРЛИТОВ
Общеизвестно, что кимберлиты — это уникальные геологические образования. Алмазоносные кимберлиты тем более уникальны, что в природе они встречаются очень редко. Кимберлитовые трубки (диатремы) — это жерла древних вулканов, магматические очаги которых зарождались на фантастически больших глубинах в сто, двести и даже, по представлениям некоторых ученых, триста километров. Горные породы на таких глубинах имеют температуру 1200—1400 градусов Цельсия и сжаты под давлением 40—60 тысяч атмосфер. Когда в литосфере на этих глубинах по каким-либо причинам возникают трещины, смесь расплава, твердых кусков мантии и газов под огромным давлением прорывается к дневной поверхности, дробя стенки подводящих каналов и вынося обломки вмещающих горных пород в верхние горизонты вулканических жерловин, называемых также диатремами. Поэтому в кимберлитовых породах содержатся в виде включений (ксенолитов) многие разновидности образований земной коры и верхней мантии. Некоторые ксенолиты вынесены с глубин более двухсот километров и представляют собой исключительную ценность для науки.
При извлечении алмазов на обогатительных фабриках кимберлиты дробятся до мелкого песка, «перегоняются в хвосты», и от породы как таковой ничего не остается. Интенсивная отработка месторождений алмазов уже привела к тому, что от некоторых кимберлитовых трубок не осталось никакого каменного материала. Уже «перегнаны в хвосты» трубки им. XXIII съезда, Сытыканская, верхние горизонты трубок Мир, Айхал, Удачная, Интернациональная.
Казалось бы, разведчики и эксплуатационники должны заботиться о том, чтобы хоть небольшая часть каменного материала кимберлитов сохранялась в первозданном виде, чтобы потомки наши знали, из чего когда-то извлекались якутские алмазы. И действительно, такая забота эпизодически проявлялась. По Амакинской и Ботуобинской экспедициям неоднократно издавались приказы и распоряжения о необходимости отбора через определенные интервалы сохранного керна из разведочных скважин. Приказы частично выполнялись, и керн отбирался. Такие же приказы, предписывающие геологическим отделам рудников оставлять сохранные образцы со скважин эксплоразведочного бурения, издавались по ПНО «Якуталмаз». И эти приказы частично выполнялись: образцы отбирались и предпринимались попытки их хранения.
Но вот что удивительно: до настоящего времени собранные когда-то «сохранные коллекции» не сохранились. Они исчезли! Исчез весь собранный когда-то каменный материал. Его нет ни в геологических экспедициях, ни в геологических отделах карьеров. Причин утраты сохранных коллекций несколько. Здесь и стихийные бедствия (пожары на экспедиционных керноскладах), и отсутствие условий для длительного хранения керна (не было надежных камнехранилищ), и безответственность лиц, отвечающих за сохранность коллекций.
Одной из немаловажных причин являлось «заимствование» каменного материала сохранных коллекций научными работниками. Многочисленные представители науки в Мирном, приезжавшие из разных научно-исследовательских институтов России и Украины, соискатели диссертаций из поисковых экспедиций годами отбирали каменный материал из сохранных коллекций якобы для научных исследований. Бесконтрольно брали наиболее ценные образцы собственно кимберлитов, глубинных включений и минералов. При этом не оставляли дубликатов образцов, не составляли актов передачи с каталогами заимствуемых коллекций. Каждый брал, что хотел, не заботясь даже о том, чтобы остающийся материал был приведен в порядок. Образцы тысячами отправлялись в Москву, Ленинград, Киев, во Львов и в другие города, откуда наезжали ученые.
О размерах подобного рода «заимствований» каменного материала можно судить, к примеру, по одной книге, в которой авторы хвастливо заявляют, что выводы о веществе верхней мантии сделаны на основе изучения 5 тысяч образцов. То есть пять тысяч образцов ценнейших глубинных включений «заимствованы» из коллекций кимберлитов по месторождениям алмазов в Якутии. Дубликатов, естественно, не оставалось. Каких-либо документов, удостоверяющих, что образцы взяты для научных исследований из каких-то сохранных коллекций, тоже нет. Иначе как хищением такое заимствование каменного материала не назовешь.
Авторы других книг и статей по алмазной тематике скромнее и обычно не упоминают о количестве изученных ими образцов. Но, судя по числу анализов, приводимых в десятках книг и сотнях статей, образцов из Якутии вывезено немало.
В начале семидесятых годов прошлого столетия при Ботуобинской экспедиции ПГО «Якутскгеология» начал создаваться музей кимберлитов. Основой музейных коллекций стали пожертвования спонсоров-коллекционеров Д. И. Саврасова, Д. В. Блажкуна, Е. Е. Потапова, Е. А. Косицына, Г. И. Хайми и др.
За 1974—1976 годы от Д. И. Саврасова в музей поступило 2700 образцов кимберлитов, руд и самоцветов. Базой этой коллекции явились образцы, накопленные в Лаборатории физических свойств горных пород, существовавшей когда-то при Амакинской, Ботуобинской и Мирнинской экспедициях. Лаборатория в свое время сгорела, но коллекции частично уцелели. Сотрудники лаборатории прилагали немало усилий, чтобы уцелевшие образцы сохранить. От Д. В. Блажкуна в музей поступило 150 эклогитов и других ксенолитов из трубки Мир, от других геологов БГРЭ — около 200 образцов экзотических горных пород. При поддержке начальника экспедиции В. Н. Щукина музей пополнялся экспонатами и в последующие годы.
В те же годы начал создаваться геологический музей и при ПНО «Якуталмаз». Приказом министра цветной металлургии П. Ф. Ломако от 12 ноября 1974 года для музейной работы были выделены три штатные единицы. Задачей музея было определено «...организовать в Мирном всесоюзную фондовую коллекцию кимберлитов и ассоциированных с ними глубинных пород и минералов». Возглавил музей В. И. Сафьянников, оформлением поступающих коллекций и паспортизацией образцов занималась Вета Кожевникова. Наибольшую помощь музею в формировании коллекций оказывали геологи ГОКа «Мирный» В. В. Заборовский и В. Р. Немчинов, ГОКа «Удачный» — В. В. Готовцев и И. Г. Прокопьев, ГОКа «Айхал» — Г. А. Капитонов и Т. Г. Насурдинов. Д. И. Саврасовым в музей ПНО было передано около 800 образцов эклогитов и прочих ультрабазитовых включений в кимберлитах.
В середине 80-х годов оба музея были объединены под эгидой Ботуобинской экспедиции. Заведующим музеем был назначен Е. А. Косицын. Музей продолжал пополняться коллекциями разных горных пород и минералов. При поддержке начальников экспедиции С. Ф. Лопухова и Ю. В. Туканова были закуплены, в частности, коллекции самоцветов и изделий из цветного камня в Уралкварцсамоцвете и Байкалкварцсамоцвете. К сожалению, большая часть собранных коллекций кимберлитов и других горных пород утрачена при «стихийном бедствии» (прорыве горячей воды из системы отопления, затопившей комнаты музея), а изделия из цветных камней из-за небрежности хранения были расхищены.
В геофизической лаборатории Мирнинской ГРЭ накапливался каменный материал, собранный для изучения физико-геологического строения разведуемых и отрабатываемых месторождений алмазов, а также собранный при палеомагнитных исследованиях возраста кимберлитов. К 1992 году в коллекциях лаборатории скопилось свыше 700 ящиков из-под ВВ, наполненных такими образцами. Учитывая ценность этого материала, генеральный директор ПНО «Якуталмаз» Л. А. Сафонов создает объединенный минералогический музей при Мирнинской ГРЭ (приказ № 459 от 5.Х.92). В задачу музея входит не только сбор каменного материала с отрабатываемых месторождений алмазов. В приказе оговаривается, что «Музей должен наглядно и с достаточной полнотой показать строение Сибирской алмазоносной провинции и являться одним из атрибутов города Мирного как столицы алмазного края». В дальнейшем музей формируется под руководством Д. И. Саврасова. Под него выделяется отдельный домик на базе Мархинской партии Мирнинской ГРЭ.
В 2001 году, по инициативе бывшего президента АК «АЛРОСА» В. А. Штырова, под Музей выделяется второй этаж каменного здания в центре города с общей площадью более 800 квадратных метров. В помещении делается евроремонт и туда переносятся все выставочные коллекции кимберлитов. После размещения коллекций по витринам музей приобретает современный вид.
Но не гладко шло формирование музея. Очередные — с 2002 года — руководители Ботуобинской ГРЭ, которой был передан музей, нацелились приспособить его для решения сиюминутных задач геологической службы, превратив музей в придаток аналитической лаборатории экспедиции. Несмотря на протесты Д. И. Саврасова, музей присоединяют к Тематической партии и ставят перед ним задачу — изучать петрографию кимберлитов. Тут же приказом определяют в музей специалиста по петрографии.
Саврасов не соглашается на это, считая, что первостатейное дело музея — собирать образцы горных пород, хранить их и экспонировать. Дело кончается тем, что Д. И. Саврасов обращается к президенту компании и пишет письмо в «Вестник АЛРОСЫ» с просьбой защитить музей от несвойственной ему деятельности и от (неизбежного при таком изучении) разбазаривания коллекций. Президент с пониманием отнесся к делам музея.
Музей кимберлитов в городе Мирный — единственный в своём роде в России и, по уверениям посетивших музей иностранцев, не имеющий аналогов за границей. Музейные коллекции кимберлитов собирались энтузиастами десятки лет и только чудом сохранились. Это единственные уцелевшие коллекции из отработанных месторождений алмазов. Потомки должны знать, из чего извлекались якутские алмазы в XX веке.
Один из крупных зарубежных геологов счёл возможным даже рекомендовать музей в книгу рекордов Гиннесса. Посетивший музей Нобелевский лауреат Жорес Алферов с похвалой отозвался о собранных коллекциях. Особенно его интересовали образцы, вынесенные кимберлитовыми вулканами из верхней мантии. Сопровождавший его президент Республики Вячеслав Штыров заверил сотрудников, что будет оказывать всемерную поддержку развитию музея.
В 2005 году Музей кимберлитов испытал еще одну организационную перестройку — он был передан в состав Культурно-спортивного комплекса АК «АЛРОСА».
ЗАГУБЛЕННАЯ ДОЛИНА
Речь пойдет о долине Чоны. Но не обо всей долине. Река эта довольно протяженная и течет главным образом среди трапповых образований Тунгусской синеклизы. В верхнем и среднем течении она стиснута траппами и довольно порожиста. Но в нижнем течении, в приустьевой части, река образует обширную долину, размеры которой доходят до 170 х 30—40 километров. Ныне уже надо говорить в прошедшем времени — доходили. Теперь долины нет, она на дне рукотворного Вилюйского моря.
Образование такой обширной плоской равнины — своего рода загадка геологической истории, причуда геоморфологии. Все другие крупные притоки Вилюя в верхнем его течении — Большая Ботуобия, Ахтаранда, Чиркуо, Улахан-Вава, Лахарчана, Сэн, Могды — образуют узкие и глубоко врезанные в рельеф среди трапповых интрузий долины, в которых почти нет плоских участков развития осадочных отложений, в них формируются плодородные почвы. Они текут среди глыбовых развалов траппов или крупногалечных кос, где ничего не может произрастать.
А долина Чоны в низовьях реки являла собой как бы котловину среди окружающих трапповых холмов, выстланную по всей своей площади плодородной землей, накапливавшейся здесь в течение сотен тысяч лет. Окаймляющие ее трапповые интрузии сейчас уже относительно небольшие возвышенности, но когда-то они были почти что горными хребтами высотой в сотни метров. Внедрялись трапповые интрузии на Сибирской платформе примерно двести пятьдесят миллионов лет назад. По всей Тунгусской синеклизе осадочный чехол был раздроблен и образовал мелкие, слегка смещенные с мест своего первоначального залегания и позднее эродированные блоки. Лишь Чонский блок палеозойских осадочных толщ не претерпел сколько-нибудь существенных тектонических дислокаций и переработки. Здесь внедрились лишь редкие и маломощные дайки долеритов, да возник вулкан Туой-Хая. Вблизи его давно остывшего жерла расположился (впоследствии затопленный Вилюйским водохранилищем) одноименный поселок, а на вершине вулканической сопки — существующая и поныне метеостанция.
Окаймляющие долину холмы со всех сторон защищали Чонскую долину от холодных пронизывающих ветров, причем достаточно для того, чтобы хоть как-то предохранить растительность долины от наступлений сурового севера. Может быть, благодаря именно этой защите в долине сохранились реликтовые виды растительности, исчезнувшие на всей прилегающей территории Якутии. А разнообразие реликтовой растительности в долине было удивительным.
Рассказывают, что незадолго перед заполнением Вилюйского водохранилища в районе Туой-Хая работала какая-то ботаническая экспедиция Академии наук. Такая практика существовала при строительстве гидростанций: изучать то, что вот-вот будет уничтожено и что спасти уже нельзя. По слухам, руководитель экспедиции, женщина-ботаник, буквально плакала, покидая Туой-Хая. Только вблизи этого поселка она насчитала более двадцати растений-эндемиков, которые нигде, кроме как в долине реки Чоны, ни в Якутии, ни где-либо в других приполярных районах планеты не встречались. А сколько, надо полагать, было там всякой живности из насекомых и водоплавающих, о которых научный мир не шал и которые тоже могли быть эндемичными, в природе неповторимыми. А теперь весь этот оригинальный комплекс живых существ и растительности — на дне Вилюйского моря.
Мне посчастливилось увидеть долину до ее подтопления. На ровном днище Чонской долины было много больших и малых озер, вокруг которых располагались прекрасные покосные угодья. Трава по пояс. Единственный в долине поселок Туой-Хая был невелик, жители держали скот лишь для своих потребностей, использовали едва ли не десятую часть потенциальных сенокосных угодий. В принципе долина могла прокормить гораздо большее количество скота и обеспечить молоком и мясом город Мирный, да и другие города алмазодобытчиков.
В ряде мест долины, особенно на обширных террасах палеорусла реки, произрастали великолепные смешанные леса, как в средней полосе России: еловник и сосняк, береза и осина, ольха и черемуха. Строительный сосновый лес занимал обширные площади. Даурская лиственница — главное дерево местных лесов, обычно низкорослое и скрюченное ветрами, в долине Чоны достигала строительных размеров. По берегам Чоны и ее притоков встречались целые заросли черной смородины — не частой гостьи в якутской тайге на таких широтах.
По озерам Чонской долины кормилось множество дичи. Последний житель приустьевого наслега, пожилой якут, угощавший нас дичью в августе месяце, когда наш отряд спускался по Чоне (еще до ее подтопления) и останавливался у него, стрелял уток на ближнем озере только тогда, когда под выстрел попадало не менее двух штук. Как-то мы услышали два выстрела, и он принес шесть убитых уток. Таким образом он экономил заряды, но и уток было великое множество.
В озерах водилась масса карасей. Причем в отдельных водоемах встречались экземпляры весом до 3—4 килограммов. А сама Чона по рыбным запасам не имела себе равных среди притоков Вилюя. Особенно многочисленной была популяция ельца. Прямо около поселка Туой-Хая жители забрасывали множество мордушек и каждый налавливал ельца сколько хотел — хватало и на еду, и на продажу в г. Мирный. Самолеты Ан-2 еженедельно уходили из поселка, загруженные рыбой под завязку. Местами на прижимах реки с быстрым течением елец стоял такой плотной массой, что светлое известняковое дно реки смотрелось с лодки черным: множество ельцов стояло впритирку один к другому, затемняя дно.
Естественно, при таком обилии рыбной мелочи в реке жировали и хищные рыбы: таймени, ленки, щуки, налимы, крупные сиги. Обилие рыбы объяснялось богатой кормовой базой в илистых отложениях многочисленных плесов с одной стороны и насыщенностью воды микроэлементами из размываемых рекой вулканических толщ в ее верхнем течении с другой.
Как уже говорилось, долина реки Чоны не была еще в полной мере освоена человеком. Ее природные богатства и возможности животноводства и земледелия не были в должной мере использованы коренным населением и теперь уже утрачены навсегда.
Как и в других местах России, гигантизм в гидростроительстве привел к невосполнимой потере природных богатств. Огромные пространства затопленных плодородных земель на Волге и Днепре, миллионы кубометров не вырубленных перед затоплением строительных лесов на Ангаре и Вилюе, утрата природной жемчужины — Чонской долины — все это звенья одной цепи: необдуманного варварского отношения человека к природе.
Конечно, электроэнергия для добытчиков алмазов была нужна, и ГЭС на Вилюе сослужила свою службу: обеспечила энергией добычные карьеры, обогатительные фабрики, жилые города и поселки алмазодобытчиков. Несут они свою вахту и сейчас. Но обидно сознавать, что сверхмощная гидростанция на Вилюе с высоченной плотиной не так уж и была нужна. Гораздо разумнее, экономичнее и быстрее было строить средней мощности ГЭС на притоках Вилюя, что не привело бы к затоплению столь обширной территории. На той же Чоне можно было построить гидростанцию в природном ущелье в десяти километрах выше поселка Туой-Хая, и уникальная долина Чоны была бы спасена.
Подобные же гидростанции, построенные в устье реки Ахтаранда, в устье Улахан-Вавы, по Большой Ботуобии в 17 километрах выше устья, дали бы в совокупности достаточное количество электроэнергии для алмазодобытчиков и избавили бы от необходимости перекрывать реку Вилюй, чтобы построить столь губительное для природы огромное водохранилище.
Именно таким образом используются гидроресурсы в Америке, Канаде, в других странах. На реке Теннесси, к примеру, соизмеримой по длине с рекой Вилюй, к восьмидесятым годам прошлого столетия было построено более сорока электростанций, но нет ни одной плотины, которая бы перекрывала главное русло реки. Все ГЭС расположены на притоках Теннесси. Поэтому при огромном съеме гидроэнергии с комплекса ГЭС природа в бассейне этой реки сохранилась почти в первозданном виде. Вода в сравнительно неглубоких водохранилищах не загнивает, не насыщается сероводородом и фенольными смолами. И рыба в таких водоемах не гибнет, как в Вилюйском море, дно которого близ плотины, по свидетельству водолазов, буквально устлано разлагающейся рыбой. В Чонском заливе, как и по всему водохранилищу, рыба может существовать тоже лишь в верхних слоях воды, на подпоре впадающих в него речек и на мелководье. Но это не та рыба, которая водилась когда-то в Чоне, а плотва, сорога, окуни, большей частью зараженные глистами.
Загубленная Чонская долина должна быть очередной зарубкой в памяти народа — так поступать с природой нельзя.
ТОЛСТОЙ И СТОЛЫПИН
Из письма к другу
Артур Генрихович! Мне не дает покоя твоя критическая реплика в адрес сборника моих сочинений. И я хочу высказать свои соображения по этому поводу. С тем, что я напрасно включил в сборник «Письма без ответа», я полностью согласен. Не место им там. Но с тем, что я «не должен сметь свое суждение иметь» по земельному вопросу, я категорически не согласен.
Конечно, Лев Толстой был великий человек, в том нет сомнений. Но чтобы он знал и прочувствовал крестьянский труд лучше моего, прошу извинить. Как граф он видел его со стороны. И если когда-то подержался за ручки плуга, то это не значит, что он в совершенстве познал сельское хозяйство. Он не испытал нелёгкий труд крестьянина на своём горбу. Не кормил свою многодетную семью с трёх десятин земли, уплачивая при этом немалые подати.
Я же вырос в деревне и трудился в поте лица, как равноправный колхозник, с десяти лет. Кроме пахоты, тяжкой для подростка, я делал всю прочую колхозную работу: косил, силосовал, метал стога, жал, боронил, полол сорняки, окучивал картошку (на колхозных полях и в своем огороде), возился с лошадьми. За лето я зарабатывал по 150—200 трудодней (при норме для взрослого 300 трудодней в год). Крестьянскую жизнь я видел изнутри, а не из писательского кресла. На моих глазах чахли колхозы, вырождалась земля, разрушались веками создаваемые крестьянские дворы, пустели деревни, голодал и разбегался народ.
Мог ли подобное лицезреть граф Толстой? Он мог видеть из своей Ясной Поляны лишь относительно благополучные сельские общины в ближайших селах. И он горой стоял за общину! Как великий гуманист он не принимал сердцем расслоения общины на более богатых и бедных. И считал, по-видимому, совершенно справедливым эпизодическое перераспределение пахотной земли внутри общины, что практиковалось повсеместно. Он не любил богатеев в деревне. Ему больше по душе был мужик типа «Калиныч», а не типа «Хорь». Вопрос, как накормить и сделать богатым весь народ Российской империи, его, вероятно, не очень интересовал. В отличие от Столыпина, руководящая идея которого состояла в том, чтобы отдать максимум земли таким, как Хорь, потому что с такими людьми, как Калиныч, государство не разбогатеет. И земля, по мнению Столыпина, должна отдаваться в долгосрочное, а ещё лучше в постоянное пользование. Только тогда предприимчивый Хорь будет работать на ней в полную силу. Но Столыпин начал не с разрушения крестьянской общины (это было ему не под силу, ведь не один Лев Толстой был ее защитником), а лишь с некоторого ограничения её прав на землю. Более трудолюбивые крестьяне наделялись землей на «отрубах»: пустующих неплодородных участках, на давно не возделываемых брошенных «новинах», в болотистых местах, на опушках лесов. Словом, он считал правильным перераспределять только земли, не используемые общиной как пахотные.
При огромных российских просторах это было безболезненно для общины и практически возможно в центре и на севере России. Тем более, что на отруба селились крестьяне из тех же общин, оставляя свой пай земли в пользу остающихся в общине.
И вот, на отрубах происходили чудеса. Во всяком случае — в наших местах: на юге Архангельской и по северу Вологодской области. За считанные годы заброшенные земли превращались в плодородные, возникали усадьбы, строились мельницы, множился скот. В нашем небольшом местечке, где у общины было всего около тысячи гектаров пахотной земли, на «отрубах» возникло 7 пли 8 обустроенных крестьянских хозяйств, с жилыми домами, гумнами и прочими хозяйственными сооружениями, построены мельницы (а это очень тяжёлый труд — строительство водяных мельниц; община не могла или не хотела их строить). Все это стало возможным только потому, что земля на отрубах отдавалась крестьянам в бессрочное пользование.
Конечно, негуманно, несправедливо, когда одни крестьяне имеют много земли, другие мало. Но почему Хорь должен иметь столько же земли, сколько Калиныч? Если первый её делает плодородной, полностью засевает, снимает хорошие урожаи, второй же бездельничает, губит землю, а если и работает на земле, то спустя рукава. Какая от него польза обществу?
Разумеется, вопрос о земле не так прост, как я затронул его в своем письме. В нём масса оттенков и сложностей. Но через всю историю развития земледелия на севере и в средней полосе России проходит забота правителей (князей, бояр, царей, помещиков), как заставить крестьянина эффективно обрабатывать землю (читай об этом у Ключевского). Во все времена крестьянин не очень охотно возделывал землю, по возможности от этого дела увиливая. А если не удавалось это сделать (перебежать к другому землевладельцу), то хитрил, не очень тщательно ухаживая за землёй. И все потому, что земля была не его собственностью.
Схема освоения российской земли в общих чертах такова. Вырубался и корчевался лес. Вся органика на вырубленном пространстве сжигалась. Потом земля слегка взрыхлялась (лопатой, киркой, сохой или плугом) и засевалась льном, рожью, ячменем. «Новина», как называли подобную вырубку в лесу, использовалась три или четыре года, пока снимался отменный урожай без каких-либо удобрений. Плодородие почвы, естественно, быстро падало и крестьянин без жалости забрасывал эту «новину» и осваивал новые участки леса. Продвижение земледелия на север происходило именно по такой схеме. Крестьянин не был заинтересован оседать на земле, и одна из причин этого — отсутствие его права на владение землей. Он был лишь временный работник, арендатор.
Но владельцев земли не устраивало, что частично возделанная земля оставалась брошенной. Они разными способами пытались задержать крестьянина, заставить его работать на этой земле. Разрешали уходить с земли только после сбора урожая (в Юрьев день, к примеру) или создавали другие препятствия (как говорил поэт: «силой иль обманом, лишь бы справиться с Иваном»). Потом появилось крепостное право. Не от хорошей жизни оно родилось, а чтобы крестьянин не бегал туда-сюда, не бросал землю, а намертво прикреплялся к ней. Он уже не мог просто так уйти со своего участка, а должен был на нем трудиться, чтобы обеспечить семью хлебом, не голодать. Тогда уж ему поневоле приходилось заботиться о плодородии земли: унаваживать ее, чередовать посевы зерновых с горохом, льном, коноплей, то есть культивировать землю. Хотя подневольный, по сути рабский труд крепостного был малоэффективен (как об этом много шумели философы-марксисты), но всё же это был шаг вперед по сравнению с хищнической неуправляемой практикой использования целинной земли.
Труд закрепощённого работника неэффективен, это всем известно. Но вот что удивительно: помещичье владение землей в целом можно считать прогрессивным. По России было множество богатых помещичьих хозяйств, где земли приносили высокий доход, и крепостные при них не бедствовали (к примеру, живые души у Собакевича). А через какое-то время после 1861 года, когда помещики оправились от шока и стали всерьез заниматься оставшейся у них землей, отдача от неё резко повысилась. Этому способствовало и то обстоятельство, что на их земле работали уже не крепостные, а свободные люди. По найму, с приличной оплатой за труд. В начале двадцатого века помещики владели 15—20 процентами пахотной земли по европейской части России, а давали 40— 45 процентов в общем объеме производимой сельхозпродукции.
Собственно, кто такие были русские помещики? Это почти что фермеры американского типа, пытавшиеся извлечь из земли максимум, на что она способна. Они заботились о ней, не допускали её истощения, внедряли прогрессивную европейскую технологию обработки земли. Рекордные урожаи, похлеще американских, нередко снимались и в России на помещичьих землях.
Но помещичьи угодья, как уже было сказано, занимали небольшую часть территории западной России. На остальной же хозяйничала община или единоличники-частники, владевшие небольшими клочками земли на правах долгосрочной аренды у государства. Лишь в Сибири и на Дальнем Востоке большие участки земли отымались в частное пользование. Результаты известны: община кувыркалась в вечных недоимках, едва обеспечивая пропитанием самоё себя, а Сибирь за несколько десятилетий стала богатейшей провинцией России. Свободный труд на своей земле дал ожидаемый результат.
Таковы факты по России. Они полностью отвечают мировой практике: там, где узаконена частная собственность на землю, государства богатеют, народ становится зажиточным, никаких катаклизмов (бунтов, революций) не происходит. Где земля в общем пользовании — там нищета, голод, передряги, революции и ...тирания.
Один из философов-утопистов (может быть, Энгельс — утопист наихудшего толка) как-то сказал, что величайшим преступником в истории человечества является тот, кто первый забил в землю кол и сказал: «Это моё». В недавнем прошлом все мы наивно полагали, что это непреложная истина, что земля создана для всех и все должны быть её хозяевами.
Но оглянись и посмотри, что творится с природой в тех местах и странах, где этот кол убрали. Бардак творится! Человек гадит вокруг себя, как неразумное существо, куда хуже обезьяны. Если Бог создавал человека по образу и подобию своему, то почему оказалось у человека столько скотских привычек. Если же человека создавала слепая природа, тогда все понятно. Но почему ему может быть позволено все, в том числе и возможность свинячить вокруг себя. Наш пресловутый «развитой социализм» можно было сравнить только с общественной уборной, в которой вес гадят, но никто не убирает. Согласись, что это так. Оказывается, что и природу лучше защитить может только частник, единоличник, а не безликое общество в целом. В Европе и в Америке лучше всего сохраняются леса, ландшафты, разные памятники природы, если они отданы в частное владение (с каким-то контролем государства, конечно, за их сохранностью).
Марксисты-социалисты, создавая свою гипотезу о совершенном и справедливом мире, отчётливо понимали, что с реально существующим человеком коммунизм не построишь. Для этой цели надо воспитать совершенно нового человека. Какого-то гомункулуса, который бы заботился о благе других больше, чем о собственном благополучии. А всех прочих со старым мышлением и с вредными частнособственническими привычками лучше всего было бы уничтожить (Бухарин и пр.). В чём Сталин и преуспел, прижав заодно к ногтю и самих творцов этой дикой идеи.
Конечно, это были утописты, не понимавшие или не хотевшие понимать, что нельзя природу человека переделать в историческое одночасье. Человек в своём развитии недалеко еще ушел от зверя. Чтобы вырастить такого, который бы соблюдал все заповеди Христовы (или кодекс коммунистов, что почти то же самое), потребуется немало поколений. Если это вообще возможно. Чтобы любовь к ближнему была у него в генах, а не пришита наспех иглой пропаганды к голому телу.
А если нельзя за короткий срок воспитать идеального человека, то надо обычному человеку, со всеми присущими ему природными недостатками, дать возможность приносить максимальную пользу обществу. Надо оградить его от тех, кто меньше приносит пользы или вообще тунеядствует. Институт частной собственности на землю и на средства производства и есть тот самый инструмент, который позволяет это сделать. Колья и заборы, ограждающие клочок земли для трудолюбивого человека, есть величайшее благо человечества. Трудолюбивый человек и семью свою обеспечит, и много убогих и не способных трудиться прокормит.
* * *
Вернемся к общине, к дикому ее проявлению в двадцатом веке — к колхозам. Один умный и наблюдательный человек сказал однажды (Рерих как будто): «из всех насилий самое преступное и уродливое зрелище являет собой насильственная коммуна». Тот, кто знал колхозы изнутри, тот не может с этим не согласиться.
Надеюсь, ты не будешь оспаривать, что я имею право говорить о колхозах более, чем кто-либо из отвлеченных философов — сторонников коллективного труда на общей (или ничейной, что одно и то же) земле. Я видел колхозную жизнь с того времени, когда она только начиналась , и наблюдаю ее сейчас, когда она с позором закончилась. Когда-то в юности я считал её самой разумной и справедливой (и в споре на сей предмет с одним бывшим зеком чуть не подрался), но сейчас, после многих размышлений, я считаю её преступлением перед российским народом. Колхоз — наихудшая форма общины, дичайшее ее проявление. Чтобы не быть голословным, перечислю, чем в основных чертах колхоз отличался от общины:
— в общине все решения по ведению хозяйства принимались коллегиально. В том числе перераспределение наделов производилось советом старейшин или наиболее активных членов общины ( хоть и не без конфликтов, конечно). В колхозе решения даже по мелочам принимал председатель, с чисто формальным участием правления и собрания колхозников, а по всем серьезным вопросам — райком, обком или кремлевские теоретики;
— что сеять, что сажать, когда сеять и когда собирать урожай в общине решал хозяин надела, сообразуясь с собственным разумением, с опытом поколений, с возможностями сбыта излишков продукции, чтобы заплатить подати. В колхозе всё делалось по приказам сверху. Даже когда сеять и когда собирать урожай. А уж что сеять и что сажать — не думай, а выполняй рекомендации «народною академика» Лысенко или указания самого генсека Хрущева. А если не уродилось или в срок не собрано, то виноват, понятное дело, колхозник;
— в общине худо-бедно, но даже при низких урожаях крестьянин мог кормить свою семью, зачастую многодетную. А трудолюбивый и умный (Хорь) мог иметь и определенный достаток. В колхозе же становились нищими все, даже председатель и счетовод, если они не воровали. У крестьянина не только отнимали все, что он вырастил на колхозном поле, но большей частью и то, что он с непосильным трудом заимел в своем личном хозяйстве: молоко от коровы, яйца от кур, мясо, шерсть и шкуру от овцы. Колхознику полагались разве что рога и копыта. Причем колхоз ничем крестьянину в личном хозяйстве не помогал, даже наоборот — запрещал косить на колхозных угодьях. Колхознику негде было заготовить корм для своей скотины;
— крестьянин в общине не воровал; воровство испокон веку считалось на деревне тягчайшим преступлением. В колхозе стали воровать все. Кладовщик, председатель, счетовод хапали по должности, олхозник по мелочам: в рукавичке зерна с тока, колоски с поля, молоко от колхозной коровы. Честно прожить было нельзя, нравственность вырождалась. С одичанием народа мы и имеем дело сейчас;
— человек из общины мог выйти всегда, в любое время года (и не только в Юрьев день, как в старину). Человек из колхоза уйти никуда не мог, у него не было паспорта. То есть его труд был в полной мере подневольным, как при крепостном праве, со всеми вытекающими отсюда последствиями;
— о земле и говорить нечего. В общине урожайность земли хоть и на невысоком уровне, но поддерживалась. Крестьянин не мог не удобрять её или небрежно обрабатывать. Соседи рядом, перед ними было бы стыдно. В колхозе с землей обращались варварски. Она пахалась кое-как: неглубоко или, наоборот, со вскрытием подзола, с огромными кулигами целика и в середине и по краям полей, с прочими огрехами, недопустимыми хоть в частном хозяйстве, хоть в общине. Стороннему трактористу из МТС было наплевать на качество пахоты, он получал за гектар. Поля не удобрялись, хотя около колхозных скотных дворов скапливались горы навоза. Его не на чем было на поля вывозить. Купленные (навязанные сверху) химические удобрения валялись в мешках по краям полей или на обочинах дорог; их некому было по пахоте раскидать. До сих пор миллионы тонн не внесённых в почву удобрений гниют по России в кучах около дорог или по берегам рек, отравляя воду и все живое в прилегающих лесах.
В результате колхозного («все вокруг колхозное, все вокруг мое!») землепользования сельское хозяйство в России было полностью разорено. Вот один лишь пример, который я вроде бы приводил в письме к Белову и о нем уже упоминал.
В нашем местечке Косково на севере Вологодской области в конце двадцатых годов прошлого (уже) века было 11 деревень по 20—40 дворов. Обитало в местечке, считай, 350—400 семей, в каждой по меньшей мере двое-трое детей. То есть жило в местечке около двух тысяч человек. В каждом дворе была корова, нетель, овцы, свиньи, козы. Не все, но по крайне мере половина хозяйств имела лошадей. Пахотной земли под зерновые насчитывалось до тысячи гектаров, не считая многих десятков «новин» в ближайших лесах. По берегам протекавшей через местечко реки Пежма и по её притокам были луга и расчищенные от кустарника покосы — пожни. Считай, две тысячи человек кормились на этой земле, платили налоги и часть продукции своего хозяйства — лён, зерно, масло, мясо, шкуры — поставляли на рынок в ближайшие города.
Что осталось в местечке к 90-му году, т. е. к началу перестройки? Осталось всего 6 деревень, в трех из которых по три-четыре дома. В трех остальных деревнях близ бывшего погоста живёт всего лишь около полутораста человек. Коров держат три-четыре десятка хозяйств. Школа закрыта. Да она и не нужна; в первый класс истекшего года должен был идти один только пацан (в конце тридцатых годов перед войной в первый класс набивалось до 35 — 40 учеников).
Пахотной земли в местечке осталось всего ничего, под зерновые же не используется ни один гектар. Лишь многолетние травы да клевера произрастают на некогда относительно плодородных землях, на которых худо-бедно, но в общине собиралось по 12—15 центнеров с гектара. Прочие же земли заросли лесом, кустарником, камнями, которые многие годы никто не собирал. Поднимать заново эти земли чрезвычайно трудно, запустить технику на них нельзя. Поэтому в фермеры здесь не идут даже местные полуголодные обитатели. А уж капиталисты скупать вологодские земли и вовсе не собираются.
Таков конечный результат коллективного владения землей в системе колхозов. И таких вот местечек по северу и центральной полосе России, да и по Сибири, где все частники тоже были загнаны в колхозы, десятки, если не сотни тысяч. И все это, если смотреть в корень, результат отчуждения собственника от земли, результат попытки коллективной обработки земли. Когда сейчас мордастый аграрий орёт в телевизор, что демократы загубили сельское хозяйство, разогнав колхозы, то он врёт дважды. Угробили сельское хозяйство известные деятели коммунистического толка задолго до того, как пришли к власти демократы. А колхозы никто но разгонял, они развалились сами, как совершенно неестественная принудительная форма организации труда на земле.
Что бы сказал на это все Лев Толстой, если бы он на время воскрес и увидел колхозы воочию? Думаю, что он бы не стал защитить общину в этом крайнем и кошмарном ее проявлении.
Конечно, повторяю, вопрос о земле — сложный вопрос. Земельные законы в странах, где на одного едока есть несколько гектаров пахотных угодий, могут, естественно, отличаться от таковых в странах, где на один гектар насчитывается несколько ртов. Я не смею судить о земельном вопросе в Индии, Англии, Японии и в других густонаселённых странах. Но что удивительно: и в таких с странах существует частная собственность на землю. Не только на просторах Канады, Америки, Австралии. Значит, и перенаселённые государства считают частное владение землей более рентабельным.
А где бы ни дублировался наш печальный опыт с коллективной собственностью на землю (страны Восточной Европы, Эфиопии, Куба, Северная Корея), везде он приводил к упадку земледелия, к обнищанию народа, а иногда и к повсеместному голоду. Так разве это не доказательство преимущества земледелия, основанного на частной собственности?
Опять же не будем говорить об исключениях. Сообща (товариществами) могли обрабатывать землю мормоны, «толстовцы», монастырская братия, последователи различных сект. Да и в некоторых колхозах с толковыми и честными председателями получались неплохие урожаи. И колхозники немало зарабатывали, когда были отменены грабительские госпоставки. Все это так. Но исключения только подтверждают правило: принудительный коллективный труд противен человеческой природе вообще, а принудительный труд на земле в особенности. И никакая марксистко-ленинская философия человеческую природу не исправит.
Выдвигая лозунг «Земля крестьянам» Ленин, наверное, прекрасно это понимал. Поэтому и отстоял от ортодоксов НЭП. За очень короткое время без всякой поддержки государства (удобрениями, семенами, машинами, агрономией) деревня после многолетней разрухи встала на ноги. И именно потому, что землю крестьянин стал считать своей. Кульбит коммунистов с обобществлением земли в конце 20-х годов испортил всю обедню. Загнать крестьян в колхозы было чудовищной нелепостью, да ещё на столь длительный срок.
Пытаясь оправдать необходимость коллективизации, защитники колхозов ссылаются на нехватку зерна в конце 20-х годов. Дескать, единоличник его производил мало. Но это неправда! Зерно у крестьян было, но они не хотели его просто так отдавать. А промышленность не могла им ничего предложить взамен. Возрождённые заводы и фабрики производили только оружие, сталь для оружия и все прочее для оружия. Надо же было готовиться к мировой революции! Инерция такова, что мы до сих пор готовим и продаем только оружие. А тысячи предметов обихода (телевизоры, фотоаппараты, обувь, одежду, мебель и т. д., и т. п.) покупаем за границей, не наладив их производство в стране. А зерно у своих производителей вымениваем опять же на то, что приобретаем на нефть, золото и алмазы за рубежом.
Возвращаясь к началу сего пространного трактата, смею утверждать, что в земельном вопросе прав был Столыпин, а не Лев Толстой. И по этому вопросу я имею свое выношенное, а не заимствованное у каких-либо теоретиков заграничного или отечественного толка мнение. Тот, кто забил в землю кол и сказал: «Это моё», — тот благодетель человечества, а не преступник.
ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ХРИСТОС
Где-то в середине 70-х годов, прогуливаясь по Якутску, мы (Гоша Балакшин, Юра Усов, Будимир Андреев и я) встретили Валерия Васильевича Черныха, нашего старого знакомого и хорошего человека. Незадолго до этого мы узнали, что он живет в одном доме с настоятелем церкви (Якутской и Олекминской, как она тогда называлась). Нас это заинтересовало: появилась возможность познакомиться и потолковать со служителем церкви. Ранее мы, атеисты, такой возможности не имели, и любопытство нас распирало.
Мы напросились к Валере в гости и намекнули, что неплохо бы встретиться с настоятелем церкви. Он заверил, что встречу с батюшкой организует на должном уровне, но спиртное за нами (в то время в Якутске свирепствовал сухой закон). В назначенное время мы явились к нему с пузатыми портфелями, набитыми бутылками. Валера действительно арендовал половину двухквартирного дома у церкви. Финансовые дела ее были, по-видимому, совсем неважны, коль скоро приходилось сдавать в аренду даже полдома настоятеля.
Валера сходил на половину к настоятелю и привел его. Батюшка оказался сухоньким старичком весьма преклонного возраста, далеко за семьдесят. Когда знакомились, он назвал себя и упомянул национальность. «Я поляк, — сказал он (с ударением на первом слоге), но православного вероисповедания». В беседе с ним выяснилось, что он закончил духовную православную академию в Варшаве еще до первой мировой войны (оказывается, и такие были в Польше), а потом долгое время был настоятелем православной церкви в Варшаве.
С началом второй мировой войны для него все изменилось. Когда пришли немцы, то гестаповцы посадили его на два года в концлагерь. Потом пришли русские освободители и «освободили его на 11 лет в Норильск. Оттуда он время от времени напоминал церковным властям о своем существовании и просил дать ему работу. Одно из писем оказало действие: церковные власти предложили ему возглавить приход Якутской и Олекминской церкви. С того времени он безвыездно жил в Якутске. Любопытно, что ссылая его в Норильск, карательные органы не предъявляли ему никаких обвинений. И освобождали его так же, без излишних церемоний и бумаг.
Рассказывал о своей биографии он, казалось, охотно, притом без какого-либо озлобления на власти предержащие. Хотя несправедливость в обращении с ним была вопиющей. Он говорил, что так, видно, Господу было угодно.
Рассказывал он о своем оставшемся в Варшаве семействе. У него были два сына и дочь. Сыновья его пошли по стопам отца и стали церковнослужителями. Они эмигрировали в Канаду и в семидесятые годы были уже преуспевающими настоятелями православных церквей. Они приезжали в Якутск и хотели забрать отца к себе. Но он отказался. Нам он объяснял это так: «Зачем я к ним поеду? У них там семьи, дети, своих забот хватает. Я буду им просто в тягость. А здесь я уже привык, и прихожане ко мне привыкли. Здесь я более угоден Господу. Лучше уж я здесь и помру».
Такое вот самопожертвование. Живя в бедности, в труднейших условиях Якутии, он так и не поехал к богатым сыновьям. Умер и похоронен в Якутске.
Мы беседовали с ним долго. Настоятель рассказывал нам о канонах православной церкви (мы ведь очень мало знали о ней), о различиях между православной и католической религиями, об униатской церкви, об истории христианской религии. Историю церкви он знал, по-видимому, основательно. Рассказывал о различных верованиях беспристрастно, не осуждая другие религии, не возвеличивая свою веру. Говорил очень спокойно, тихим голосом, без эмоций, не выражая озлобления действиями гонителей христианства.
По ходу разговора зашла речь о расколе православной церкви. Поступив не совсем корректно, я процитировал басню Феликса Кривина о протопопе Аввакуме. По памяти вот она:
Перед патриархами Всея Руси стоял маленький протопоп и упрямо повторял:
— Помоги, Господи Исусе!
— Не Исусе, а Иисусе, — поправляли его. Хотя буква «и» и отмерла, но в делах веры сильна именно мертвая буква.
— Помоги, Господи Исусе, — упрямо повторял протопоп. — На чем стояли, на том и стоять будем!
В этом-то он и ошибался. Очень скоро он стоял уже на холодной сибирской земле, а потом пошел скитаться из острога в острог, гонимый верою, а пуще церковной службой.
В мире пылало много костров. За науку сожгли Джордано Бруно, за свободу сгорел Ян Гус.
А упрямый мученик, протопоп Аввакум, сгорел за мертвую букву.
В этой басне Феликс Кривин, конечно, не был объективен и принизил значение Аввакума в истории православной церкви. Протопоп не был упрямым одиночкой, за ним стояло множество верующих, не желавших мириться с нововведениями патриарха Никона, с исправлениями в старопечатных книгах, с роскошью обрядов в православных храмах и богатством церковной верхушки. Протопоп Аввакум был лидером и знаменем старообрядцев.
Настоятель из-за своего возраста был немного глуховат. И он, не расслышав, понял так, что в этом сочинении протопоп Аввакум восхваляется. И тут произошло нечто неожиданное. Тихий спокойный старик на наших глазах превратился в разъяренного тигра. Он рвал и метал! Изрекая при этом: «Протопоп Аввакум — это исчадье ада, это посланец дьявола! Он расколол русскую православную церковь и за это был наказан Господом. Его учение Господь разбил на тысячи сект; он карал и будет карать отступников православной церкви до скончания века!»
Нам не сразу стала понятна его ярость. Лишь позднее, поразмыслив, мы пришли к выводу, что раскольники и разного рода сектанты были серьезными конкурентами церкви в борьбе за души людей. В Якутске, в Олекминске, в Усть-Нере и в других поселках, особенно там, где были лагеря, развелось множество сект, которые отбирали у него паству. Раскольников в Якутии было едва ли не больше, чем православных прихожан. Нам неудобно было спрашивать о финансовом положении его прихода, но, вероятно, оно было не блестящим. Возможно, отчасти этим объяснялся его гнев и возмущение раскольниками.
Любопытно, что батюшка вроде бы не держал никакой обиды па власти предержащие, сделавшие ему столько зла, ни на гестаповцев, ни на гепеушников. Видимо, он искренне считал, что «всякий власть от Бога». Но при упоминании о раскольниках он прямо-таки вызверился, считая их отродьем дьявола.
Насколько возможно, мы успокоили его, объяснив, что баснописец вовсе не одобряет протопопа Аввакума, а, наоборот, порицает его. Старец долго еще кипел внутри и ворчал на протопопа, пока не пришел в себя.
В ходе общения поняли, что настоятель вовсе не лишен честолюбия и человеческих слабостей. В промежутке между «чаепитием» он увел нас на свою половину дома, и там похвалился вторым дипломом о высшем образовании — дипломом ветеринарного врача, который он тоже получил до второй мировой войны. Вероятно, положение священнослужителя вовсе не мешало ему лечить животных.
Помимо дипломов, он показал нам богатые подарки, которые привезли ему сыновья из Канады и которые жертвовали ему прихожане. Запомнился массивный золотой крест с резной фигуркой Спасителя.
«Чаевничали» мы у Валерия Черныха долго, расходились, наверное, далеко за полночь. Изрядно выпили, но не чересчур. Настоятель тоже прикладывался к рюмке, выпивая треть ее или просто пригубляя. Он говорил, что православной церковью пить вино не возбраняется, если оно в меру, в престольные праздники и по иным дням. Церковное причастие — ведь тоже вино. И Христос его употреблял.
В разговоре о религии сколь-либо серьезного спора о христианской и коммунистической вере не возникало. Ибо мы заранее договорились эту тему не затрагивать. Но к концу застолья, когда батюшка слегка захмелел, он сам стал поругивать коммунистов. Дескать, коммунисты нарушили христову заповедь «не убий», да и кодекс коммунистической морали — это лицемерие. Ну и так далее. Мы не очень активно возражали, поскольку злить батюшку больше не решались. В его лице мы по сути впервые встретились за столом с глубоко верующим человеком.
Когда мы прощались, батюшка, продолжая нападать на коммунистов, произнес знаменательную фразу: «Вашей вере пятьдесят лет, а за моей спиной тысячелетний Христос!» Время показало, что так оно и есть: наша вера не выдержала испытания временем. А христианская вера возрождается и крепнет.
УМИРАНИЕ ДЕРЕВНИ
Умирание Вологодской деревни началось, по-видимому, с начала коллективизации. С раскулачивания и отселения наиболее трудоспособных и рачительных хозяев, с отъёма от владельцев наделов земли, сельхозинвентаря, лошадей и последующего внедрения насильственного труда на отчуждённой земле. Это были печально знаменитые годы «Великого перелома», переломившего в прямом смысле хребет российскому земледельцу.
Мне, подростку рождения 1931 года, родная деревня и ее окрестности, то есть соседние деревни и все наше местечко Косково, именовавшееся когда-то сельским советом, запомнилось с 38—39-го года, когда память моя окрепла и могла запечатлеть то, что происходило вокруг в довоенные и военные годы. Конечно, в памяти откладываются только выборочные фрагменты бывших в действительности многообразных событий.
Итак, о печальной участи моей родной деревни и соседних деревень в нашем местечке по речке Пежма, притоке известной реки Ваги, формирующей в верховьях Северную Двину. В 38-м году было в деревне тридцать домов, не считая двух недостроенных (срубов) да двух-трех развалюх, где доживали свой век одинокие старухи. Два дома из тридцати незадолго до этого покинули раскулаченные хозяева. Эти дома долго никто не трогал, не заселял. Лишь мы, мальчишки, время от времени мародерствовали по комнатам и чердакам, проникая в дома через заколоченные двери и окна. Нас интересовали главным образом старые книги и журналы. Хотя в крестьянских домах той поры книги были большой редкостью, но кое-что мы все же находили («Сонник», к примеру, и подшивку Нивы»; все же это были не бедняцкие дома, а дома зажиточных хозяев).
На отшибе, в пятидесяти-ста метрах от жилых домов деревни, стояли гумна с овинами. Их насчитывалось до десятка. Гумна назывались по имени конкретных хозяев: скажем, Гришино гумно, Мызино гумно и т. д., но все они были уже колхозными и не принадлежали старым владельцам. Несколько гумен, четыре или пять, были свезены в одно место и из них построено общее колхозное гумно, с общим овином и конной молотилкой. Внутри гумна складировались и досушивались в овине снопы хлеба, связки льна, находились собственно молотилка, веялки и разный прочий инвентарь для обмолота снопов, просушки и очистки зерна, разминался от непогоды и кое-какой прочий колхозный скарб. Общее гумно содержалось в порядке, крыша эпизодически перекрывалась, на воротах держались крепкие запоры (чтобы голодные крестьяне не воровали зерно).
Из части гумен был построен колхозный скотный двор, общий для трех деревень колхоза «Борьба за новую жизнь». В нём содержалось приличное стадо коров, телят, нетелей. Скотный двор держался долго, даже после того, когда колхоз уже начал разваливаться. Когда прекратилось сенокошение на лугах, когда пахотные земли запустошились, молочное животноводство ещё держалось на плану.
Остальные гумна вблизи деревни не использовались ни для каких хозяйственных целей. Разве что в некоторых укрывался от дождя и снега разный крестьянский инвентарь — телеги, дровни, бороны, плуги, конные грабли. Но с годами, когда стали протекать и рушиться крыши, хранить что-либо в гумнах стало бессмысленным. Да и бывшим владельцам инвентаря стало уже наплевать на не свое имущество. Не последними разрушителями хозяйственного инвентаря, были и мы, мальчишки. Нас интересовали металлические ободья и втулки колес. Немало усилий приходилось тратить, чтобы их сбить с деревянной основы. Крепко, хоть и без гвоздей, насаживали их доколхозные кузнецы. А железные ободья были нам надобны в качестве колец, чтобы взапуски катать их по деревне. И прутья от конных грабель были нам потребны в мальчишеском хозяйстве. Из разогнутого грабельного прута получались отличные тросточки. А если на конец этой тросточки еще насадить две-три гаечки, то лучшего орудия в драке было трудно придумать: от одного удара мальчишеской руки даже во взрослой черепушке могла образоваться дырка. И самое печальное, что в престольные праздники иногда эти тросточки пускались в ход.
Второй после коллективизации удар по нашим деревням нанесла война. Всех мужчин от 18 до 60 лет забрали в армию, деревни обескровились. Тяжёлые мужицкие работы некому было выполнять. На пахоте стали использовать не окрепших еще физически допризывников и молодых девок. Больше за плугом ходить было некому. С лошадьми кое-как управлялись старики, коих тоже было наперечёт, и подростки. Вся прочая работа легла на плечи женщин, многие из которых тогда еще были в расцвете сил.
Сколько же было этой работы! Весной вывозка навоза на поля, пахота, бороньба, сев, посадка картофеля, косьба на силос и силосование, сенокос, жатва, вывоз снопов в гумна, обмолот, очистка зерна и его сдача государству, выращивание льна и его обработка, копка колхозной картошки, работа на колхозной ферме. Да и обиход своей скотины, кормилицы коровы, без которой многодетным семьям была смерть. А корм для неё можно было заготовлять лишь украдкой на межах или лесных полянах, косить на колхозных лугах категорически запрещалось. Своим огородом, с которого жители только и кормились, можно было заниматься только уповодами в обед да ночами; весь день от зари дотемна был заполнен колхозной работой.
В период войны бабы, ещё в основной массе молодые, кое-как с навалившейся на них колхозной работой справлялись. Поля обрабатывались, засевались, урожай собирался. Но, естественно, не в полном объеме, как могло быть при мужиках. Часть пахотной земли забрасывалась, особенно тяжёлой дернистой земли, недавно отвоёванной от леса. Она была и менее урожайной, поскольку не удобрялась после первой запашки. Поляны такой земли зарастали лесом, расчищать который женщинам было не по силам.
Некому было подновлять городьбу вокруг полей, поддерживать исправными осеки в лесу вокруг поскотин, вырубать кусты на лугах, перекрывать сенники, расчищать поля от камней. Надо сказать, что одной из главных забот северного крестьянина была именно расчистка пахотных земель от крупных ледниковых валунов, кои но множестве встречаются в земле северных областей, покрытых когда-то ледниками. Особо крупные камни, скажем, до тонны весом, зарывались крестьянином в землю. Рядом с камнем вырывалась глубокая яма, и камень вагами спихивался в неё. Более мелкие, подъёмные для мужика, камни свозились в так называемые «каменцы», которые располагались по краям пахотных полос (на межах) и собирались десятилетиями. Камни надо было собирать каждое лето, иначе поля «зарастали» ими (замерзающая земля выталкивает их к поверхности).
Одним из глупейших мероприятий колхозных организаторов было уничтожение чересполосицы общинных (или после революции уже личных) земель, существовавшей до коллективизации. Чтобы поля казались более обширными и удобными, по их понятиям, для тракторной обработки. Кусты на межах вырубались, кое-какие камни убирались, но в основном без основательной расчистки запахивались. Конечно, такие межи в дальнейшем были убийственны для техники при уборке хлебов, косьбе кормовых трав, клевера. Работая со жнейкой, косилками (лобогрейками), такие участки всё равно приходилось объезжать. Со временем на них снова появлялись заросли кустарника, уже более обширные по площади, чем на исконных экономно сложенных каменцах.
Губительна для плодородия и сохранения пахотных земель была и работа машинотракторных станций. Оторванные от колхозов, не заинтересованные в урожае, не подчинявшиеся колхозным агрономам, они из рук вон плохо обрабатывали землю. Для них важны были только гектары вспашки, за них они получали от колхоза деньги. Расстояние между плугами нередко устанавливалось такое, что пласты вспашки лишь закрывали целики жнивья, глубина вспашки не регулировалась, по краям полей оставлялись целые кулиги неподнятой земли. Машинотракторные станции ликвидировали лишь тогда, когда вред от них стал слишком очевиден. Но плодородие землям было уже не вернуть.
Конечно, в первую очередь плодородие падало из-за того, что земли плохо удобрялись. Навоз на колхозные поля вывозился разве что с личных дворов. С колхозных вывозить его не успевали по причине элементарной нехватки работников и транспорта: лошадей успели быстро угробить, после войны их остались считанные единицы. Около скотных дворов скапливались горы навоза, коровники утопал в навозной жиже. А земля между тем с каждым годом истощалась, хлеба не родились, в иные годы собирали едва лишь сам-третий урожай.
Не спасали ситуацию и поставляемые государством химические удобрения. Многие десятки тонн откуда-то привозили, а потом они гнили и разлагались по обочинам полей. Не было у колхозников ни сил, ни транспорта, чтобы равномерно раскидать их по пашне, запахать, то есть пустить в дело. Кучи мешков с химикатами размывались дождями, вешней водой, загрязняя ручьи и речки, отравляя в них все живое. Заодно отравляя и птиц — исконных помощников земледельцев.
Во время войны и после неё строительство в деревнях почти прекратилось. Большая часть мужиков, ушедших на фронт, не вернулась. Да и те, кто уцелел, пришли домой ранеными или изможденными до такой степени, что им было не до строительства. Редко кто из них достраивал начатый до войны дом, ставил баню или подновлял хлев для скотины. Колхозное строительство тоже заглохло или едва теплилось. И не только потому, что исчезли многие умельцы. Своим колхозникам, даже если они что-то строили, заплатить по-человечески было нельзя. А за пустые трудодни никто работать на строительстве, понятное дело, не хотел.
Тем более было обидно для своих мужиков, что появились чужаки, сезонные шабашники, в основном кавказской национальности, которые строили коровники, свинарники, колхозные конторы за полноценные колхозные деньги. Строили плохо, халтурно, воровато, а получив деньги, бесследно исчезали. Спросить за плохое качество строительства было не с кого.
Народ из деревень стал исчезать уже в тридцатые годы. Раскулаченные, само собой, убыли целыми семьями. В зависимости от ретивости уполномоченных по раскулачиванию убыток населения составлял от десяти до двадцати процентов. В нашем местечке раскулаченных было сравнительно немного, поскольку этим делом занимались местные люди, имевшие жалость к своим односельчанам. Потом потянулись в города одинокие бездетные женщины и молодые девчата.
В годы войны и послевоенного лихолетья много молодых девушек и парней, после окончания семилетки, ушло в города через школы ФЗО, куда шла почти что насильственная вербовка. После обучения в школах ФЗО никто уже домой не возвращался, оседали в Москве, Архангельске, Северодвинске. Кое-кто после семилетки учился в техникумах города Вельска (в сельскохозяйственном, учительском, лесохимическом). По окончании техникумов в родные деревни редко кто возвращался. Выпускников распределяли куда-то в другие места, а в наши приезжали агрономы и учителя из соседних районов или вообще издалека. Долго они не задерживались и, отбыв положенный для работы срок, исчезали.
Молодые мужики, вернувшиеся с войны или отслужившие в армии позднее, в деревнях тоже не задерживались. Кто уходил работать в милицию (вербовка в МВД была постоянной), кто на лесоучастки, кто пристраивался на разные работы в районных центрах— в Вельске и в Верховажье. Как насосом, выкачивалось население из деревень.
Окончившие десятилетку имели право поступать в институты, и все старались этим правом воспользоваться. Задержать их председатели колхозов не могли, ибо ленинский призыв «учиться, учиться и учиться» проводился в жизнь неукоснительно. Словом, в деревнях оставались или не способные к ученью молодые люди, пли слишком привязанные к дому из-за больных родителей, или нерешительные из-за боязни чужих мест.
Вне зависимости от ученья девчата в возрасте 16—20 лет любыми способами стремились выбраться из деревни. Перспектива за пустые трудодни работать доярками, скотницами, свинарками почти никого не устраивала. Хоть и не давали им паспорта, но всё равно находились лазейки, и они исчезали из деревень. В пятидесятые годы молодых девчат из Вологодской и Ярославской областей полно было в Воркуте, Мурманске, Мончегорске, Архангельске. Многим не сладко там жилось, но возвращаться к родным пенатам никто не стремился. Разве, что совсем уж не везло на чужой стороне.
К середине пятидесятых годов женщины, вынесшие на своих плечах трудовое напряжение войны и послевоенного сталинского режима, постарели и обессилели. В колхозах стало катастрофически не хватать рабочих рук. Это негативно отразилось прежде всего на заготовках кормов и на посевах зерновых. Некому стало косить, некому пахать и сеять, некому собирать урожай. Сенокосные луга зарастали кустарником, пахотные земли сокращались, как шагреневая кожа. Поступавшая в колхозы техника — трактора «Беларусь», грузовые машины, комбайны — в какой-то мере заменяла людей и лошадей, но полностью заменить землепашца с лошадью не могла. К тому же обезличка с техникой, как и обезличка с лошадьми, ни к чему хорошему привести не могла. Множество ломаной техники накапливалось с годами в колхозах, доводя до разорения даже относительно справные когда-то хозяйства. Причиной не эффективного использования техники были и относительно малые пахотные площади, и засорённые камнями поля. Когда личные огороды в десять-пятнадцать соток стали пахать трактором, это уже был перехлест с механизацией за гранью здравого смысла.
Хрущёвские реформы продолжали усугублять положение деревни. От них была и польза и вред одновременно. С одной стороны они принесли облегчение крестьянину (отмена дикого денежного налога, отмена разорительных займов, выплата пенсий престарелым колхозникам), с другой — продолжали подрывать основы крестьянского быта. Личные огороды, с которых собственно и жили колхозники, урезались до 15 соток. Идея была в том, чтобы колхозник меньше времени возился на своих сотках, а больше уделял колхозной работе. А как прокормить большую семью, если из колхоза ничего на трудодни не давали, чиновников не интересовало.
Со скотины по-прежнему тянули налог. Государство обдирало колхозы подчистую, отбирая всю прибыль, если таковая была. Опять же через МТС, через принудительную механизацию. Известная нелюбовь Хрущёва к лошадям сказалась и на северных хозяйствах: лошади в колхозах практически исчезли. Распад колхозного строя при Хрущеве, впрочём как и после него, безудержно продолжался. Всякие попытки реанимировать его путём внедрения денежной оплаты, личной заинтересованности (хозрасчетные бригады, звенья и пр.) кончались неудачей. Это были только полумеры.
Колхозы в местечке Косково влачили жалкое существование, распадались и исчезали. В годы войны в Косково были четыре колхоза, по три деревни в каждом. В пятидесятые годы все они были объединены в один колхоз. Позднее, на рубеже 70—80 годов и этот укрупненный (но обезлюдевший) колхоз на правах бригады был влит в Морозовский то ли колхоз, то ли совхоз, который продержался на плаву до перестройки.
Число жителей в бывшем сельском совете Косково неуклонно сокращалось. К началу 80-х годов там осталось всего семь деревень из бывших одиннадцати. И то в «живых» можно было считать лишь три, а в остальных доживали свой век одинокие старухи, у которых не было детей в городах и им некуда было податься. В летний период деревни несколько оживали: к старухам приезжали на побывку дети или внуки, помогали им управиться с огородом, собирали в лесу грибы и ягоды, но в колхозе, конечно, приезжие отпускники не работали. Зимой же деревни совсем пустели, потому что некоторые старухи уезжали к детям в города; отапливать дом зимой хлопотно и надо много дров. Скотину уже, конечно, никто не держал.
В послевоенные годы, практически до самой перестройки, к работе в колхозах привлекали жителей городов, снимая на время рабочих с предприятий, интеллигенцию, научных работников, учащуюся молодежь. Широко использовали и труд школьников, откладывая начало занятий до 1 октября, а иногда для старшеклассников и более того. Но в отдаленные от городов и железной дороги колхозы не так просто было привлечь и завезти даровую рабочую силу. Школьники же мало чем могли помочь, да и мало их оставалось в трудоспособном возрасте. Поэтому в дождливую осень хлеб с полей оставался не убранным, или гнил в суслонах, картошка оставалась не выкопанной, лён не выдерганным. Никакие грозные директивы сверху, ни присылаемые уполномоченные положения не спасали.
Хлебородные поля между тем сокращались и сокращались. Пшеницу, ячмень и кормилицу крестьянина рожь перестали сеять совсем. На тех полях, которые в силах были еще что-то воспроизвели, сеяли только овес, да и то главным образом на корм скоту. Остальные поля шли под клевер или многолетние травы тоже для подкормки скота. Немногочисленный уже оставшийся скот перешили пасти в лесу, поскольку осеки разрушились, и границы поскотин исчезли. Пасли его уже на бывших хлебородных полях или кормили в загонах прямо на фермах скошенной на полях травой. Силосование как таковое исчезло. В заготовках больших количеств сена тоже не стало необходимости; в личных хозяйствах коровы исчезли, а поголовье колхозного скота в несколько раз уменьшилось. Но всё же колхозы долго еще держались именно за счет скота. Богатые когда-то луговые сенокосы, да и клеверные поля на нывших посевных землях, позволяли за лето откармливать телят, бычков, сдавать приличное количество молока, и хоть негусто, но оплачивать труд колхозников (в восьмидесятые годы о трудоднях уже почти забыли).
Не в последнюю очередь в разорении колхозов участвовали и лысенковские рекомендации. На памяти в сороковые годы появились пугающих размеров быки, кои должны были улучшить местные породы коров. Купить их и прокормить стоило немалых денег. Потом в середине пятидесятых годов начались попытки селекции бычков жирномолочной породы, которыми Лысенко хвастал перед Хрущевым. Все это, хотя и боком, задело вологодскую деревню. Колхозное овцеводство как-то незаметно сошло на нет. Овчинные полушубки стали не в чести, и веками одевавшая население деревень романовская овца почти исчезла. Только некоторые жители держат их до сих пор, но не ради шкуры для шуб и шерсти, а лишь ради мяса, поскольку содержание двух-трех овец за зиму не требует большого количества корма.
Лён с колхозных полей исчез еще раньше, чем зерновые. Как известно, выращивание и обработка льна требуют очень больших затрат женского труда. И они испокон веку держались только на женщинах. А когда трудоспособных женщин в колхозах не осталось, культура обработки льна сошла на нет. Да и государство не стимулировало льноводство. В самолётостроении после войны лён использоваться перестал, ткани изо льна стремительно вытесняла синтетика. Словом, лён на рубеже 50—60-х годов стал никому не нужен. Льнозаводы в крупных хозяйствах исчезли, как исчезли и многочисленные когда-то молокозаводы, на которых делалось знаменитое вологодское масло.
На протяжении колхозной эпопеи — от начала тридцатых до конца шестидесятых годов — руководители колхозов в Косковском сельсовете не раз пытались поставить на ноги свиноводство. Свинофермы возникали то в одном колхозе, то в другом, то в лесочке поблизости от деревень, то прямо на берегу Пежмы, поближе к воде. Несколько лет свиноферма существовала в излучине реки на бывших церковных лугах. Располагалась она рядом с кладбищем, никаким забором не огороженным. Можно себе представить, что творилось на могилах, когда там хозяйничали свиньи.
Как известно, свиньи быстро нагуливают вес и в добром хозяйстве их содержание прибыльно. Но свиней надо кормить. И не только сеном или силосом. Надо им или мясо, или рыбу, или муку. В тридцатые годы для прокорма свиней забивали выбракованных и старых лошадей. Их тогда в колхозах было ещё много. Но к шестидесятым годам лошадей всех извели, и кормить свиней стало нечем. Выделяемой государством в мизерных количествах муки не хватало для подпитки в страду людей. Естественно, на свинофермах был хронический недокорм. Доходило до того, что у годовалых поросят ребра выпирали наружу. Выпущенные пастись в лесу, они метались в поисках корма, как их дикие собратья-кабаны. Мужики смеялись: волку опасно было появляться вблизи свиноферм, голодные кабаны разорвут их на части. От убыточного свиноводства избавляли спасительные пожары: фермы сгорали вместе с поросятами. Убытки списывались.
Были и другие причины угасания российской деревни, но главная — это колхозы и насильственный труд на ничейной земле.
ДЕЛО О РЕДКОСТЯХ, ИЛИ ПЕРВОПРОХОДЦЫ
Друзьям моим Василию Готовцеву и Анатолию Верменичу труд сей посвящаю
Передо мной дневник одного из первых землепроходцев Вилюй кого края Степана Попова, который прошел от Вилюйска до реки Плимпеи на Нижней Тунгуске ещё в 1794 году[16]. Дневник своеобразный, написан красивым почерком и, по-видимому, образованным для того времени человеком. Документ редкий: ни Серошевский, ни Маак о нём не упоминают, хотя, знай они о походе казаков к «тунгусам», не преминули бы его прокомментировать.
Готовя дневник к данной публикации, в которой приводятся выдоржки из текста, я не стал обрабатывать его, приспосабливая к современной грамматике и стилю изложения, поскольку язык автора оригинален, образен и не без литературных достоинств. Убрал лишь многочисленные ять (Ъ) и латинское i, кое-где для удобства чтения расставил запятые и в некоторых фразах произвел перестановку слов.
Алмазодобытчикам нелишне знать, что первыми пришли в эти края за драгоценными камнями не геологи сороковых-пятидесятых годов XX века, а казаки Вилюйского округа в конце XVIII столетия Степан Попов, сержант Оленской воинской команды (Олёнском называли город вблизи современного Вилюйска), прошёл по Вилюю с отрядом казаков «По именному ея Императорского Величества соизволению для отыскания земляных куриёзных произрастаний, редкостей и каменьев... кремнистого роду хрусталей, как-то, например, рубинов, сапфиров, топасов, изумрутов, хризолитов, аматистов, гиоцинтов, аквамаринов, опала, калцедона, агата...». Алмазы в этом перечне не упоминаются, о них на Руси еще не было слыхано, но, надо полагать, императрица не отказалась бы иметь отечественный бриллиант в своей короне.
Указание («Ордер») по отысканию курьёзных редкостей и драгоценных камней было получено воинской командой Попова от «Его высокопревосходительства господина губернатора Иркутского и Колыванского и разных орденов кавалера Ивана Андреевича Козлова-Угренина». В этом же ордере дано дополнительное предписание такого рода. В верховьях Вилюя «есть место, Туруханского ведомства народами, именующими себя журумжальцами, они же и самоеды, почитаемое». На этом месте «...стоит на земле котёл, с немалым от земли возвышением, от которого временами исходит немалый звук, а неподалеку от оного котла в берегу, подле реки, есть разщелина, в которую свободно можно входить. На входе разщелина во внутренности своей делается весьма светлою от каменьев, по всей разщелине, по низу, по верху и в боках лежащих». Помянутый обоготворяемый котел «надлежит познать и описать в самой точности: недра ли земные своим натуральным действием произведение сие воздвигнуть могли или каким неизвестным образом оный туда завезен».
Помимо упомянутых конкретных заданий, Попову рекомендовалось: «Узнавать также, через ласковое обращение, тамошних народов свойства, образ жизни и все их склонности, и самые в богослужении веселости и суеверия...».
Команда Попова вышла из Вилюйска на Сунтарский тракт 20 апреля 1794 года. В дневнике Попов не пишет, сколько было в команде людей. Но, судя по некоторым событиям, упоминаемым в дневнике, и причастным к ним членов коллектива, в команде было 5 или 6 человек. Выехали они, вероятно, верхом, поскольку к этому времени на широте Вилюя обычно наступает распутица и санный путь нарушается.
Шли они целенаправленно, имея на руках сведения о «шерлах и аматистах» на речке «Антаранде» (Ахтаранда. — Д.С.) и о «сребряной горе» на реке «Олимпее» (Илимпея, по современному написанию). Сведения эти могли быть получены лишь от тунгусов-кочевников, эпизодически бывающих в этих местах, или от «торговых людей», общающихся с теми же тунгусами. Правда, Маак упоминает в своей книге, что в 1790 году на Ахтаранде был исследователь Сибири Эрик Лаксман, и якобы от него геологический мир узнал о редком проявлении минерала ахтарандита. Возможно, что сообщение Лаксмана было одной из побудительных причин отправки на Ахтаранду поискового отряда.
Путь следования своей команды Попов описывает довольно обстоятельно, со многими подробностями. Он упоминает все жилые пункты, мимо которых команда проходила, старейшин родов («княсцов»), названия речек и озер с перечислением рыб, которые в них водятся, отмечает «луговые и покосные места». О встречах с жителями пишется, правда, скупо: в дневник заносятся, видимо, только удивившие путешественников обычаи и бытовые детали.
Первыми, кого они посетили, отъехав тридцать верст от Вилюйска, были якутские мещане Федор Житков и Андреан Гоголев, живущие около озера Кетагда со своим «скотоводством»: «По берегам озера лес листвинишний, сосновый и еловый; вокруг же оное изобильно покосами». На девяностой версте от Вилюйска посетили княсца Мочая Кусегеева, к которому прибыли уже 21 апреля. По пути проезжали речку, «именуемую Быракан, небольшую и пещаную, которая так же с полуденной стороны выпала устьем в реку Вилюй; начало же оной восприяло от источников и болотных мест не более верст ста полтора. Рыбы в ней нет никакой, озер луговых и покосных мест довольное количество».
22 апреля команда прошла еще 30 верст и остановилась у «княсца Удегейского Быржигая Унигесова». 23 числа— переход в 60 верст до княсца Мойки Ходорокова, а 24 — переход в 20 верст до княсца Кангалахской волости Нукусты Екимова. Наслег последнего «противо Оленского округа наслегов обширностью и многолюдством, к тому же скотоводством и достаточеством имеет превосходство. В сем же наслеге выплавляют руды железа и куют топоры, косы, пальмы, копья, стрелы, ножи и протчее, и довольствуют Оленскую и Олекминскую округи: руду же достают от реки Вилюя». Последние сведения чрезвычайно любопытны; окапывается, на Вилюе было в конце XVIII века свое железоделательное производство. Но что за руду добывали местные умельцы с реки Вилюй, не совсем ясно.
В этом наслеге команда «передневала от снега и дождей», а 28-го числа она уже на реке Марха у княсца Жарханской волости Абрама Кусаганова, который «жительствует при поле, навиваемом Чампа», где есть небольшое озеро, вокруг которого изобильные покосы». «Речка же Марха впала устьем в реку Вилюй, по течению оной в правую руку широты триста сажен, быстроты посредственной, глубины в межень сажени две и полторы... Рыбы в ней имеется довольно, имянно: нельма, стерляди, таймени, ленки, щуки, налимы, окуни, сиги, ельцы, юроги (вероятно, под этим названием имеются в виду тугуны. — Д.С.), которые заходят с реки Вилюя. Промыслами оной пользуются живущие по ней якуты, а в вершине тонгусы Оленского округа. Вершина её, разделяясь на две части, спирается с выходящими от Оленки реки речками и продолжается примерно расстоянием верст сот пять. Якуты и тонгусы промышляют там зверей: сохаых, оленей, медведей, волков, розсомах, лисиц, белку, горносталя, соболей же и других зверей там не бывает, редкостей, стоящих внимания, по сей реке никаких нет». Этот текст из дневника, очень емкий по содержанию, комментариев не требует, информация о реке Марха довольно точная. В одном лишь автор ошибается: редкости по Мархе есть. Но как было знать это воинским людям, если и геологи нашли алмазы лишь через полтораста лет.
29 апреля команда пришла в наслег «Бордонского княсца Алексея Гоголева... ко озеру, именуемому Нурба, которое в длину расположено на тридцать верст, в ширину на десять, в середине же два острова, из коих в летнее время на одном жительствует семейств десять со скотоводством; ибо по обширности места и чистейшего воздуха, и по неимению тут в лесу никаких пресмыкающихся гадов, а особливо комаров и мух, через что для людей и для скота беспокойства не бывает. Вокруг же того озера весь наслег с родом жительствует и пользуется от изобилия покосов и рыбы. Рыба же не что иное, как только кераси и мундушки, однако весьма много: глубины же озера по местам сажен пять, четыре и три».
Как можно понять из этого красочного описания, нынешняя Нюрба и ближайшие к ней наслеги расположены на дне бывшего озера, огромного по своим размерам. По свидетельству Маака, Нюрбинское озеро спустили в 1824 году. В самом узком месте перешейка между Вилюем и озером (88 сажен) прорыли глубокую канаву. Инициатором этого гидротехнического мероприятия был вилюйский исправник Корякин, которому стоило немалых трудов уговорить местных жителей на это грандиозное даже по масштабам Сибири дело. Тридцать человек рыли канаву четыре года. Когда оставшуюся узкую перемычку от озера прорвало, то, как пишет Маак, «...вода со страшной силой хлынула из озера и наводнила на далеких пространствах весь противоположный берег Вилюя». Здесь находили потом в кустах выброшенных из озера карасей и гальянов. На дне же озера гнило несметное количество рыбы. Подъём воды в Вилюе был такой, что «произвел немалый переполох среди мирных обывателей города Вилюйска». Вероятно, жители подумали, что наступил всемирный потоп. Со спуском озера кончился, надо полагать, золотой век Нюрбы.
Но вернемся к нашим путешественникам. Долго на Нюрбинском озере они не задержались: 30 апреля они уже в тридцати верстах от Нюрбы в гостях у княсца Жарханской волости Магандыка Клевинского, наслег которого «многолюдством и скотоводством весьма достаточен, противу других мест скот конный и рогатый более плодится и народы все богатые». У княсца Клевинского они два дня проводят «за исправлением харчевых припасов и приготовлением плота и веток берестяных».
2 мая конный отряд уже на речке Ботомайка, которая «границей состоит между Оленской и Олекминской округами». Через речку они перебираются на плотах, а лошадей «переплавляют в берестяных ветках». Третьего числа они уже на озере Арылах. Местность здесь им не очень нравится, ибо «места все ровные и не гористые, фабрик и ярманок по сей округе нет, знаменитых мест, к описанию и уважению достойных, зверей, птиц, отменных лесов и редкостей никаких нет, посеяние хлеба в обычай жителей не введено».
Через неделю, передневав у княсца Кангалахской волости Бечаню Менерукова, посетив княсца Хоринской волости Ивана Шахворостина и погостив у княсца Бордорнской волости Григория Кривошапкина, отряд вышел к устью речки Кемпендяй в Сунтарское урочище. В дневнике упоминаются «казенные магазины, где состоит соляная продажа»; выходы красной и белой соли по берегам Кемпендяйки, а также «горы с алябастром и утесы дикого камня, и якобы под ними бывают деревья окаменелые желтоватых цветов... прозрачные и полупрозрачные». В устье Ботомайки пробыли три дня «за выжиданием прошествия льдин» на Вилюе.
16 мая переправились через Вилюй к посёлку Сунтар. Посёлок они описывают подробно. Упоминают церковь над рекою, с колокольней, построенной «во имя введения Пресвятой Богородицы», при которой жительствуют протопоп и трое священников. «Русского строения деревянных домов там семь, юрт четыре, положение места ровное и луговыми покосами обильное... лавок и рядов не имеется, родится тут хлеб, однако небольшое количество, а также овощи разные, имянно: капуста, репа, редька, морковь, огурцы и протчее родятся весьма хорошо», однако «пропитание имеют более от скотоводства и рыбной ловли». Любопытно, что картошка в перечне овощей не упоминается, вероятно, её тогда не только в Якутии, но и вообще на Руси ещё не было.
Из Сунтара команда возвращается обратно к княсцу Кривошапкину, где до 23 июня проводит «за исправлением на дорогу харчевых припасов и за собранием и поправлением лошадей и оленей, наряженных от тамошних княсцов». Между делом они собирают на Вилюе железную руду и пытаются ее плавить. Но «ничего из оного родиться не могло». Что это была за руда, которую они собирали на реке, не вполне понятно. Может, это были желваки сидеритов. Не могли же магнетитовые скарны от бассейна Ахтаранды нестись столь далеко по Вилюю.
24 июня отряд направляется, не заходя в Сунтар, к наслегу Мойки Нахчукова, что в 80 верстах западнее. 25 июня они уже далее в 30 верстах у Нюректейского княсца Егора Турина на урочище, называемом «поле Тойбохое». Место это очень нравится казакам: «Оное поле положением весьма прекрасное... в длину и ширину верст до десяти... в середине два озерочка, вокруг луга покосные, по берегам березняки кудрявыя, также и ельники».
Следуя дальше вверх по Вилюю, отряд выходит к устью речки Вилюйчанки, «к жительству старшины Боброва Кутуяхова». Речка эта описывается, вероятно, со слов Кутуяхова, весьма подробно: «...истекает она с хребтов, с гор пустолежащих и болотных мест, каменистая и по обе стороны гористая; в ширину сажен восемьдесят, в полноводье быстра и глубока, по истечению же воды по всем местам брод бывает».
Выходя 2 июля от наслега Боброва, команда разделилась: два казака и проводники с оленями, лошадьми и харчевыми припасами отправились прямиком на речку Чону, а Попов и Корякин с частью людей пошли на лошадях по берегу Вилюя на Ахтаранду. 4 июля они подъехали к устью Укугута. «Сия речка каменистая и по обе стороны гористая. Рыбы в ней и стоящих внимания редкостей нет. Истекает оная с малых озер болотных и кочковатых мест... устье же оной речки кормовищем для лошадей весьма изобильное».
Далее Попов следует по берегу Вилюя или «через хребты мызом». Пересекши несколько речек с устаревшими теперь названиями и дав им краткую характеристику он, по-видимому, убеждается, что по берегу Вилюя идти с лошадьми невозможно. Поэтому «отправя всех сотоварищей и проводников горою на лошадях, сам следовал пешком на устье реки Батоби, непроходимыми скалами, с обеих сторон сопряженными и уваленными дикими и круглыми каменьями. Через 13 верст вышел к речке Батоби, которая по течению реки с правой полуденной стороны впала... Оттоль за две версты есть порог, именуемый Кутчугуй-Хана. И под тем порогом неизмеримой глубины яма, в которой зимуют нельма, стерлядь, таймени и протчая мелкая рыба. Через тот порог уже никакая рыба переходить не может».
Конечно, здесь Степан Попов не совсем прав. В большую воду рыба благополучно преодолевала этот и все следующие пороги, доходя до самых верховьев Вилюя, пока дорогу ей не перекрыла плотина Чернышевской ГЭС.
10 июля, вновь объединившись со своим отрядом, Попов выходит к Улахан-Хану: «...это большой порог противу прежнего описанного, который быстротою воды от стеснений утесов и завалу каменьев бьющий с великим шумом».
11 июля «каменистыми и гористыми местами, имев на поводу лошадей, вышли на речку Антарагду» (Ахтаранду), которая чрезвычайно гориста и камениста; в горах же оной алябастру довольное количество». Автор дневника хорошо осведомлен о бассейне Ахтаранды, он перечисляет все ее крупные притоки, в том числе речку Олгуйдах, по которой «...за десять верст от устья есть довольное количество прозрачного алябастру, или можно назвать его шпатом». Попов имеет в виду исландский шпат, месторождение которого находится недалеко от устья Олгуйаха, но на притоке Дламджах. К этому месторождению Степан Попов, «оставляя сотоварищей, ездит для взятия прозрачного алябастру за полтораста верст по Антарагде». Тем, кто знал Ахтаранду до затопления ее Вилюйским водохранилищем, трудно даже представить, как можно но крупноглыбовому трапповому курумнику в ее долине подняться вверх на лошадях или оленях. Однако Степан Попов за четыре дня одолевает этот маршрут и доставляет в лагерь к устью Ахтаранды немалое, по-видимому, количество образцов. Ибо 18 и 19 июля он и его помощники «упражнялись в делании ящиков для поклажи каменьев». В тех условиях, когда нет ни досок, ни, вероятно, достаточного количества гвоздей, дело это было совсем непростым.
20 июля «должно было по недостатку харчевых припасов отправиться на речку Чону». Однако Стапан Попов считает необходимым внимательно обследовать горы «Полковник-Хаята» и Эрбеек-Хольболох» и собрать «вываливающиеся с этих гор зеленые и черные самогранные каменья». На горе Эрьбеек-Хольболох он находит «самогранки желто-серого цвету прозрачнее и лутше противу прежних под утесом». Здесь имеется в виду коренной выход ахтарандитов на берегу Вилюя в четырех километрах ниже устья Ахтаранды, на котором приискатели побывали, по-видимому, накануне 21 числа, «желая еще раз смотреть редкостей других с одним тунгусом и с одним казаком отправился к спуску с горы Эрбеек-Хольболох и там, пробыв целые сутки без пищи... порыв в земле не более как на одну четверть, нашли среди лесу плиту, в которой есть прозрачные самого тонкого фиалетового цвету каменья... Там же найдена плита, с одного конца произрастившиеся как будто зубчиками прозрачных белых каменьев... Плита залегает среди цветной земли клубочками, из коих разные краски можно разводить и употреблять вместо красителей».
Упорство и самоотверженный труд изыскателей драгоценных камней не увенчались должным успехом. Найденные ими «шерла самогранные зеленые, во свидетельство гранильщику Корякину представленные... были им не уважены». Степан Попов очень этим расстроен, что и чувствуется в дальнейшем тексте дневника. Он оправдывается в том, что изыскания, им проведенные, недостаточны, и высказывает предположение, что здесь «во внутренностях земли быть многому дошедшего аматисту и другим каким-нибудь редкостям». Любопытно, что он упоминает и о «гранатках темновато-малиновых маленьких», которые встречались среди тех же ахтарандитовых скарнов, где «произрастают шерла самогранные», то есть гроссуляры и андрадиты. Не исключена вероятность, что это были пиропы, но скорее всего альмандины.
22 июля, «переправившись через Вилюй в берестяных и деревянных ветках (они уже успели их изготовить! — Д.С.) ...имели проезд пустыми без дорог и неизвестными тундряными и болотными местами и непроходимыми лесами... и через 50 и 60 верст... вышли на речку Чону к жительствующим там двум семействам якутов: рыжему Тяниину и Федору Тыктыянову». Не совсем ясно, к какому месту в долине Чоны вышел отряд: то ли к устью ее, то ли в ста километрах выше — к тому месту, где позднее возник ныне затопленный поселок Туой-Хая. Автор дневника не жалеет красок, описывая богатства реки и долины Чоны: «Рыба в оной: стерляди, щуки, таймени, налимы, ленки, сиги и окуни... Довольное количество есть озер и покосов, вкруг них расположенных... рыба озерная весьма изобильна, бывают там караси длиной в две четверти с половиною... плодится в оных разная птица: гуси, лебеди и всякого рода утки, от чего якуты имеют малое количество скота», хотя кормовые возможности долины реки Чоны позволяют держать его во много раз больше. «Однако можно многим якутам и с небольшим количеством скотоводства жить...»
Путешественники правильно оценивают сельскохозяйственный потенциал долины Чоны. Это было сказочное место земли. Длиной более ста километров, шириной до сорока, долина изобиловала множеством озер, хороших пастбищ и покосных угодий, строительным сосновым лесом, осиновыми рощами и березовыми перелесками, черемухой и черной смородиной. Все эти природные богатства не послужили людям в полной мере до затопления долины Вилюйским морем.
О реке Вилюй, «которая вершиной отошла в западную сторону», автор походного дневника пишет, что она «восприяла течением от озера, именуемого Жесяй, вокруг которого тунгусы в два дня на оленях объехать не могут. Рыба в оном озере: стерляди, пеляди, белуга, муксуны, чиры, щуки, таймени, караси... Там сохатых и оленей бывает уж весьма многое количество». Наверное, в этом тексте речь идет об озере Ессей, из которого Вилюй вытекать не может, поскольку оно находится на левобережье Котуя. В верховьях Вилюя крупных озер нет. О том, что это озеро далеко на севере, говорят и следующие сведения, полученные от тех же тунгусов: «...лес там якобы бывает редкой и малый, березник, лиственный тальник, ельник же и сосняк в редкость бывает». Такая растительность свойственна заполярным территориям, где и находится озеро Ессей. Но поскольку «...в тамошних местах о редкостях нет известий», да и к тому же «если делать совершенное и подробное описание, то много потребно кошту, да и в три года все тамошние пределы не объехать», то у команды Попова интерес к верховьям Вилюя пропадает.
На реке Чона землепроходцы Попова встретили 25 июля «два семейства кочевых тунгусов: Долбыгу Моггина и Сирьбульча Сиргучина» (о последнем в скобках делается примечание, что «сей есть убиец нескольких человек и в бегах от роду своего находящийся»). О кочевых тунгусах автор дневника пишет сравнительно подробно — об их одежде, женских украшениях («унизанные бисером зеленым по черному и другим цветам торбосы и нагрудники»), оружии («стрелами, луками, кольчугами, копьями и пальмами весьма исправно вооружены»). Видимо, люди из команды Попова видели кочевых тунгусов впервые, и к ним они проявляют большой интерес. В дневнике Попова подробно описывается их внешний вид, одежда, обычаи и поведение при встрече («жены и дочери их весьма сурового виду и дикообразны, разговор их грубый и скорый»).
Первая встреча с семейством тунгусов прошла, впрочем, довольно мирно: «Первое знакомство производят все, ставши вокруг, приглася казаков и якутов пляскою с разными припевами, держа друг друга за руки, и продолжая оное день и ночь беспрестанно сутки целые и по двое суток... орудия же свои, когда приходят к людям, оставляют снаружи и приставляют к лесине».
28 июля, «оставя протчий харч и тягости, и десять лошадей для отгулки на обратный путь», двинулись в сопровождении проводника тунгуса до «Хатунки реки и до речки Лимпеи... горою и пустынными местами, справясь полными от опасностей орудиями». Неделю они идут «лесами густыми и тундровыми болотами», где «...местами совсем не было кормовища лошадям, кроме моху». В день они делают по 30—40 верст, что просто удивительно, если учесть, что двигаются они без тропы по совершенно незнакомой местности.
Третьего августа отряд достигает долины речки Чиркуо, которая, как и прочие притоки Вилюя, «гориста и камениста». Рыба в ней такая же, как и в других речках, и «...зверей сохатых и оленей по ней довольно. Покосов же и луговых мест совсем нет». Однако «с нуждою от кочковатых и болотных мест лошадей прокормить можно».
Слова «харч» и «харчевые припасы» автор дневника, к сожалению, не конкретизирует. Непонятно, что это за припасы: то ли вяленые мясо и рыба, то ли солонина. Муки и хлеба у местных жителей, разумеется, не могло быть и взять их отряду было негде. С собой же они много везти не могли. В одном месте дневника Попов упоминает, что тунгусов они угощали топленым маслом и соломатом. Чтобы приготовить соломат, надо иметь толокно — исконную пищу российских землепроходцев. Толокно — это поджареная овсяная мука, очень питательная и не так скоро портящаяся. Толокно и топленое масло у команды Попова, вероятно, были. Но основным «харчем» снабжала охота и рыбалка, это несомненно. Вот и на Чиркуо «казак Ефим Попов бегущего во весь мочь дикого оленя ...сажен за двести из ружья застрелил». Неплохие добытчики были, по-видимому, в воинской команде, если на таком расстоянии могли попасть из ружья в бегущего оленя.
Отдыхал отряд в пути лишь через три-четыре дня упорного движения вперед. 7 августа дневали «для отдохновения лошадей и оленей, особливо в рассуждении хорошего кормовища и от дождя». Вероятно, непогода и гнус часто донимали команду, но об этом Попов упоминает лишь изредка, да и то вскользь. 8 августа, пройдя очередные 30 верст, отряд вышел с верховьев реки Чиркуо к Нижней Тунгуске: «К реке Тонгуске, тонгусами именуемой Хатунга. Сия река весьма сходна с Вилюем, течением существует с Киренги и... устьем впадает в Туруханск... Расположена прекрасными берегами, луговыми местами и покосами, чрезвычайно изобильна рыбой. Озер в долине великое множество и все рыбные. Бывают по ней соболи, розсомахи, лисицы, белки и, особливо, олени и сохатые».
Автор имеет информацию, что с Енисея на Тунгуску в Туруханск ходят купцы «в легких судах и имеют торги с обитающими там тонгусами, завозят ружья, свинец, порох, ножи, топоры, натруски (?), катайки (?), провиант и протчее». Несколько позднее отряд встретил на Тунгуске «павоську с разными товарами крестьянина Афанасия Панкова, идущего с Туруханска на Киренскую заимку при осьми человеках рабочих... которые в дороге имеют тонгуское платье и по тонгуски твердо говорить умеют».
К вечеру 13 числа, пройдя по Тунгуске около сотни верст, команда вышла к речке, называемой «Могда» (это не та Могда, которая впадает в Вилюй с левой стороны в 150 километрах выше Чиркуо, а какой-то правый приток Нижней Тунгуски. — Д.С.). Здесь встретили двух «дикообразных вооруженных тонгусов», с которыми имели общение и дружелюбный разговор. Тунгусы пригласили казаков в гости к их семействам, кои находились в 80 верстах, и обещали показать путь следования на Илимпею к серебряной горе (местоположение которой знал старейшина рода). Тунгусы немало дивились лошадям и палаткам («удивлялись зрением»). Их хорошо угостили, наделили харчем и табаком, а также послали табаку в подарок старейшине, с чем они и отъехали.
Надо заметить, что команду Попова встречали везде хорошо и тунгусы, и якуты. Возможно, отчасти потому, что она не собирала ясак, а всего лишь что-то искала в тайге, до чего местным жителям дела никакого не было. Сборщиков ясака встречали бы, вероятно, не так дружелюбно, как и в наши дни налоговых инспекторов.
15 августа путешественники приехали к семействам пригласивших их в гости аборигенов, стойбище которых находилось в устье левого притока Тунгуски — «Тогус-Апката» (современное название этой речки Апка). Встретили их очень радушно. Хозяева приплыли в деревянных и берестяных ветках в лагерь к гостям и «заколовши одного дикого оленя, презентовали». Кулинары из команды Попова не ударили в грязь лицом: «Во угощение их наварены были с топленым маслом из провианта саломаты, чего они с великим удовольствием и со уважением употребляли; после чего табаку по одной папуше все в дар получили».
16 августа был ответный визит гостей к хозяевам. Те потчевали их «звериным мясом и, подаря по оленьей шкуре, производили свою пляску с того дня до 18 числа». После чего «для показания мути и препровождения дали проводника своего Няню Моггина». Мельком автор дневника упоминает, что «с 17 числа на 18-й день шел великий дождь, а потом выпал снег вершка на два». Знакомая погода для Якутии и в наши дни.
19 августа, несмотря на непогоду и выпавший снег, который, правда, вскоре сошел, «оставя лошадей для их пасьбы и караула казаков и ямщиков, взяв только подхарчевые припасы, с дворянином Корякиным, с казаком Ефимом Поповым и тремя тонгусами в 12 оленей отправились пешком по Хатунке на Лимпею и вышли через 20 верст к горе Лябкянь-Хая». 21 по 23 число землепроходцы идут по 30—40 верст «тундренными местами и непроходными лесами, расчищая путь пальмами». Выходят на устье речки «Папогда» (на современных топокартах Панонгма), где «за великими дождями и за поиском оленей, вероятно, разбежавшихся по лесу, что обычно бывает в грибное время, продневали 24 число».
С 25 по 28 августа шли «гористыми лесными и болотными грязными местами» по 30—40 верст в день и 29 числа вышли, наконец, на реку Илимпею. «Сия речка риста (надо понимать, порожиста. — Д.С.) и камениста, по берегам ее алябастровые утесы, алябастр же цветом синий, однако нехорош». Вышли на Илимпею искатели редкостей, видимо, в среднем ее течении, но где — выше или ниже по течению — «серебряная гора» они не знали. Сделав плот, Попов с Корякиным поплыли на нем вниз, а казак Ефим Попов и тунгусы пошли берегом. Пройдя таким образом около 50 верст, они впервые подверглись нападению тунгусов. Прячась в лесу, двое аборигенов хотели стрелять в идущего по берегу казака Попова. Но «защищением Божиим ружье трижды обсекалось». В это время «идущие по другой стороне наши тонгусы закричали по тонгуски и через то оных от стрельбы воздержали и от смерти Попова освободили».
Нападавшие кочевники вскоре подошли к плоту, поговорили с проводниками и просили извинения, «что они по незнанию отроду русских, почитая за какое-нибудь удивление или за разбойников, хотели стрелять». Они же сообщили, что искомая «серебряная гора» осталась позади за 60 верст. Казакам был опять оказан теплый прием и предоставлен ночлег.
Пришлось отряду возвращаться обратно и идти шесть десятков верст пешим ходом. Второго сентября измотанные путешественники вышли, наконец, к искомой горе, в которой «якобы серебряная руда, но вместо того... оказался колчедан, да и то самый пренегодный, ибо оный показывает вид и цвет белый и красноватый, потому и почитался за серебро».
Степан Попов, конечно, страшно разочарован. В дневнике мы читаем горькие слова: «...так, в такой отдаленности, претерпевая голодные нужды, труды наши остались бесполезными». Можно его понять и разделить его горечь и обиду.
Отдохнув всего лишь один день 4 сентября, «последовали на обратный путь» к оставленным на Тунгуске коням и сотоварищам. «С немалыми понесенными трудами продолжали путь свой гористыми пустыми местами и непроходными лесами». 13 сентября они вышли к базовому, говоря современным языком, лагерю на Тунгуске, где оставшиеся там люди заготовляли рыбу и мясо вместе с охотниками тунгусами добыли медведя и «четырех больших зверей сохатых», а также сберегли оставленных оленей и лошадей, которых могли похитить «не видавшиеся с ними инородцы», за что «наши тонгусы... много достойны были благодарности и похвалы».
Руководитель отряда, добросовестно выполняя предписание вышестоящего начальства («Узнавать тамошних народов свойства»), много внимания в дневнике уделяет описанию встреченных на их пути тунгусов. С кочевниками казаки Вилюйского округа знакомились, по-видимому, впервые. «На вид они дикообразны, обычаем грубы, в разговорах свирепы», но это только на первый взгляд. Познакомившись с ними поближе, путешественники говорит о них уже с большей симпатией. Сильное впечатление произвол на казаков и шаман, который, «сидя в середине круга (танцующих людей. — Д.С.), шаманит своими припевами, а ходящие вокруг подпевают ему... Шаман, наконец, встает, бия в бубен, начинает «скакать и прыгать и гадать о будущем счастье или несчастье, о промыслах, сказать каждому в особливости, кому что следует. Тогда все, бия руками об ладони, с разными по их обычаям восклицаниями скачут и делают поклонения шаману или шаманихе, а также «деланному из дерева или из бересты болвану с прошением себе счастья и благополучия».
Любопытны сведения, полученные Степаном Поповым от самих тунгусов или от лучше знакомых с ними якутов, о некоторых весьма странных обычаях тунгусов. Например, если кто в роду умирал своею смертью, то шаман этого рода может сказать, что смерть наслана «силой дьявольскою» шамана соседнего рода. Тогда первый род идет на второй войной. Если в сражении кого-то убивают, то за убитого берут «женщин и девок» столько, сколько у того ран на юле. «Грабительски обжениваются, никто из них добропорядочно жениться не может», — так пишет верящий этим рассказам автор дневника. Обычай этот древний и никто его нарушать не осмеливается. Поскольку же все рода воюют друг против друга, то для предосторожности каждый мужчина «оружие держит в готовности и хранит при себе безотлучно».
Естественно, у народа с такими обычаями не считается зазорным подстрелить чужака и отнять у него имущество. Воровства тунгусы не знают, украсть что-то считают великим позором. А «лучше получают сражением и силою что нужно ограбить». Хотя верить всему, о чем пишет составитель дневника, наверное, нельзя. Дикость и варварские обычаи тунгусов он явно преувеличивает. И на то имеет свои побудительные причины. По совместительству с изысканием редкостей он выполняет в некотором роде и миссионерскую работу. В дневнике содержится такая запись: «При каждом свидании через переводчика доказательство им от меня было, что есть Бог, сотворивший небо и землю, моря и реки, зверей и птиц, человека и всю вселенную... Потом о Государине и наследниках, об установленных законах и правах, о высших и низших начальниках, и каком должно быть всякому в повиновении и послушании, и воздержания их от беззаконных и неистовых дел, и протчая, и протчая. Слушали тунгусы, как уверяет проповедник, «...со всяким усердным вниманием и с великим удовольствием, принося за то благодарения».
Так что одно дело обращать в христианство послушных и относительно цивилизованных якутов, другое — диких тунгусов. О дикости последних краски можно было немного и сгустить, дабы миссионерская деятельность выглядела в глазах церковного начальства более впечатляющей.
Сержант воинской команды неважный этнограф. Поэтому из дневника мало что можно почерпнуть о быте тунгусов. Упоминается лишь, что «сии народы жительством не утверждены, строения домов или юрт не имеют, а кочуют всегда и делают каждодневно тонкими жердями урасы и накрывают лосиными кожами и ровдугами, сохраняясь от дождей и ветров, зимою же от мороза огребая урасы снегом».
18 сентября после «вывозки лошадей и исправления харчевых припасов... обратились на реку Чону, продолжая путь неизвестными тундряными и горными местами, вышли к Чоне октября 1 числа».
«От 1 октября за прокормом присталых лошадей и отдохновением оленей, и за промыслом, завезенным с собой неводом на пищу карасей, прожили до 15 октября... Сего числа выпал глубокий снег и настала зима». Не рискуя идти старым трудным путем («К проезду в вершине Вилюйские»), направились обратно через Олекминскую округу: «...выехали к Нахарскому княсцу Мардысу, а оттоль на Сунтар в последних числах ноября месяца».
Вот и все, что автор дневника поведал о пути обратном. Путь этот, вероятно, был не менее труден и к тому же невесел. Ожидаемых диковинных редкостей и драгоценных камней не было найдено, а «жерла самогранные зеленые» (гроссуляры) были гранильщиком Корякиным «не уважены», то есть забракованы им как драгоценные камни. Хотя в наше время из гроссуляров делают отличные и довольно дорогие бусы.
Что же касается «обожаемого» тунгусами котла, производящего звуки, то до него «...в рассуждении отдаленности места в одно лето достигнуть было не можно, к тому же не было где взять в перемену оленей». Но кое-какую информацию об этом котле Попов все же заимел. Он пишет, что этот котел видел еще в молодые годы тунгусский старшина Оленского округа Шологонского роду Асхар Чулькулин. По словам последнего, на берегу Вилюя у речки Могды лежит обычный чугунный котел, троеножный с ушками, «в который не более поместиться может ведро воды и нога говядины скотинной...». Якобы в тех местах в древние времена были построены русскими промышленными людьми зимовья, и будто бы котел ими оставлен. Легендарный котел, увеличенный фантазией кочевников до огромных размеров, оказался обычной посудиной для приготовления пищи. Жалкая проза жизни!
В конце дневника сержант Попов подсчитывает количество пройденных его командой верст. Количество впечатляет: 1870 верст в одну сторону и столько же, не менее, в другую. И это за сравнительно короткий срок: с 20 апреля до декабря. Сопоставление с географической картой показывает, что если он и ошибся при подсчетах в сторону увеличения километража, то не намного. Тем более, извилистый путь отряда по незнакомой тайге точно учесть невозможно.
Упорство в достижении цели, непрерывный тяжелый труд, который заключался не только в переходах «по тундровым, болотным и горным местам», но и в самообеспечении продуктами питания, почти ежедневном устройстве и свертывании лагеря, завьючивании оленей и лошадей, защите от непогоды, защите от гнуса и комаров. На примере похода Попова становится понятным, каким образом русские первопроходцы, вольные казаки и служилые люди так быстро освоили и колонизировали Сибирь и Дальний Восток.
РУССКОЕ УСТЬЕ
В начале прошлого века политический ссыльный Владимир Зензинов оказался на севере Якутии в поселке Русское Устье, расположенном в придельтовой части реки Индигирки. Там он обнаружил сообщество странных русских людей, которые как бы вышли из древней Руси. Они изъяснялись на старинном русском языке, сохранили многие старинные обычаи, грамоты не знали, их как бы не коснулась цивилизация. Занимались они рыболовством, охотой на перелётную дичь, вели промысел песца. Ездили по тундре на нартах с собачьими упряжками, колесо напрочь забыли. Всего их насчитывалось в 1912 году 462 человека.
Зензинов записал легенды, услышанные им на Русском Устье от стариков, будто предки этих людей вышли из России, причемочень и очень давно, во времена, может быть, Ивана Грозного, скрываясь от преследований жестокого царя. На поморских судах кочах и ботах — они прошли по северному морю несколько тысяч верст и обосновались в устье Индигирки. В памяти у стариков сохранилось, что среди переселенцев были состоятельные люди, даже дворяне. В. Зензинов опубликовал эти легенды и свои наблюдения жизни русско-устьинцев в книге «Старинные люди у холодного океана» [3], чем привлёк внимание широкой общественности к этим людям. Позднее Русское Устье посещали журналисты, писатели и этнографы. Издательством «Пушкинский дом» в Санкт-Петербурге была опубликована книга «Фольклор Русского Устья» [9]. В семидесятых годах там побывал Валентин Распутин, чтобы поближе познакомиться со странными людьми.
Но есть и другое мнение о происхождении колонии русских людей на Индигирке. А. Л. Биркенгоф [2] в своей книге «Потомки землепроходцев», изданной в 1972 году, отрицает ценность легенд и преданий русско-устьинцев об их приходе на Индигирку морем на кочах прямо из России. И считает, что они могли быть потомками землепроходцев — казаков, стрельцов и промышленников, пришедших на Лену и побережье северного моря в тридцатые годы XVII столетия [6].
Так, когда же возникла колония русских людей в устье реки Индигирки: до прихода туда из Якутска первых казачьих отрядов или после того?
Вскоре после открытия реки Лены и основания города Якутска казачьи отряды и стрельцы спустились и к побережью Ледовитого океана. Судя по сохранившимся документам в архиве Г. Ф. Миллера [1] и по другим источникам, впервые на Индигирку вышли енисейский десятник Елисей Буза и тобольский казак Иван Ребров. Это случилось в 1638 году. Иван Ребров поставил в устье реки два острожка. Интересно то, что в своих донесениях он называет Индигирку «Собачьей рекой» [1]. Вероятно, казаки Реброва впервые увидели езду на собаках, и их удивление отразилось в документах («скасках»). Привезли ли с собой русские переселенцы ездовых собак (с ненецкой тундры, к примеру) или они переняли опыт обращения с собаками у местных племен, в исторических документах Миллера сведений не сохранилось. Но то, что жители Русского Устья к приходу казаков из Якутска освоили этот вид транспорта в тундре и пользовались им, сомнений вроде бы нет. Не одни же собаки без людей бегали на берегах Индигирки, чтобы она получила название «Собачья река». В острожках Ребров не оставил своих людей, так как необходимости в этом, видимо, не было.
В 40-е годы на Индигирке были поставлены еще три ясачных зимовья: Верхне-Индигирское (Зашиверское), Ожогинское и Русско- Устьинское. Ставили зимовья, как упоминается в документах Миллера, десятник казачий Мокрошубов и служилые люди Андрюшка Горелов, Ивашка Торхов и Вторка Катаев. По другим данным, зимовьё Зашиверское было построено отрядом служилых людей Постника Иванова в 1639 году. Судя по справке из энциклопедии, зимовья на Индигирке в 1642 году ставили и Семен Дежнев со Стадухиным. В данном случае неважно, кто первый ставил в низовьях Индигирки зимовьё. Интересно то обстоятельство, что оно названо Русско-Устьинское, а не Нижне-Индигирское (как на Колыме — Нижне-, Средне- и Верхне-Колымское). Но если в документе, датированном 1645 годом, зимовье названо Русско-Устьинским, значит, русские здесь уже жили. Вот один из ключей к разрешению многолетних споров, когда же русские пришли на Индигирку.
А. Л. Биркенгоф [2], однако, считает, что западная протока Индигирки изначально называлась «Русской», и потому поселившиеся позднее на ней русские люди и были названы русско-устьинцами . Аргумент этот нельзя считать достаточно веским, ибо кто из почивавших здесь аборигенов мог её так назвать, если они даже представления не имели до прихода казаков, что такое Россия и в какой она стороне.
Одним из доказательств того, что в устье Индигирки до прихода кочей из Якутска не было людей, Биркенгоф считает «скаски» или «списки» потерпевших крушение на море Мокрошубова, Булдакова и орелова в 1649—50-е годы, которые выходили по льду к устью Индигирки, а потом добирались по реке на лыжах и на нартах до Уяндинского зимовья, что в 600 километрах южнее. Если были жители в устье Индигирки, то почему, дескать, казаки не остановились у них, спрашивает А. Л. Биркенгоф.
Объяснение здесь простое: казаки должны были возвращаться в Якутск, а путь обратно был только один — через Уяндинское зимовье, откуда уже был освоенный «тракт» через верховья Яны на Алдан и в Якутск. (Именно этим путем шёл в 1636 году Постник Павлинов из Якутска: по притоку Алдана реке Тукулан, через горы на реку Сартана, по ней в долину Яны, и далее по Адыче и Туостаху к Индигирке.) В этом зимовье был и воинский гарнизон, и какие-то запасы продуктов. И не так далеко обитали подъясачные скотоводы-якуты и кочевали оленеводы эвенских племен, у которых можно было арендовать лошадей для продвижения к Алдану и приобрести мясо. Ждать оказии на море было бесполезно, её могло и не быть. Проходящие кочи из Якутска шли на Колыму и в протоках Индигирки не задерживались. А прокормить десятки сторонних людей русско-устьинцы просто не могли, не было у них в достатке даже рыбы — основной их пищи. И не было условий для жилья и запаса дров. А вот дать нарты и лыжи, на которых Мокрошубов и другие уходили к Уяндинскому зимовью, они могли, может, даже сопровождали казаков с упряжками собак. Сами казаки зимой в тундре построить нарты, разумеется, не могли. Нелишне заметить, что они не задержались и в Олюбинском зимовье, которое находилось на полпути к Уяндинскому в лесной зоне, где кто-то обитал и где жилье и дрова не были такой неразрешимой проблемой, как в тундре. Выходить с Индигирки потерпевшим крушение надо было только зимой, не ждать лета, это очевидно.
О том, что индигирцы помогали попавшим в беду казакам и служилым людям, есть и другие свидетельства. В 1652 году «стольнику и воеводе Михаилу Семеновичу Лодыжинскому» в Якутск поступает донесение «от служилого человека Ивашки Овчинникова о разбитых в Омолоевской губе непогодою кочах и что они сидят в тундре». И несколько позднее донесение от Ивашки Кожина «о разбитом в Омолоевской губе до основания коче и о разнесённых запасах». Долго потом сидели в тундре потерпевшие крушение, если только зимой 1653 года их вывезли «нартами на Индигирку». Кто их вывез и куда, в какое место на Индигирке, сведений в документах Миллера нет, но, надо полагать, без русско-устьинцев тут не обошлось.
Но почему в «скасках» казачьих отрядов и в донесениях «служилых людех», сохранившихся в документах Миллера [2], нет упоминаний о русских жителях в низовьях Индигирки и Яны? Ведь вполне очевидно, что казаки с ними встречались, у них находили приют и посильную помощь. Одно из наиболее вероятных объяснений этого — нежелание русских поселенцев афишировать свое жительство на Яне и Индигирке. Только недавно они ушли от тяжёлой государевой руки, нашли безопасное место на земле, где им не грозит смерть, их никто не облагает податями и насильно не заставляет работать на разных повинностях, и вдруг появляются служилые государевы люди, которые снова могут ввергнуть их в кабалу. Само собой разумеется, они пытались избегнуть этой участи. Может быть, они договорились с казаками, чтобы те не выдавали их присутствия на Индигирке (догадку об этом высказывает и С. Н. Азбелев [9]). Да, вероятнее всего, так оно и было, и казаки честно блюли договор, умалчивая о том, кто им помогал. Если бы их вывозили аборигены оленьими упряжками, то они бы в «скасках» об этом упомянули, а о собаках — умолчание! Но эвены и якуты на собаках не ездили, чукчи обитали далеко, так что вывод тут очевиден. Может быть, в Якутске и слышали о каких-то русских в дельте Индигирки, но просто не трогали их, не заставляли платить ясак, как эвенов, якутов и чукчей. Ещё и потому, что взять с них было нечего. Охотой на пушных зверей в то время они почти не занимались, домашних оленей не держали, питались рыбой и дичью. Поэтому их промыслы не представляли интереса для государевой казны.
Есть, однако, мнение, что в Якутске вроде бы знали о русском поселении в низовьях Индигирки. Р. В. Каменецкая [4] пишет, что будто бы сохранился документ об уплате налога 142-мя русско-устьинцами в 1650 году, среди которых были устюжане, усольцы, мезенцы, белоозерцы, колмогорцы, пинежане, новгородцы. На кочах, а местами на собаках, эти люди «двигались потоком в поисках пушных угодий», все дальше пробираясь вдоль побережья на восток, пока не дошли до Индигирки. По сути, может быть, так оно и было, но существование документа «об уплате налога» русско-устьинцами в 1650 году сомнительно. Не могли так подробно знать в Якутске о русско-устьинцах, чтобы ещё обкладывать их налогами.
Здесь совершенно явная путаница. Оброчные книги в Якутске действительно содержат упоминание, что в 1650 году с Индигирки уплатили оброк 142 человека. Но это промышленные люди, пришедшие на соболиный промысел в лесную зону Индигирки, а вовсе не русско-устьинцы. А то, что эти люди тоже с севера исконной России, не удивительно. С других мест России попадали в Якутию немногие.
Впрочем, если упомянутый документ достоверен, то это еще одно свидетельство о древности заселения Русского Устья. К 1650 году не могла там образоваться столь обширная колония русских только из мангазейских и енисейских казаков Бузы, Реброва, Дежнева, Стадухина, они все были на счету в Якутском воеводстве.
У Д. Н. Анучина есть интересная мысль, что часть предков русско- устьинцев переселилась из Мангазеи [9]. Это не противоречит историческим документам, поскольку первопроходцами на Лене были мангазейские казаки [6]. В 1619 году мангазейские власти собрали отряд в 40 казаков во главе с Пантелеем Демидовичем Пяндой. Отряд двинулся из Туруханска вверх по Нижней Тунгуске и через три года вышел к Чечуйскому волоку на Лену. Нелёгок был путь, если он потребовал трехлетнего срока!
На реку Лена с Нижней Тунгуски отряд Пянды перешёл по зимнику длиной всего 12 километров с выходом на Лену где-то в районе нынешнего Киренска [11]. Казаки (вроде бы) построили новые струги, спустились по Лене то ли до нынешнего Якутска, то ли до Олекминска, и, повернув обратно, обследовали верховья реки. Осенью того же года казаки Пянды с Лены перешли на Ангару и на следующий год возвратились в Мангазею. Л. И. Шинкарев пишет, что они вернулись в Енисейск, но вышли из Туруханска, а не из Енисейска. Разве, что до Енисейска им было ближе, и, возвращаясь, они направились к нему [11]. Сведения об отряде Пянды, о местах его перехода с Тунгуски на Лену и о возвращении обратно противоречивы. Неясно даже, вернулся ли он в Мангазею или впоследствии продолжил работу на Лене вместе с енисейскими казаками. Но сохранились источники, где упоминается, что весть о «великой реке Лене» в Москву доставил всё же мангазейский воевода Андрей Палицин в 1633 году [1].
Первую экспедицию по сбору ясака мангазейцы организовали в 1630 году. Дружину в 30 казаков возглавил Мартин Васильев. Казаки поднялись по Нижней Тунгуске до нынешнего Ербогачена и, перевалив волоком на Чону, спустились по ней и по Вилюю до Лены. В дальнейшем мангазейские казаки уже осваивали якутские просторы вместе с енисейскими от Якутского воеводства, а сама Мангазея вскоре то ли захирела, то ли вообще перестала существовать.
Все это так, но бытующее мнение о том, что Русское Устье основали землепроходцы, прибывшие в тридцатые годы XVII столетия, вероятнее всего ошибочно. Конечно, в те годы множество людей побывало на побережье северного моря. Вслед за казаками и «служилыми людьми» — сборщиками ясака — шли промышленники, которыми Якутск был буквально наводнен. Только в 1642 году, поданным Ф. Е Сафронова [8], через якутскую таможню прошло на соболиные промыслы 839 человек, на рыбную ловлю 31 человек. Часть этих людей, возможно, появлялась с казаками Реброва, Дежнева, Стадухина и в устье Индигирки. Но все потом уходили за соболями в лесную зону. В 1650 году на соболиный промысел по Колыме и Индигирке было отпущено из Якутска 66 человек, из них самостоятельных промышленников, приказчиков и торговцев — 13, «покрученников» (наёмных работников) — 53 [8]. Всех привлекала возможность поживы в неизведанных краях. Но был ли у них стимул оставаться там на постоянное жительство? Если проанализировать ситуацию, то стимула вроде бы никакого.
Соболя в тундре нет, соболь водится только в лесах на сотни километров южнее, в среднем течении Индигирки. Песцового промысла в те годы в прибрежной тундре или не существовало, или он находился в зачаточном состоянии у эвенов и чукчей. Добывать песца для собственных нужд те могли и в лесной зоне, где зимовали с оленьими стадами. Охота на морских зверей — тюленей, моржей — была неподъёмной из-за отсутствия промысловых судов и обычно тяжёлой ледовой обстановки на море. Только бивни мамонта и клыки моржей интересовали скупщиков в Якутске, но добывать их было нелегко, да и доставлять в Якутск непросто.
Словом, никакого смысла задерживаться на постоянное жительство в краю льдов, ураганных ветров в голой тундре с длиннющей полярной ночью у приходящих из Якутска служилых и промышленных людей не должно было быть. Не следует упускать из виду, что все служилые люди и казаки были на учете в якутском воеводстве. Им выдавалось задание («память») по сбору ясака с иноземцов» и по поискам «новых землиц», и им же полагалось содержание: мука, крупы, соль, масло, огневые припасы и «денежное довольствие». В случае успешного «подведения под государеву руку» местных племен и сбору с них положенного ясака, служилых людей ожидало какое-то награждение, почести, продвижение по службе и определённое пенсионное обеспечение («за кровь и раны» в стычках с иноземцами). Если же они не возвращались в Якутск, оседая в «новых землицах» насовсем, то теряли все привилегии и право считаться государевыми слугами.
Не удивительно, что даже преступники, «воровские люди», бежавшие в 1647 году из Якутска от воеводы Пушкина, под предводительством известного первопроходца Василия Бугра, и ограбившие несколько торговых кочей на Лене, не спрятались от преследователей в дельте Индигирки (где бы их никто не нашёл), а перезимовали вместе с преследователями — казаками Стадухина в Нижне-Янском зимовье. И в 1648 году оказались на Колыме, а позднее, в составе отрядов Стадухина и Дежнева, осваивали бассейн Анадыря и побережье Охотского моря. После смены власти, при воеводах Францбекове и Акинфове, они были, видимо, прощены, и Василий Бугор вернулся в Якутск.
Кстати, в пятидесятые годы все предприимчивые люди старались попасть на Анадырь и далее к Охотскому морю. Перевалочном пунктом, куда стремились кочи из Якутска, было Нижне-Колымское зимовье. А в дельту Индигирки люди попадали лишь по нужде, после кораблекрушений. Русское Устье оставалось как бы на «отшибе» северного морского пути.
Представление A. Л. Биркенгофа о том, что селение «Русское Устье» формировалось постепенно в течение длительного времени, нуждается в уточнении. Конечно, к первоначально обосновавшейся здесь группе людей могли позднее присоединяться поселенцы с других мест севера Якутии: с Анадыря, с Алазеи (как считает Биркенгоф, отрицающий в то же время вероятность подселения русских из Зашиверска, которое высказывалось другими исследователями. Все уцелевшие русские семьи с Зашиверска, по его мнению, осели в районе Ожогина и Аллаихи, они не стали уходить из лесной зоны в тундру). Но более поздние поселенцы не были, по-видимому, многочисленны и не могли размыть плотное языковое ядро первопришельцев. Тем более, что последние были замкнуты, консервативны, недоверчивы и не очень охотно допускали в свою среду «чужаков».
Как уже говорилось, ни в одном документе описи Миллера за весь XVII век упоминаний о Русском Устье нет. Первое известие о нем находим в документах Большой Северной экспедиции Беринга. Отряд лейтенанта Дмитрия Лаптева, продвигаясь в 1739 году вдоль побережья от Лены на восток, вмёрз со своим ботом «Иркутск» в лёд недалеко от устья Индигирки и перезимовал в Русском Устье. Русско-устьинцы помогли Лаптеву перевезти нартами триста пудов продовольствия на реку Колыму (а это 600 верст!) и вырубили пешнями изо льда его бот. Над вырубкой трудились весной 85 человек. Видимо, немалое население было в этом поселке, если трудоспособных взрослых насчитывалось около сотни.
Несколько позднее Русское Устье упоминается в связи с тем, что жители его подобрали на речке Вшивая небольшой отряд Никиты Шалаурова и перебросили его на Яну. Но эти события происходят через сто лет, после того как на побережье пришли первые казацкие отряды Елисея Бузы и Ивана Реброва.
Можно обсуждать два варианта возникновения Русского Устья на Индигирке. Или его основали казаки отрядов Бузы и Реброва, осевшие на постоянное жительство в этом благодатном месте, или жители Русского Устья пришли и основали поселок раньше, чем появились первые казацкие отряды из Якутска.
В пользу первого предположения говорит то обстоятельство, что пришедшие на Индигирку казаки не могли вроде бы не заметить в устье реки довольно крупного поселения русских людей. И Ребров первый строит жилье на Индигирке — «острожек», который позднее и вырос в поселок Русское Устье.
В пользу второго предположения Валентин Распутин приводит другие факты и соображения [7]. Первые казацкие отряды шли из Якутска на побережье северного моря без женщин. Да было бы и странным, если бы они брали жён и детей, идя почти на край света в полную неизвестность, в края снега и льда. И цель у них была не заселение края, а сбор ясака с местных жителей и присоединение к государевым владениям новых «землиц». Выполнив очередное задание, они возвращались в Якутск. А в Русском Устье изначально имелись русские женщины. Их появление вполне логично, если они пришли вместе с мужчинами морским путем до появления первых казацких отрядов.
Конечно, какое-то смешение крови русских жителей с кровью аборигенов — якутов, юкагиров и эвенов — было во все времена. Мужчинам, естественно, трудно было обходиться без женщин, если русских было мало, и они брали в жены девушек из местных племен, роднились с аборигенами. Но в потомстве со временем национальное обличье должно было бы довлеть, а русскость исчезать. А на лицах русско-устьинцев даже в XX веке не были заметны, или только слегка просматривались, черты местных национальностей. Облик их был, как замечает наблюдательный Распутин, типичный для жителей бывших Новгородских вотчин — нынешних Архангельской и Вологодской областей.
В устье Яны тоже было какое-то древнее русское поселение, называвшееся Село Казачье. Жители этого села считали, что они прибыли на Яну морем на кочах. И что было это очень давно. Возможно, именно в этом селе провёл шесть лет десятник Алексеи Буза, собиравший ясак с 1636 по 1641 год по рекам Оленёк и Яна. Если там уже были русские поселенцы и среди них женщины, то это неудивительно. Зачем казакам было торопиться обратно в Якутск, где их, может быть, ждало наказание за нерадивость в сборе ясака и в приобретении «новых землиц». Но это, конечно, домысел.
Как уже говорилось выше, у русско-устьинцев тоже существовала легенда, что пришли они не с юга по рекам Лена и Индигирка, а ступили на эту землю с моря, уходя на кочах от притеснений Ивана Грозного. Как известно, последний свирепо расправлялся с новгородской вольницей, и уцелевшие от казней жители бежали не редко в неведомые земли, бросая имущество и насиженные места. Могли уходить и большими группами, с женами и детьми, что, возможно, и случилось с будущими русско-устьинцами. Валентин Распутин отмечает, что русско-устьинцы гордятся тем, что пришли ни Индигирку раньше якутов. Хотя последние к началу XVII века (по данным Ксенофонтова, 1992 [5]) уже обитали в верховьях Яны и по Оймякону.
Другой любопытный факт отмечает Валентин Распутин [7]: русско-устьинцы не были раскольниками. Они пришли на Индигирку до раскола русской православной церкви, начало которого относится к 1653 году. Именно в этом году патриарх Никон начал выпуск исправленных богослужебных книг. О расколе русско-устьинцы не знали ничего. Хотя если бы они пришли в Якутию уже в середине пятидесятых годов, то о протопопе Аввакуме и патриархе Никоне они не могли бы не знать. Этот факт, конечно, косвенный, но очень значащий, определяющий верхнюю дату возможного появления русско-устьинцев на Индигирке.
Еще одно интересное соображение Валентина Распутина. В книге «Фольклор Русского Устья» есть такая фраза: «В топонимике жителей дельты Индигирки сохранились названия, восходящие к именам некоторых предводителей казачьих экспедиций середины XVII века» [9]. Значит, русское население здесь до прихода казаков существовало, иначе некому было бы эти названия присваивать и в памяти сохранять.
В связи с этим возникает вопрос, почему переселенцы по пути на восток приткнулись именно к устью Индигирки, а не остановились, к примеру, в устье Оби, Енисея, Оленька, Лены? По этому вопросу есть следующие соображения. Нижнее течение Оби и ее притока реки Таз было, по-видимому, в XVI веке уже колонизировано новгородцами, и поморы на кочах хорошо знали туда дорогу. Да и государевы «служилые люди» с казаками, возможно, туда наведывались собирать ясак с местных племен. Не случайно на берегу реки Таз возник в 1601 году город-крепость Мангазея. Беглецам, естественно, не было смысла обосновываться там, куда могли дотянуться руки царских слуг. Они шли дальше на восток.
Устье Енисея отстоит недалеко от устья Оби, и оно тоже могло посещаться казаками и промысловиками-охотниками. Есть легенды, что в конце XVI века промышленные люди уже плавали по Тунгуске-реке, ведя обменную торговлю с тунгусами. Обосновываться в этих местах переселенцам тоже было небезопасно.
Устья других крупных рек, впадающих в северное море, Оленька и Лены, находятся на значительном удалении от «землиц», известных в то время московским властям. Но для постоянного жительства приустьевые места этих рек не совсем благоприятны. И вот по какой причине. Оленёк и Лена пересекают здесь отроги Хараулахского горного хребта, и близ их устьев нет достаточного количества озер, где бы гнездилась перелетная птица. Последняя в основной массе уходит летом на водоемы обширной дельты Лены, где она малодоступна для охотников. Следует заметить, что в сравнении с Индигиркой эти реки не так богаты рыбой. Они текут большей частью по карбонатной толще палеозоя, в которой мало питательных для рыбы веществ. В летнее время вода в них совершенно прозрачна. Индигирка же тысячу километров течет по четвертичным осадкам, размывая насыщенные питательной органикой рыхлые песчано-глинистые толщи. Вода в ней в любое время года мутная, как молоко, в которой рыбной мелочи несметное множество.
Огромность самой реки Лена, постоянные штормы на ней и гористые берега не располагали для постоянного жительства в прошлом, как не располагают и в настоящее время. С давних времен в приустьевой части реки имелся лишь небольшой поселок Тит-Ары, возможно, в XVI веке не существовавший. Коренные жители по Лене и по Оленьку селились подальше от тундры, в лесной зоне, в 300-400 километрах от устьев.
Река Индигирка являет собой уникальное явление природы. Такой насыщенности рыбой, как уже сказано, нет ни в каком другом водоеме Якутии (не считая, конечно, Колымы, тоже исключительно рыбной). Кроме того, по обеим берегам реки в приморской низменной равнине имеются сотни рыбных озёр. И эти же озёра — кормовые для всевозможной прилетной птицы. По озерам, по старицам и по рукавам реки в её приустьевой части скапливаются летом тысячи линных гусей, добывать которых можно практически голыми руками.
Надо полагать, к этой реке переселенцы вышли не случайно. Вероятно, была глубокая разведка вдоль нелегкого и длительного пути беглых кочей из Поморья. Может быть, не одну зимовку пришлось им пережить, двигаясь от Печоры до Индигирки, прежде чем они вышли к этому благодатному месту и обосновались в нём навсегда. А, может быть, обосноваться там их заставила всё же нужда, изношенность кочей или их крушение.
Помехой для аборигенов этих суровых природных краев они не стали. Местные жители— эвены, чукчи— были оленеводами. На побережье океана они выходили со стадами оленей только в летнее, «комариное» в тайге время. С наступлением холодов и пронзительных северных ветров оленей перегоняли из тундры к югу в лесную зону, где у кочевников имелись более или менее постоянные места обитания. Прибрежная тундра стала интересовать аборигенов только с возникновением и развитием песцового промысла. А он появился значительно позднее прихода русских на Индигирку. Во всяком случае первые промысловики, сопровождавшие пешие казачьи отряды из Якутска, о песцах не знали, они ни интересовались лишь соболями. Практически только соболей они вывозили в Россию. К примеру, по данным Ф. Г. Сафронова [8], в июне — июле 1641 года «торговые и промышленные люди вывезли на Русь 29 785 соболей, 22 164 пупков собольих, 27 лисиц красных, 7 росомах, 20 горностаев, 180 белок». Песца, как мы видим, в таможенной переписи ни одного. И лишь в 1685 году в списке вывезенной из Якутска пушнины вместе с 2304 шкурками соболей видим одну рысь, 6560 горностаев и 100 песцов. Ясно, что песцовый промысел и на Индигирке стал развиваться только к концу XVII столетия.
У пришельцев с аборигенами наладились, вероятно, добрососедские отношения на базе обменной торговли. Русские могли поделиться новыми приёмами охоты (пасти, кулемы, плашки) и рыболовецкими снастями (неводы, сплавные сети, пешни, мережи). А у местных жителей они могли позаимствовать меховую одежду, обувь, предметы повседневного обихода и продукты питания. Научились у местных также строить наиболее рациональное временное жильё на местах рыбалки и охоты — урасы, балаганы, тордохи. Случаев враждебного отношения к ним аборигенов в памяти русско-устьинцев не сохранилось. Повода для конфликтов у них могло не быть ещё и по той причине, что ясак они не собирали, «аманатов» не требовали и тем самым не раздражали местных жителей и не причиняли им обид.
Конечно, природное изобилие не означало, что жизнь переселенцев на новом месте была легка. Суровым и непрерывным трудом, как отмечает в своих воспоминаниях Владимир Зензинов, она была наполнена во все время года. Не только мужчины, но также женщины, старики и подростки с 10—12 лет постоянно были заняты разнообразными хозяйственными делами.
Главная пищей людей была рыба. Её ловили круглый год: весной и летом сетями и неводами, зимой сетями подо льдом. Иногда лёд достигал толщины полутора метров, так что не просто было долбить в нём лунки, ставить и проверять сети. Рыбу надо было заготовлять не только для пропитания людей, но и в качестве корма для ездовых собак. На каждую взрослую собаку уходило от 7 до 10 «сельдей» (ряпушки) в день. А хороший хозяин мог держать до 40 ездовых собак, что заставляло ловить рыбу в огромных количествах. Ранней весной мужчины ловили нерпу, мясо которой тоже служило кормом для собак. Пока ещё лёд был крепким, подбирались к лункам и растягивали около них сети, в которых нерпа и запутывалась. Промысел нерпы был довольно опасным, так как лёд весной был не всегда надёжен.
В июле месяце начиналось «гусевание». Мужчины сплавлялись на легких лодчонках по протокам реки до их устьев, где местами в старинных озерах скапливались линные гуси, и добывали их тысячами. Плохой считалась охота, если добывалось по 50—60 гусей на загонщика, а хорошей, если приходилось по 700—800 штук на человека. После рыбы гуси были вторым источником питания. Причем русско-устьинцы научились хранить забитых гусей без соли, зарывая их в ямы, в мерзлоту. В августе месяце мужчины охотились на оленей, били их пиками на воде, когда мигрирующие стада переплавлялись через реки. Подобная охота на утлых лодчонках — ветках — чрезвычайно опасна, но временами добычлива.
Осенью у мужчин новая забота — ставить или приводить в порядок ловушки для песцов («пасти»). А зимой они должны были эпизодически проверять ловушки, чтобы попавшие в них песцы не были попорчены другими хищниками. На разъезды по ловушкам (в темноте полярной ночи!) уходило не менее месяца довольно тяжкого труда. Ловушек могло быть до 200 штук и на удалении до сотни километров от заимок. Шкурки добытых песцов надо было еще обработать, что тоже требовало немалого времени. По всем маршрутам расположения пастей, в 15 — 20 километрах одна от другой, имелись промысловые избушки для ночлега и отдыха (балаганы или урасы). В каждой избушке хранился неприкосновенный для посторонних запас дров и продуктов. По неписаному закону трогать вещи и чужих избушках считалось тягчайшим грехом.
Постоянной круглогодичной заботой индигирцев были дрова. В тундре дров нет, их поставляла только река. Это значит — надо было постоянно дежурить у реки в большую воду и вылавливать плывущие деревья-топляки, что на утлых лодочках делать не так-то просто. Дров на полярную зиму требовалось немыслимое количество. Не только для круглосуточно горящих камельков в постоянных жилищах, но и для обогрева временных стоянок в процессе длительных поездок на зимнюю охоту и рыбалку. Дрова приходилось возить с собой в нартах. На строительство домов и для разных хозяйственных поделок (нарты, лодки, песцовые пасти) тоже требовался лес и притом хорошего качества. Бывали засушливые годы, когда Индигирка не поставляла плавника в достаточном количестве. Тогда приходилось дрова экономить, разводить огонь в очагах только утром и вечером для приготовления пищи, а в остальное время «сберегать тепло» под одеялами или шубами.
Любые хозяйственные работы, связанные с передвижением, выполнялись исключительно на собачьих упряжках. Оленьим транспортом русско-устьинцы практически не пользовались. Зато в тренировке и воспитании ездовых собак они достигли выдающихся успехов. Мастерство индигирцев в обращении с собаками, по словам А.Г. Чикачева [10] (коренного русско-устьинца), было отмечено даже знаменитым полярным исследователем Руалем Амундсеном. В своих воспоминаниях он писал: «В езде на собаках все русские и чукчи стоят выше всех, кого мне приходилось видеть. Он выменял или закупил индигирских собак и на их упряжках достиг южного полюса. С индигирскими и нижнеколымскими собаками Георгий Ушаков и Николай Урванцев за два года изучили острова Северной Земли. По их признаниям, без дрессированных собак они бы этого сделать не смогли [2].
В голове упряжки обычно запрягались две наиболее выносливые и смышленые собаки. Хорошо тренированная передовая собака — главное богатство хозяина упряжки. Ценность передовой собаки не только в том, что она хорошо слушается команд и ведёт упряжку, но и в том, что в полярную ночь, нередко в пургу, не сбивается с намеченного хозяином маршрута, издалека чувствует жилье и хорошо различает заметённую снегом дорогу. В холодное время года, особенно при встречном ветре, у собак могло быть обморожение паха или сосков. Чтобы предотвратить это, на тело собаки надевали «ошейники» или «нагрудники» — повязки, сшитые из песцовых или заячьих шкур. При езде по насту или гололеду собаки могли поранить лапы. Во избежание этого для них шили из прочной ткани своеобразные «сапожки» или «торбаски».
В строительстве нарт индигирцы тоже достигли большого мастерства: их нарты были легкими, обладали хорошей проходимостью и отличались прочностью. На нартах перевозился груз в расчете 25—30 килограммов на одну собаку. При хорошем скольжении в марте-апреле 10—12 собак могли везти до 30 пудов груза [10].
Управлять нартой, особенно при быстрой езде, далеко не просто. Каюру необходимы сноровка, опыт и быстрота реакции в обращении с «прудилом» (тормозной палкой). Езда на пересечённой местности со множеством спусков, подъёмов и поворотов довольно опасна, надо обладать мужеством и выносливостью. Кроме того, надо уметь ориентироваться в безбрежной глади тундры. Неопытность в ориентировке на местности могла грозить гибелью. Во время застигшей в дороге непогоды надо было уметь сохранить себя и собак, а это тоже далеко не просто.
Еда у русско-устьинцев была довольно однообразной, но (как замечает В. Зензинов) обильной, и состояла почти исключительно из рыбы. Чаще всего ими употреблялась строганина из чира, нельмы, муксуна, да и из любой другой жирной рыбы, вплоть до осенней ряпушки. Строганина была под рукой в любое время года; летом рыба промораживалась в погребах, где температура держалась в самую жару от —3 до — 7 °С. Ели строганину без соли, часто с чаем.
Ежедневной похлёбкой служила «щерба», то есть уха из рыбы, сваренной в пресной воде. Соли употреблялось русско-устьинцами мало даже в те времена, когда её нетрудно было достать. Видимо, сказывалась закоренелая вековая привычка обходиться без соли вообще. «Щербу» ели обычно вечером, но и в любое другое время дня, она являлась как бы дежурным блюдом. Иногда рыбу жарили на угольях, и опять же без соли.
Обыденной едой была и вяленая рыба — юкола. Она как бы заменяла собой хлеб. Приготовлялась юкола так. Свежую, только что вынутую из сетей рыбу распластывали, очищали от внутренностей, надрезали мясо до кожи квадратиками, ставили внутри распорки и вывешивали сушиться на солнце. Свежую рыбу муха не трогала ( не откладывала личинки), а за сутки рыбий жир схватывался прочной плёнкой, которую муха прокусить уже не могла. Через трое суток юколу можно было считать готовой. Таким способом рыбу сохраняли без соли даже в самое жаркое «мушиное» время.
Следующими постоянно использующимися блюдами были борча и варка. На борчу шло всё то, что оставалось в рыбе после отделения от нее юколы, — кости, мякоть, частично кожа. Все это сушилось, потом истиралось в деревянных ступах и хранилось и виде сухой волокнистой кашицы. А «варкой» называли ту же «борчу», но проваренную в рыбьем жиру. Хозяйки готовили также «топтаники», напоминавшие обычные российские пироги, но с той разницей, что готовились они целиком из рыбы. Из мороженой икры ряпушки пекли также оладьи, «барбаны» (толстые колечки) и даже блины, которые по толщине и форме почти не отличались от мучных блинов. Все это испекалось на жиру озёрного чира без какой-либо примеси животного масла. Рыбными деликатесами считались также мороженая налимья печенка (макса по якутски) и жирный рыбий горб, который ели сырым, без соли.
Мясо для русско-устьинцев было большой роскошью. Случайно подстреленный дикий олень, или добытый на переправах мигрировавших стад весной и осенью, заготовленные с лета и проквашенные линные гуси, куропатки, зайцы («ушканы») да кое-какая перелетная дичь — вот и весь их мясной рацион. Из мелко нарезанного мяса гусей, диких уток и гагар делался так называемый «кавардак», когда эта смесь жарилась в собственном соку. Поджаренные на рыбьем жиру мелкие кусочки оленины назывались «coлянкой». Мясными деликатесами считались олений язык и губы, сырой мозг из оленьих ног, сухожилия оленя и гусиные лапки, которые грызли сырыми.
Соприкоснувшись близко с жизнью русско-устьинцев, Владимир Зензинов удивлялся, что при таком «рыбном» питании и при полном отсутствии молочных продуктов, фруктов и овощей у жителей Русского Устья не наблюдалось серьёзных заболеваний. Цинги они не знали, и о ней даже от предков своих не слыхивали. Моровые язвы — корь и оспа, — от которых вымирали целые рода коряков и якутов, косвенным образом задевали и русско-устьинцев: часть поселенцев, по-видимому, гибла. Но в целом колония уцелела, и спасало её, вероятно, то, что жили люди не в одном компактном посёлке, а были рассредоточены по многим местам на протоках Индигирки и редко соприкасались. Зензинов в 1912 году насчитывает в дельте Индигирки около 20 «дымов», отстоящих одно от другого на десятки километров. А в центральном поселке, собственно в Русском Устье, имелось в то время всего 6 домов, в которых жили люди.
Дома в центральном поселке, по сведениям А. Г. Чикачёва [10], — это рубленые русские избы, но с плоскими крышами. Более зажиточные хозяева жили в домах пятистенках, где, как и на Руси, имелись горница и прихожая, а вдоль стен размещались широкие лавки (Чикачёв, 1990). Оконные рамы держались на задвижках из мамонтовой кости. В рамы вместо стекол вставлялась слюда, которая зимой заменялась льдинками. Сени всегда имели два выхода, и двери в них открывались вовнутрь. Это на случай снежных заносов, чтобы можно было из дома выйти. Делом чести хозяев было содержать зимние дома в чистоте. Полы в избах мыли горячей водой, а половицы иногда скоблили, очищая от грязи (как в русских избах на Вологодчине, где полы мыли с дресвой). Избы в тёмное время освещались «лейками», то есть плошками, в которые наливался рыбий жир и опускался фитиль, скрученный из тряпок. Лейки изрядно коптили, поэтому над ними подвешивался матерчатый абажур, предохранявший потолок избы от копоти.
Летом семьи русско-устьинцев жили в «русских урасах», как они сами называли свои жилища. Урасы являли собой пирамидальные сооружения четырёхгранной формы. Четыре жерди по углам («козлы»), к которым крепятся рейки, а к последним уже потолочный настил, покрытый дерном, и стенные доски, плахи или тонкие жерди, в зависимости от того, какой материал имелся под рукой. В стенах проделывали окна со «стеклами» из налимьей кожи, а в средине потолка — отверстие для отвода дыма. Под отверстием на полу ставился деревянный ящик, набитый песком — «шесток». Двери крепились в углублениях («пятах») на деревянных чурках и открывались наружу. Под потолком юрасы укреплялись две параллельные рейки («грядки»), к которым подвешивалась юкола для копчения, К грядкам же крепился крюк, за который подвешивали котел или чайник. Пол в урасах был земляной.
Из-за нехватки леса нередко строили маленькие избушки наподобие якутского «балагана». Называли их «юртушками» (примерно такой же тип жилищ был обнаружен при раскопках заполярной «Мангазеи» [10]). Кроме жилых, каждая семья имела и хозяйственные постройки: амбары, погреба, сараи для хранения собачьего корма («коспохи») и для хозяйственного инвентаря («рубоделы»). Некоторые состоятельные хозяева на зимних заимках имели «баньку» — небольшой амбар с деревянным полом. На шестке посредине «баньки» укладывались камни, нагреваемые огнем в камельке. Это почти что чёрные бани с «каменцами на севере европейской России, где нагретые камни давали тепло и согревали воду в ушатах.
От морозов в зимнее время русско-устьинцев спасала меховая одежда, материал и покрой которой были почти целиком заимствованы у коряков и чукчей. Но назывались меховые изделия чаще по русски, к примеру, зимний головной убор назывался «малахай». «Он изготовлялся из пыжика, опушался мехом бобра или росомахи, а внутри подбивался мехом песца или пыжиком. На дорогу в сильные морозы надевался сверху еще дорожный малахай, сшитый из волчьей шкуры.
Главной защитой от морозов была кухлянка — большой меховой тулуп с капюшоном, сшитый из оленьих шкур. Под кухлянку поддевалась меховая рубашка из летних оленьих шкур длиной до пояса, называемая «дундук». А в особо сильные морозы поддевался «паровой дундук», то есть две меховые рубашки, вдетые одна в другую. Сверх «дундука» для предохранения его от влаги надевалась камлейка» — широкая матерчатая рубаха с капюшоном. На ногах штаны чукотского покроя, сшитые из камуса, — шаровары «чажи». Обувь — ботинки из кожи оленьих ног с подошвами из шкуры старого оленя — надевалась на шаровары. Вот в такой упаковке охотники ездили зимой проверять пасти.
Женская одежда была чисто русского покроя: обычное платье — «капот», прикрывавший икры ног, длиной почти до пят, сборчатая юбка, кофта с длинными рукавами, полотняные или ровдужные штаны, меховые или замшевые сапожки. Зимой женщины носили жакеты, подбитые изнутри песцовым мехом и с меховым воротником. Манжеты, карманы и полы жакетов обшивались мехом лисицы, росомахи или тарбагана. На голове поверх платка носили лисью или бобровую шапку-ермолку. Женская обувь — торбаса — шилась из оленьего камуса, с подошвой из шкуры старого оленя, мехом внутрь. Под обувь натягивались меховые чулки («чажи»), сшитые из подстриженной шкуры молодого оленя. Торбаса окаймлялись цветной тканью с вшитым мелким бисером.
Летом мужчины и женщины во время рыбной ловли надевали «бродки» — мягкие сапоги из ровдуги. Головки таких сапог изготовлялись из кожи нерпы. Носили также непромокаемые сапоги из лошадиных кож — «сары», приобретавшиеся у якутов. На руках летом носили «персчанкты» — перчатки, сшитые из ровдуги и вышитые по верху, зимой — рукавицы из оленьих ножных шкур.
Судя по описаниям жизненного уклада русско-устьинцев, в нём много общего с недавним жизненным укладом крестьян европейского севера России. В семейных отношениях, в свадебных церемониях, в праздничных торжествах, в ритуалах похорон просматриваются российские обычаи и традиции. То же самое касается поверий, примет, предсказаний. Хотя русско-устьинцы были православными христианами, посещали свою неказистую церковь, держали в домах иконы, усердно молились, крестили детей, но в душе они оставались язычниками: верили в нечистую силу, в лешего («сендушника»), в домового («сушедко»), в русалок («водяных хозяек»), в нечистую силу («пужанок»). «Сендушник», по их представлениям, напоминал гоголевского чёрта. Он принимал облик людей, иногда появлялся в урасах и был даже непрочь сыграть с желающими в карты. А распознать его можно было по примете — он панически боялся масти треф.
Гадания девушек в крещенскую ночь удивительно похожи на такие же в Вологодской области: то же кидание башмачков через плечо, зеркало в бане полуночью, чашка с водой на морозе и прочие. Приметы у русско-устьинцев были свои, но вот общеизвестная примета: если уголёк выскочил из печи на пол, то в доме будет гость. Редкая хозяйка в доме на Руси, где есть русская печь, не вспомнит эту примету, если «стрельнул» уголёк.
Как и на Руси, у русско-устьинцев запрещалось мыть или подметать пол в тот день, когда хозяин уехал из дома. Верили, что это принесет несчастье, что уехавший может не вернуться. Любопытно, что одним из способов умиротворить погоду у русско-устьинцев было распевание былины про Садко — богатого гостя. Древняя новгородская былина сохранена была у них в устной памяти через много поколений.
Сохранились в памяти сказителей былины «Алеша Попович и Тугарин», «Илья Муромец и Идолище», «Добрыня и Змей». Исследователи фольклора Русского Устья отмечают, что, несмотря на позднейшие искажения и добавления, память русско-устьинцев сохранила в основе своей древнерусские тексты былин, относимые по времени возникновения, может быть, к Киевской Руси.
То же относится к сказкам, которые были неотъемлемой частью культурной жизни русско-устьинцев, множество которых хранилось в памяти сказителей. Сказки являлись для русско-устьинцев источником знаний о мире и в то же время служили организующей и нравственной силой. В сказках просматривались непреложные законы человеческого общежития, семейных отношений (своеобразного домостроя), этических норм поведения в тех или иных условиях.
Сказки русско-устьинцев в основном те же, что и на севере европейской России. Среди них и «Смерть Кощея», и «Гусли-самогуды», и «Три царства», и «Звериное молоко», и «Бова-Королевич», и «Кот, петух и лиса». Перечень тематики сказок обширен: в их числе и бытовые, и волшебные, и о животных, и своеобразные «сказки-былички». Конечно, текст их не совсем идентичен древним текстам известных на Руси сказок, в них привнесены новые детали, да и элементы более поздней литературной их обработки (Пушкиным, к примеру). Следует иметь в виду, что все же русско-устьинцы с XVIII века не были полностью отрезаны от внешнего мира. Что-то из песен, сказок и преданий передавалось и навещавшими их приезжими из Казачьего, из Нижне-Колымска, из Зашиверска. Сказки интересны и тем, что излагались они своеобразным говором русско-устьинцев.
Частушки у русско-устьинцев в XX веке процветали, они сочинялись на всякие злободневные темы, как и везде в деревенской России. Старинных среди них практически не сохранилось. Из трехсот частушек в сборнике «Фольклор Русского Устья» [9] лишь единичные можно отнести к классике. Например:
У русско-устьинцев:
По Подгорной я иду, Собаки лают на меня, Пускай лают, про то знают, Что милёнок у меня.Вологодский вариант на туже тему в пятидесятые годы прошлого века:
По деревеньке иду, Собаки лают на беду; Собаки лают, видно, знают, Что к сударушке иду.Или такая русско-устьинская:
Моя милка маленька — Чуть повыше валенка. Валенчик обуеца, Пузырьком надуеца.Вологодская — про милку, ростом маленькую:
Моя милка маленька — Чуть побольше валенка. В лапотки обуется, Как пузырь надуется.Когда-то на Вологодчине пелась задушевная частушка:
Я тогда тебя забуду, Сероглазая моя, Когда вырастет на камушке Зеленая трава.Отпевка была такая:
Я тогда тебя забуду, Мой милёнок дорогой, Когда вырастет на камушке Цветочек голубой.У русско-устьинцев на эту же тему есть вариант частушки, но скорее всего не точно записанный:
Только вырастет на камушке Цветочек голубой, Тогда я тебя забуду, Мой милёнок дорогой.Интересно отметить, что в речевом обиходе русско-устьинцев, по сведениям А. Г. Чикачева [10], сохранились слова, которые до недавнего времени бытовали у жителей севера Вологодской области, но к настоящему времени почти утраченные. К примеру, баско, басница — красиво (баско) говорящая. Но у русско-устьинцев оно приобрело несколько иной смысл — сплетница. Прочие слова, тоже пришедшие с Поморья и северных губерний: жалеть — любить, пахать — мести пол в избе, в сенях. В. Зензинов тоже обращает внимание на это, мало употреблявшееся за пределами севера России слово. Другие поморские слова: лонись — прошлый год, летось — прошлым летом, ночесь — прошлой ночью. Бытует у русско-устьинцев ещё слово зимусь, но оно на прародине вышло из употребления.
Есть в лексиконе русско-устьинцев общие с используемыми на севере России слова, которые изменили свой первоначальный смысл. К примеру, кулига. У них это залив в море, а по-вологодски — это часть луга, покоса, пашни. То же самое можно сказать о слове черен: по-русско-устьински — это рукоятка ножа, а в современном языке черен — это ручка ковша (поговорка: у него не душа, а черен от ковша), черенок лопаты, тяпки. Но ясно, что эти слова, пройдя через века, мало изменили свой первоначальный смысл.
Сохранилось, но получило несколько иной смысл слово блажь.
По-русско-устьински — это истерика, а в современном языке — причуда или что-то вроде этого (блажь в голове). То же самое можно сказать о слове накликать: у А. Г. Чикачева — вызвать на спор, на состязание, а в современном языке оно употребляется в паре с другим словом — накликать беду. Почти аналогичная ситуация с русско-устьинским словом надсада. В их лексиконе это забота. На Руси такое слово в этом смысле не употребляется, но есть слово надсадиться, то же, что надорваться (от непосильного труда).
Своеобразно слово натакиваться. По-русско-устьински — это случайно найти. Оно созвучно редко встречающемуся ныне слову натакивать, иначе говоря, науськивать (собаку, например). Но смысл уже совершенно другой. Или слово напетаться. По-русско-устьински — это тепло одеться, а на коренной Руси оно означает сильно устать. Разница существенная. Впрочем, слово напетаться уже вышло из употребления и на Руси.
Интересное слово у русско-устьинцев пустобай. Оно у них вроде бы уподобляется слову краснобай. В разговорной речи вологодского народа такого слова нет, но есть близкие по смыслу слова — пустомеля, пустозвон.
Есть в словаре русско-устьинцев глагол галиться, что означает издеваться, насмехаться, глумиться. В современном литературном языке слова галиться нет, но есть производное — изгаляться. Смысл тот же, но слово галиться, видимо, более древнее.
Любопытно слово истопель. У русско-устьинцев это количество дров на одну топку. Совершенно очевидно, что оно производное от слова топить (печь), и возникло тогда, когда в домах появились печи с заслонками, сохраняющими тепло. У якутов и тунгусов такого понятия не было, так как огонь в очагах их жилищ поддерживался сутками. В современном языке русских северян истопель не встречается, разве что услышишь: одна топка дров. А слово истопник имеет все права на существование, и не только в обиходе крестьян, но даже в литературном языке. Сохранилось у русско-устьинцев и слово шесток, хотя применяется оно не столько к предустью русской печи, сколько к ящику с песком, на котором разводится костерок в промысловых избушках.
О слове нехристь, которое у русско-устьинцев было, и, возможно, ещё не искоренилось. Оно относится к неуважаемому, бессовестному человеку, нарушающему христовы заповеди. Русско-устьинцы были глубоко верующими христианами и сторонились таких людей. Без сомнения, это древнерусское слово, и пришло оно из глубины веков. В коренной Руси оно почти исчезло, а у русско-устьинцев чудом сохранилось.
Русско-устьинские слова ветошь, канючить, паужнать, паут, перст, поклон, угор, улово, хворать, копоть, обутка, водиться (нянчиться), пропасть (подохнуть), лыва (лужа), шаеть (тлеть), тоня (заброс невода), студено (холодно), сполохи (северное сияние), беремо (беремя, ноша), дева (ласкательное обращение к женщине), селянка — общеупотребительные и в нынешнем языке северян европейской Руси, но иногда с некоторой разницей по смыслу. Например, селянка у вологодских не мясное крошево, а сваренное на молоке крошево картошки с яйцами.
Слово щерба, означающее у русско-устьинцев уху, древнерусское слово, записанное Далем в Вятской губернии. Но и в Вятской, и в Вологодской областях оно практически не сохранилось, а у русско-устьинцев, судя по словарю А. Г. Чикачева [10], оно в обиходе и до сегодняшнего дня.
Интересно слово лопоть, под которым русско-устьинцы понимают одежду, в том числе белье. Такого слова у Даля нет, а в языке северян Вологодской области до недавнего времени употреблялось слово лопотина, что тоже означало одежду, преимущественно старую одежду, да и всякую другую. Преемственность слов тут налицо.
Почти отжившее слово откуль (ниоткуль), смысл которого понятен русскому человеку (откуда), но применяется оно разве что в поговорке: Акуля, что шьешь не оттуля? А в разговорном языке русско-устьинцев оно бытует и по сей день [10].
Такие слова, как пестер и напарьё, означающие у русско-устьинцев известные предметы обихода (пестерь на Руси — заплечная из лыка корзина с лямками под грибы и под ягоды; у русско-устьинцев это, видимо, плетёнка из речного ивняка с ушками — ручками — для переноса рыбы, напарьё — ручной бурав большого диаметра), тоже пришли с ними из коренной Руси. В отдалённых лесных местах Вологодчины, где до сих пор ёмкости для домашнего обихода плетут из лыка, слово пестерь употребляется с несколько смягченной буквой «р» и доныне. А слово напарьё уже полностью вытеснено словом бурав.
Приведённое в словаре А. Г. Чикачева слово даром (не в смысле бесплатно, а в понимании: напрасно, зря), возможно, пережившее вместе с русско-устьинцами на Индигирке века, ходовое и ныне па Руси (даром тратишь время), как и во времена Крылова (недаром говорится, что дело мастера боится).
В весьма богатом словарном обиходе русско-устьинцев более трех четвертей слов незнакомо современному русскому человеку. Они или из древнерусского языкового обихода, или новояз времен длительной оторванности переселенцев от общего поступательного развития русской речи, отражающий многие детали их своеобразного быта и труда.
* * *
Возвращаясь к вопросу о времени заселения русскими дельты Индигирки, можно высказать следующие соображения.
Прочно обосноваться в дельте Индигирки могла лишь не очень малочисленная группа людей. Обустроиться и выжить в тех условиях отдельным семьям (скажем, после крушения небольших судов) вряд ли было возможным. Несмотря на последующее расселение колонистов по участкам обширной дельты, все главные работы — строительство домов в центральном поселке, неводьба, «гусевание», охота на диких оленей — выполнялись поселенцами сообща, если надо, «помочью», принятой в российских деревнях, когда одна семья не справлялась, скажем, со строительством дома. Собрать нужное количество людей для общих дел, видимо, не было проблемой, даже если они жили на удалении в 20—30 километров Для собачьих упряжек это не расстояние.
В составе группы поселенцев были люди из разных мест севера европейской России, не находящиеся в близких родственных отношениях. Иначе трудно объяснить устойчивое здоровье популяции. Тем более, что поселенцы не стремились родниться с аборигенами, и браки заключались в основном среди своих, внутри общины. Естественно, надо допускать, что среди первых поселенцев были женщины — жены и сестры, а возможно, и дети. Уходить от грозящей беды в России мужчины должны были не только выручая себя, но и спасая своих близких. А то, что жители Поморья нередко уходили в плавание со своими жёнами, общеизвестно. Колония поселенцев могла свободно расти и развиваться только при наличии внутри неё русских женщин. Хотя за столетия связи русско-устьинцев с женщинами местных племен все же имели место.
То, что в колонии поселенцев многие годы мирно уживались люди с разными характерами, не случалось между ними серьезных раздоров и междоусобиц, можно объяснить разве что чудом. История расселения по земле людей знает немало случаев, когда в среде первых поселенцев возникала неодолимая вражда, разделение на группы одних против других, что приводило к гибели сообществ. Среди русских первопроходцев в Якутии — казаков, стрельцов и промышленных людей — тоже имели место частые ссоры, доходящие иногда до кровавых разборок. Известна, к примеру, вооруженная стычка мангазейских казаков Мартина Васильева с енисейскими казаками и служилыми людьми атамана Галкина, которая произошла летом 1632 года в устье Вилюя и продолжилась позднее в долине реки Алдан. Непримиримыми врагами стали вместе работавшие до этого на Индигирке, на Колыме и на Анадыре Семён Дежнев и Михаил Стадухин. Причиной раздора стало первооткрывательство Чукотского носа, которое Стадухин приписывал себе, в то время как первым его обошёл в 1648 году Семен Дежнев.
Опись документов истории воссоединения Якутии с Россией пестрит жалобами одних служилых людей на других, казаков на сотников и атаманов, промышленных людей на воевод и казаков. Распри были во множестве. Но это и не удивительно, если принять во внимание независимый характер многих пришельцев, не желавших терпеть никакой власти над собой. Распри между русскими сильно повредили их репутации в глазах местных жителей.
Русско-устьинцы не враждовали между собой. Во всяком случае, их цепкая память не сохранила случаев вражды между отдельными фамилиями или «дымами». Мягкость и деликатность их в общении друг с другом поразила Владимира Зензинова. В лексиконе русско-устьинцев отсутствовали бранные слова (они не знали мата!), самыми обидными считались лишь «собачья кила» и «варнак», но и те редко пускались в ход. Воровство у них считалось большим преступлением, разве что кто мог позариться на шкурку песца, вытащив его из чужой ловушки. Но и тот наказывался лишь штрафом или посадкой на несколько дней в «караулку».
Такая терпимость и дружелюбие в общении друг с другом были заложены в души индигирцев, по-видимому, изначально, под влиянием незаурядных вожаков первопроходцев, умных и совестливых людей. И безусловно, свою лепту внесла религия. Все русско-устьинцы были глубоко верующими людьми, блюли заповеди христианства, воспитывали детей в любви и послушании к Богу и к родителям. Авторитет старших в семьях был непререкаем и во многом способствовал духовному здоровью сообщества. Их не коснулась староверческая ненависть к православной церкви, хотя все они по сути были староверами.
Умозаключение В. Зензинова о том, что пришельцы якобы вытеснили с усть-индигирки обитавших там аборигенов, неправильно. Эти суровые прибрежные места не имели до прихода русских постоянного населения. Скотоводов якутов тундра не прельщала, не было там условий для содержания скота. Оленеводы тунгусы посещали приустьевую тундру только в летнее время, кочуя вслед за стадами оленей. Рыбалка на бурной реке их не прельщала, им хватало рыбы в небольших спокойных озерах лесной зоны. Русское «жило» обустраивалось практически на ничейной земле, не затрагивая интересов аборигенов. Антагонизм возник только после развития песцового промысла, столетие спустя. Лишь тогда прибрежная тундра стала очагом раздора.
Восхищаясь жителями Русского Устья, Владимир Зензинов отмечает и некоторые негативные стороны их быта: приверженность к карточной игре, узость кругозора (еда, карты, промысел и собаки), отсутствие любознательности, интереса к предметам и событиям, выходящим за пределы их мира, их промысла, их повседневных забот.
Что касается карточной игры, то она была широко распространена среди жителей европейского севера России, по-видимому, с древних времен. Редкая семья в Вологодской и Архангельской областях не имела карт. В карты гадали, раскладывали пасьянсы, и играли обычно дети и подростки. Иногда подключались и взрослые, но на деньги в крестьянских семьях не принято было играть. Да собственно денег у крестьян и не водилось. На деньги играли аристократы, дворяне, что красочно описано в литературе. Ничего удивительного, что карточная игра пришла вместе с переселенцами и в Русское Устье. Тем более, что коренные народы тоже увлекались картами и, возможно, не раз встречались за карточным столом с русско-устьинцами. Но это не было повседневным увлечением, ибо русско-устьинцам некогда было играть в карты. Жизнь их была до предела наполнена повседневным упорным трудом, требующим напряжения всех физических и духовных сил. Только рождество и святочная неделя были для мужчин более или менее свободными от труда, когда они собирались в центральном поселке. Тогда, возможно, они и играли в карты, ибо других развлечений русско-устьинцев не было.
Владимир Зензинов отмечал и склонность русско-устьинцев к выпивке, но тоже не выходящей за пределы разумного. Любопытна деталь, что организм любителей выпить не позволял принимать большие дозы спиртного: одной-двух рюмок взрослому мужчине хватало, чтобы он опьянел. Вероятно, воздержание от спиртного во многих поколениях повлияло на гены, и они утратили способность противостоять одуряющей силе алкоголя, свойственной современному русскому человеку.
Русско-устьинцы (это тоже отмечает В. М. Зензинов) не знали слова «тоска». На праздный современный вопрос, как живешь, они смогли бы ответить: «Если не задумываться, то жить можно». Им некогда было «задумываться», скучать и тосковать (душевные переживания не в счёт): всё их бытиё было наполнено разнообразным, подвижным и в целом интересным трудом, благодаря которому крохотная колония первопроходцев сумела выжить в немыслимо тяжелых природных условиях и сохранить себя в течение трех веков.
* * *
1. Актовые источники по истории России и Сибири XVI—XVIII веков в фондах Г. Ф. Миллера. Описи копийных книг. Т. 2. — Новосибирск: Сибирский хронограф, 1995. — 303 с.
2. Биркенгоф А. Л. Потомки землепроходцев. — М.: Мысль, 1972. — 222 с.
3. Зензинов В. М. Старинные люди у холодного океана. — Якутск, Изд-во «Якутский край», 2001.
4. Каменецкая Р. Н. Русские старожилы в низовьях Индигирки // Фольклор Русского Устья. — Л., 1986.
5. Ксенофонтов Г. В. Ураангхай-сахалар: Очерки по древней истории якутов. Т. 1. 2-е изд. — Якутск, 1992.
6. Мостахов С. Е. Русские путешественники — исследователи Якутии (XVII — начало XX в.). — Якутск: Кн. изд-во, 1982. — 192 с.
7. Распутин В. Г. Русское Устье // Писатель и время: Сб. документ, прозы. — М., 1989. — С. 4—50.
8. Сафронов Ф. Г. Русские промыслы и торги на северо-востоке Азии в XII — середине XIX вв. — М.: Наука, 1980. — 142 с.
9. Фольклор Русского Устья. — Л.: Наука, 1986.
10. Чикачев А. Г. Русские на Индигирке: Ист.-этногр. очерк. — Новосибирск: Наука (Сиб. отд-ние), 1990. — 189 с.
11. Шинкарев Л. И. Сибирь: откуда она пошла и куда она идет. — М.: Советская Россия, 1978. — 464 с.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Расставание с Ботуобинкой
Друзья мои! Вот и настала пора расставаться с коллективом Ботуобинской экспедиции. И расставаться навсегда. 48 лет отработал я в системе алмазной геологии, можно сказать, безвылазно из Якутии. И больше половины этого времени — в Ботуобинской жспедиции.
Я был при ней в дни торжеств, когда экспедиция открывала новые месторождения, был при ней и в годы «застоя», когда упорная работа коллектива экспедиции долго не давала положительных результатов. Многое я видел изнутри экспедиции, кое-что из того, что видел, запомнил. И если позволит время и здоровье, я когда-нибудь об этом напишу.
Я благодарен коллективу экспедиции за ту постоянную помощь и поддержку, которую он оказывал в моей работе.
Я благодарен старым геологам и геофизикам разных подразделений экспедиции, с которыми когда-то работал рука об руку много лет. Я говорю «старым» не по возрасту, а по годам работы в экспедиции. Молодежи я, увы, почти совсем не знаю. Редко кто из них заходит в музей, к моему большому огорчению. Хотя я всех постоянно зазываю: заходите, смотрите, изучайте. Вам искать новые трубки, и вы должны знать тот богатейший ассортимент кимберлитов, который собран в музее.
Я благодарен работникам технических служб экспедиции: сантехникам, электрикам, связистам за их постоянную помощь музею. Сколько раз сантехники спасали мой маленький домик за рудовозкой от замерзания батарей, от перемерзания воды. Да и новое помещение музея они уже не раз спасали от тех же бедствий. Даже ныне, когда уже музей, считай, был не ботуобинский, в лютый мороз декабря, они чуть ли не сутками и в выходные дни работали на улице, отогревая системы водоподачи, сваривая лопнувшие от мороза трубы. Огромное им спасибо! Электрики тоже всегда и безотказно приходили на помощь, если что случалось с электричеством. Только благодаря им камнерезный цех музея всегда работал безотказно и безостановочно.
Я очень и очень благодарен работникам Ахсанской партии, особенно девчонкам-программисткам (всех женщин я называю девчонками с высоты моих лет, может быть, мне это простительно), которые научили меня работать с компьютерной техникой. Обучать чему-либо человека в моём возрасте далеко не просто, коль скоро он тут же забывает всё сказанное. С бесконечным терпением программистки десятки раз повторяли одно и то же, пока я не усваивал очередные приёмы. Только благодаря им я сотворил последний отчёт в компьютерном варианте.
Огромную помощь в нашей работе всегда оказывали работники бюро оформления: переплетчики, картографы, чертежницы, машинистки. Сотни чертежей они сделали для Музейного отряда, а последние годы уже в компьютерном исполнении. Сколько печаталось текстов, сколько делалось ксерокопий, сколько переплетов, да и вообще — сколько оказывалось самых разнообразных услуг. И всегда безотказно, и всегда с любовью к своему делу.
Не могу не поблагодарить диспетчерскую службу УПТОКа за постоянную помощь транспортом, а особенно водителей, которые ежегодно возили меня по карьерам в районе Удачной и Айхала. Экспедиция не всегда обеспечивала отряд полевыми рабочими, поэтому водители постоянно помогали мне таскать, грузить, разгружать ящики и мешки с камнями. Они же делили со мной все неудобства полевой жизни. И ни разу я не слышал от них слова упрёка, что им приходится выполнять не свою работу, да еще в дождь, слякоть, снег, грязь по оси машин на карьерах, а иногда работать почти круглые сутки. Спасибо всем водителям, кто за двадцать последних лет помогал мне ездить по «северам». Спасибо и водителям легкового транспорта при управлении экспедиции, и водителю «хозяйки» при УПТОКе. Без них нелегко было бы таскать камни из музея в камнерезку и обратно. Помощь они, и их главный диспетчер Ольга Михайловна, оказывали постоянно.
Хочется сказать спасибо и работникам отдела технического снабжения. Маленький Музейный отряд нередко доставлял им большие хлопоты. Иногда они поругивали меня за настырность, но никогда не отказывали в помощи. В том числе и своим транспортом. Спасибо им.
Спасибо руководителям фабрики № 6, в структуру которой десять лет входил Музейный отряд. Именно за это время музей был сформирован в том виде, в каком он есть сейчас. И с такими начальниками, да и со всеми руководителями экспедиции до 2002 года, легко и приятно было работать.
С тяжелым сердцем, но вынужден сказать, что не всех, причастных к делам музея, хочется благодарить. Последние три года, когда Музейный отряд ни с того, ни с сего был переброшен в Тематическую партию, были просто кошмарными для музея. С того момента нами только «руководили», ничего полезного не делая для музея. И учили! Учили, как надо пилить образцы, люди, которые не знали, с какого боку подходить к камнерезному станку (а я за камнерезным станком с 1958 года). Учили, как надо вести музейную документацию, — люди, которые не бывали ни в одном геологическом музее России (а я знаком с работой по крайне мере тридцати музеев). Главная забота руководителей Темпартии была пересчитывать образцы на выставочных витринах. Пересчитать было нелегко, образцов тысячи, да еще коллекции постоянно мной пополнялись. Но руководители Темпартии не боялись трудностей и упорно внедряли дикий и никому не нужный счёт. А за три года не добавили в музей ни одного экспоната, не подали ни одной свежей мысли по дизайну, словом, не сделали ничего полезного. Только тормозили работу.
Но я прошу прощения за обидные для кое кого слова. Просто накипело у меня на душе. А поскольку сегодня, в день моего ухода из экспедиции, вроде бы в день примирения всех и вся, то я всем недругам музея прощаю, и говорю словами известного поэта:
Прости, Господь, за сквернословья,
Желаю всем своим врагам:
Пускай не будет нездоровья
Ни их копытам, ни рогам.
ПРИЛОЖЕНИЕ
МУЗЕЙ КИМБЕРЛИТОВ
Возникновение Музея кимберлитов АК «АЛРОСА» относится к 70-м годам прошлого столетия. Всё началось с коллекции кимберлитов и наиболее интересных образцов горных пород и минералов Западной Якутии, представленных инженером-геофизиком, специалистом по палеомагнетизму горных пород, собирателем камней Джемсом Ильичом Саврасовым. Позднее организацией музея, оформлением, пополнением экспозиции занимались Е. А. Косицын, Е. Е. Потапов, Д. В. Блажкун и другие ведущие геологи Ботуобин- ской экспедиции при поддержке бывшего в то время начальником БГРЭ В. Н. Щукина.
Музейная экспозиция насчитывала тогда несколько сотен образцов и была представлена в основном разновидностями кимберлитов Мирнинского кимберлитового поля, а также наиболее характерными образцами горных пород Западной Якутии. Первоначально коллекция предназначалась для ознакомления молодых специалистов — геологов, геофизиков и студентов-практикантов — с горными породами алмазной провинции. Музей вел также просветительско-воспитательную работу: десятки школьников старших классов под руководством геолога Е. А. Косицына каждое лето участвовали в многодневных геологических походах, знакомились с таёжным бытом геологов, собирали каменный материал, познавая геологию и природные богатства Западной Якутии.
80—90-е годы стали знаменательным периодом в развитии музея. По мере отработки карьеров пришло осознание того, что кимберлиты различных блоков разрабатываемых трубок будут полностью уничтожены и могут быть сохранены только в коллекции музея. Так, с одобрения главного геолога ПНО «Якуталмаз» А. И. Боткунова начал создаваться музей кимберлитов, коллекции которого представляют всю Якутскую кимберлитовую провинцию. В коллекции собраны образцы кимберлитов из отработанных и разведанных блоков главных месторождений алмазов, представлены также кимберлиты из многих слабо- и неалмазоносных трубчатых и жильных тел, встреченных в разных районах Западной Якутии.
В начале 90-х годов в результате объединения Мирнинской и Ботуобинской экспедиций произошло слияние и их музейных экспозиций. Был создан единый Музей кимберлитов Якутии. Перед сотрудниками музея ставилась задача не только сбора каменного материала с отрабатываемых месторождений алмазов для наглядного показа строения Сибирской алмазоносной провинции. Музей должен был стать одним из характерных атрибутов города Мирного как столицы алмазного края.
В дальнейшем музей формировался под руководством Д. И. Саврасова. Музею был передан отдельный домик на базе Мархинской партии Мирнинской ГРЭ. В связи с последующим вхождением экспедиции в АК «АЛРОСА», по инициативе бывшего президента компании В. А. Штырова, в 2001 году под музей выделяется новое помещение — второй этаж каменного здания в центре города общей площадью более 800 квадратных метров, гуда перебазируются все выставочные коллекции кимберлитов. Музей приобретает современный вид.
В настоящее время в нем представлены образцы кимберлитов, кимберлитовых минералов и других алмазсодержащих пород, развитых на территории Якутии и в других регионах мира и составляющих основную часть экспозиции. Кроме кимберлитов, в музее собраны образцы осадочных и магматических пород Западной Якутии, а также экзотические геологические экспонаты, которые встречаются в нашей стране как в горно-складчатых областях, так и па пространствах равнин.
Кимберлит — это собирательное название группы изверженных пород, бедных кремнекислотой, богатых магнием и относительно обогащенных щелочами, особенно калием. Вещественный состав, структура и текстура кимберлитов отражают сложный процесс формирования образованных ими геологических тел, так называемых кимберлитовых вулканических жерловин или трубок. Трубками, или диатремами, принято называть жерла древних вулканов, заполненные внедрившейся с больших глубин застывшей кимберлитовой магмой, содержащей обломки прорванных этой магмой метаморфических и осадочных горных пород, а также содержащих включения глубинных мантийных пород и их отдельных минералов, в том числе алмаза.
Морфология диатрем отличается большим разнообразием. Чаще всего это округлые, изометричные или слегка вытянутые в плане тела размерами от первых десятков до сотен метров в поперечнике. Нередко единое на поверхности тело с глубиной разделятся на два-три отдельных трубчатых тела. С глубиной происходит заметное сокращение горизонтального сечения диатрем. На глубинах 500—800 метров наблюдается их уплощение, а с увеличением глубины до 1000—1500 метров постепенный переход в заполняющие трещины дайкообразные тела — уходящие на большие глубины подводящие каналы.
Вблизи поверхности диатремы значительно расширяются, образуя так называемый раструб. Вулканогенная природа диатрем доказывается тем, что в верхней части кимберлиты приобретают облик выброшенных на поверхность вулканических пород — туфов, имеющих иногда слоистое строение. На земной поверхности кимберлитовые вулканические жерловины были первоначально окружены невысокими валами туфобрекчий, туфов и другого выброшенного материала, который частично осыпался обратно в эти жерла. Выбросы происходили в результате вулканических взрывов, когда кимберлитовая магма пробивала себе путь к поверхности, частично разрушая окружающие осадочные породы — известняки, песчаники, сланцы. Такие взрывы происходили при неоднократном поступлении кимберлитовой магмы, поэтому в трубках можно видеть округлые включения кимберлита в кимберлите (автолиты), а также туфы, пронизанные более поздними жилами кимберлита. В некоторых трубках удается проследить последовательно возникшие разновидности кимберлитовых пород — например, кимберлитовые брекчии, автолитовые кимберлитовые брекчии, порфировые кимберлиты и другие.
В многочисленных витринах музея находятся тысячи образцов кимберлитов из более чем 500 трубок, расположенных в разных районах Западной Якутии — Мало-Ботуобинском, Накынском, Алакит-Мархинском, Далдынском, Верхнемунском, Чомурдахском, Севернейском, Западно-Укукитском, Огоньор-Юряхском и др., а также в Прианабарье и на севере Красноярского края в бассейнах рек Маймеча и Котуй. Большинство высокоалмазоносных кимберлитовых трубок, находящихся в первых пяти перечисленных выше районах, образовалось примерно 380—320 миллионов лет назад. В это время в течение девонской вулканической эпохи в бассейнах средних течений Вилюя и Мархи, а также в некоторых других местах по многочисленным трещинам земной коры почти одновременно с кимберлитами происходило излияние базальтовых лав. Эти базальты местами выступают на поверхность в долинах упомянутых рек и их притоков, а также по левым притокам р. Лены. Встречены базальты и в глубоких скважинах в этих районах.
Кимберлитовые трубки редко выступают на поверхность, чаще всего они скрыты под наносами или погребены под мощными толщами конгломератов, песчаников, глин и других пород. Большинство выставленных в музее образцов отобрано из глубоких горных выработок — шурфов, карьеров, буровых скважин.
В витринах можно видеть красивые светло-серые, светло-зеленые, темно-зеленые и почти черные различные по рисунку внутренней структуры образцы из знаменитых богатых алмазами трубок Мир, Интернациональная, Удачная, Сытыканская, Юбилейная, Айхал, из первой в Якутии трубки Зарница, которую открыла Л. А. Попугаева в 1954 году, а также из многих других менее известных кимберлитовых тел.
Здесь представлены кимберлитовые брекчии как бы состоящие из отдельных остроугольных обломков размером до 2—3 сантиметров, туфы, образованные более мелкими частицами и нередко слоистые, а также массивные темноокрашенные кимберлиты с хорошо видимыми светло-зелеными включениями кристаллов оливина. Весьма интересны так называемые автолиты — округлые бомбочки кимберлита, иногда окружающего ядро, образованное каким-либо обломком породы
Широко представлены в экспозиции глубинные включения в кимберлитах — различные эклогиты, перидотиты и другие породы, которые вынесены кимберлитовой магмой с глубин во многие десятки и сотни километров и в ряде случаев также несущие алмазы.
Кроме эклогитов, среди глубинных включений присутствуют разнообразные ультраосновные породы — гранатовые перидотиты н пироксениты, лерцолиты, вебстериты, дуниты, оливиниты. Изучение этих глубинных включений (ксенолитов мантии) дает очень важную информацию о строении Земли и условиях образования алмазов.
В кимберлитах встречаются также включения обломков пород кристаллического фундамента Сибирской платформы — гнейсов, гранитов, кристаллических сланцев, а также обломков залегающих па них различных осадочных пород— известняков, песчаников и магматических пород — базальтов и долеритов, также прорванных кимберлитовой магмой.
Некоторые включенные в кимберлиты обломки известняков одержат окаменелости— отпечатки ракушек, кораллов, других морских организмов, живших сотни миллионов лет назад. Эти находки весьма важны для определения возраста кимберлитов.
Привлекают внимание посетителей и различные минералы, встречающиеся в кимберлитах, и в первую очередь красный гранат-пироп. Его находки, как и других минералов кимберлитов в руслах рек и ручьев, указывают на то, что зерна этих минералов перенесены водой из недалеко расположенных трубок. Именно по пиропам, обнаруженным в речных песках и галечниках, геологи и нашли многие кимберлитовые трубки. Помимо пиропов, на полках можно увидеть и другие минералы кимберлитов — черный пикроильменит, темно-зеленый хромдиопсид, светло-зеленый оливин и некоторые другие.
Наряду с этими минералами, присущими кимберлитовой магме, в витринах выставлены и другие (так называемые вторичные) минералы, которые возникают при просачивании подземных вод, в том числе нагретых магмой. Это черный магнетит, сиреневый аметист, черный кварц-морион, а также прозрачный или окрашенный кварц, желтоватые гипс и кальцит, голубой целестин, золотистый пирит и некоторые другие. Часто эти минералы находятся в виде хорошо сформированных полупрозрачных кристаллов.
Кварц ярких цветовых гамм присутствует лишь в верхних горизонтах кимберлитовых трубок. На глубине свыше 70 метров от земной поверхности цветной кварц встречается редко, а на глубине 100—150 метров и более исчезает совсем.
Кварц часто ассоциируется с кальцитом, который тоже широко распространен в кимберлитах в виде прожилок, корок на стенках пустот, натеков на кварцевых щетках. В музее имеются экземпляры сложных натечных образований, дающих в срезах красивые многоцветные узоры. На глубинах более сотни метров весь спектр вторичных минералов существенно меняется. На смену кварцу в пустотах кимберлитов и в экзоконтактах кимберлитовых тел приходит гипс. Наиболее частые формы его проявления — прозрачные расслаивающиеся пластинки или кристаллы. Особо крупные выделения прозрачного гипса наблюдались в приконтактовых породах трубки Айхал. В музее есть кристалл прозрачного гипса весом почти сто килограммов.
В кимберлитах также находят твердые и жидкие битумы и даже соль, проникающая вместе с рассолом из вмещающих трубки осадочных пород.
Помимо кимберлитов Западной Якутии, в музее экспонируются коллекции аналогичных пород из трубок, открытых на севере Европейской России в Архангельской области, в Карелии, а также кимберлиты из ряда зарубежных стран — Финляндии, Канады, Южной и Западной Африки, Индии, Бразилии, Китая.
Близки к кимберлитам по общему облику и составу другие алмазоносные породы — лампроиты из Западной Австралии, которые также представлены в музее.
Отдельная витрина отдана образцам необычных алмазоносных пород из Попигайского метеоритного кратера, расположенного на севере Сибирской платформы на границе Красноярского края и Якутии. Этот огромный кратер диаметром около 100 километров заполнен paздробленными и переплавленными при астероидном ударе породами — импактами и импактными брекчиями. Импактиты возникли при застывании расплава, возникшего при ударном преобразовании гнейсов и других пород. (Содержавшиеся в гнейсах кристаллы графита и их громки при очень высоком давлении и температуре перешли в так называемые импактные алмазы. Импактные алмазы обоычно мелкие, ювелирных среди них нет, однако для технических целей они вполне пригодны.
Помимо алмазоносных пород— кимберлитов, лампроитов и импактитов музей располагает коллекциями экзотических горных пород и минералов различного состава и происхождения. В музее есть, к примеру, чароиты— своеобразные горные породы сиреневого цвета, которые встречаются только в одном месте на земле: это гора Мурун на границе Якутии с Иркутской областью.
Есть в коллекциях нефриты разных цветов, цветные мраморы, родониты, геденбергитовые скарны, срезы пещерных натечных образований — сталактиты и сталагмиты, моховые агаты, орские яшмы, флюориты, руды цветных и черных металлов, а также редко встречающиеся горные породы из разных районов России, Украины, Казахстана. В этих коллекциях представлены образцы удивительных форм, расцветок и минерального состава. Природа бесконечно богата на выдумки, в этом можно убедиться, познакомившись с Музеем АК «АЛРОСА».
Своеобразную атмосферу Музею кимберлитов придают находящиеся в нем и другие природные редкости Якутского края. Помимо каменного материала в небольшом количестве демонстрируются фаунистические находки (бивни и зубы мамонтов, череп овцебыка, окаменевшие остатки брахиопод, трилобитов, кораллов), отпечатки древних растений. На стенах музея висят чучела птиц, соболя, горностая, белок, а также художественные полотна с изображениями якутской природы и быта геологов, на подоконниках красивые композиции из цветов.
Посещение уникального Музея кимберлитов оставляет незабываемое впечатление у всех тех, кому посчастливилось побывать с визитом в алмазном крае, не говоря уже о постоянных частых гостях — жителях города Мирный и близлежащих районов Якутии. Об этом свидетельствуют многочисленные записи в Книге отзывов, среди которых можно найти строки, оставленные многими известными деятелями науки и культуры, геологами, членами правительства.
Джемс Ильич Саврасов (1931- 2008) - известный геолог-геофизик, кандидат геолого-минералогических наук, первый хранитель и создатель единственного в мире Музея кимберлитов в г. Мирный Республики Саха (Якутия).
-Джемс Ильич приехал в Западную Якутию в 1956 году и более полувека отдал изучению этого края, служению людям, обеспечившим раскрытие его бесценных богатств, его развитие и процветание. На его глазах здесь выросли рудники, плотины электростанций, возникли города, пролегли дороги и линии электропередач.
В этих зримых результатах немалый вклад и самого Д. И. Саврасова, десятки лет посвятившего изучению кимберлитов и других горных пород на территории Западной Якутии.
Хотя по своей основной специальности Саврасов был геофизиком, изучавшим магнитные и другие свойства горных пород, его интересовали гораздо более широкие области геологической науки, в том числе кимберлитовые минералы и породы.
Несмотря на сложности жизненных коллизий, встречавшихся на его пути, вопреки препонам, которые ему нередко чинили ограниченные и недальновидные руководители, Джемс Ильич Саврасов осуществил главное дело своей жизни, по существу историческую миссию: создал в городе Мирном замечательный Музей кимберлитов, который теперь по праву носит его имя.
Примечания
1
Журнал «Вилюйские зори», 2003. № 9
(обратно)2
Журнал «Вилюйские зори», 2004, № 11.
(обратно)3
В тексте при изложении прямой речи сохранены характерные для М. А. Чумака выражения и произношение слов.
(обратно)4
Первым Всесоюзным алмазным совещанием следует считать состоявшееся в Ленинграде по инициативеА. П. Бурова Первое Всесоюзное производственное совещание по алмазам (январь 1940). — Примеч. ред.
(обратно)5
М. А. Чумак лебезил перед Владимиром Степановичем Соболевым, поскольку серьезно провинился перед ним. Случилось так, что незадолго до описываемого алмазного совещания в Якутске состоялся HTC Амакинской экспедиции, на котором рассматривалась докторская диссертация А. П. Бобриевича. HTC критически отнесся к ней, и Чумак, будучи председателем НТС, поддавшись общему настроению присутствующих, согласился с мнением НТС, и диссертацию завернули на доработку. Так сказать, М. А. Чумак пошел на поводу у коллектива, чего делать не следовало. Владимир Степанович, будучи научным руководителем соискателя, был взбешен, когда узнал об этом. Видимо, в Якутске B.C. выказал Чумаку свое неудовольствие, и тот ходил за ним, как побитая собака. А отклоненную диссертацию А. П. Бобриевич два года подновлял, лакировал, закавычивал позаимствованные у Вагнера и Вильямса фразы, и только потом НТС Амакинки её одобрил, и М. А. Чумак Владимиром Степановичем был прощен.
(обратно)6
Шутка дежурная, часто справедливая для конкретных месторождений, но не стоит забывать, что открытие алмазоносных месторождений в Якутии явилось следствием научных прогнозов. — Примеч. ред.
(обратно)7
Журнал «Вилюйские зори», 2009, № 15.
(обратно)8
Эта удивительная история восстановлена по дневниковым записям В. Ф. Кривоноса и воспоминаниям Т. П. Хюппенена. К сожалению, с другими участниками поисков автору поговорить не удалось, поэтому в канве событий могут быть некоторые упущения и отдельные неточности.
(обратно)9
Здесь и далее так дружески названы поющие сотрудницы (среди которых было много москвичей) геологосъемочной партии Натальи Владимировны Кинд, работавшие в те годы на Вилюе.
(обратно)10
Журнал «Вилюйские зори», 2009, № 15.
(обратно)11
Журнал «Вилюйские зори», 2009, № 15.
(обратно)12
Журнал «Вилюйские зори», 2009, № 15.
(обратно)13
Харькив А. Д., Зинчук Н.Н., Зуев В. М. История алмаза. — М.: Недра, 1997. — 601 с.
(обратно)14
По поводу книги В. А. Цыганова «Надежность геолого-поисковых систем» — Недра, 1994.
(обратно)15
Выступление на Научно-техническом совете Ботуобинской экспедиции. 1990 г.
(обратно)16
«Походный журнал, составленный учеником Якутской воинской команды сержантом Степаном Поповым в 1794 году». Национальный архив Республики Саха (Якутия), г. Якутск.
(обратно)
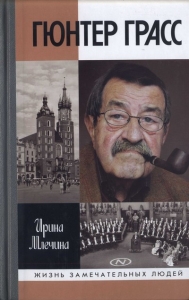

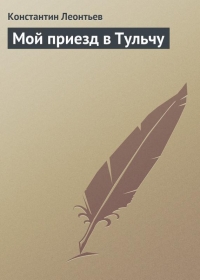


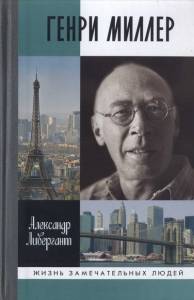

Комментарии к книге «МОИ АЛМАЗНЫЕ РАДОСТИ И ТРЕВОГИ», Джемс Ильич Саврасов
Всего 0 комментариев