Грант Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства
Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20 c/o Ml53, E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller G*E*C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavic@gad.ak) has exclusive rights for sales on this book.
Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки славянской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G*E*C GAD.
Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.
Предисловие
…и жизнь наследствуем.
Из тропаря иконе Богородице «Неувядаемый Цвет».Время, прошедшее после издания первого тома воспоминаний Н. Любимова (1999 год), вобрало в себя несколько дат и событий, заслуживающих упоминания. Прежде всего – девяностолетие со дня рождения (20 ноября 2002 года) и десять лет со дня кончины (22 декабря 2002 года). Скоро сказка сказывается, да не скоро книги издаются, тем более, что, в отличие от первого тома, подготовленного к печати автором при жизни, подготовка второго тома к изданию требовала значительной текстологической работы. Но и 2003 год – предполагаемый в качестве года издания второго тома, тоже, до некоторой степени, «юбилейный» – как смог удостовериться читатель, 1933 – это год окончания института автором, год начала творческой деятельности, переводческой и редакторской и, наконец, год ареста, что в значительной мере определило тему, сюжет и интонацию предлагаемой читателю книги, да и всей жизни ее автора.
За время подготовки к печати второго тома воспоминаний скончалась старшая дочь Н. Любимова Елена Николаевна, рождение которой упоминается во втором томе, в течение 60-х – 70-х годов многократно печатавшая и перепечатывавшая рукопись воспоминаний. В сущности, благодаря ей эта книга и могла обрести печатное лицо.
Кстати, о 60-х – 70-х годах. Как заметил читатель, главы второго тома в это время и писались. Нет необходимости воссоздавать исторический фон и контекст, в котором писались эти главы, как нет необходимости и напоминать о том, что многие гипотезы и догадки автора с тех пор документально подтверждены или, напротив, опровергнуты. Н. Любимов писал воспоминания примерно в те же годы, что А. Солженицын – «Архипелаг Гулаг» (даже персонажи у этих книг есть общие – мир тесен даже на необъятных просторах Архипелага…).
В биографии Н. Любимова 70-е годы, после демобилизации из армии автора этих строк (май 1973 года), могут считаться годами наиболее благополучными и относительно спокойными и стабильными. Книжный «бум» 70-х принес материальное благополучие, переводы классики стали не только издаваться, во и переиздаваться. Он активно занимается редакторско-издательской деятельностью, выходит первый вариант его работы «Перевод – искусство», он награждается орденом Знак Почёта (какое счастье, что не Ленина, Октябрьской Революции или Красного Знамени) и Государственной премией за переводы, вошедшие в серию «Библиотека всемирной литературы». Перевод Декамерона вышел в 1969 году, и переводческая деятельность Н. Любимова сосредоточилась на эпопее Пруста. Восемь относительно спокойных лет за всю восьмидесятилетнюю жизнь… И если интонация второго тома воспоминаний с этим спокойствием контрастирует (как, впрочем, и с лирическими и эпическими интонациями первого тома воспоминаний), то это связано с изменением предмета повествования: героя Пруста не лишали его Комбре, его мама и он сам не знали что такое арест, тюрьма, лагерь или ссылка. В целом, книга воспоминаний Н. Любимова была закончена в конце 70-х годов. Но судьбы некоторых персонажей этой книги можно проследить и в более поздние годы. Автор этих строк надеется на то, что ему удастся подготовить к изданию и третий том, включая и театральные воспоминания в полном объеме, и книгу литературно-критических статей Н. Любимова, завершенную незадолго до его кончины, и попытаться досказать за отца то, что он не успел сделать при жизни. Ждет своей публикации и эпистолярный архив Н. Любимова, лишь частично использованный им в основном тексте воспоминаний.
Конечно, всем нам свойственно, по словам одного из подвижников XX века, «залечивать прошлое» и все же, как не вспомнить Заратустру: «…изгнан я из страны отцов и матерей моих… осталось мне любить лишь страну детей моих… направим наше кормило, где страна наших детей!».
«Вспоминается то, что грядет» (св. Григорий Нисский).
Борис Любимов
Часть третья
У Господа милость,
и многое у Него избавление.
ПсалтирьВ некотором государстве
Медленно движется время, Веруй, надейся и жди… И. НикитинДурные предчувствия, которым суждено сбыться, наплывают, как облака. И они свиваются, эти предгрозовые облака, и они клубятся… Еще светит солнце, почти весь небосвод еще чист, но там, откуда находят облака, – хотя и невнятно, но погромыхивает. Затем погромыхиванье стихает, ты не смотришь в ту сторону, ты уже забываешь о тучах, и вот тут-то молния и ударяет…
В августе 1933 года я с беспечно радостным чувством ехал из Перемышля в Москву первый раз за всю свою двадцатилетнюю жизнь – на неустроенность, в неизвестность. К счастливой этой беззаботности примешивалась лишь всегдашняя боль разлуки с родным домом, с родными местами, но на этот раз она умерялась сознанием, что теперь я уже не студент, а сам себе хозяин: когда захочу, тогда и возвращусь, были бы деньги на проезд.
Итак, в Москве меня встретила свобода от лекций, зачетов, экзаменов, но и свобода от продовольственных карточек. Никаких видов на постоянную работу, никаких видов на новый договор…
И все пошло как по маслу. Я подал заявление о приеме в Групповой комитет писателей при издательстве «Academia», благо заказанные мне издательством переводы пьес Мериме были мною сданы еще весной и получили одобрение. Но при случайной встрече со мной на улице один из членов Бюро Группкома сказал, что мое дело проигрышное. Говорил со мной группкомовский вождь безукоризненно вежливо, но в подтексте и тоне его речей я без труда уловил: «С суконным рылом в калашный ряд не суются».
Слегка обескураженный, я в тот же день пошел к Алексею Карповичу Дживелегову и передал ему содержание этого разговора.
Дживелегов вспыхнул.
– Коля, милый, зачем вы с ним разговариваете? – сказал он. – С такими людьми разговаривать нечего – им приказывать надо.
На это я, ободренный тем, как близко принял к сердцу эту историю «Карпыч», резонно заметил, что я же не имею права приказывать.
– Одним словом, не беспокойтесь, – заключил Дживелегов. – В ближайшее время вы будете приняты.
И точно: не прошло и нескольких дней, как я опять встретился на улице с тем же самым «вождем», и на сей раз он уже с явственно прозвучавшими дружелюбными нотками в голосе – то была дань «креатуре» Дживелегова, – но по-прежнему величественно (чтобы я не забывался, чтобы я воспринял его сообщение как милость) объявил мне, что я принят.
Это означало: «рабочие» продовольственные карточки, прикрепление к паршивому, но все же «закрытому распределителю», где иногда кое-что появлялось на прилавках, и пропуск в писательскую столовую на Тверском бульваре при Доме Герцена.
Прошло еще несколько дней. Звонит мне по телефону Грифцов. Его давнишний знакомый, бывший артист Художественного театра Николай Николаевич Вашкевич задумал основать театр и предложил ему быть в этом театре заведующим литературной частью. Грифцов отказался, но, зная мое пристрастие к театру, зная, что я, в отличие от него, внимательно слежу за современной литературой, посоветовал Вашкевичу пригласить меня.
Из моего телефонного разговора с Вашкевичем выяснилось, что театр еще в проекте. «Мы голы, как соколы», – признался он. И все же я согласился. Считаться заведующим литературной частью хотя бы пока еще не существующего театра – это уже было для меня заманчиво.
Я поехал к Вашкевичу. Его холостяцкая прокуренная и плохо проветриваемая, скудно обставленная комната, по-мужски небрежно постеленная постель (из-под одеяла выглядывала простыня, подушки напоминали смазанные маслом блины) – все производило впечатление несвежести, помятости, неопрятности. Сидя в некогда мягком кресле, из-под потертой обивки которого вылезала серая вата, и испытывая такое ощущение, будто я сижу на грядке телеги, глядя на испитое лицо хозяина – лицо Актера Актерыча, незадачливого, но все же неунывающего, неугомонившегося желчевика с тускнеющими глазами, глядя на его повидавший виды, весь в пятнах разной величины и формы, костюм, на пожелтевший воротничок и на характерный галстук «бабочкой», я слушал его проект, который заключался в том, чтобы создать театр передвижной, не нуждающийся в постоянном помещении. Представления идут на фоне экрана. Декорации проецируются на экран при помощи волшебного фонаря. Портативно, дешево, удобно – и ново! Большой труппы не требуется. Наркомпрос эта затея может заинтересовать именно с той стороны, что такой театр способен обслуживать «широкого зрителя» в рабочих клубах, – нынче здесь, завтра там. Добиться согласия Наркомпроса на рождение нового театра Вашкевич надеялся при посредстве жены видного советского дипломата Льва Михайловича Карахана. Мадам Карахан когда-то играла в Петербурге, в театре Комисеаржевской, и, по замыслу Вашкевича, должна была стать премьершей зарождающегося театра.
В Вашкевиче добродушие и желчность странным образом уживались. Он, видимо, притерпелся к ударам судьбы, но и на пороге старости все еще верил, что звезда его воссияет. Озлобленность неудачника вскипала в нем только когда речь заходила о Художественном театре. Он прослужил там четыре года (с 1901 по 1905) и сыграл офицера без слов в «Трех сестрах», лакея князя Старочеркасова в пьесе Немировича-Данченко «В мечтах», слугу Антония в «Юлии Цезаре». Венцами его творения были муж Марины во «Власти тьмы» и поэт Цинна из «Юлия Цезаря». Затем его – видимо за ненадобностью – попросили о выходе. И вот уже в первое наше свидание он, трепеща от злорадства, передавал мне слух, будто Немирович-Данченко задержал выпуск подготовленных Станиславским и Литовцевой «Талантов и поклонников». А когда мы потом встретились с ним на премьере спектакля «В людях», Вашкевич от злости шипел, как шипит на прохожих гусак, охраняющий гусенят.
Немного погодя я был приглашен в карахановский особняк на Спасопесковской площади. Этот двухэтажный дом с колоннами стоит в левом (если идти со стороны Трубниковского переулка) углу старинной площадочки, где теперь далеко не мирно сосуществуют модернистая громада, деревянный одноэтажный шестиоконный дом и семнадцатого века церковь с шатровой колокольней, послужившая фоном для поленовского «Московского дворика». После уездных домишек, после московских коммунальных квартир меня ошеломили просторы карахановского особняка. В гостиной я увидел синеглазую, уже тронутую увяданием женщину с безнадежно тоскливым выражением лица, – Вашкевич счел нужным уведомить меня, что у Карахана сейчас бурно протекает роман с балериной Семеновой и что он будет рад, если жена увлечется театром, – «чем бы дитя ни тешилось». Я представил себе, как этой бывшей актрисе и в сущности бывшей советской гранд-даме, наверное, одиноко в огромных, роскошных, теперь уже совсем ненужных ей залах, тяготящих ее своей какой-то зловещей пустынностью. Оставленная мужем, отцветающая, хотя все еще стройная и красивая, она судорожно ухватилась за вашкевичевекую затею, чтобы хоть чем-то себя занять, заполнить дни, тянувшиеся томительною и бесполезною чередою, чтобы как-то напомнить о себе, пока старость только еще к ней приближалась, пока она еще только медленно глохла – с ней надо было говорить, чуть повысив голос.
В один из сентябрьских вечеров у нее собрались деятели театра, которому так и не суждено было родиться на свет. Не считая хозяйки, нас было всего четверо: почистившийся и прихорошившийся Вашкевич; его товарищ по невзгодам Доронин, сыгравший в Художественном театре второго пристава в «Смерти Иоанна Грозного», Дмитрия Шуйского и гонца в «Царе Федоре» да слугу в «Дикой утке», в отличие от Вашкевича – угнетенный, угрюмый, видимо, не веривший в успех вашкевичевекого предприятия, но не отказавшийся от участия в первоначальных переговорах, во-первых, памятуя пословицу: «Чем черт не шутит», а во-вторых, вернее, во-первых, в предвкушении ужинов у мадам Карахан, все время пытавшийся сообщить разговору мало-мальски деловой характер, дергавший Вашкевича за ниточку, когда тот уж очень воспарял, и осаживавший его брюзгливо скептическими репликами; два года (с 1910 по 1912) прослуживший в Малом театре Александр Эдуардович Ашанин, элегантный, подтянутый, словно аршин проглотивший, и я. Когда я переводил взгляд с Вашкевича на Доронина, с Доронина на Ашанина, мне казалось, будто я на актерской бирже или в концертно-эстрадном бюро, почему-то расположившемся в обширной зале богатого особняка. Стали обсуждать составленную Вашкевичем бумагу в Наркомпрос. Я предложил окрестить театр Театром романтики. Предложение приняли единогласно – «революционная романтика» была тогда в моде, и Наркомпрос мог на это клюнуть. Затем я предложил открыть театр сценической композицией под условным названием «Ранний Горький», которая должна была состоять из инсценировок его рассказов («Макара Чудры» и других). Мое предложение всем пришлось по душе. Наконец я предложил включить в репертуар инсценировку вогульского эпоса «Мадур-Ваза Победитель», переведенного Сергеем Клычковым с волшебной словесной щедростью народного сказителя, с присущим Клычкову абсолютным поэтическим слухом, с чувством сказочного колорита, роднящим Клычкова с художниками-палешанами. И к последнему моему предложению собрание отнеслось благосклонно – перевод Клычкова имел успех и у читателей, и у прессы. Инсценировку решено было заказать переводчику. Когда я на другой же день заговорил об этом с Сергеем Антоновичем, с которым я ежедневно встречался в писательской харчевне, у него сначала загорелись глаза. Его, видимо, пленила мечта создать из поэмы пьесу-сказку. Что-то уже как будто замелькало, зароилось перед его мысленным взором. Но в Сергее Антоновиче жил сметливый, осторожный тверской мужичок, привыкший ничего не делать с бухты-барахты, привыкший сначала узнать наверняка, где брод, а потом уже лезть в реку, да и то поболтав в ней сначала ногой. Задав мне несколько вопросов и мигом учуяв из моих поневоле неопределенных ответов, что у нас все еще вилами по воде писано, Клычков заговорил со мной, как говорит с подрядчиком честный, но осмотрительный мастеровой.
– Мысль отличная, – заокал он. – Но – тысячу рублей на стол! – Тут он для большей вескости хлопнул ладонью по столу. – Тогда сейчас же за работу засяду. А другой, может, и без авансу возьмется, да только добро изговняет. А уж я сделаю на совесть!
«Театр романтики» был для меня журавлем в небе. Но удачи, как и напасти, так одна за другой и идут. Приезжаю как-то вечером из Голицына с дачи, где в то лето жили Маргарита Николаевна и Татьяна Львовна с мужем, и нахожу письмо на мое имя. Это было приглашение от заместителя главного редактора издательства «Academia» Якова Ефимовича Эльсберга зайти в издательство для переговоров.
На другой день я поехал в Большой Трехсвятительский, переименованный в Большой Вузовский, переулок, где тогда в особняке, что стоит боком к переулку, помещалось издательство «Academia». В широкой комнате сидели разные сотрудники, а в дальнем левом углу за перегородкой, точно в застекленной клетке, видный всем в профиль, неутомимо, как заведенная машина, работал, днем принимая посетителей и сотрудников издательства и разговаривая по телефону, а вечерами читая корректуры, Эльсберг. Когда я очутился в клетке, Эльсберг мгновенно встал, как если б к нему вошел почетный гость, и, изобразив на своем лице благорасположение и в то же время как бы сфотографировав меня острым взглядом своих похожих на маслины глаз, протянул мне руку и предложил сесть.
– Я вас приветствую.
Вскоре я убедился, что так он здоровается со всеми.
– Мне о вас говорил Алексей Карпыч, – продолжал он. – В редакционном отделе фтаты у нас заполнены, и там я, к сожалению, пока (он подчеркнул это слово) ничего предлофить вам не могу, но нафему Группкому нуфен секретарь…
Дальше он изложил условия: являться в издательство всего лишь на несколько часов в день, жалованье такое-то, обязанности такие-то.
Я, разумеется, согласился, но, придя домой, сейчас же позвонил «Карпычу» – прежде всего чтобы поблагодарить за заботу, а во-вторых, чтобы все-таки испросить благословение.
– Правильно сделали, что согласились, – сказал Дживелегов. – Эльсберг замечает хороших работников и, конечно, при первой возможности переведет вас в редакционный отдел. Важно, что вы становитесь своим человеком в издательстве.
Я не могу дать вполне определенный ответ на вопрос, почему благороднейший «Карпыч» тогда же не предупредил меня, что за птица Яков Ефимович Эльсберг, – мы с Дживелеговым после никогда о нем не говорили. Полагаю, однако ж, что в то время Дживелегову, стоявшему далеко от современной литературы с ее возней и грызней, фигура Эльсберга была не ясна. Да и так уж были устроены у «Карпыча» глаза, что они скользили мимо дурного в человеке и задерживались на хорошем. Потом я хоть и в течение недолгого времени, но зато почти ежедневно сталкивался в стенах издательства с Эльсбергом, не подозревая, что это советский Азеф. Основные этапы его жизненного пути открылись мне спустя несколько лет, и тогда внешний его облик высветился изнутри, в каждой его черточке я увидел отражение его душевного мира.
Все на Эльсберге было щегольское, от шляпы до ботинок, и этим он резко выделялся даже на фоне крупных ученых, ежедневно косяком заплывавших в издательство в чаянии договоров и авансов. Из людей, близких издательству, один только «демьяно-беднист» Ефремин, издававший в «Academia» Курочкина, мог тягаться с Эльсбергом. Франтить в те времена было трудно: даже стандартные одежда и обувь выдавались по ордерам, ордера в учреждениях брались с бою, да и с ордером-то люди, высунув язык, бегали по всей Москве и частенько возвращались с пустыми руками. К магазинам, где можно было достать хорошие вещи, прикрепляли избранных. «Торгсины» были далеко не всякому доступны: туда без валюты и без драгоценностей не суйся. А еще потому советские граждане в самом начале 1930-х годов одевались скромно, что тогда еще не выветрился аскетизм первых лет революции; он доживал последние дни, но в 1933 году хорошо одеваться все еще считалось моветоном, признаком «обрастания» и «разложения».
Ведь еще так недавно артист Борисов распевал с эстрады на мотив «С одесского кичмана» популярную песенку, по-видимому собственного сочинения:
Служил на заводе Сергей-пролетарий, Он в доску был сознательный марксист; Он был член завкома И секретарь месткома, — Короче, безусловный активист. Евонная Манька Страдала уклоном, Плохой между ими был контакт: Намазаны губки, Колена ниже юбки, А это, безусловно, вредный факт. «Маруська, Маруська! Оставь свою отрыжку, Она конпроментярует мене». А та ему басом: «Катись к своим массам, Не стану я сидеть в твоем клубе! Тады разъярился Сергей-пролетарий, Такая заварилась тут мура!.. «Ты – вредная гада, Таких нам не нада, С помадовщиной кончить нам пора». Несчастная Манька Безумно рыдаить И волосы себе повсюду рветь. Сергей не сдаетца: Он будет с ей боротца И маньковщину с корнем изживеть.Ведь еще так недавно советские обыватели и обывательницы, чтобы как можно больнее ударить противника или противницу, приберегая к концу трамвайных баталий наиболее грозное обвинение – обвинение в барственности и в буржуазности, бросали:
– Ишь, шляпу надел!
Или:
– Ишь, шляпу надела!
В 1932 году моя школьная подруга, намеревавшаяся поступить в Московский институт новых языков, поехала для переговоров к декану.
– Смотри, – наставлял я ее, – если хочешь произвести благоприятное впечатление, не вздумай надевать свою дорогую шубу.
Еще немного – и «самый великий и мудрый» объявит, что у нас наступила «счастливая, зажиточная жизнь», и скуластые, толстогубые парни наденут шляпы, мурластые девки, не часто имевшие дело с мочалкой, мылом и банною шайкой, начнут завивать свои гривы и примешивать к запаху пота запах духов, своею тонкостью напоминавший благоуханье часто посещаемых кошками черных ходов, в домах отдыха и даже в санаториях с грацией коров на льду зафокстротируют почтенного возраста, страдающие ожирением кавалеры и дамы, а ведь еще так недавно московскую молодежь только за увлечение «буржуазными танцами» отправляли на несколько лет вон из Москвы!
Изящному франтовству Эльсберга соответствовала его ровная корректность – корректность крупного дельца или правителя канцелярии – в обращении со всеми, кто приходил к нему по делу, вне зависимости от занимаемого человеком положения, от его политических, литературных и ученых заслуг. Бонвиванство было написано на его округлых щеках, сквозило в плотоядных движениях его губ, – когда Эльсберг говорил, казалось, что он одними передними зубами жует сочную грушу и боится, как бы сок не потек на подбородок, – в его циничной усмешке: усмехались у него только губы и щеки, а глаза оставались серьезными. Взгляд у этого человека был сложным. Это взгляд матерого зверя – зверя, высматривающего добычу, уверенного в силе своей хватки и в то же время зверя пуганого, зверя травленого, зверя, которому все еще чудится засада, Я видел, как он, вертя своей похожей на усеченный конус лысой головой, дико озирался по сторонам, как опасливо поглядывал он порой на кого-либо из собеседников. Он приволакивал одну ногу, и этот его физический недостаток тоже придавал ему сходство с хищником. Когда он шел по Кузнецкому мосту, казалось, что это зверь пробирается, крадется в лесной чащобе по каким-то своим звериным делам. И лишь в редкие миги мне и другим его собеседникам удавалось поймать на его лице вдумчиво-участливое выражение.
Настоящая фамилия Эльсберга – Шапирштейн. Его мамаша была известным в свое время московским зубным врачом. Маменькин сынок, Яша в годы юности мятежной любил жуировать, любил шиковать, любил карты, любил женщин, которых он приманивал не своею наружностью, никогда не отличавшейся особой привлекательностью, а деньгами и подарками, одевался у модного портного, стригся только в парикмахерской при Метрополе. Жалованья, мамашиной субсидии и литературных заработков на широкую жизнь, на рестораны и игорные дома, на дам и куаферов Яше не хватало. Однажды Яша проиграл в казино деньги артели писателей «Круг», финансовыми делами коей он ведал, оставил членов артели на бобах и заработал увесистую оплеуху, которую ему дал сгоряча Всеволод Иванов. За какие-то аферы Яшу посадили и послали подышать воздухом Севера. И вот вместо ресторанов и казино – извольте радоваться: рубка леса, баланда, спанье на нарах и прочие прелести лагерной жизни. Тут-то, должно полагать, и началась его азефова карьера. В один прекрасный день его, по всей вероятности, призвали и предложили: «Не хочешь ли, Яша, послужить нам верой и правдой? Послужишь – скоро опять будешь гулять по улицам красной столицы». Яша предпочел рубке леса благородное дело сыска. И вот он на свободе задолго до окончания срока, и вот он снова в Москве, он – один из самых кусачих рапповских критиков, постоянный сотрудник рапповского органа «На литературном посту». Наконец он становится ни больше ни меньше как секретарем генерального секретаря РАПП, сталинского гаулейтера в литературе Леопольда Авербаха. Вячеслав Полонский на страницах первой книги журнала «Печать и революция» за 1928-й год, лупцуя рапповцев, прозрачно намекнул на настоящее и прошлое Эльсберга: «Ж. Эльсберг… ух как темен!» Ж. Эльсбергу, как пижонски подписывался он тогда, величая себя Жаком, или Шапирштейну-Лерсу, – таков был еще один его псевдоним, – это было как с гуся вода. Но вот в апреле 1932-го года РАПП вместе с Авербахом, с «Ляпочкой», как его называли в интимном кругу, Сталин дал под зад коленом. Ляпочкину шатию-братию называли тогда: «Раппство, падшее по манию царя». Жак Эльсберг, он же Шапирштейн-Лерс, быстро остепенился. Теперь это был Эльсберг, сменивший меч критика на орало историка русской литературы, щедриниста и герценоведа, что, видимо, не мешало ему водить компанию, а заодно и послеживать за старыми друзьями. В 1934 году в серии «Жизнь замечательных людей» он выпустил книгу о Щедрине с посвящением «Леопольду Авербаху». Директор «Academia» Каменев порадел родному человечку (Эльсберг, по непроверенным сведениям, каким-то боком приходился Каменеву сродни): после разгона РАПП Эльсберг поступил на службу в издательство. «Тайный приказ», что на Лубянке, мог быть только доволен таким крутым поворотом в литературной судьбе своего слушальщика: РАПП уже не существовала, а издательство «Academia» не могло не привлекать лубянской любознательности: во главе его стоял опальный боярин, к нему туда частенько хаживали другие опальные бояре – Гришка Зиновьев, Смилга и еще кто-то; Каменев привечал инакомыслящих и неправоверных сочинителей и ученых и предавал тиснению их труды, которые вряд ли выдали бы в свет где-либо еще, – коротко говоря, каменевское издательство открывало широкий простор для произведения сыска. Знал ли Каменев, какого змия ласкает он на груди своей, и рассуждал ли он так, что, мол, все равно кого-нибудь да приставят, знакомый черт лучше-де незнакомого ангела, – это уж теперь навсегда останется тайной.
Как службист, Эльсберг оказался для издательства ценным приобретением. Он быстро вошел в курс дела, не жалел ни сил, ни времени, умел обращаться с людьми. Бранился Эльсберг только в своих статьях рапповского периода, ибо вселенская смазь была основным стилевым принципом журнала «На литературном посту», и нарушать гармонию Жак Эльсберг был не властен, да, вероятно, и не считал нужным. Теперь в любезном без заискивающей приторности заместителе главного редактора издательства «Academia», любезном решительно со всеми, включая и бывших литературных врагов – «перевальцев», Горбова и Лежнева, никто бы не узнал автора погромных статей.
«Правда» от 6 октября 1930 года писала об одном из наиболее стойких и непримиримых «правоуклонистов», куда более стойких и непримиримых, чем их вожди (вот бы о ком роман написать или книгу для серии «Жизнь замечательных людей»!):
Будучи секретарем Краснопресненского райкома» Рютин совместно с т. Углановым и др. вел фракционную борьбу против ЦК. Он вместе со всей правой оппозицией пытался противопоставить партии и ЦК московскую организацию. Рютин вместе с тт. Углановым и Бухариным обвинял партию в скатывании к троцкизму. Рютин вместе со всеми правыми боролся против строительства колхозов и совхозов. Они объявляли троцкизмом организуемое партией социалистическое наступление на кулачество.
Президиум ЦКК ВКП(б) вынес о Рютине нижеследующее постановление:
За предательски-двурушническое поведение в отношении партии и за попытку подпольной пропаганды правооппортунистических взглядов, признанных XVI съездом несовместимыми с пребыванием в партии, исключить М. Рютина из рядов ВКП(б).
Президиум ЦКК.Рютина это не сломило.
В «Правде» от 11 октября 1932 года снова всплывает фамилия Рютина вместе с двумя его сподвижниками. О них в постановлении ЦКК ВКП(б) от 9 октября 1932 года говорится вскользь, – но уже на языке советского уголовного кодекса, – что это была контрреволюционная группа. ЦКК постановила исключить из партии Зиновьева, Каменева, Угланова, представителей так называемой «бухаринской школы» Стэна, Слепкова как участников и пособников рютинской контрреволюционной группы. Зиновьева и Каменева шуганули в ссылку. Каяться им было не привыкать стать. Руку на покаянных заявлениях они набили. Да и мудрено было не набить, – ведь они упражнялись в этом жанре с середины 20-х годов! 18 мая 1933 года в газетах была опубликована слезница Каменева, 20 мая – слезница Зиновьева. Оба снова просили прощения, – «мы больше не будем».
«Товарищи! – плакался Зиновьев. – Вам знакомы, конечно, мои слабые стороны, но вы знаете и то, что я пробыл в партии 31 год…»
Обоих восстановили в партии.
Весной 1933 года Каменев по возвращении в Москву из второй и последней своей ссылки сел в то же самое кресло директора издательства «Academia», из которого он вылетел в ссылку осенью 32-го года. Клеврет Каменева в издательстве» Эльсберг на правах» очевидно, родственника был своим человеком у него в доме. Случайно в первый же день, когда Каменев вновь приступил к исполнению обязанностей директора, в издательство пришел Богословский. Узнав, что Каменев здесь (во время его ссылки исполняющим обязанности директора «Academia» был назначен по совместительству директор Издательства художественной литературы Накоряков), Богословский заглянул к нему в кабинет как раз когда Каменев заканчивал телефонный разговор о женой.
– Сейчас к тебе придет Яков Ефимыч и все расскажет, – заключил он.
Каменев вернулся из ссылки в мае 33-го года; в начале 35-го он был приговорен за «подстрекательство к убийству Кирова» к пяти годам тюремного заключения, а после третьего суда над ним (второй суд состоялся негласно; мы только из материалов третьего и последнего суда над ним узнали, что в промежутке между 1934-м и 1936-м годом ему добавили еще пять лет) в августе 36-го года был расстрелян. Эльсберга обозвали в печати «каменевским приспешником». Я был уверен, что Яше – «хана». Каково же было мое изумление, когда я увидел его, одетого с иголочки, сторожко и пугливо прокрадывавшегося в толпе по Тверской! Из издательства его для прилику уволили, предварительно устроив нечто вроде общественного суда над наиболее близкими Каменеву сотрудниками «Academia» – Яковом Ефимовичем Эльсбергом и Яковом Захаровичем Черняком. Черняк каялся долго и сладострастно, Эльсберг – кратко и уже совершенно невнятно, точно во рту у него была не груша, а целый горшок каши. Придя с этого судилища домой, Богословский сочинил экспромт:
Перед лицом суда два Якова Ведут себя неодинаково. Один из Яковов – Черняк — Ползет на брюхе, как червяк; Другой – смиренный Эльсберг Яков — Притих, в жилет судьи поплакав.Разумеется, и Каменев, и Авербах не избежали бы казни и без эльсберговских «стуков». Эльсберг был лишь поставщиком более или менее ценных для следствия фактов, вернее фактиков, которые мог знать только он.
После войны Эльсберг стал по-прежнему «работать по совместительству». Историк западной литературы Леонид Ефимович Пинский ж востоковед Евгений Львович Штейнберг своим пребыванием в тюрьме и на каторге всецело обязаны Эльсбергу, в их «делах» проявившему себя не только как осведомитель, но и как провокатор и клеветник. Вместе с Пинским Эльсберг преподавал в Московском университете. Когда, после смерти Сталина, освобожденный Пинский пришел к Эльсбергу и потребовал, чтобы тот письменно отрекся от своих показаний (Пинскому это нужно было для реабилитации), Эльсберг, не моргнув глазом, начертал «отречение». А когда Леонид Ефимович, не утерпев, задал ему вопрос, почему же тогда он показывал нечто прямо противоположное, Эльсберг, нимало не смутившись, ответил:
– Тогда требовалось одно, а теперь – другое.
Пинский не нашелся что ему ответить. (Это я слышал от самого Леонида Ефимовича.)
Последняя из мне известных жертв Эльсберга – его закадычный друг, наивный, до конца ему веривший Штейнберг, постановом головы и надменным разрезом глаз напоминавший верблюда. Тут Эльсберг показал себя своеобразным, неповторимым клеветнических дел мастером. Знаменитые провокаторы – Азеф, Малиновский, Жученко – предавали лично далеких им людей; фактически они не были даже их товарищами по партии, ибо в партии эсеров и эсдеков их засылала охранка. Эльсберг делом Штейнберга перещеголял Азефов и Малиновских: на сей раз он предал не сослуживца, не принципала и дальнего родственника, а своего близкого друга. Даже воры не чужды этике: они не трогают «своих» – тех, кто живет с ними в одном доме. Эльсберг в этом случае не придерживался даже воровских этических норм. Упрятав своего лучшего друга, Эльсберг навещал его жену, сажая к себе на колени его дочку, гладил по головке, утешал. Я убежден, что девочку он жалел искренне. Жена, боясь, что арестуют и ее, отдала Якову Ефимовичу на хранение уцелевшие от обыска рукописи мужа. Следователь задал ей вопрос, не осталось ли у Штейнберга еще каких-либо рукописей. Она ответила, что нет. «А это что?» – спросил вызвавший ее на допрос следователь, показывая ей папки, которые она передала Якову Ефимовичу.
Но Эльсберг не ограничивался тем, что младенца милого ласкал. До самого выхода Штейнберга из концлагеря он оказывал его жене постоянную денежную помощь, и жена, боясь, как бы Яков Ефимович не засадил и ее, принимала его доброхотные даяния.
А вот другого Евгения Львовича – писателя и ученого Ланна – Эльсберг любил по-настоящему и доказал это на деле. Он никогда его не провоцировал, не задавал ему скользких вопросов, не заводил с ним разговоров о политике. Каждое утро звонил ему по телефону и выкладывал литературные новости и сплетни. Ланн говорил, что этот ежеутренний звонок по телефону для Эльсберга такая же физиологическая потребность, как пойти в уборную. Заходил Эльсберг к Ланну редко, только когда у него никого не было. Заботился об этом и хозяин (одно время я бывал у Ланна по зимам почти каждый вечер, и он нет-нет да и предупреждал меня: «Завтра не приходите – у нас будет Джемс»), и гость, неизменно осведомлявшийся, не ждет ли Ланн в этот вечер еще кого-нибудь, и если узнавал, что ждет, то просил перенести свидание. Для Ланна Эльсберг, видимо, делал исключение: он вел себя как вор-домушник» не только по отношению к нему, но и к его гостям.
Ланн смотрел на Эльсберга трезвым взглядом, но он не мог забыть, что Эльсберг для него сделал в 41-м году во время эвакуации. Эльсберг занял в теплушке лежачее место. Когла Ланн влез в этот вагон, там уже было битком набито. Колченогий Эльсберг, зная, что у Ланна больное сердце и больная печень, уступил ему свое место, а сам несколько суток то, словно аист, стоял на одной, здоровой ноге, то сидел на корточках до тех пор, пока Ланн не прибыл по назначению.
Ехавший в том же вагоне Богословский после рассказывал мне, как на одной из станций он и Эльсберг вышли промяться и прочее. Эльсберг и тут не терял присутствия духа, одет был с московской элегантностью, будто ехал куда-нибудь на курорт. Все вокруг вокзала было загажено людьми, в течение нескольких суток безуспешно осаждавших проходящие поезда. Осенью 41-го года люди распустили языки. Николай Вениаминович тоже позабыл свою всегдашнюю осторожность.
– Эх, Яков Ефимович! – сказал он. – Вот мы с вами, сидя в Москве, ежедневно читали в газетах: индустриализация, машинизация, электрификация, социалистическое строительство, пятилетка, а вот она, подлинная-то Россия: как была, матушка, вся в говне, так и осталась.
– Да, вы правы, – невозмутимо перешагивая лакированными ботинками через человеческие испражнения и все-таки время от времени в них попадая, зажевал губами Яков Ефимович. – Вот если бы здесь был Пильняк, он мог бы написать второй «Голый год».
…В эпоху «позднего Реабилитанса» Секретариат московского отделения Союза писателей исключил Эльсберга из Союза как провокатора и клеветника, однако Секретариат правления Союза писателей Российской Федерации, куда Эльсберг подал апелляцию, признал, что вины за ним нет, – он, мол, честно выполнял поручения, – и Эльсберг, заведующий одним из отделов Института мировой литературы имени Горького, был восстановлен в почетном звании советского писателя.
Принципал Эльсберга с 32-го по 34-й год и главный объект его наблюдений, Лев Борисович Каменев (Розенфельд), широкоскулый, курносоватый, похожий на земского врача откуда-нибудь из Тульской губернии, держался с подчиненными и посетителями с такой интеллигентной, нисколько не панибратской простотой, был так для всех доступен, что теперь это даже трудно себе представить и трудно этому поверить. Приемных дней и часов у Каменева не существовало. Если Каменев находился у себя в кабинете и если у него не было заседаний, то к нему мог войти «без доклада» любой сотрудник и любой автор. Секретарь Надежда Григорьевна Антокольская (сестра поэта) сидела не у врат его кабинета, а в следующей, по коридору направо, «общей» комнате, цербера из себя не изображала и никому не преграждала вход к Льву Борисовичу. Теперь директор издательства и здоровается-то по-разному: доктору наук или лауреату жмет руку долго и с чувством, кандидату или просто известному литератору – с чувством, но не долго, а если тут же случится подчиненный, пусть даже «старший редактор», то ему сунет руку нехотя и тут же отдернет. При виде одного расплывется в широкую улыбку, при виде другого приятно осклабится, при виде третьего улыбнется одними глазами. Каменев был со всеми одинаково вежлив, ни с кем не заигрывал и всех одинаково внимательно выслушивал. В недавнем прошлом это был крупный буржуа с партийным билетом в кармане. Он обожал комфорт и, дорвавшись до власти, даже в годы военного коммунизма старался ни в чем себя не стеснять. В поэме Семена Липкина «Нестор и Сария» Сталин с завидной меткостью характеризует Каменева: «еврейский барин». Раскатывал «еврейский барин» в годы военного коммунизма как по делам службы, так и по семейным делам в автомобиле, который принадлежал Николаю II и который Каменев забрал в свое личное пользование. Чтобы автомобиль не увязал в грязи, когда Каменев вызывал к себе на дачу, впоследствии перешедшую к Сталину, детского врача, который жил на даче неподалеку от Каменева, красноармейцы по распоряжению Льва Борисовича замостили проселок. На ночь лакеи опрыскивали пролетарского вождя одеколоном. Неоднократным тому свидетелем был кремлевский детский врач Василий Яковлевич Гольд, нередко ночевавший на даче Каменева, – мне же рассказывал об этом его сын, Борис Васильевич. В начале 20-х годов Каменев с неслыханной по тому времени роскошью отделал свой кабинет председателя Московского совета в том здании на Скобелевской площади, где и сейчас помещается Моссовет. В Каменеве – директоре издательства «еврейского барина» не чувствовалось совершенно. Глядя на него в «Academia», никто бы не подумал, что это бывший член Политбюро, первый заместитель Ленина, бывший московский «генерал-губернатор», во время болезни Ленина и после его смерти один из членов триумвирата, фактически правившего страной (Сталин – Зиновьев – Каменев), автор едва ли не первой антитроцкистской работы «О троцкизме», перед XIV партийным съездом (1925 год) сиганувший вместе со своим соавтором и сочленом по триумвирату от Сталина к Троцкому. Впрочем, и в ту пору, когда Каменев был у власти, «барственность» его проявлялась, насколько я слышал, в стремлении к «красивой жизни», но не в начальственном тоне с подчиненными и посетителями. Каменев слыл меценатом. В первые годы революции он заботился о Ермоловой. Он считался знатоком, любителем и отчасти покровителем символистов. Тотчас после смерти Андрея Белого Каменев задумал издать в «Academia» полное собрание его стихотворений. (Сменивший Каменева на посту директора Янсон приказал рассыпать набор.) В 20-х годах Максимилиан Волошин устроил в Москве выставку своих картин. Каменев, посетив выставку, пригласил Волошина к себе на обед. Почему-то пригласил он и тогдашнего верховного прокурора Крыленко. За обедом Каменев повел с Волошиным такую речь, что-де, мол, выставка Максимилиана Александровича имела несомненный успех, почему бы Максимилиану Александровичу не перебраться из Коктебеля в Москву? Будем, мол, вместе работать. Волошин сказал, что в Москву он не собирается и сотрудничать с новой властью особой охоты у него нет, а почему – на это, мол, яснее всего ответит его стихотворение «На дне преисподней». Стихотворение это он тут же и прочитал:
С каждым днем все диче и все глуше Мертвенная цепенеет ночь. Смрадный ветр, как свечи, жизни тушит: Ни позвать, ни крикнуть, ни помочь. Темен жребий русского поэта: Неисповедимый рок ведет Пушкина под дуло пистолета, Достоевского на эшафот. Может быть, такой же жребий выну, Горькая детоубийца-Русь! И на дне твоих подвалов сгину, Иль в кровавой луже поскользнусь, Но твоей Голгофы не покину, От твоих могил не отрекусь. Доконает голод или злоба, Но судьбы не изберу иной; Умирать, так умирать с тобой И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!– В этом стихотворении, насколько я понял» не наша идеология, – заметил верховный прокурор.
– Максимилиан Александрович имеет право на свою идеологию, – возразил амфитрион.
Обаятельный своей простотой Каменев расположил меня к себе. Тем тяжелее мне было потом читать его показания на процессе, происходившем в августе 36-го года.
На процессе Каменев вел себя как предатель. Мы не знаем, что происходило за кулисами, какие меры воздействия были к Каменеву применены, что положили перед ним на чаши весов. Быть может, ему пообещали не тронуть первую жену, Ольгу Давыдовну, сестру Троцкого, не тронуть их сына «Лютика», не тронуть вторую жену, не тронуть их сына «Волика», которых, конечно, потом «тронули». А скорее всего, ему обещали помилование, и он поверил – ведь пощадили же «рамзинцев», «плановиков».
Так или иначе, на «сцене» одно из показаний Каменева выглядело как самое черное и притом по видимости добровольное предательство.
Понятно, все было заранее условлено на репетициях. Понятно, «куча мала» составляла сверхзадачу и режиссера, и сорежиссеров. Однако на судебном заседании Вышинский не тянул Каменева за язык оговаривать пока еще не привлеченных к ответственности. Создавалось впечатление, будто Каменев по собственному желанию вплел в свой рассказ такие нити:
В 1932 – 33–34 годах я лично поддерживал отношения с Томским и Бухариным, осведомляясь об их политических настроениях. Они нам сочувствовали. Когда я спросил Томского, каково настроение у Рыкова, он ответил: «Рыков думает так же, как я». На вопрос, что же думает Бухарин, он сказал: «Бухарин думает то же, что я, но проводит несколько иную тактику – будучи несогласен с линией партии, он ведет тактику усиленного внедрения в партию и завоевания личного доверия руководства».
Что у Томского мог быть такой разговор с Каменевым, в этом ничего невероятного нет. Но выражение недовольства политикой Сталина и террористический заговор – как хотите, это для всякого человека с незадуренной головой и не для шулера от юриспруденции не одно и то же. Ведь Каменев не утверждал, что бухаринцы – террористы. Он ограничился общими фразами: они, мол, «к нам мыслили». Но Вышинскому показание Каменева послужило крючком, чтобы притянуть к ответу Бухарина, Угланова, Рыкова и Томского. А Каменев, разумеется, не мог не отдавать себе отчета, какие козыри он дает Вышинскому.
В сентябре 36-го года из опубликованного в газетах сообщения Прокуратуры СССР мы узнали» что Бухарин и Рыков обелены. Правда» Рыков в том же месяце был отстранен от обязанностей Народного Комиссара Связи, а Бухарин еще некоторое время оставался ответственным редактором «Известий». Между строк сообщения нетрудно было вычитать, что Пятакова, Радека и Угланова зацепили. Бывший секретарь Московского комитета партии Угланов, снятый с этого поста 27 ноября 28-го года, пропал без вести: то ли он успел, как Томский, покончить о собой, то ли умер «своею смертью» в тюремной больнице, то ли его за непокорность забили до смерти на допросах, то ли уничтожили тишком – история умалчивает. Главными «героями» второго процесса (1937 год) были Пятаков и Радек, третьего (1938 год) – Бухарин и Рыков. По-видимому, Народный Комиссар Внутренних Дел Генрих Григорьевич Ягода на сей раз не угадал, чего хочет «хозяин». А казалось бы, что там угадывать? Но – на всякую старуху находит проруха, на всякого мудреца довольно простоты…
23 августа 1936 года, в разгар процесса, «Правда» поместила отчет о митинге на заводе «Серп и Молот». Резолюция, вынесенная на митинге, заканчивалась так:
Мы просим Прокуратуру ускорить расследование связей Бухарина, Томского, Рыкова, Радека, Пятакова с главарями бандитской шайки. Никакой пощады изменникам, предателям родины! На скамью подсудимых сообщников фашистских агентов![1]
В «Известиях» от того же числа был дан отчет о митинге на ленинградском заводе «Электросила». Митинговавшие потребовали:
«Расследовать до конца связи Бухарина, Рыкова и других с подлыми террористами».
Уж чего ясней?.. Кстати сказать, номера «Известий», где печатались отчеты о судебных заседаниях с доносами на Бухарина, с распоряжением прокурора Вышинского привлечь Бухарина к ответу, требование завода «Электросила» расследовать его связи с террористами» по-прежнему подписывал ответственный редактор «Известий» Н. И. Бухарин.
Отпустив Бухарина и Рыкова с миром, Ягода все же несколько затруднил «хозяину» их арест, во всяком случае, отдалил его, что, по всей вероятности, не входило в расчеты Сталина. Томского Ягода и вовсе упустил: тот предпочел покончить все счеты с жизнью, только бы не попасться в руки Ягода.
В сентябре 36-го года Народного Комиссара Внутренних Дел назначили вместо Рыкова Народным Комиссаром Связи.
А 4 апреля 37-го года мы прочли в центральных газетах сообщение, напечатанное для придания ему особой важности на первой странице:
Об отрешении от должности
Народного Комиссара Связи СССР Г. Г. Ягода
Постановление Президиума
Центрального Исполнительного
Комитета СССР
Ввиду обнаруженных должностных преступлений уголовного характера Народного Комиссара Связи Г. Г. Ягода, Президиум ЦИК СССР постановляет:
1. Отрешить от должности Народного Комиссара Связи Г. Г. Ягода.
2. Передать дело о Г. Г. Ягода следственным органам.
Председатель Центрального
Исполнительного Комитета СССР М. Калинин
Секретарь Центрального
Исполнительного Комитета СССР И. Акулов
Москва, Кремль, 3 апреля 1937 года.
Постановление было составлено так хитроумно, что в глазах обывателей Ягода до суда над ним выглядел уголовником, обыкновенным мошенником. Вывший генеральный комиссар государственной безопасности – что греха таить! – любил пожить в свое удовольствие и для привлечения его к уголовной ответственности оснований, уж верно, немало – рассуждал обыватель.
И вот Ягода за причастность к тайнам мадридского двора, за то, что неукоснительно выполнял повеления Сталина: избивать, убивать, умерщвлять, – а Сталин, как правило, устранял много о нем знавших, даже если они и не были его соучастниками, – за то, что не сумел накрыть сетью Бухарина, Рыкова и Томского (несмотря на заступничество виднейших партийных деятелей и членов правительства, Ягода все-таки мог бы зацепить их, но тут он, кажется, в первый и уж, во всяком случае, в последний раз в жизни дал маху), – Ягода попал в одну из тех камер, куда он на протяжении многих лет сажал других. Больше года проходил он через все пытки допросов, коим на протяжении многих лет подвергал других. Еще так недавно он был государем вот этого самого лубянского государства в государстве, а теперь смотрел на последнего караульного как на своего властелина.
Сталин применил к Ягоде излюбленный свой прием – прием, примененный им и к Луначарскому, который в 29-м году сначала получил распубликованный во всех газетах строгий выговор за задержку курьерского поезда, а потом уже был удален с поста Наркомпроса и заменен фельдфебелем Бубновым, и к профессору Плетневу, который сначала был ославлен в газетах за якобы недостойное поведение с пациенткой, а потом засажен в тюрьму и приговорен к двадцати пяти годам тюремного заключения с конфискацией всего ему лично принадлежащего имущества за содействие умерщвлению Горького и Куйбышева, – прием постепенной компрометации. Сразу расправиться со старейшим чекистом, членом коллегии ВЧК со дня ее основания, учеником «железного» Феликса, заместителем председателя ОГПУ Вячеслава Рудольфовича Менжинского, после смерти Менжинского – Народным Комиссаром Внутренних Дел и генеральным комиссаром госбезопасности – это может произвести неблагоприятное впечатление. Нет, сначала мы сошлем его в опальный Наркомат – в Наркомсвязь. Нашлись наивные люди, которые утверждали, что это не понижение. Война на носу, во время войны роль связи приобретает огромную важность, и для руководства ею нужен именно такой человек, как Ягода… Так-с… Ну, а потом мы засадим его под замок и сделаем из него участника «право-троцкистского блока» – долго ли, умеючи? Ведь это он же и научил, как выжать из человека любое признание. Ягода и ближайшие его соратники были одними из основателей и главных преподавателей Государственного Политического Университета, как в горькую шутку расшифровывали интеллигенты ГПУ, а всерьез – Гепеужас. Ведь недаром по случаю десятилетнего юбилея ВЧК – ОГПУ приказом Реввоенсовета от 16 декабря 1927 года заместитель председателя ОГПУ Генрих Григорьевич Ягода был награжден орденом Красного знамени вместе со вторым заместителем Менжинского – Мейером Абрамовичем Триллисером и вместе с другими чекистами, «особо способствовавшими укреплению диктатуры пролетариата», в частности – с Яковом Сауловичем Аграновым, Терентием Дмитриевичем Дерибасом и начальником ГУЛАГ’а Матвеем Давидовичем Берманом («Известия» от 18 декабря 1927 года). Да ведь Генрих-то Григорьевич, помимо всех своих злодеяний, коим несть числа; помимо расстрела без суда в 27-м году двадцати ни в чем не повинных граждан, а в 30-м – расстрела без суда сорока восьми сотрудников Союзмяса, Союзрыбы, Союзконсерва, Союзплодоовоща и Наркомторга, «повинных» в том, что сталинская политика коллективизации оголодила страну; помимо сфабрикованных Генрихом Григорьевичем с благословения Вячеслава Рудольфовича «Шахтинского процесса», процессов «Промпартии» и «Союзного бюро меньшевиков»; помимо косвенного участия в убийстве Кирова и последовавших за ним массовых расстрелов в Москве, Ленинграде, Киеве и Минске (списки расстрелянных печатались в газетах); помимо чистки Ленинграда от «подозрительных элементов»; помимо ознаменовавших его славную деятельность расстрелов, отправки в каторгу, высылок и ссылок инженеров» профессоров, архиереев, «бывших людей», крестьян, священников, рабочих, учителей, членов церковных советов, студентов, бухгалтеров, мастеровых, регентов церковных хоров, врачей, в том числе ветеринарных, санитарных и зубных, инспекторов средних и начальных школ, художников-реставраторов, агрономов, историков, таких, как Платонов и Тарле, музейных работников, краеведов, имя же им всем легион; помимо установленного им режима в концлагерях (в Соловках расстреливали за невыход на работу, за другие провинности сбрасывали с колокольни, в одном из уральских концлагерей «ставили на комара»; привязывали заключенного к дереву голым на съедение гнусу), режима, однако, впоследствии им же смягченного – с начала 30-х годов он начал широко практиковать в лагерях снижение сроков за ударный труд, – Генрих Григорьевич, любовник невестки Горького – «Тимоши» Пешковой, при участии секретаря Горького – Крючкова, наверное, сжил со свету сначала мужа «Тимоши» – Максима, а потом и старика. Вот в этом-то его обвинили, думается, не зря, и не зря обвинили его в отправлении на тот свет Менжинского, в чем, как и в умерщвлении Горького, его интересы совпадали с интересами «хозяина». Ягода хотелось поскорей сесть на место Менжинского, чего он и достиг после его смерти, а Сталин невзлюбил Менжинского за продерзость и ослушание. Сталин настаивал на аресте Троцкого, а Менжинский заупрямился. Троцкого выпустили за границу, и там Троцкий разоблачал Сталина сколько его душе было угодно. Положение Ягода на суде было отчаянное: сознаваться в убийстве и не сметь сказать, чьей воли он был исполнитель, ибо, если б он хоть словом обмолвился, можно себе представить, каким нечеловеческим мукам он был бы подвергнут до казни! И вот он плел на суде небывальщину, что сжил со свету Горького по заданию Троцкого и при участии Бухарина и Рыкова, между тем Горький решительно ничем не мешал ни Троцкому, ни Бухарину, ни Рыкову, а вот «самого» обозлил непрошеным заступничеством за Каменева, когда Каменева арестовали вскоре после убийства Кирова, отказом написать книгу о «светлом гении человечества». Горький все еще влиял на умы некоторых иностранных писателей и общественных деятелей.
Сталин, наверное, знал от Ягода, что Горький понял, кто и зачем устранил Кирова, и что отнесся он к этому мероприятию более чем неодобрительно. Он самым фактом своего существования мешал Сталину продолжить цикл процессов над его идейными противниками. Сталин продолжил цикл лишь спустя несколько месяцев после смерти Горького. Исполнителями воли Ягода были не те врачи, которых судили вместе с ним, а, в отличие, скажем, от Плетнева, приглашавшегося к Горькому лишь от случая к случаю, в качестве консультанта, советы коего были не обязательны, – исполнителями воли Ягода были врачи постоянные, «лечащие», но их суд не счел нужным вызвать даже в качестве свидетелей. Народ, дескать, у нас легковерный, и так поверит, не к чему утруждать себя соблюдением пустых формальностей.
В 38-м году Ягода замешали в процесс Бухарина и Рыкова и подвергли той же мере наказания, какой он столько раз подвергал других, – расстрелу. И в последнем слове он умолял пощадить его – так страстно, мол, ему хочется, пусть даже сквозь тюремную решетку, поглядеть на жизнь.
…Возвращаюсь к Каменеву. Вернее всего, под закулисным физическим или моральным давлением он сыграл по отношению к Бухарину и другим позорную роль – роль наводчика.
В издательстве «Academia» нашли себе убежище многие ученые и литераторы, потерпевшие крушение в разных морях и океанах. На этот – тогда еще казавшийся спокойным – берег выбросило Леонида Петровича Гроссмана. Журнал «На литературном посту» приклеил к нему ярлык: «эпигон идеализма». Это было равносильно выдаче волчьего билета. Гроссман был отставлен от преподавания теории литературы в Московском институте новых языков за то, что он, дойдя до раздела тропов и предложив слушателям первого курса самим придумать сравнения, допустил возможность уподобления глаз лампадам, предложенного одной из студенток. Обследовавшая институт бригада из газеты «Рабочая Москва» сочла это «поощрением религиозной пропаганды», и Леонида Петровича отстранили от преподавания.
В 1933 году народился журнал «Литературный критик». В сущности, это была та же лавочка, что и рапповский «Литературный пост», только под другой вывеской. И там, и здесь схоластика, правда – разных колеров, те же разговоры вокруг да около литературы за неуменьем говорить о самой литературе; и там, и здесь – политические доносы на писателей с немалым ругательством и бесчестьем (чаще других пускала в ход кулаки опять-таки Усиевич). Основное различие между этими двумя повременными изданиями состояло в том, что «литкритические» талмудисты – Лифшиц, Гриб – были все-таки поначитанней и понахватанней залихватских неучей вроде Зонина, Гельфанда, Лузгина, Селивановского, Авербаха, могли и по-французски изъясниться – «парле Франсе, прейскурант», – а налитпостовцы почитали это за излишнюю роскошь и за «буржуазный предрассудок».
Так вот, в 33-м году, в новорожденном, вернее, в мертворожденном, журнале «Литературный критик» Елена Усиевич обрызгала мутной слюной исторические романы Гроссмана. В «Academia» Гроссман готовил тогда издание «Евгении Гранде» в переводе Достоевского и «Бесов» с обширным историко-литературным комментарием. (Проблема прототипов в «Бесах» была предметом его тщательного изучения,) Это издание «Бесов» так и не увидело света. Против него выступил в «Правде» от 20 января 35-го года Заславский (чего стоит одно название статейки: «Литературная гниль»!), и» несмотря на появившийся в «Правде» от 24 января того же года хлесткий протест тогда уже начавшего терять свою силу Горького («Об издании романа “Бесы”»), которому грубо ответил на другой же день в «Правде» Заславский («По поводу замечаний М. Горького»), «Бесы» в продажу не поступили. Кстати сказать: уже одно то, что Заславскому и Панферову (в «Правде» от 28 января того же года было напечатано «Открытое письмо А. М. Горькому» Панферова – ответ на статью Горького «Литературные забавы», помещенную в одном номере с его заметкой «Об издании романа “Бесы”») позволили по-хамски разговаривать с «великим пролетарским писателем», указывало на то, что он в немилости. А немного погодя – еще одна пощечина. В третьей книге «Литературного критика» Е. Усиевич в статье «Творческий путь Сергеева-Ценского» тявкнула: у нас, мол, кое-кто распространял легенду о мастерстве Сергеева-Ценского. Кто знал печатные восторженные высказывания Горького о Сергееве-Ценском, тому было ясно, в кого она метит, не смея, однако, назвать Горького прямо, – это было ей не по чину. Раз за разом три затрещины – сиди, мол, не рыпайся и не суйся с заступничеством ни за Каменева, ни за кого-либо еще.
В «Academia» с горя приносил дубовые переводы стихов Гейне Абрам Захарович Лежнев, критических статей которого давно уже не печатал даже когда-то родной ему «Новый мир».
Здесь часто сверкал пышным серебром расчесанных на прямой пробор кудрей, с тросточкой на левой руке, старомоднейший Георгий Иванович Чулков. Казалось, этот человек с благородным профилем и вдохновенным взором только что пришел с заседания в Религиознофилософском обществе или из Литературно-художественного кружка. Казалось, он, как Поток-богатырь, проспал и гражданскую войну, и НЭП и, в отличие от Потока лишь постарев в меру возраста, но не утратив характерного обличья предреволюционного мыслителя и поэта, внезапно замелькал на улицах новой Москвы, привлекая к себе не менее недоуменные взгляды, чем если б на нем был кивер и николаевская шинель с пелериной – до такой степени чужероден был окружающему миру этот закоренелый символист, друг Федора Сологуба и Блока (есть фотография, на которой они сняты втроем), вместе с Вяч. Ивановым и Городецким проповедовавший идеи «мистического анархизма», полемизировавший с группировавшимися вокруг брюссовских «Весов» московскими символистами, особенно – с Белым, о котором тогда еще говорили: «Андрей Белый, в скандалах поседелый», что очень льстило Белому, на чем свет стоит ругавшему бедного Георгия Ивановича и даже выведшему его в своей «Второй симфонии» под плоским, вымученным, как всегда у Белого, именем Жеоржия Нулкова.
После революции Чулков постепенно причалил к пристани мемуаристики, истории русской литературы и текстологии – к пристани, которую можно назвать тихой лишь с многочисленными оговорками. Историков литературы и текстологов, конечно, тоже били – кого у нас после Великой Октябрьской социалистической революции не били? – но все же не до бесчувствия. Чулков выпустил «Летопись жизни Тютчева», написал непритязательную, интересную, честную книгу воспоминаний «Годы странствий», в которой он рассказывал о своем пути от революции к символизму и в которой он, в отличие от Андрея Белого, ни С кем счетов не сводил и не лил грязи на друзей, очутившихся за рубежом, издал в «Academia» полное собрание стихотворений Тютчева со множеством текстологических нововведений, впрочем, далеко не всегда убедительных. Оказывая неизменное предпочтение первоначальным вариантам, неосторожно, подобно неопытному реставратору, снимая слой тургеневской правки, он во многих случаях портил тютчевские стихи. Но все же он первый предпринял пересмотр тютчевского поэтического наследия. Кирилл Васильевич Пигарев, отделив плевелы, тщательно подобрал те зерна истины, которые заключались в работе Чулкова над текстами Тютчева. В последние годы жизни Чулков выпустил, на мой, не пушкинистский, а читательский взгляд, лучшую биографию Пушкина («Жизнь Пушкина»), написанную пером писателя, и притом писателя с тонким стилистическим вкусом, порой изменявшим другому биографу Пушкина – Леониду Гроссману. Вот только напрасно Чулков усмотрел в Евгении, Параше и Медном Всаднике «треугольник»; Пушкин – Наталия Николаевна – Николай I. Мягко выражаясь, это натяжка. Впрочем, быть может, без этой «натяжки» биография бы не прошла. Ее и так уже выругали, пока она печаталась в «Новом мире», до отдельного издания. Незадолго до кончины Чулков издал еще одну хорошую книгу «Как работал Достоевский». Усыпив заглавием бдительность издательства, он написал книгу не столько о мастерстве Достоевского, сколько о его религиозных убеждениях. Написана им была и биография Достоевского, но ее так до сих пор и не извлекли из архивных недр. Душевная основа Георгия Ивановича была христианская. На его могиле, на Новодевичьем кладбище, его вдова Надежда Григорьевна поставила памятник с надписью: «Да не смущается сердце ваше: в дому Отца Моего обители многи суть».
В стенах «Academia» можно было встретить и недавнего диктатора в теории литературы Валерьяна Федоровича Переверзева, метод которого им самим и его единомышленниками преподносился одно время как последнее, окончательное и непререкаемое слово марксистской истины в теории литературы и внедрялся даже в преподавание литературы в старших классах средней школы. О моем сочинении об «Обломове» Софья Иосифовна написала у меня в тетради: «Хорошо сумел применить метод Переверзева. С. М.» А ведь какую ерунду я там писал! Его теории социального детерминизма и автогенных образов противоречили и фактам, и здравому смыслу. Согласно этим теориям, ежели, к примеру, Гоголь выбрал себе родителей из среды мелкопоместных дворян, то уж из этого очерченного им еще в материнской утробе магического круга ему не вырваться до конца жизни, так он и останется старосветским идеологом, правозаступником «небокоптителей» Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, и сколько бы он ни морочил читателям голову, какие бы маскарады ни устраивал и в какие бы наряды своих героев ни облекал, Переверзева не обманешь: он ясно видит диканьское их исподнее – вон оно вылезает! – а из дворянского гнезда гончаровской бабушки в нос Переверзеву так и шибает гнилою, лежалою вонью купеческого амбара. Это уже был социологизм в литературоведении, доведенный до полного абсурда. Я до сих пор не могу взять в толк, хоть убейте, как этот умный человек не понимал, что несет ахинею, которая могла иметь успех только во времена умственного оскудения и отупения, во времена идейной бестолочи и неразберихи. Неужто проповедь этой дичи нужна была ему только для того, чтобы занять шаткий престол самодержца всея теории литературы, чтобы окружить себя такими царедворцами, как Совсун, Геннадий Поспелов или Ульрих Фохт, рядом с которыми преподаватели помяловской бурсы поражают живостью ума и самостоятельностью мышления?..
Переверзев был одноглаз. В 1931 году в музее Льва Толстого, что на Пречистенке, Абрам Борисович Дерман прочел доклад на тему «Промахи мастеров» (впоследствии он сделал из доклада статью и напечатал ее в «Красной нови»). Докладчик упрекал Льва Толстого в том, что он употребляет по отношению к Кутузову слово «взгляд», тогда как Кутузов был крив, следовательно, взгляда у него быть не могло. Выступивший в прениях Валерьян Федорович возразил докладчику. Он сказал, что это не промах: он, Переверзев, тоже, дескать, крив, однако полагает, что его единственный глаз способен смотреть по-разному, в зависимости от настроения самого Переверзева и от его отношения к тому, с кем он в данное время разговаривает, что и у единственного глаза может быть то или иное выражение.
Переверзев был совершенно прав. Единственный его глаз глядел то с хохлацкой безвредной лукавостью, то по-хохлацки благодушно, то по-хохлацки несговорчиво – и всегда умно. Его коренастая фигура останавливала на себе взгляд здоровьем и крепостью, которой, казалось, долго не будет износу, за которой угадывалась крепость душевная, тоже негнущаяся и неколебимая. И подобно тому как подлинный облик тихого Лежнева разрушил представление, какое я составил о нем по его задорным и хлестким статьям, подобно тому как Каменев предстал предо мною не барином, а «трудовым интеллигентом», так же точно, сколько ни вглядывался я в Переверзева, я не мог вообразить, что предо мною – недавний диктатор. Ни одной черты властелина я в нем не усматривал. «Нет, нет, это упрямый хохол, физический и душевный силач, но не диктатор», – думалось мне.
После разгрома «переверзевщины» – такую бранную кличку получило в конце концов его учение; после того как даже ближайшие последователи отреклись от своего духовного вождя (на последнее «судебное заседание» в Коммунистической Академии, где разбиралось «дело о переверзевщине», Переверзев явился, окруженный сонмом учеников, а ушел оттуда один); после того как в «Литературной газете» от 7 апреля 30-го года появилась резолюция президиума Коммунистической Академии «О литературоведческой концепции В. Ф. Переверзева»; после того как в том же году издательство Коммунистической Академии выпустило целую книгу «Против механистического литературоведения. Дискуссия о концепции В. Ф. Переверзева»; после того как в 31-м году издательство «Московский рабочий» выпустило книгу, в которой учению Переверзева была дана уже и политическая оценка, – «Против меньшевизма в литературоведении. О теориях проф. Переверзева и его школы»; после долговременного бичевания Валерьян Федорович приютился в «Academia». Здесь он успел сделать полезное дело: открыл для читателя забытых Нарежного и Вельтмана.
Переверзев посидел в царской тюрьме, – даже ухитрился написать в остроге книгу о Гоголе, – побывал и в царской ссылке, и не где-нибудь, а в Нарыме, а в 1938 году для него, как для бывшего социал-демократа (меньшевика), началась новая полоса мытарств – тюрьма, концлагерь. После войны его освободили. Жить разрешили за сто с лишним километров от Москвы. В одну из Варфоломеевских ночей зимы 48–49 годов он был вновь схвачен и по этапу отправлен на поселение в глухую деревушку Красноярского края. Найти себе работу он там не мог. В учителя сельской школы ссыльных не брали. Какие-то грошики присылала ему жена. Они почти целиком уходили на уплату за жилье. Все лето и всю осень – до первых заморозков – старик жил на подножном корму: ходил босиком по лесу и собирал ягоды. Вернувшись после реабилитации в Москву, Переверзев, уже в глубокой старости, еще раз выпустил роман своего любимого Вельтмана «Приключения, почерпнутые из моря житейского», выдержавший два издания и расхватанный читателями, и книгу «У истоков русского реалистического романа». Умер он в 68-м году, 86 лет от роду.
Как-то раз он говорил при мне с Дмитрием Александровичем Горбовым о падении современной критики – говорил на хохлацкий неторопливый распев, с беззлобной улыбкой, от которой еще выше взлетали его брови и еще как будто бы крупнел и переполнялся добродушия толстый его нос.
Смысл речей Валерьяна Федоровича сводился к следующему: пусть щелкоперы ругаются, коли это им не надоело и коли им это по штату положено, так уж ругались бы грамотно, а то ведь двух слов, сопляки, связать не умеют. Их даже борзописцами не назовешь. Такого комплимента они не заслуживают. Какая уж тут борзость! Прежде гимназистишки четвертого класса писали сочинения куда лучше, чем пишут они свои статейки.
Горбов его поддержал.
– Вы знаете, Валерьян Федорович, – слегка скандируя и время от времени для шику грассируя, заговорил он, точно гусиным пером заскрипел по бумаге, – недавно я наткнулся на статью обо мне. Называется она «Враг». Уж, кажется, название заманчивое. Кому бы и прочесть ее, как не мне! Стал читать – нет, не могу! С души воротит. Скучища смертная. Жвачка.
Первое впечатление от Горбова: клюв на палочке. Его копье – видный нос был такой длины, что казалось, будто все его высосанное чахоткой лицо, вся его головка с расчесанными на косой пробор черными лоснящимися волосами тянется вслед за этим стремительным носом, а его прятавшиеся за очками глазки, от природы сидевшие глубоко, словно еще глубже ушли в глазницы. И смотрел он на вас как бы не глазами, а носом. Когда же он шел, то казалось, будто впереди летит его нос, а за носом семенящей походкой едва поспевают ножки.
Однажды мы долго стояли «в затылок» у кассы Гослитиздата, но денег так и не получили. Единственный московский литератор, который мог бы оспаривать у Горбова первенство по худобе, Евгений Львович Ланн предложил ему:
– Дмитрий Алексаныч! Пойдемте торговать своим роскошным телом – иного выхода у нас с вами нет.
Как-то Горбов ждал в приемной «Известий» Бухарина. Кроме него, в приемной сидел Мейерхольд, с которым Горбов был не знаком. Взглянув на Горбова, Мейерхольд так и вонзился в него глазами и смотрел, не отрываясь, до тех пор, пока из бухаринского кабинета не вышел посетитель.
– Моя наружность, – а ведь она у меня, надо признаться, довольно оригинальная (рассказывая мне об этом, Горбов усмехнулся своей ехидно-плаксивой усмешкой – сразу никогда нельзя разобрать, усмехается он или собирается заплакать), – привлекла внимание Мейерхольда потому, что она просилась к нему на сцену, для него это была уже готовая гротескная маска, и он, должно быть, присматривался: кому из персонажей будущего спектакля подошел бы такой грим.
Судьба Горбова была, пожалуй, не менее оригинальна, чем его наружность. Сын состоятельных и знатных родителей, он после революции возьми да и вступи в партию. В партийности Горбова было что-то от снобизма наизнанку, что-то пижонское. Это был кукиш в кармане братьям-интеллигентам. Однажды, нализавшись у Новикова-Прибоя, он принял живейшее участие в хоровом исполнении «Боже, царя храни», после чего с остервенением начал топтать произведения некоторых современников и приговаривать: «К черту советскую литературу! К черту советскую литературу!» Багрицкий говорил о Вячеславе Полонском, что, как бы тот ни марксизировал в своих статьях, нос эстета его выдает. С таким же успехом слова Багрицкого можно отнести и к Горбову. Идеалист, эстет, поклонник Аполлона Григорьева чувствовался во всех его не без блеска написанных статьях об Эренбурге, Леонове, Фадееве, Олеше. Горбов был одним из идеологов литературной группы «Перевал», с 1925 по 1930 год, когда он порвал с Полонским, постоянно печатался в «Новом мире». Горбов рассказывал мне о том, как Полонский в первый раз пригласил его к себе и что из этого вышло. За ужином Горбов, желая ухватить рыбку из коробки со шпротами, вместо рыбки поддел вилкой всю коробку, да так ловко, что коробка перевернулась набок и, выплескивая содержимое, колесом покатилась по белоснежной скатерти. Дмитрий Александрович рад был бы сквозь землю провалиться, но благовоспитанные хозяева сделали вид, будто это презабавное происшествие.
За книгу «Поиски Галатеи» Горбов подвергся яростным нападкам рапповцев. Более того: за свое «перевальство» и за книгу он был удален в так называемую «партийную» ссылку, в один из областных городов, – там он занимал довольно ответственный пост в местном издательстве. Наконец вернулся в Москву и поступил на службу в издательство «Academia» – ему было поручено ведать изданиями иностранных авторов. В ежовщину Горбов вылетел из партии за связь с любимцем Ленина – Александром Константиновичем Воронским, которому Ленин в 1921 году вместе с судьбой первого советского литературно-художественного и общественно-политического журнала «Красная новь» вверил и судьбы всей советской литературы, и за связь с первым заместителем Ленина по Совнаркому Каменевым.
В 39-м году я случайно встретился с Горбовым на Никольской. Он сказал, что работы ему нигде не дают. Я посоветовал Дмитрию Александровичу пойти в редакцию журнала «Интернациональная литература» прямо к ответственному редактору Рокотову.
– Он человек глупый, но смелый и отзывчивый, – добавил я. – Думаю, что ваше «литературное прошлое» его не смутит.
Так оно и вышло. Рокотов сейчас же отдал распоряжение давать Горбову всякого рода работу – заказывать ему и статьи, и переводы.
После этого мы стали встречаться с Горбовыми домами. Когда мы первый раз пришли к ним, нас поразили и хозяева, и их обиталище. Видно было, что в квартире оставлено все необходимое – остальное продано. Только книг было много – на них, должно быть, не поднималась рука. На хозяевах и на их единственном сыне, красивом, похожем на мать, все пришло в ветхость. Жена Дмитрия Александровича, Людмила Евгеньевна, когда-то была несомненно хороша собой, Она рано состарилась, исхудала, поблекла, в глазах у нее застыл страх – страх за здоровье мужа, страх перед голодом и нищетой (чем кормить безработного чахоточного мужа и сына?), длившийся два года кряду страх ожидания ночных незваных гостей.
Нам был предложен наискромнейший чай, даже и не чай, а суррогат, – Людмила Евгеньевна с виноватой улыбкой сослалась на то, что в их районе не оказалось настоящего чаю. Чаю тогда в Москве было сколько угодно, а вот денег у Горбовых было в самый-самый обрез.
Постоянное сотрудничество в журнале поправило дела Горбова и вновь вывело его на литературную дорогу. После войны ему пригодилось приобретенное им в Московском университете знание сербского, чешского и польского языков, и он пользовался особым почетом в славянском отделе Гослитиздата и уже до самой смерти не знал нужды.
Внешний и внутренний облик англиста Евгения Львовича Ланна (Лозмана), готовившего к изданию, когда я с ним познакомился в «Academia», Смоллета и Диккенса, был тоже далеко не зауряден. Ухватки – ухватки Джингла из «Пикквикского клуба». Когда он улыбается, его еврейский нос нависает над верхней губой, губы отталкивающе кривятся, – «жид» с черносотенного плаката. Когда же он участливо слушает тебя, обдумывая, как тебе помочь, что посоветовать, на тебя смотрят его большие, скорбные, усталые от жизни, такие хорошие глаза. Резкой смене выражений его подвижного лица соответствовала столь же резкая смена его настроений. Я никогда не знал, каким я от него уйду: умиротворенным, ободренным, согретым или же взвинченным, раздраженным. Вчера он, назло мне, нес снобистскую чушь, ругая Льва Толстого, Островского, Чехова, посмеивался над Левитаном, сегодня он остроумен, благодушен, поражает тонкостью суждений, многообразием сведений. Недаром с ним любил беседовать Тарле. Этот харьковчанин, игравший под англичанина, любивший щеголять сомнительными парадоксами, еще во дни провинциальной своей юности заразившийся снобизмом, так до конца от него не отделавшийся, да и не считавший нужным излечиваться, не чувствовавший и не любивший природу, больше всех русских писателей любивший Достоевского и Лескова, друг Волошина и Марины Цветаевой, мог быть бесцеремонно напорист и мягок, мог оттолкнуть вас своею развязностью и апломбом и мог притянуть своим интересом к собеседнику, уменьем слушать его, желаньем и уменьем что-то у него почерпнуть, мог быть наигранно надменен (то была игра под джентльмена) и непритворно благожелателен, мог быть раздражителен по сущим пустякам и мужественно сдержан в трудных случаях жизни, экономен в своих расходах и безудержно щедр в помощи ближним и дальним. Он и его жена, переводчица Александра Владимировна Кривцова, не знали счету деньгам, когда речь шла о том, чтобы кого-то поддержать. Выдавали они пособия и единовременные, и регулярные; один мало знакомый им, но даровитый и бедный юноша был у них на стипендии до тех пор, пока не окончил высшего учебного заведения, Я стал бывать у «Ланнов» как раз когда я по уши увяз в нужде. И только я, бывало, поднимусь, чтобы попрощаться, как Ланн уже сует мне кулек.
– Это – детям, – почему-то с сердитым лицом всякий раз пояснял он.
И в людях он и Александра Владимировна особенно ценили отзывчивость. Черствости» скаредности и жестокости они не прощали. Огромный талант, храбрость, любое другое достоинство не искупали в их глазах этих грехов. Евгений Львович поссорился с одним из наиболее давних, наиболее близких ему друзей только потому, что тот отказался дать кому-то взаймы. На своей книге «Гвардия Мак-Кумгала» он написал мне 12 ноября 1951-го года: «Дорогому Николаю Михайловичу Любимову, талантливому, тонкому, доброму человеку».
Я привожу эту дарственную надпись не для похвальбы: я лучше, чем кто-либо, знаю, что человек я не злой, но и не добрый. И это не унижение паче гордости: это признание как на духу. Воже ты мой! Сколько случаев помочь людям я упустил, главным образом» по душевной своей лености! Я привожу надпись Ланна, потому что она характеризует его: я показался ему добрым, и он отметил это мнимое мое свойство, так как для него оно было одним из самых драгоценных.
В один из моих первых приходов к «Ланнам», я, сидя с ним вдвоем в его кабинете, выкрашенном мрачной краской, заговорил о том, что отрешенный от должности оргсекретаря Союза писателей Лев Матвеевич Субоцкий бедствует.
– Мне его не жаль, он – бывший прокурор НКВД, – сухо сказал Евгений Львович.
Я сослался на мнение одного моего друга, имевшего возможность в качестве секретаря прокуратуры фронта наблюдать за деятельностью Субоцкого во время войны. Мой друг говорил мне, что Субоцкий держался все-таки гуманнее других военных прокуроров. Ланна взорвало. Я никогда, ни до, ни после этого разговора, не видел его в таком неистовстве.
– Ваш друг – дурак и мерзавец в таком случае! – крикнул он. – Только дураку и мерзавцу может прийти в голову применить к советскому прокурору, да еще к военному, да еще бывшему прокурору НКВД, слово «гуманный». Я этой бражки в годы гражданской войны в Харькове навидался. Они, глазом не моргнув, пачками отправляли на расстрел невинных людей. Вы подумайте: сколько на совести у Субоцкого жертв? Я и слышать о нем не хочу. Вот когда вы узнаете, что он с семьей сдыхает с голоду, то немедленно сообщите мне по телефону, чтобы я порадовался и повеселился!
Признаюсь, Евгений Львович восхитил меня прокурорским своим темпераментом (по образованию он был юрист), но и смутил: вполне разделяя его взгляд на советскую прокуратуру и сталинско-вышинскую юстицию в целом, я по складу своего характера произнести подобный монолог был бы не в силах.
Ближе сойдясь с «Ланнами», я передал содержание этой обвинительной речи Александре Владимировне.
– А вы ему верьте больше, – улыбаясь, сказала Александра Владимировна. – Это он только на словах такой свирепый, а тому же Субоцкому первым кусок хлеба подаст.
В одну из встреч я задал Евгению Львовичу вопрос: при ком нам было бы лучше – при Сталине или при Троцком?
– Если б вы меня спросили, кто лучше: Чингисхан или Серафим Саровский, я бы вам ответил сразу, не задумываясь, – сказал Ланн. – А насколько одна гадина гаже другой – это вопрос для меня неразрешимый.
Ланну туже пришлось после войны, чем в ежовщину. Тогда его могли зацепить случайно. Он никогда ни в какой партии не состоял, за границу не езживал, «опасных связей» у него не было, из непосредственного его окружения никто не был взят – он опасался ареста не больше, чем любой советский гражданин. После войны, как только началась борьба с «космополитизмом» и «низкопоклонством перед Западом», о нем, как об авторе романов «Старая Англия» и «Диккенс», появилась разносная и зловещая статья в «Культуре и жизни». Гослитиздат в лице директора Федора Михайловича Головенченко и заведующего отделом иностранной литературы Александра Ивановича Пузикова его в обиду не дал. Как романист и эссеист Ланн кончил свое существование (ему только удалось потом переиздать с предисловием его друга Тарле роман «Гвардия Мак-Кумгала»). По правде говоря, читатель ничего от этого не потерял. Ланн отличался юридической стройностью мысли, энциклопедичностью знаний, особенно в области западноевропейской истории: он утверждал, что без знания истории нельзя заниматься изучением творчества писателя, что историк литературы должен быть непременно историком в широком смысле слова. Но – за малым дело стало: как писателю, ему не хватало живых наблюдений и писательского таланта. Он писал об Англии, сидя в Лаврушинском переулке. Английские критики не нашли у него ни одной исторической ошибки, отметили его блестящее знание топографии Лондона, но не могли не сознаться, что читать его роман скучно. От изданий Смол лета и Диккенса Ланна не отставили: он выступал и как сопереводчик «Дэвида Копперфилда», и как редактор других переводов своей жены, и как комментатор. Наша с ним дружба началась после моего сочувственного телефонного звонка по поводу статьи о нем в «Культуре и жизни».
С годами Евгений Львович и Александра Владимировна утратили волю к жизни. Александра Владимировна все чаще жаловалась, что ей надоело работать. Мир постепенно суживался для них обоих.
Богословский весной взывал к Ланну:
Теперь свободнее, Евгений Ланн, дыши: Кругом черемуха, сирень и ландыши.Но Евгений Львович и Александра Владимировна все реже выходили из дому, все короче становились их прогулки, наконец они наглухо закупорили себя в своей квартире. Они боялись струи свежего воздуха, как боялись малейшего дуновения жизни, им лень было двигаться хотя бы по комнатам. Александра Владимировна лежа работала, полулежа ела, лежа принимала гостей. И они постепенно слабели, вялость постепенно окутывала весь их организм. Евгений Львович постоянно схватывал воспаление легких – стоило ему войти в только что проветренную комнату; не выходя из дома, он сломал себе ногу. Они разучились ходить» разучились дышать, разучились разбираться в людях. Их обволакивало умственное, а главное – душевное одиночество. У них бывали до тошноты пресные, скучные, недалекие и непорядочные люди, да и то – «раз в год по обещанью». Одного из них, мелкотравчатого газетчика, сухорукого Арона Эрлиха, Ланн называл не иначе как «рептилией» и «соплей». Они всецело доверились одному из самых бездарных и самых недобросовестных врачей в Москве – Канторовичу.
До войны Ланн надолго уходил от Александры Владимировны, оставаясь с ней в дружеских отношениях, к актрисе Вахтанговского театра Марье Давыдовне Синельниковой. После войны вернулся. Жизнь, вернее, смерть Евгения Львовича показала, что больше всего на свете он любил «Алю», как называл он Александру Владимировну. У них был уговор, что умрут они вместе; остаться жить кому-то одному им обоим представлялось бессмыслицей.
В 58-м году рентген показал, что у Александры Владимировны рак желудка. Врач поликлиники Литфонда Канторович сообщил об этом Евгению Львовичу, – Евгений Львович, выполняя уговор, все сказал Александре Владимировне. От повторного снимка она решительно отказалась. Евгений Львович, аккуратнейшим образом приведя в порядок свои дела, не позабыв в завещании даже лифтершу, впрыснул яд жене и себе.
При вскрытии выяснилось, что у Александры Владимировны была небольшая язва желудка…
Из посетителей «Academia» самым необыкновенным представлялся мне Сергей Антонович Клычков. Да таким он и был на самом деле.
И Клычков, и я жили на Тверском бульваре, мы были почти соседи: я жил в доме № 11 (в доме Ермоловой), Клычков – в одной из «служб» Дома Герцена (по Булгакову – «Грибоедова», Тверской бульвар, 25), которому Маяковский назначил цену: Дому Герцена – хер цена. Мы с Клычковым по-соседски часто встречались. Я всякий раз задерживал на нем внимание, не зная, что это – мой любимый Клычков.
Как-то мы с Маргаритой Николаевной вышли вместе из дому. Навстречу – Клычков. Они любезно поздоровались.
– Ты знаешь, кто это? – спросила Маргарита Николаевна.
– Нет.
– Это писатель Клычков. Ты его читал?
– Читал. Стихи, «Чертухинского балакиря».
– Он очень талантливый и обаятельный человек. Мы с ним на юге встречались.
Когда Клычков шел по улице, на нем нельзя было не остановить взгляда. Он весь был особенный, весь самобытный. Только ему могла идти его «летняя форма одежды»: выглядывавшая из-под пиджака, обычно синяя косоворотка и шляпа, из-под которой выбивались черные вьющиеся волосы. Шляпа и косоворотка не создавали кричащего разнобоя. У Клычкова это воспринималось именно как сочетание, хотя и несколько странное. Глаз привыкал к нему не сразу, но, привыкнув, уже не мог представить себе Клычкова одетым на какой-то один покрой. Оригинальность манеры одеваться соответствовала оригинальности его внешнего облика. Черты лица его были крупны» резки» но правильны. Посмотришь на него да послушаешь окающий его говор – ну, ясное дело: русский мужик, смекалистый, толковый» речистый» грамотей, книгочей, с хитрецой, себе на уме, работящий, но и бутылке не враг, мужик, который ушел из деревни в город на заработки, давно уже на «чистой работе» и с течением времени приобрел городские замашки: чисто бреется, носит шляпу, «спинжак», а галстуков не признает. Но вот он задумался, мысли его сейчас далеко-далеко!.. В горделивой посадке головы что-то почти барственное. Все лицо озарено изнутри. В больших синих-синих глазах – глазах обреченного – читается судьба русского крестьянина, судьба русского таланта, всегда неблагополучного, всегда в чем-то и перед кем-то кающегося, за кого-то страдающего.
Клычков был наделен незаурядными стихотворческими способностями и неповторимым даром поэта в прозе.
Как-то я сказал ему с юношески дерзкой восторженностью:
– Сергей Антоныч! Поэт вы хороший, но все-таки Есенин и Клюев писали лучше вас, а как прозаику нет вам равного во всей мировой литературе.
– Вот это вы совершенно верно сказали, – с чувством полного удовлетворения» серьезно и убежденно проговорил Клычков.
Признаюсь, я очень неудачно выразил свою мысль, но Клычков понял, что я хотел сказать. Конечно, я не ставил Клычкова выше Пушкина и Сервантеса. Моя мысль, от которой я не отказываюсь и сейчас, сводилась к тому, что недописанная Клычковым эпопея о русской деревне, его сказовая проза – это в русской литературе явление в своем роде единственное.
И вот с этим Клычков согласился – согласился тем радостнее, что подобного рода похвалу, которую он раньше слышал от профессиональных критиков (А. К. Воронского, А. 3. Лежнева), теперь произнес совсем еще юный читатель, желторотый птенец.
В лирическом отступлении из романа «Сахарный немец» Клычков дает краткую» обобщающую характеристику русского простолюдина и русского просторечья: «…мудр простой человек, и речь его проста и цветиста!» Эти слова по праву мог бы отнести и к себе вышедший из крестьян Сергей Клычков.
Многодумная и прозрачная при всей сложности своего рисунка клычковская проза ритмична от первой до последней строки. Но ее ритм не утомляет и не раздражает, как ритм прозы Андрея Белого» ибо там он не органичен, не необходим, там он – каприз автора, предпочитающего чесать за ухом левой ногой. У Клычкова ритм подчинен синтаксису, он не нарушает разговорности фраз. Вот почему речь Клычкова свободна от нарочитости, от искусственности в расстановке слов, искусственности, которой страдает ритмический «сплошняк» у тех, для кого ритм – самоцель. Ритмичность кличковской прозы оправдана уже одним тем, что в его романах речь идет от первого лица – от лица деревенского «мечтуна и небылишника». Слов у него в коробе – что снежинок в завьюженном поле. В его речи вы ощущаете склад и лад русской сказки, русской песни, аранжированной знатоком народной музыки. Словесная ткань в этой песне-сказке ни на одной странице не рвется. Ухо не улавливает в голосе песенника фальшивых нот. Ни в одном слове нет привкуса стилизаторской патоки.
Все, что окружает деревенского жителя, так прекрасно, что, глядя на нерукотворный храм природы, надо только, как учил апостол Павел, всегда радоваться и непрестанно молиться. «Молись, Петр Кирилыч, так же, как и живи, а живи так, будто читаешь молитву…» – назидает «чертухинского балакиря» Спиридон Емельяныч.
Радования, молитвования и дивования достоин мир лесных зарослей и полевых просторов. Все тайное является взору человека «в образе повседневных, привычных предметов…» Но – «проходит мимо них человек, ничем не удивленный, у него на все глаз наметался и потому все равно как… ослеп!..»[2] Для того же, кто еще не разучился дивиться, явь неприметно пресуществляется в сон, сон претворяется в явь, небыль наплывает на быль, «…не поймешь: ветки ли это уплыли, оторвавшись от сучьев, как от причала, в бездонную синь, и там в глубине листву отряхивают, иль синева на ветки упала, не удержавшись в непостижимой выси на листопадном ветру»[3]. Все как будто бы призрачно, все подернуто полумглою, все озарено преображающим светом луны (не зря Клычков так любит этот оборот: то ли… то ли…), и все плотно, объемно, цветисто, голосисто, душисто. И лирические раздумья, тоскливые, как осеннее прощание отлетающих журавлей, не прерывают повествования, а впадают в него, словно малые речки в большую.
Проза Сергея Клычкова – это песнь во славу крестьянской Руси с подступившей к самой деревне лесной глухоманью, где всякого зверья – до лешевой матери, с ворожейным плеском лесных речек, озер и болот, с дурманящей запахом трав и цветов глубью лесных оврагов, с птичьим многоладовым гамом. Это песнь во славу деревенской Руси с лиловою далью пашен, пестрой далью лугов и тусклым золотом нив. Это песнь во славу деревенской Руси, игрою искусника месяца преображающейся в царство невиданной красоты. Это песнь во славу деревенской Руси, спящей под байки зимних метелей и пробуждающейся при первом зове предвесеннего упругого ветра. Это песнь во славу деревенской Руси с ее проказливыми и степенными лешими Антютиками» вырастающими из кочек и пней на выручку и на счастье тем, кто в них верит. Это песнь во славу избы-пятистенки с коньком на кровле – избы, пропахшей освещаемой лунной вязью на полу да иссиня-золотистым мерцаньем лампадки, затепленной в красном углу, на божнице, избы, полнящейся молитвословным шелестом, шепотом наговоров и заговоров. Это похвала крестьянской Руси, похвала той безрассудной, той озорной щедрости, с какою она растрачивала себя в переливчатых песнях, в хитросплетенных сказках, в замысловатых хороводах и плясках, в слепящей яркости красках, в переборах ладов гармошки, в узорах на полотенцах, в затейливости нарядов, в истовой игривости обрядов. Это песнь во славу мужика, ибо «мужик приставлен к земле с заранее и хорошо продуманным расчетом не на погибель ее и запустенье, а на обилие плодов земли, на радость каждой птичке, зверьку и самому человеку»[4].
Но клычковское славословие все просквожено грустью, ибо «день ото дня по земле коротает мужичья дорожка и… над этой дорожкой год от году и кукушечья песня короче…»[5]. Да и мужики уж не те: «В старое время не любили сразу, как молодых из церкви привезут, тут же за рюмки хвататься. Не как теперь: одною рукою за рюмку, а другою за нож…»[6].
Что бы сказал «Антоныч» – так называли его друзья – доживи он до наших дней!..
Скорбь об уходящей мужицкой Руси сближала и роднила Сергея Клычкова и Сергея Есенина. Есенин всем крестьянским своим естеством ненавидел бездушную машину. Его воображение превращало ее в «страшного вестника», в апокалиптического Зверя:
Вот он, вот он с железным брюхом, Тянет к глоткам равнин пятерню…[7]А Клычков пророчествовал:
Не за горами пора, когда человек в лесу всех зверей передушит, из рек выморит рыбу, в воздухе птиц переловит и все деревья заставит целовать себе ноги – подрежет пилой-верезгой. Тогда-то железный черт, который только ждет этого и никак-то дождаться не может, привертит человеку на место души какую-нибудь шестерню или гайку с машины, потому что черт в духовных делах – порядочный слесарь[8].
Люди «могут в вере блудить сколь им угодно». Надо, «чтоб Бог верил в людей», а Бог «отринул лицо свое от земли» и в людей больше не верит[9]. Так рассуждает у Клычкова Петр Еремеич во время первой мировой войны, но его устами здесь говорит Клычков – очевидец революции и войны гражданской. Человек превзошел всякую меру жестокости, и Бог от него отказался – в этом, по Клычкову, трагедия России. А наука, не озаренная верой, – как утверждает уже не герой, а сам автор, – «камень над гробом незрячей души; плавает в этой науке человеческий разум, как слепой котенок в ведре…»3. Чего же можно ожидать от человека, если от него отвернулся Бог, если он попал в лапы к железному черту? Что же ожидает Россию, как не мерзость всяческого запустения?
Пришел, видно, Русь, тебе кончик…[10]«Последним поэтом деревни» был не Есенин, а Клычков. Есенину еще только слышался издалека звук погибельного рога, он вместе с Клычковым предчувствовал смерть прежней деревни, Клычков был ее очевидцем.
Никуда вам не скрыться от гибели, Никуда не уйти от врага, —обращаясь к родным местам в поэме «Сорокоуст», предсказывал Есенин. Он отпел деревню еще заживо и сам оборвал свою песню и жизнь… Клычков пережил коллективизацию. Клычков слышал надсадный гул трактора. Клычков после сборника стихов «В гостях у журавлей» (1930) не выпустил ни одной новой оригинальной книги – ее все равно не напечатали бы. (В 1934 году лишь переиздали роман «Сахарный немец».)
После ликвидации РАПП он было приободрился.
– Ласточка может теперь лететь куда она хочет, – заявил он на собрании московских писателей.
Но его тут же одернули: «Нет, брат, шалишь, – ласточка обязана лететь только в сторону социализма…»
В отношениях Клычкова с Есениным было много ребячливого и нарочитого.
Из уст писателя Глеба Алексеева я слышал полулегендарный рассказ. По Тверскому бульвару от памятника Пушкину идет Есенин, от памятника Тимирязеву – Клычков. Напротив Дома Герцена друзья встречаются. Объятия, поцелуи.
– Сергей, милый! – по-рязански поет Есенин.
– Сережа, родной! – окает басом Клычков.
Отправляются в ресторан. Пропускают по одной, по второй, по третьей. После седьмой Клычков обращается к Есенину с вопросом:
– Сережа! Кто, по-твоему, сейчас у нас в России первый поэт?
– Первый – я, – не задумываясь, отвечает Есенин, – а второй, конечно, ты, Сергей.
– Нет, Сережа, первый – я, а вот второй – второй, без всякого сомнения, ты.
Спор кончается потасовкой.
Повторялись такого рода дискуссии будто бы многократно.
Но Клычков и Есенин были так близки между собой в самом для них главном, что эта брань составляла для обоих Сергеев всего лишь потеху.
Когда весть о самоубийстве Есенина долетела до Москвы, Клычков сидел в этом самом ресторане на Тверском бульваре. Он, как был, в одном пиджаке, выбежал на мороз и стал кататься по снегу от отчаяния.
По слухам, «Антоныч» был изрядный буян и обидчикам спуску не давал.
Олеша в 31-м году получил квартиру в Проезде Художественного театра в том же доме, где жил его свояк Багрицкий (они были женаты на родных сестрах), – квартиру, как и у Багрицкого, очень неудобную, рассчитанную на две семьи. Клычков в 33-м году получил отдельную квартиру в Нащокинском переулке (ныне – улица Фурманова) – в том же доме, где получили квартиры Андрей Белый и Булгаков.
В ресторане Олеша, сидя за столиком по соседству с Клычковым, громко сказал:
– Квартиры у нас получают всякие контрики и кулачье, а Олеше, сыну человеческому, негде голову приклонить.
Клычков встал, подошел к Олеше и смазал его по щеке.
– Вот тебе за публичный донос, – промолвил он и, выдержав краткую паузу, съездил по другой, прибавив:
– А это тебе за кощунство.
В 20-х годах, когда Клычков писал «Чертухинского балакиря» и «Князя мира», и в начале 30-х не только клычковскую, но и Россию вообще пинали политические деятели, даже находившиеся на крайних полюсах, как, например, «правый» Бухарин и троцкист Сосновский, пинали историк Покровский и его, с позволения сказать, «школа», пинали публицисты, фельетонисты, плевали ей в лицо рифмачи, которым Россия была что ладан чертям.
Расеюшка Русь! Растреклятое слово… —произнес в 31-м году с трибуны VI Съезда Советов СССР похожий на упившегося кровью клопа Безыменский, за чьими виршами, в отличие от стишков Жарова, которого, как писали в фармацевтических рекламах, «слабило нежно, без боли», так и видишь тужащегося виршеслагателя, у которого на лбу блестят капли пота, вызванного усилиями преодолеть неизлечимый запор.
Алло, Русь! Твой пастуший рожок Мы вытрубим в рог изобилья!! —рычал в трубку из своего конструктивистского треста Сельвинский. Обещанного им рога изобилья что-то до сих пор не видать, а вот дачу в Переделкине он себе вытру бил.
К слову молвить, советские стихослагатели – это племя особое. Ну где и когда от сотворения мира было видано и слыхано, чтобы питомцы Муз, служители Аполлона терпеть не могли Красоту? А вот иные из советских одописцев красоту не переваривали, в чем бы она себя ни проявляла: в сочетании линий, в звуке ли, в цвете. Маяковский в 28-м году призывал снести в Москве Страстной монастырь. Павел Васильев, в 33-м году провозглашая первомайский тост, поднимал бокал за «грузную смерть колокольного звона». Безыменский, выступая в 31-м году на VI Съезде Советов СССР, обозвал васильки «сорняковыми фашистами земли».
А ведь еще в начале нашего века, предчувствуя, что василькам от лапищ Грядущего Хама не поздоровится, Лохвицкая молила:
Не обрывайте васильков! Не будьте алчны и ревнивы; Свое зерно дадут вам нивы, И хватит места для гробов. Мы не единым хлебом живы, — Не обрывайте васильков!Васильков не стало, но и хлеба недостает, и мы его ввозим из-за границы.
Да, так вот, самое слово «российский» нарочно тогда искажалось, превращалось в раззявое «расейский» и употреблялось преимущественно в сочетаниях: «расейская лень», «раеейское бескультурье»» Его дозволено было употреблять лишь в наименовании федеративной республики, да и то чаще всего оно стыдливо обозначалось начальной буквой. И еще Россия появлялась в торжественно-поэтическом контексте, но это уже была Россия, кровью умытая, Россия революционная. «Россия, влево! Россия, марш! Россия, рысью! Кааарррьером, Ррросссия!» – петушиным голосом командовал себе на горе балаболка Пильняк (вот уж был язык без костей!), не предвидя, что при столь крутом повороте он неминуемо вылетит из своего «попутнического» седла и со всего маху грянется оземь, Клычков незадолго до коллективизации иносказательно предупреждал; «…мир не сапоги, его не перетянешь на другую колодку!»[11] Коль ломить, не разбирая дороги, – толку не будет; коней запалишь, от одной повозки останется передок, от другой – задок, седокам совсем лихо придется: тот убьется до смерти, энтот выколет глаз, третий ногу сломает, и как ни ряди уцелевших, с вывихами и переломами, в новую сряду – внутри ты их не переделаешь, насильно человеческую душу не переоборудуешь, ибо человек – не сапог.
Критика глумилась над любовью Клычкова к его Руси, над любовью Клычкова к его деревне, к его мужику. Они били его смертным боем, ославили реакционным, кулацким писателем. Потом и вовсе заткнули ему рот, но не могли заставить его отречься от того, что было ему дороже славы, дороже жизни.
Клычков был последний поэт деревни и последний страстотерпец за веру мужицкую.
Длинный ряд народолюбцев в искусстве обрывается на Клычкове. Народнической струе суждено было забить лишь много спустя – в стихах, рассказах, повестях Яшина, в путевых очерках и стихах Солоухина, в рассказах и стихотворениях в прозе Солженицына, в рассказах Можаева и Шукшина. Но эти писатели рисуют уже обезмужиченную, запустелую Русь, ибо мужик-то и был, по мысли Клычкова, приставлен к земле с таким расчетом, чтобы она не скудела и не пустела. А что такое Россия без мужиков? Телега без колес. Ведь недаром судьбою крестьянина были у нас озабочены сильнейшие умы самых разных направлений – от Радищева до Столыпина.
Скорбью о мужицком горе-злосчастье изболелось большое сердце Некрасова. Путешествие из Петербурга в Москву; мысли вслух Чацкого об умном и добром народе и намеченная Грибоедовым в набросках трагедии «1812 год» судьба крестьянина, убеждающегося, что он с оружием в руках, защищая Родину, вместе с тем невольно защищал свою недолю и свою неволю; картины села Горюхина, написанные тем, кто еще в юности мечтал увидеть свой народ неугнетенным, ж картины пугачевского бунта, русский мятеж, на который он взглянул глазами историка и художника, который он показал во всей его бессмысленности и беспощадности; картины крепостной России, какою она предстала в семейных преданиях и прошла перед простодушным, но все замечавшим взором Багрова-внука; размышления раннего и позднего славянофильства; почвенничество Аполлона Григорьева; Антон-Горемыка; повествование о сороке-воровке и повествование о тупейном художнике с эпиграфом-песнопением, исполненным веры в вечное блаженство, уготованное замученным крепостным; «Души их во благих водворятся»; ушедшие в народ песни воронежского прасола и воронежского книгопродавца; не попавшая в святцы Лукерья-Живые Мощи и Касьян, в чье щуплое тельце переселилась душа Франциска Асизского, соловьиногорлые певцы, соревнующиеся в кабаке, и ездившие в ночное на Бежин луг малолетние мистики и фантасты, знакомством с которыми мы обязаны охотничьей страсти орловского помещика; обломовское сонное царство и Бабушкина дворня; сказка про конягу и пошехонская старина; Платон Каратаев и Аким; мужик Марей и учение о народе-богоносце – учение того, кто с такой благодарной любовью обессмертил Марея; полотна передвижников; воззвания народников и народовольцев; идеи революционных демократов и марксистов; власть земли, восчувствованная Глебом Успенским; тени крепостных, потревоженные неусыпающей памятью Терпигорева-Атавы; короленковская Дарья из пустынных мест, полюбившая девочку-приемыша истинно материнской любовью, хотя и в утробе ее не носила, грудью не кормила, да зато слезой за нее изошла; чеховские мужики; нестеровская святая Русь; деревня Бунина с ее Родьками и ее Сверчками; стихи о деревенской России – одни из лучших стихотворений Александра Блока, для которого ее избы и песни были так же дороги, как слезы первые любви; посвященная памяти Некрасова, самая значительная и самая жизнеспособная книга стихов Андрея Белого «Пепел» – книга о далях родных, пригнетенных веками нищеты и безволья, книга, родившаяся из потребности прорыдать в сырое, в пустое раздолье родины-матери подступившую к горлу покаянную боль… Сколько умственных и душевных сил отдано русской деревне! В скольких произведениях искусства она отразилась! С каких только сторон ее ни показывали, каким только светом ни освещали! И сколько за нее принято казней и мук!
Деревня Клычкова мало общего имеет с деревней некрасовской и перовской, – в «Князе мира» он лишь пересказывает преданья о ней. Облик клычковской деревни родствен облику деревни кольцовской, ранне-есенинской, малявинской. Клычковская Русь не стонет от голода и холода, не причитает, не голосит. Это Русь привольная, нарядная» сытая. Над нею и месяц что именинный пирог[12]. Достаток ее с каждым днем растет и растет, подымается, как «в большой квашне хорошие хлебы…»[13]. Это Русь сказочников и прибауточников, Русь мечтателей и правдоискателей, отдающих делу время, но не забывающих отвести час и для потехи, Русь – ума палата, Русь – на все руки мастерица, Русь, нижущая слова что жемчуг, Русь – хохотунья, игрунья, певунья, плясунья, статная, ладная, ненаглядная красавица Русь.
У Глеба Алексеева была книжка, куда его гости могли написать, кому как и кому что заблагорассудится: то ли в стихах, то ли в прозе, то ли что-нибудь глубокомысленное, то ли шутейное – ее отняли у него при обыске.
Моя память сохранила всего лишь одну, заключительную строфу из стихотворения Клычкова!
Вот потому я Русь и славлю И в срок готов принять и снесть И глупый смех, и злую травлю, И гибели лихую весть.Срок гибели Сергея Клычкова настал летом 1937 года…
Мало кто из печатавшихся в «Academia» впоследствии преуспел. Почти всех жизнь доняла не мытьем, так катаньем.
Из преуспевших особенно запомнился мне Дмитрий Дмитриевич Благой – запомнились его тюбетейка, роговые очки, судачьи глаза, розовые щечки и мгновенная, механическая улыбка. Казалось, где-то за щекой у него кнопка. И в ту минуту, когда Благой считает для себя необходимым улыбнуться, он на эту кнопку нажимает языком – и щечки на одну секунду раздвигаются, а как ведут себя в это время за очками глаза – не усмотришь: уж больно толстые стекла. Еще нажим кнопки – и улыбки как не бывало.
Почтеннейший Дмитрий Дмитриевич начал свою литературную деятельность с лирических стихотворений, в частности – со стихотворения о св. Серафиме Саровском. Затем, поняв, что наше время трудновато для поэтического пера, устремился в историю литературы и зажил припеваючи.
Die ganze Postroi'ka раннего благоевского пушкинизма зиждилась на шутливых пушкинских строках:
Не продается вдохновенье, Но можно рукопись продать.Вокруг этих строк Благой и давай скакать» играть и резвиться! Из этих двух строк у него выросла целая» с позволения сказать, «концепция»: Пушкин – обуржуазившийся дворянин» думающий только о том» как бы это повыгоднее, с изрядным барышом» продать рукопись и для сего не брезгующий никакими средствами. «Полтава» – это-де» поэма-ода» написанная, чтобы угодить Николаю I. Святополк-Мирскому за подобные инсинуации ох как всыпали в «Правде»! Но рассуждения Святополк-Мирского о «сервилизме» Пушкина были только предлогом для того» чтобы сделать Святополк-Мирскому очередное «осаже»: это была подготовка общественного мнения к расправе над Святополк-Мирским» это был все тот же прием постепенной компрометации, завершавшийся либо, в лучшем случае, отставкой, либо посадкой. С Благим расправляться не собирались, и «вульгарный социологизм» прошел для него безнаказанно, если не считать одного смачного плевка: незадолго до столетия со дня гибели Пушкина на страницах «Известий» старик Вересаев так прямо и брякнул, что даже агент Третьего отделения Фаддей Булгарин не договаривался о Пушкине до таких низостей, как советский литературовед Благой. Высказанное Вересаевым мнение об ученых трудах Благого было» конечно, не чересчур лестно для Дмитрия Дмитриевича, но не опасно. Подумаешь: Вересаев, беспартийный интеллигент, в прошлом едва ли не меньшевик, держащийся только тем, что в Центральном исполнительном комитете сидит его кузен – старый большевик Петр Гермогенович Смидович! Как писателя, его и печатать-то почти перестали, невзирая на родство со Смидовичем. Роман «Сестры» провалялся несколько лет в издательстве, Полонский отважился напечатать в «Новом мире» только отрывки, наконец «Сестры» все-таки вышли, но – искалеченные цензурой, о чем Вересаев предупредил Грифцова в дарственной надписи. Словом, когда Вересаев плюнул Дмитрию Дмитриевичу в глаза, тот сделал вид, что это божья роса, отер румяные свои ланиты надушенным платочком, и, учуяв, что ветер в теории и истории литературы резко изменил направление, пошел строчить о том, что Пушкин – поэт истинно народный, всю свою жизнь любивший народ, с лицейских времен только о народе и помышлявший, а что народ как прочел «Фавна и пастушку» и «Красавицу, которая нюхала табак», тоже возлюбил Пушкина превыше меры. Так одна постройка была заменена другой, более прочной, обширной, ибо в ней уместился не только Пушкин, но чуть ли не вся русская литература, и чрезвычайно доходной.
Преуспеянию Дмитрия Дмитриевича много способствовали и его осторожность, и расшаркиванье перед начальством, и его моральная нечистоплотность.
Он всячески увиливал, когда Николай Сергеевич Ашукин, звоня ему от Цявловских, просил его поставить подпись под некрологом Чулкова. Цявловский не выдержал и, нарочно наклонившись над трубкой, чтобы было слышно Благому, сказал:
– Да брось ты с этой трусливой сволочью разговаривать! И без него обойдемся!
Поведение Благого в Институте мировой литературы в ту пору, когда директором его был Еголин, картинно изобразил в короткой эпиграмме Богословский:
Благой Дугой Перед Егой.Дабы упрочить свое благосостояние, Дмитрий Дмитриевич не гнушался и подсиживаньем, и нашептываньем начальству, и тявканьем, преимущественно из подворотни: часто выбегать на улицу он опасался. Он осыпал похвалами Александра Леонидовича Слонимского за его докторскую диссертацию о Пушкине, которую тот защитил в Ленинградском университете, а сам в это время писал отрицательную рецензию на нее в Высшую аттестационную комиссию.
Служенье Муз не терпит суеты, особливо же не терпит подлизыванья, подлаживанья и подсиживанья. У Благого были задатки исследователя. Сошлюсь на раннюю его статью «Блок и Аполлон Григорьев». Сошлюсь на более позднюю его работу о Пушкине и русской литературе XVIII века. Он был не лишен художественного восприятия. Об этом свидетельствуют некоторые строки из его статьи о Батюшкове. Путь Благого – это путь многих неславных, путь многих деятелей советской эры, которые предпочли служение мамоне служению богам искусств и наук…
Из штатных сотрудников «Academia» мне запомнилась еще Надежда Григорьевна Антокольская. Она принадлежала к ныне уже вырождающейся породе «секретарш», с любовной добросовестностью делавших черную, неблагодарную, невидную работу и обожавших своих начальников. На собрании сотрудников издательства, состоявшемся во время судебного процесса Каменева и других, Надежда Григорьевна отказалась поднять руку за требование смертной казни бывшему ее начальнику и, рыдая, выбежала на улицу. Ее уволили на другой же день, а посадили почему-то очень не скоро, уже после войны.
Группком давал мне поручения одно интереснее другого: устроить обсуждение нового собрания стихотворений Тютчева, устроить обсуждение новых переводов Гейне. Круг моих литературных знакомств расширялся. Я побывал в Хлыновском тупике у Розалии Осиповны Шор, похожей на ведьму» но не на Бабу-Ягу, а на косматую» крючконосую ведьму из немецких сказок, только без совы и без кота. Это была ведьма в круглых очках, которые ей самой придавали обличье совы» и в современном наряде» и окружена она была не склянками с зельями, снадобьями и варевами, не прялками и веретенами, а ворохами рукописей и горами фолиантов.
Я пояснил, что принес ей на просмотр переводы Абрама Лежнева, Льва Пеньковского, Лады Руставели…
– Кого, кого? – переспросила она.
– Лады Руставели.
– Я, мой дружочек, знаю великого грузинского поэта Руставели, – заметила Шор, – а Лада Руставели – это на мой слух сочетание противоестественное. Это, дружочек, какой-то французско-нижегородский гермафродитизм.
Побывал я с той же целью и у Георгия Шенгели, сыпавшего словами, точно мелким горохом. У нас с ним зашел разговор о Верхарне. Я сказал, что одна из моих курсовых работ в Институте была посвящена верхарновскому «Ветру» в его переводе и в переводе Брюсова. Я отдал предпочтение ему. Я действительно очень люблю это стремительно-грозное:
Вот ветер, над осенней чащей Летящий… Свирепый ветер Ноябрей.Шенгели порылся в своих повсюду наваленных и разбросанных книгах и, вытащив пыльный по краям томик своих переводов из Верхарна, надписал: «Николаю Михайловичу Любимову, одному из немногих сличавших – и отличивших».
Дела мои шли в гору. Из первого моего жалованья я немалую толику послал матери. «Academia» заключила со мной договор на комментарий к комедиям Тирсо де Молина. Я, желторотый птенец, получил доступ в научный зал Румянцевской библиотеки. Ведавший в издательстве французской литературой Абрам Эфрос с неуклюжей высокопарностью бывшего газетчика объявил мне: «Вы в списке моей души!» В переводе на язык деловой прозы это означало, что я одним из первых получу заказ на перевод с французского…
Однажды глухою ночью меня разбудила юрьевская домработница.
– Коля! Коля! Вставайте! – громко зашептала она. – Гепеушники пришли.
Я повернулся на другой бок и заснул.
Утром я узнал, что гепеушники задержали Виктора Яльмаровича, когда он, только-только переодевшись и разгримировавшись, в щегольском костюме и заграничных ботинках» выходил из артистического подъезда Театра оперетты, и препроводили его прямехонько на Лубянку, а в это время другие явились к нам с обыском. На вопрос, заданный ими Юрьеву: «Где вещи Армфельта?», Юрий Михайлович ответил: «Здесь нет вещей Армфельта и нет моих вещей, у нас с ним все общее. Вот наши две комнаты – делайте обыск везде, где найдете нужным».
Ночные гости произвели обыск поверхностно; разумеется, ничего предосудительного с их точки зрения не обнаружили и ничего не отобрали, в комнату жившей тогда на даче Маргариты Николаевны и в комнату Александры Александровны не сунулись, меня будить не стали.
Юрьев горевал так, как может горевать только любящий отец о единственном сыне. Переносил он свое горе с достоинством, никому его не навязывая, не скуля и не хныча, но в глазах у него стояла такая тоска, что я, говоря с ним, отводил глаза. Он не знал, куда девать себя. Его, прежде общительного, никуда и ни к кому не тянуло, и никого он к себе не звал. Шумным пирам до зари пришел конец. В свободные от театра вечера он все ходил, ходил по двум большим, сразу опустевшим комнатам, – оживление вносил в них энергичный, подвижной Виктор Яльмарович, Проснешься ночью – за стеной все те же бессонные шаги.
И вдруг Юрьев вспомнил, что у него давно валяется договор с издательством «Academia» на книгу записок. Вспомнил, засел и увлекся. Теперь он все свободные вечера просиживал за письменным столом. Кто знает, может быть, так и не появились бы его замечательные «Записки», не свались на него нежданная-негаданная напасть?..
Бывало, сидишь вечером в комнате у Маргариты Николаевны и что-то тоже строчишь. Легкий стук в дверь. С озабоченным и несколько сконфуженным видом, попыхивая папиросой, стоит на пороге Юрий Михайлович.
– Я забыл… Как называются эти кони, вот что над Большим театром?
– Квадрига?
– Да, да, квадрига, квадрига!
А то принесет листочек, покажет:
– Какой тут должен быть надет?
Он читал мне самые первые наброски, и я тогда же был потрясен емкостью его артистической памяти, благожелательной меткостью суждений и наблюдений, художественностью изображения. Он чувствовал слово как прирожденный прозаик, но только искони враждовавший с российской грамматикой.
Летом 37-го года Маргарита Николаевна говорила мне:
– У нас был Юрий Михайлович, читал о «Талантах и поклонниках» с мамой-Негиной, с Ольгой Осиповной – Домной Пантелеевной. Так все запомнить!.. До мельчайших подробностей!.. Это чудо, просто чудо!.. И ведь именно так все и было: я-то видела спектакль много раз!.
Мне было жаль Виктора Яльмаровича, жаль осиротевшего Юрия Михайловича, но за себя я нисколько не боялся – и не потому, что я был твердо уверен в порядочности Виктора Яльмаровича, нет, просто мысль о том, что меня могут арестовать, не залетала мне в голову.
Дурные предчувствия, которым суждено сбыться, наплывают, как облака. И они свиваются, эти предгрозовые облака, и они клубятся… Еще светит солнце, почти весь небосвод еще чист, но там, откуда находят облака, – хотя и невнятно, но погромыхивает.
Внезапно, вне всякой связи с арестом Виктора Яльмаровича, облака дурного предчувствия стали обволакивать мою душу. Выйдя на улицу, я огляделся, не следят ли за мной. Мне хотелось как можно скорей замешаться в толпу, хотелось петлять, сбивать невидимых загонщиков со следу. Хотелось сесть в поезд и заехать в такую глушь, откуда даже рука ГПУ не смогла бы меня извлечь. Я уговаривал себя, что это дичь, бред, что сажать меня не за что, но ничего с собой поделать не мог. Маргарита Николаевна запомнила, что, приехав к ней как-то на дачу в Голицыно, я ни с того ни с сего заговорил о том, что, рано или поздно, меня непременно схватят. И так же внезапно я перестал об этом думать. Хворь сняло с меня как рукой.
Погромыхиванье стихает, ты не смотришь в ту сторону, откуда находят тучи, ты о них начисто забываешь.
6 октября в воскресенье, я, напившись чаю, собрался в читальный зал.
– Тебя кто-то спрашивает, – сказала Маргарита Николаевна.
Я вышел на лестницу и с удивлением увидел троюродную сестру свою Иру – она у меня никогда не бывала. Лицо у нее было желтое, как у больной желтухой, веки припухли. Я провел ее в свой коридорчик, усадил на постель, и тут она, давясь рыданиями, еле смогла выговорить, что вчера ночью арестовали и увезли тетю Лилю с Володей[14].
И разум, и душа отказывались верить, что с моими родными, которых я недавно видел благополучными, замотанными, но жизнерадостными, – как ни утомительна житейская круговерть, она все-таки радостна, ибо это есть жизнь, – что с ними стряслась одна из самых страшных бед, постигающих на земле человека: круговерть для них остановилась. И за что могли схватить такую божью коровку, как тетя Лиля, и семнадцатилетнего Володю? Хотелось верить, что напутала что-нибудь Ира или что их взять-то взяли по ошибке, но сейчас они уже дома. И опять страх за себя даже слегка не кольнул меня в сердце.
Ты не смотришь в сторону туч, ты начисто о них позабыл.
Вечером я поехал на Александровскую площадь, где жили тетя Лиля, ее старшая сестра Катя и Володя.
Когда тетя Катя впустила меня в свою комнату, мне почудилось, будто здесь снова идет обыск, и я невольно попятился: все в комнате было перевернуто, вывернуто и раскидано по полу. Большая комната с высоким потолком была слабо освещена висячей лампочкой, и в дальнем конце ее я увидел женщину: она сидела в кресле у окна. Взглянув на нее, я утвердился в своем предположении, что у тети вторично делают обыск: в меня так и влились глаза незнакомки. Я подумал, что обыск производится под ее руководством. Только почему тетя Катя не предупредила меня в коридоре?.. Вдобавок женщина была в зеленом платье, которое я в полумраке принял за подобие военной формы. Я оглянулся – где же ее подручные? Но тут, к вящему моему изумлению, тетя Катя нас познакомила:
– А это Нина Явдох, Лиленькина родственница и подруга, с которой тебе все не удавалось у нас встретиться.
Я вспомнил… Нина Явдох, родственница тети-Лилиного мужа, служившая на международной телефонной станции, после долгой разлуки недавно вновь всплыла на горизонте тети Лили, зачастила к ней, водила ее по театрам. Мое гадливое чувство к ней, однако, не улетучилось, – напротив, оно росло о каждым мгновеньем. Все мне было отвратно в ней: и рыжеватые волосы, и цвета молочной сыворотки белки ее выпуклых глаз, и желтые злые зрачки, и тонкие, беспрестанно кривившиеся губы, и нестерпимое для русского слуха, польское, словно разбавленное водой произношение звука «л».
Она до неприличия была невнимательна к тете Кате. Теперь она сидела к ней вполоборота, смотрела только на меня, обращалась только ко мне.
Начала с комплиментов моей наружности:
– Вы удивительно похожи на Буока! Ах, как вы похожи на Буока!
Комплименты сменились вопрошающими фальшивыми причитаниями:
– Как жалко Лиленьку, правда? Как это ужасно, правда?
Я инстинктивно сжался и отвечал односложно.
Из разговора с тетей Катей я узнал, что женщина, приезжавшая арестовывать тетю Лилю с Володей, спросила во время обыска: «Нет ли у вас карточек вашего брата, который за границей?» Этот вопрос приподнимал завесу.
Тетя Катя попросила меня съездить к дяде Коле (родному брату моей матери) и на всякий случай предупредить его.
Тут Нина Явдох, до сего времени томно вздыхавшая, всполошилась. Она забросала меня вопросами: кто такой дядя Коля, где он живет, где служит, а затем пристала ко мне, чтобы я как можно скорей, прямо отсюда, поехал к нему.
– Хорошо, я съезжу, – озадаченный ее настойчивостью, ответил я, – но ведь это не к спеху…
– Как не к спеху? Надо же его предупредить!
– Сообщить необходимо, но предупреждать мне его решительно не для чего. Он человек проверенный, за себя ему бояться нечего.
Когда тетя Катя вышла на минуточку в кухню, Нина Явдох опять вцепилась в меня:
– Ну, я вас прошу! Ради Лиленьки! Обещайте мне, что прямо отсюда вы поедете к вашему дяде!
Я нехотя дал согласие, но, выйдя на площадь, с до сих пор непостижимой для меня самого решимостью, хотя вообще я довольно легко сдаюсь на уговоры, поехал не к дяде Коле на Собачью площадку, а к себе на Тверской бульвар.
Перед моими глазами так и стояли тетя Лиля с Володей, но к тревоге за них примешивалось ощущение, будто я только что нечаянно съел какую-то ужасную гадость, от которой во рту долго держится омерзительный вкус. В этот вечер отвращение пересиливало во мне боль. «Какая противная!» – думал я, вспоминая эту гепеушного обличья женщину, от которой до сего дня судьба меня неукоснительно отводила: весной я был на «Хозяйке гостиницы» в Художественном театре и в последнем антракте столкнулся с тетей Лилей, – она была в театре с Ниной, но я с Ниной так и не встретился; в сентябре ездил поздравлять тетю Лилю с днем ангела, но вечером у меня было какое-то дело, и я рано уехал, не дождавшись Нины. «Как могла до святости добрая тетя Лиля дружить с этой женщиной, у которой такая злая, такая гнусная харя? – продолжал думать я. – Ведь у нее же прямо на морде плакатными буквами написано, что она стерва! Мама и Маргарита Николаевна на порог бы ее к себе не пустили. Ох уж эта любовь тети Лили к родственникам, хотя бы и к двоюродным кузнецам нашему слесарю!»
К дяде я отправился через три дня.
14 октября за мной зашел в издательство Ваня Миронов, и мы с ним двинулись пешком по бульварному кольцу «А». Дорогой я почему-то несколько раз оборачивался, и всякий раз мне казалось, что справа на некотором расстоянии от нас идет парень, а когда я оборачиваюсь, он пытается скрыться за дерево. В конце концов я поделился своими наблюдениями с Ваней. Мы обернулись одновременно. Парень метнулся за дерево и притаился. Мы постояли, постояли и пошли дальше. И тотчас, – быть может, потому, что соглядатай в силу своей неопытности держался так нагло, что этой своей наглостью отводил от себя всякие подозрения, а быть может, в силу нашей юношеской бездумности, – мы с Ваней заговорили о другом, не придав этому никакого значения и моментально выкинув это приключение из головы. Больше мы ни разу не обернулись.
Дурные предчувствия, которым суждено сбыться, наплывают, как облака. И они свиваются, эти предгрозовые облака, и они клубятся… Еще светит солнце, почти весь небосвод еще чист, но там, откуда находят облака, – хотя и невнятно, но погромыхивает. Затем погромыхиванье стихает, ты не смотришь в ту сторону, ты уже забываешь о тучах, и вот тут-то молния и ударяет…
На другой день я сидел в «Academia» в профиль к эльсберговской стеклянной клетке, как раз напротив Надежды Григорьевны.
Вдруг я поднял глаза от груды лежавших передо мной деловых бумаг и увидел, что к Надежде Григорьевне наклонился широкоплечий мужчина в пальто и в кепке. По тому, как низко ему пришлось к ней нагибаться, видно было, что он высок ростом. И показалось мне, что говорит-то он с нею, а взгляд его устремлен на меня. И вот тут у меня екнуло сердце. «Что это за тип? Что ему здесь нужно? Уж очень он не похож на наших обычных посетителей», – промелькнуло у меня в голове, и я вновь углубился в бумаги.
– Николай Михайлович? – малое время спустя услышал я тихий голос почти у самого моего уха.
Я обернулся. Слева, у моего стола, спиной к Эльсбергу, стоял тот самый «тип» в пальто и кепке. Меня это не удивило. Когда наши глаза встретились впервые, самая-самая глубь моего подсознания невнятно прошелестела мне, что это за мной.
– Вы – Николай Михайлович Любимов? – еще раз спросил он.
Я подтвердил.
– Пойдемте со мной, – сказал он тоном скорее просительным, чем приказывающим.
Я сразу понял, откуда он, и решил, что меня вызывают свидетелем по делу тети Лили.
– Сейчас я не могу, – возразил я, – вы же видите; у меня тут лежат важные документы. Так их оставить нельзя. Я должен все убрать.
– Нет, нет, оставьте все как есть, вы скоро вернетесь.
Я надел отцовское, переделанное на меня, подбитое ветром пальтишко, и мы вышли. В переулке, у въезда во двор издательства, стояла легковая машина. Сев в машину, я успел заметить, что по тротуару идет с тросточкой, держа папку под мышкой, как всегда – пригнув голову с таким видом, будто кто-то сейчас бросится на него с дубинкой, Павел Антокольский.
Остановилась машина на Лубянской площади у главного здания ОГПУ. Но прошли мы не через главный вход, а через еле приметный боковой, с тогда еще выходившей на площадь Малой Лубянки. Мой провожатый показал караульным пропуск и какую-то квадратную бумажку, вроде билета в театр, как мне показалось – красного цвета, и, бросив им уже на ходу: «В Особый!», повел меня на четвертый этаж.
Мы вошли в просторную, светлую комнату, провонявшую табаком и еще каким-то не просто канцелярским, но особенным, кислым составным запахом, въедающимся, как я после заметил, в стены военкоматов, отделений милиций и ОГПУ – НКВД – МГБ. Тут и обычный для канцелярий запах краски от стен, и запах чернил, и запах сургуча, но к ним примешивается запах военной формы, запах ремней, запах кобур, запах сапог.
«Тип» предложил мне сесть на стул у стола, стоявшего, как войдешь, слева, а сам, повернувшись ко мне широкой, прямой спиной и могучим, как у мясника, затылком, снял пальто и кепку. Под ворсистым пальто у него была военная форма с «ромбом». «Значит, важная шишка», – подумал я. На голове у него щетинился черный, с легкой проседью, бобрик, начинавшийся чуть ли не от переносья, – так низок был первобытный лоб с выпуклыми надбровными дугами. Был он откормлен, тупорыл. В его черных, выпученных, как у жабы, глазах я не углядел ни проблеска мысли, ни промелька простого человеческого чувства. Но и у хищных зверей не такие глаза. В их глазах я читал и радость при виде дорогого им человека, и материнскую нежность, и сознание своего достоинства, и тоску – по воле, по родине. А разве это вот существо способно грустить, тосковать, восторгаться? Оно испытывает удовольствие лишь когда жрет или совокупляется, оно страдает только от физической боли. Оно и людей-то мучает почти уже не лютуя – надоело, приелось. Искалечить человеку жизнь, отнять у человека жизнь – это ему раз плюнуть. Не сомневаюсь, что на заре своей чекистской юности он расстреливал людей «своею собственной рукой». Быть может, с этого и началась его карьера в Чека, и постепенно он дошел до «степеней известных» в Особом отделе на Лубянке 2, Вначале измываться над людьми» играть со своими жертвами, запугивать их – все это было ему в охотку. А теперь он рубит человеческие жизни под корень, как дровосек – деревья, как продавец в мясной лавке разрубает, хекая, туши.
Эту неотмываемую и неотдираемую ледяную кору жестокости я видел потом на лицах многих его сослуживцев. Я нагляделся на эти «человечьи лица без человеческой души». Сладострастники, садисты, истязатели не только по долгу службы, не только ради повышения в чине и увеличения зарплаты, но и по призванию, талантливые истязатели, с выдумкой, конечно, попадались на моем пути (при Ежове и Берия их стало, насколько я слышал, гораздо больше), и все же искусники и затейники в любой области составляют меньшинство. Но почти на всех лицах гепеушников, наркомвнудельцев, эмгебешников, кто бы они ни были: истязатели-чиновники и чинодралы, с которыми мне доводилось сталкиваться чаще, или истязатели, на которых нисходило вдохновение, артисты или ремесленники, генералы-от-мордоберии или нижние чины, ветераны или новобранцы, за редчайшими исключениями отчетливо проступала каинова печать.
На пресс-папье, стоявшем на столе моего нового знакомого, я прочел надпись чернилами: Исаев. Так я узнал фамилию моего будущего собеседника.
Исаев сел и, устрашающе поиграв глазами, сказал:
– Ну, Николай Михайлович (он хамски-отчетливо выговаривал в моем отчестве заударные слоги), – вы нам о многом расскажете!..
………………………………………………………………………………….
Исаев стал описывать круги вокруг моих родственников, постепенно суживая их:
– Ну, а еще кто?.. Ну, а еще кто?..
Наконец я назвал тетю Катю и тетю Лилю с Володей.
– А вам известно, что Елизавета Александровна и ее сын Владимир арестованы органами ОГПУ?
– Конечно, известно.
– Ну, вот теперь у нас с вами пойдет настоящий разговор! – обрадовался Исаев. – Как вы думаете, за что их арестовали?
– Я думаю, что это связано с братом Елизаветы Александровны Александром Александровичем Колоколовым, который находится за границей.
– Почему вы так думаете?
– А женщина, которая их арестовывала, спросила, нет ли у них его карточки.
По лицу Исаева прошла тень неудовольствия, из чего можно было заключить, что проболтавшейся гепеушнице не миновать головомойки.
– Что вам известно об Александре Александровиче Колоколове?
– Я его никогда в жизни не видел. Знаю, что во время революции он жил на юге, был мобилизован в Белую Армию» затем уехал в Румынию и там работал в коннозаводстве.
– Что вам известно о переписке с ним Елизаветы Александровны?
– Писем его к ней я не читал. Переписывались они крайне редко, а несколько лет назад и вовсе перестали переписываться по инициативе Елизаветы Александровны.
– Почему вы так уверенно это аварите? (Исаев даже не «гакал», а совершенно скрадывал звук «г»).
– Потому что Елизавета Александровна в высшей степени порядочный человек, правдивый, я бы сказал, как младенец.
– А большие суммы он ей посылал?
– По-видимому, ничтожные. Ваши люди могли убедиться, как бедно живут мои тетки: все у них штопаное и чиненое, мебель вот-вот развалится.
– А вам не известно, что когда зять Елизаветы Александровны, муж ее умершей сестры, инженер Васильев ездил в Америку, то он имел свидание с Колоколовым, и тот через него передал Елизавете Александровне деньги?
– Мне известно, что Юрий Александрович Васильев ездил в Америку и был только в Америке. Что он виделся с Александром Александровичем Колоколовым – это я первый раз слышу от вас. Если бы он действительно с ним виделся, то Елизавета Александровна и Екатерина Александровна, конечно, мне бы об этом сказали – они никогда не скрывали от меня ничего, что касалось их родственников.
Ответы мои не удовлетворили Исаева. Он стал внушать мне, что и моя тетка, и мой троюродный брат – антисоветские элементы и что мой долг – осветить их антисоветскую деятельность, а также и мою, поскольку я тесно с ними связан.
Я сказал, что эта их деятельность мне не известна.
Тогда Исаев со скучающим видом начал говорить, видимо, давным-давно затверженные им и успевшие набить ему оскомину фразы: передо мной, мол, два пути – путь искреннего и чистосердечного раскаяния, и тогда я немедленно вернусь к моей прежней деятельности, и путь запирательства, на который я уже встал: в таком случае ОГПУ вынуждено будет принять по отношению ко мне те меры, какие оно найдет нужным. Но еще не поздно: путь раскаяния передо мной открыт, Исаев несколько раз выводил меня в коридор, бросал мне на ходу: «Посидите, подумайте», исчезал где-то в конце коридора, потом появлялся снова, и допрос возобновлялся.
Наконец он снял телефонную трубку и расстановисто произнес:
– Прием арестованных два«.. Придите в кабинет номер такой-то за арестованным Любимовым.
Тут только я понял, что я не свидетель» а подследственный, что за мной захлопнулась западня. В голове вдруг стало пусто, я весь словно одеревенел, и только противной, неунимаемой дрожью дрожали колени. За мной пришел конвойный и, командуя: «Направо! Налево! Вниз!», вывел во двор и ввел в какое-то подвальное помещение. Там что-то с моих слов обо мне записали, сфотографировали анфас и в профиль, взяли отпечаток пальцев, обыскали, отобрали подтяжки, кошелек с деньжонками и ключ от квартиры, пропуск в столовую и нательный крест, а затем отвели в особое помещение, которое, как я узнал после, на языке заключенных за узость немногочисленных камер получило название «собачник». Оттуда были три дороги: для редких счастливцев – на свободу; если дело было для следователей лакомое и требовало частых допросов, то заключенного из «собачника» переводили в так называемый «внутренний изолятор», попросту говоря, в тюрьму, находящуюся в глубине двора ОГПУ; наконец третий путь – если дело не представляло особой важности, вел в Бутырскую тюрьму, а уже оттуда путь лежал опять-таки изредка на волю, а в подавляющем большинстве случаев – в концлагерь или же в ссылку.
Меня заперли в пустой камере, но очень скоро вызвали и повели на допрос. Я обрадовался. Лучше допрос, чем одиночество в камере.
На втором допросе я выказал еще большую несговорчивость. Исаев все требовал от меня сведений об антисоветской деятельности нашего «тройственного союза», состоявшего из моей тетки, моего несовершеннолетнего троюродного брата и меня. Тетю Катю он почему-то ни разу не упомянул.
– Вы что же, хотите, чтоб я врал? – спрашивал я.
– ОГПУ во лжи не нуждается.
– Зачем же вы требуете от меня рассказов о том, чего не было?
Исаев злился. Он, видимо, не ожидал, что ему придется потратить столько времени на такого необстрелянного воробья.
– ОГПУ шутить не любит, – пригрозил он.
Я постарался изобразить на своем лице спокойствие, хотя мне все время было страшно: я чувствовал свою полнейшую бесправность, полнейшее бессилие.
– Если вы будете и дальше так вести себя на допросах, то нам придется и вашу мамашу арестовать, – вытянув шею и уставив на меня свои буркалы, подчеркнуто вежливо проговорил Исаев.
В душе у меня все захолонуло, но я сделал каменное лицо… «Упаси Бог выдать волнение, а то он сразу поймет, что это самая слабая моя струнка, и примется на ней играть!..
– А террористические разговоры вы когда-нибудь с кем-нибудь вели? – спросил Исаев.
– Никогда и ни с кем.
– Оружием владеете?
– «Военное дело» в институте проходил, но стрелять так и не научился. Военрук поставил мне «удовлетворительно» только за то, что я теорию хорошо знал.
– Террористической литературы у вас нет?
– От отца у меня осталось много революционной литературы: Бебель, Лассаль, Маркс, Есть в моей библиотеке отцовская книга – «Подпольная Россия» Степняка-Кравчинского. Там описываются покушения на царских сановников, есть портреты цареубийц; Перовской, Кибальчич, Желябова, Гельфман, Рысакова, Но, по-моему, это террористической литературой назвать нельзя.
– Ну, а все-таки какое-нибудь оружие у вас есть?
– Да произведите обыск на обеих моих квартирах – и в Перемышле, и в Москве, Вы «пугача» у меня не найдете.
– Когда понадобится, произведем… А нам точно известно, что вы вели террористический разговор с вашим троюродным братом Владимиром Орловым.
Я разыграл недоумение. Я сразу понял, что имеет в виду Исаев, но решил, что если я подтвержу показания Володи, то и меня, и его подведут невесть подо что.
В этом году на другой день после первомайской демонстрации, на которой мы оба были, каждый со своим учебным заведением, мы с Володей отметили, что на Красной площади неважная охрана и что, видимо, племя террористов выродилось, потому что для опытного бомбиста бабахнуть по трибуне мавзолея ничего не стоит. Мы оба только констатировали факт, без каких бы то ни было комментариев, тревожных или же мечтательных, но сознаться в том, что такой, хотя бы и «мимоходный», разговор все-таки имел место, значило дать в руки Исаеву козырной туз. К счастью, я был наслышан, и не от кого-нибудь, а от Коммодова, как ОГПУ умеет делать даже не из мухи слона, а из блохи гиппопотама. Исаев не зря самое важное приберег к концу второго допроса, когда я был и телесно, и душевно измотан, но я напряг все силы внутреннего сопротивления. Я решительно заявил, что такого разговора я с Володей не вел.
Советская власть все время и во всех областях жизни играет в «куча мала». В такую же игру играло и ОГПУ. Был период массового производства «вредителей», в мое время пошла мода на «террористов».
После я узнал, что до моего ареста тот же самый вопрос другой следователь Особого отдела Мацко задал Володе: не вел ли он с кем-либо террористических разговоров?
Володя сказал» что нет.
– А вы подумайте хорошенько, – настаивал Мацко.
– А вот это не террористический разговор? – простодушно спросил Володя и рассказал о нашем обмене первомайскими впечатлениями.
– Ну, конечно, это и есть самый настоящий террористический разговор, – подхватил Мацко.
Володя тут же спохватился:
– Но ведь мы никого убивать не собирались, ни на кого покушений не готовили!
Слово что воробей: вылетит – и поймают! – так переиначил народ известную пословицу, когда ОГПУ после кратковременной передышки (1924–1927) вновь ревностно взялось за дело.
Мацко провел параллель: «На дереве сидит птичка и поет; не охотник пройдет и скажет: “Ах, как хорошо поет птичка!” А охотник остановится и подумает: “Хорошо бы эту птичку на мушку взять!” Так вот и вы с братом. Другие проходили по Красной площади и радовались, что вождей видят, а вы подумали, что их легко убить. А от таких мыслей один шаг до действия».
Вот они, «правовые идеи» Вышинского!
Только это неосторожное показание неискушенного сосунка и послужило причиной для моего ареста.
– Ну, вы понимаете, Николай Михайлович, что сегодня вы домой ночевать не пойдете, – сказал Исаев и взглянул на меня в упор, чтобы полюбоваться произведенным впечатлением.
В раскрытое окно, выходившее на Большую Лубянку (ул. Дзержинского), доносились звонки уже недоступных мне трамваев и больно отзывались у меня в душе. Что бы я дал сейчас, чтобы повисеть на подножке, чтобы меня расплющили в проходе, чтобы битый час ждать на остановке!
Я смертельно устал. У меня было такое чувство, словно я то ли пьян, то ли в бреду, – состояние, когда человек за себя не отвечает, когда он теряет над собой власть. Я боялся проболтаться. И еще боялся, что не выдержу, что подпишу все, лишь бы на меня не пучил глаза жабохряк.
Я поступил, как Борис Годунов в толстовском «Царе Федоре»:
Часть прав моих в пучину я бросаю, Но мой корабль от гибели спасаю!Я сказал: мы были против разрушения московских древностей, нас иногда удивляло большое количество арестов, мы иногда жаловались на нехватку продуктов в магазинах, три года назад я выражал возмущение расстрелом без суда сорока восьми сотрудников Наркомторга и других организаций. Что же касается «террористического разговора», то тут я уперся как бык.
Если б Исаев не уволок меня так внезапно, если б у меня было хоть какое-то время на подготовку, я бы не швырнул и таких лоскутков, из которых, впрочем, даже Исаевым и Мацко трудненько было бы сшить «агитацию» и «организацию». Да и не находчив я от природы, – адвоката и прокурора из меня бы не вышло.
Исаев составил протокол допроса и дал мне его прочитать и подписать. Протокол написан был заезжавшими за линейку каракулями малограмотного человека, понаторевшего лишь в казенных оборотах речи, и изобиловал грубейшими ошибками. Я читал внимательно, Исаев меня поторапливал. Потом начался торг из-за заключительной фразы. Исаев написал, что я часто бывал у своих ныне арестованных родственников и вел с ними разговоры на всякие, в том числе и на политические темы. Я запротестовал против слова «часто» – запротестовал с полным основанием. В институте у меня были вечерние занятия; потом на меня навалились дела по Группкому; еще будучи студентом, я начал заниматься литературным трудом и все реже и реже бывал на Александровской. Исаев уступил и вместо «часто» написал, что я «изредка» посещал своих родственников. Тем самым я лишил возможности Исаева сколотить из нас троих «контрреволюционную организацию». Отрицать, что мы время от времени говорили о политике, было бы явной ложью, ибо нет такого человека, который хоть когда-нибудь не обсудил бы с кем-нибудь известия, вычитанного в газете, события, всполошившего всю страну, того, что творится вокруг. Но я решительно отказался подписать, будто бы присутствовал при том, как мои родственники выражали недовольство политикой партии в деревне и утверждали, что колхозы ведут страну к гибели, и настоял на том, чтобы после слов о нашем недовольстве сносом церквей и монастырей, арестами и пустотой на магазинных прилавках Исаев добавил: «Никаких антисоветских выводов из обсуждавшихся фактов мы не делали, никаких контрреволюционных разговоров не вели». И с облегченным сердцем поставил под протоколом свою подпись. Во время второго допроса мною владело тупое отчаяние, физические и душевные силы у меня слабели, и я не поручусь, что чего-то не пропустил и не подмахнул из того, что настрочил и подсунул мне на подпись Исаев, но вот эта итоговая черта явственно видится мне и сейчас.
Меня снова увели в «собачник» и заперли в той же самой пустой камере. Я с утра ничего не ел, но голода не чувствовал. Я лег на койку. Глаза мои были сухи. Во рту все запеклось, мне было жарко, душно, и в то же время меня подбрасывало на койке, словно в качку на корабле. На какие-то секунды я забывался. Потом резкий толчок где-то в подсознании; «Я в тюрьме – что же будет с мамой – перенесет ли она весть обо мне – я оставил в издательстве на столе документы – я не успел дописать комментарий к Тирсо де Молина – меня пытаются обвинить в терроре – значит, расстрел? – или долгие годы тюрьмы? Вот в этой “одиночке”? (Я убедил себя, что это одиночная камера, хотя здесь стояли две койки.) Да разве я вынесу хоть неделю сидения в одиночке, разве я вынесу разлуку с мамой?»
В это время щелкнул ключ, дверь отворилась, и в камеру вошел высокий, грузный, шумно дышавший человек. От него попахивало вином. Оказалось, что его привели сюда прямо с вечеринки. Он отрекомендовался:
– Инженер Орехов.
Наружность у него была не располагающая, но я обрадовался ему просто как живому существу. «Значит, это не одиночка», – решил я. Мы разговорились, Потом он предложил поспать до утра.
– Стоит ли? – спросил я. – Могут опять вызвать на допрос.
– Нет уж, теперь не потянут, будьте покойны, – возразил Орехов. – Наши с вами благодетели особенно утруждать себя не любят. Потрудились на совесть – и домой. Сейчас, небось, с жинками балуются.
Ернический его тон меня коробил – уж очень он был не ко времени. Но под действием винных паров Орехов быстро задал храповицкого. Перед утром заснул и я. Утром нас повели умываться и разлучили навсегда. Меня ввели в камеру побольше. У левой стены, от двери до окна, стояли, вплотную одна к другой, койки, между ними и правой стеной оставался узкий проход – только двоим кое-как разойтись. Народу в камере было немного, так что я смог занять отдельную койку. Единственное зарешеченное окно было вровень с асфальтированным двором. На прогулку из «собачника» не выводили – только в уборную и – через двор – на допрос. В двери было, кроме «глазка», проделано отверстие, снаружи задвинутое деревянным щитом. По временам щит отодвигали, и караульный протягивал чашки с жидким чаем, миски с баландой и кашей и ставил их на подставку, приделанную к окну изнутри. Мы по очереди подходили за едой и за чаем. Народу с каждым днем все прибывало. Мы теснились на своих койках, но потом уже теснись не теснись, а втиснуться было некуда, и новички днем сидели у нас в ногах, ночью валялись на полу.
Початую пачку папирос, которую я принес с воли, я в первый же день роздал изголодавшимся курильщикам, после чего начались такие же муки и для меня. Папирос в «собачнике» не давали. Единственным нашим прибежищем были курящие новички. Мы мигом выклянчивали все, что у них было, и уже вместе с ними заговлялись до следующего пришедшего с воли курильщика. Одного из караульных» ставившего миски с баландой, я попросил:
– Дайте, пожалуйста, покурить.
– Я не курящий, – с безусмешечной, хмурой издевкой ответил он» держа в углу рта папиросу.
Вскоре, однако, я убедился, что не только свет, но и лубянская тьма не без добрых людей.
Однажды вечером меня вызвали к коменданту «собачника» для заполнения анкеты – без анкет, как и все советское государство, не обходилось и ОГПУ.
Комендант курил.
Я с решимостью отчаяния попросил его оставить окурочек.
И вдруг комендант посмотрел на меня с такой сердечностью, какой я никак не мог ожидать от служащего в «тайном приказе» у князя-кесаря Вячеслава Менжинского.
– Ну уж, видно, придется целую дать, – сурово улыбнувшись, сказал он и протянул мне портсигар.
– Спасибо, товарищ комендант, – сказал я, – я никогда вам этого не забуду. Если встретимся на воле – все для вас сделаю.
– Ладно, ладно, на воле сочтемся, – ободряюще кивнул он мне на прощанье.
Мне было страх как обидно, что в отобранном у меня кошельке лежал билет на вечер Достоевского, на котором должны были выступать Качалов и Леонидов. На воле я так мечтал об этом вечере, и теперь я тешил себя нелепой надеждой, что накануне или же в самый день концерта меня возьмут да и выпустят на свободу. Но прошел канун, прошел весь день, сейчас уже начался концерт, Качалов, наверное, читает «Кошмар Ивана Карамазова», а я валяюсь на тюремной койке… Еще и сейчас» как вспомню, – в душе закипает детское чувство обиды, точно не взяли на елку.
Кого-кого только не было среди моих случайных соседей по «собачнику»! Я лежал рядом с моим «тезкой в квадрате» Николаем Михайловичем Кукушкиным, человеком редкостной выдержки, ибо проявлял он ее в самые мучительные для заключенного дни, когда его только-только оторвали от воли, когда рана еще свежа и сочится кровью.
Кукушкин находил в себе силы развлекать и смешить и себя, и нас анекдотами, забавными случаями. Если караульный как бы нерешительно поворачивал в замочной скважине ключ, Кукушкин с изысканной любезностью хозяина приглашал его:
– Войдите!
На мой вопрос, где он работает, Кукушкин ответил:
– В учреждении с неприличным названием. И никак мы не можем уйти от фаллического культа: сперва назывались ЦУНХУ (то есть Центральное управление народно-хозяйственного учета), – попробуйте-ка просклонять такое учрежденьице, – а теперь – ЦСУ (центральное статистическое управление).
В нашей камере пребывали и мой земляк, «калуцкай», «мещов-скай» мастеровой Кухтёнков, и Апостолици, жирный грек, черные зрачки которого точно плавали в масле, и французский еврей, и юный отпрыск обрусевших поляков Шиманский, и немец, и русский дворянин Лев Львович Кормилицын, и осетин. Когда же к нам ввели еще и казаха, Кукушкин заметил:
– Ну вот теперь у нас в камере полный интернационал! Надо бы по этому случаю спеть: «Добьемся мы освобожденья…»
Кухтёнков рассказывал истории преимущественно из придворной и великосветской жизни. Героями его остросюжетных новелл были королевы, маркизы, графы, но только пересыпали они у него свою речь отборными матюками, и не в сердцах, а так, как русские аристократы пересыпали свою речь французскими словами.
Когда в нашу камеру ввели молодого немца и мы обратились к нему с трафаретным вопросом, кто он и откуда, он ответил с горькой иронией:
– Шпиён, фащист! – сел на койку, поставил локти на колени, голову уронил на ладони, и больше мы за все время не слыхали от него ни единого слова.
Седой осетин с носом, похожим на кривой турецкий кинжал, раскачивался из стороны в сторону и, обхватив руками голову, что-то жалостливо бормотал по-осетински. Постепенно разговорился. Он и его сын служили на Дальнем Востоке, на железной дороге. Обоих арестовали одновременно. Следователь вызвал прежде отца, подпоил коньячком, а потом сказал: «Подпиши, что ты и сын были китайскими шпионами, и мы вас обоих завтра же выпустим».
Осетин по неопытности, да еще под «градусом», подписал, после чего их обоих, и отца и сына, привезли в Москву, на Лубянку.
– Щто я надэлал! Щто я надэлал! И сына, и себъя погубил! – уже по-русски, в отчаянии причитал старик.
У черноволосого и седоусого, с приятными, породистыми чертами Льва Львовича Кормилицына было тонкое лицо и такая выправка, что о нем сразу можно было сказать, что он дворянин по происхождению, в прошлом – офицер. Говорил он так: «Что-с?» «Вы изволили что-то сказать?» Во всем облике этого деликатного, всегда боявшегося кому-то помешать, всегда готового уступить старика была такая хрупкая незащищенность, что при взгляде на него у меня щемило сердце. Как нам с Кукушкиным ни было тесно, мы все-таки втиснули его посредине, а сами лежали теперь на боку. Из разговоров с Кормилицыным выяснилось, что дома у него осталась жена, лежачая больная, и глухонемой, нигде, как и мать, не работающий сын. Сам Лев Львович где-то служил и получал гроши. Оказалось, что мы с ним в дальнем-дальнем родстве.
В одну из ночей Лев Львович спал, лежа ко мне спиной, а от меня сон бежал. Я посмотрел на старчески седые и детски беспомощные завиточки на его шее, и при виде их по мне прошла волна невыразимой нежности к этому старому младенцу, мной овладело бессильное желание сделать для него хоть что-нибудь хорошее, уберечь его от невзгод. Я наклонился к нему и тихо-тихо, чтобы не разбудить, поцеловал его в голову.
А на следующий вечер его вызвали «с вещами», то есть не на допрос, а совсем из «собачника».
– Значит, на волю Лев Львович, – предположил я.
Я знал с его слов, что кто-то донес одну-единственную невиннейшую его фразу о том, что страну оголодили и что доколе же, мол, это может продолжаться, – в этом состояло все его «дело». Ну, а затем – «социальное происхождение» и служба в царской армии.
Старик с радостной растерянностью засуетился.
Но тут вдруг, недалеко от окна, запыхтел автомобиль.
– Нет, Николай Михайлович, – встревожился Кормилицын, – это – «черный ворон». Наверно – в Бутырки.
Я взмахнул «белым покрывалом»:
– Да нет, это грузовик подвез продукты. Ну зачем вас в Бутырки? У вас и дела-то никакого нет, – тоном многоопытного знатока рассудил я.
Мы крепко расцеловались.
Позже я узнал, что Льва Львовича отвезли в Бутырки и что передачи носил ему глухонемой сын.
…На допрос меня водили еще раза три.
Коридоры в коридоры, В коридорах – двери…Исаев ни разу пальцем меня не тронул. Выразился нехорошим словом только однажды и тут же прибавил: «Извините за выражение». К его нехитрым в своем однообразии приемчикам я привык, и они перестали меня пугать. Он делал движение, будто достает из стола нечто такое, что должно привести меня в страх и трепет или же уличить в преступлении тягчайшем, но это оказывалось пачкой папирос или карандашом.
На предпоследнем допросе он объявил мне: нам-де известно, что я ездил предупреждать своего родного дядю; мало того, что я сам антисоветский элемент, да еще родственничков своих спешу предупредить, чтобы они успели уничтожить компрометирующие их материалы! Напрасно стараюсь – ничто им не поможет.
– А вам за одно это десяти лет Соловков мало! – крикнул он.
Я возразил, что ездил не предупреждать, ибо мой дядя ни до, ни после революции ничем себя не скомпрометировал, что к нему прекрасно относятся лица, занимающие в настоящее время высокие посты (я назвал одну фамилию), а только сообщить о несчастье, постигшем его двоюродную сестру, – так же, как счел бы своим долгом сообщить ему о ее тяжелой болезни. Если бы я действительно хотел предостеречь его, то поехал бы тотчас после того как узнал об аресте тетки, а я поехал спустя несколько дней.
Рассуждал я довольно бойко, а в голове между тем проносились мысли, от которых у меня стыли руки и ноги: «Кто мог сообщить в ОГПУ, что я ездил на Собачью площадку? Тетя Катя? Невероятно. Сам дядя Коля? Быть того не может. Это – кремень. Его жена, тетя Таня? Чепуха! Кто будет вызывать на допрос старую глушню? Их сын Миша? Этот сдержанный, замкнутый молодой человек, лишнего слова не проронящий? Нет, и это лишено вероятия. Ну так кто же?»
И вдруг Исаев медленно, растягивая удовольствие, заговорил:
– Вы были у своего дядюшки… – Тут он выдвинул ящик письменного стола и заглянул в записную книжку: – шестого числа, – прочитал он и взглянул на меня победоносно. – Вот видите: у стен каждого дома есть уши ОГПУ!
У меня мгновенно отлегло от сердца, и все стало ясно. Кто же еще мог сообщить ОГПУ эту ложную дату, как не Нина Явдох? И кто же засадил тетю Лилю с Володей, как не она?..
Тут уже торжествующей улыбкой улыбнулся я:
– Вы ошибаетесь. Шестого я был у своей тетки, Екатерины Александровны, оттуда поехал прямо домой. У дяди я был десятого. Можете проверить. Спросите любого члена его семьи. Кто-то дал вам неверные сведения.
– Вы утверждаете, что неверные? – слегка обескураженно, что-то соображая, переспросил Исаев.
– Да, неверные.
Больше к теме «предупреждения родственников» Исаев не возвращался.
24 октября Исаев еще раз вызвал меня и прочел так называемое «обоснование» моего ареста:
«Будучи антисоветским элементом, гражданин Любимов Николай Михайлович готовил вместе со своим троюродным братом Орловым Владимиром Александровичем тер. акт на товарища И. В. Сталина».
– Да ведь в протоколе ясно сказано, что я никогда никаких антисоветских выводов не делал! – возопил я. – И какой же я террорист? Хорош террорист, нечего сказать! Винтовку в руки взять не умею, из пугача никогда не стрелял. Я же вас просил произвести у меня обыск!.. Нет, этого я ни за что не подпишу!
Исаев досадливо отмахнулся.
– Это вы все потом будете опровергать на допросах, – сказал он. – У вас еще будет время. Эту бумагу мне нужно предъявить своему начальству, чтобы оно знало, что я не зря держу вас под арестом. Она нужна мне, понимаете? А вас она по сути вещей не касается. Вам нужно только подписать ее как доказательство того, что вам известно, за что вы сидите. Ясно?
Я расписался в том, что мне известно «обоснование» моего ареста…
В камеру я вернулся убитый. «Великий утешитель» Кукушкин, которому я рассказал, зачем меня вызывали, пренебрежительно махнул рукой.
– Э, брехня! Не бойтесь! Это же чистая проформа. Они вам еще сорок раз обвинение переменят и освободить могут. Больше припаять вам пока нечего, а отпустить неохота. Надеются: авось что-нибудь из вас выжмут. Каждый осужденный ставится им в плюс. А в самом этом обосновании ничего грозного нет, уж вы мне поверьте. Я еще в двадцать шестом году тут посидел, только совсем недолго. Тогда сидеть тут было одно удовольствие: народу – никого, хоть русскую пляши… Плюньте с высокого дерева, а потом ногой разотрите…
25-го вечером мне велели «собираться с вещами». После «обоснования ареста» я никаких иллюзий себе не строил. Перспектива мне была ясна: «черный ворон», Бутырки. Я простился с товарищами по «собачнику», где просидел 10 дней.
Последним простился со мной осетин.
– Ну, прощай, Льюбимов, – сказал он, – артельный ты парень!
И вот я в «черном вороне», на который, когда он проезжал мимо меня по улице, я смотрел с неизменным ужасом и с состраданием к тем неведомым мне людям, которых в нем везли. Настал и мой черед в нем прокатиться…
Среди моих «попутчиков» я не увидел ни одного знакомого лица. Всю дорогу мы ехали в хмуром молчании. Зарешеченная щель, заменявшая окошко, была до того узка, что в нее ничего нельзя было разглядеть. И только когда мы с Кузнецкого повернули на Петровку, передо мною мелькнула освещенная в упор уличным фонарем и заштрихованная решеткой полоска витрины углового двухэтажного магазина (тогда там помещался один из Торгсинов), до сих пор еще не снесенного. И вот тут мне стало так горько, что я почувствовал, как у меня задергались губы. Ведь я же еще несколько дней назад ходил мимо этого магазина, сейчас вдруг ставшего для меня несказанно дорогим» точно это был не магазин» а мой родной дом. Ходил такой счастливый и не подозревал» что я счастлив! Ни с чем не сравнимое счастье свободы мы начинаем ценить тогда же, когда и здоровье» – стоит нам потерять их. Будничное очарование внешнего мира бросается нам в глаза, когда мы вдруг увидим его частицу сквозь стремительно движущуюся щель «черного ворона». Вот так же больно и завидно было мне потом смотреть во время прогулок по тюремному двору на птиц, беспрепятственно перелетавших за пределы бутырского мира, – до того больно, что ближайшие мои друзья почти силком выволакивали меня из камеры подышать воздухом…
По приезде в Бутырки нас высадили из «черного ворона» в скупо освещенном дворе, выстроили попарно и куда-то повели. Конвоиры, шедшие впереди, то и дело кричали шедшим сзади: «Алё!» Мы поминутно останавливались, подолгу стояли, как на демонстрации. Потом нас ввели в огромное помещение с цементным разрисованным, точно в церкви, разноцветными квадратами и ромбами полом. Это был так называемый «вокзал». Сюда привозили «пассажиров» с Лубянки и отсюда увозили на этапные поезда. Нас заперли в одном из боковых тесных «залов ожидания». Стены этого «зала» были сплошь испещрены надписями: заключенные извещали о своей участи то с трагическим лаконизмом» то с похабно-горестной бесшабашностью: «Получила десять лет не за… Манька Волчок».
Дверь отворилась. Кто-то в шинели и в уже опостылевшей мне фураже с малиновым околышем, обежав взглядом собравшихся в камере, ткнул пальцем в меня и еще в двух парней:
– Ты, ты и вон ты! Выходите!
Мы вышли на «вокзал».
– А ну-ка, вымойте пол! Ведра и тряпки вон там.
Я сроду не мыл полов даже в комнатах родного дома. А тут вокзальной широты и длины помещение! За десять дней полуголодного существования я ослабел; не замедлили сказаться и моя неопытность, и моя природная неуклюжесть. Я весь выгваздался, забрызгался, выбился из сил. У меня закружилась голова, и я сел на пол. Надзиравший за нами подошел ко мне:
– Что? Уже скопытился? Эх ты, белоручка! Ну, иди обратно в камеру!
Мои будущие товарищи по несчастью впоследствии разъяснили мне, что мытье «вокзала» – это был чистейший произвол тюремных «нижних чинов», что подследственные – не осужденные, что их не разрешается использовать на физической работе и что я имел полное право отказаться от наведения чистоты и порядка на «вокзале».
Потом меня вызвали к какому-то тюремному бюрократу на предмет заполнения еще одной анкеты.
Просмотрев мою анкету» которую я заполнил сам, бюрократ смерил меня недоверчиво-насмешливым взглядом.
– Ты где ж это «письмоводителем» был?
– А вы читайте внимательней: я – не письмоводитель, я – писатель.
После этого он сразу перешел со мной на «вы». А затем меня с первой партией заключенных снова вывели во двор.
Подходим к одному из тюремных корпусов, И опять
Коридоры в коридоры, В коридорах – двери,но только двери с «глазками», как видно – наглухо запертые снаружи. Нас стали разводить по камерам. На каком-то этаже, кажется, на втором, – странно, что забыл этаж! – повернули по коридору направо и остановились возле 64 камеры, слева от лестницы.
Войдя, я остолбенел от многолюдства. Такой густоты и плотности населения мне еще не приходилось видеть. Справа и слева – нары. На нарах впритык один к другому – люди. Кто лежит, кто сидит на одеяле или же на голых досках, кто прогуливается по камере между нарами. На стенах развешаны узелки и сумки с едой, бидончики, верхнее платье. Прямо против двери – окно с решеткой, выходящее во двор. Между рамами – сверточки со сливочным маслом и другими скоропортящимися продуктами. У окна – узкий и длинный стол.
Самое мучительное в первых моих впечатлениях от камеры было то, что все эти люди, пока еще образовывавшие для меня одноликую массу и чье многоплеменное разноголосье звучало для меня пока еще слитным гулом, по виду спокойно занимались своим делом: кто читал книгу, кто играл в шахматы, вылепленные из хлебного мякиша, кто разговаривал с соседом, кто напевал. Здесь шла какая-то своя, тюремная жизнь, оседлая, застойная, у порядоченная, принявшая определенные, привычные, повседневные формы. Нет, уж лучше «собачник» с постоянными вызовами на допрос, с ежедневной сменой лиц! Там есть надежда на тот или иной, но по крайней мере скорый поворот в судьбе, а здесь?.. Я не мог понять, как этим людям втерпеж читать, играть, петь…
Еще тяжелей стало у меня на душе, когда я узнал, что следствие тянется долго, что три – четыре месяца – это еще благодать, что здесь есть ветераны, сидящие полгода, семь, десять, одиннадцать месяцев. Значит, и меня ожидает такая же доля? Нет, я в этом стоячем болоте долго не выживу. Нет, я этого не перенесу!.. Я зашагал взад и вперед по камере, от стола до двери и обратно, потом в отчаянии присел на краешек нар.
Тут ко мне подошел низкорослый заморыш с черными глазами навыкате, с жиденькими волосами, сквозь которые просвечивала плешь, и густым басом, что не шло к его тщедушному тельцу (невольно думалось: как в нем помещается такой голосина?).
– Вы с Лубянки два или с Лубянки четырнадцать? – задал он мне вопрос.
Потом я убедился, что именно с этого вопроса начинаются разговоры с новичком. Лубянка два – это центральное, всесоюзное ОГПУ, а на Лубянке четырнадцать помещалось тогда так называемое ПП (полномочное представительство) ОГПУ по Московской области. Мне до сих пор непонятно, почему это уж так интересовало заключенных. Степень «важности» дела и суровость приговора редко когда определялись тем, какое из этих учреждений «опекало» подследственного.
За этим вопросом обычно следовал другой:
– А давно с воли?
До ареста слово «воля» имело для меня книжный, отвлеченный, поэтический смысл. Теперь у меня с ним связывалось нечто осязаемое, насущное, но недоступное и такое желанное, что при одной мысли о воле у меня спирало в груди.
Осведомившись, кто я таков, незнакомец назвал себя:
– Александр Александрович Сибиряков-Тайгин, журналист.
Я вспомнил, что какая-то статья, подписанная фамилией Тайгин, однажды попалась мне в «Новом мире».
Я вкратце рассказал ему о своем «деле» (мысль о том, что в камере могут быть так называемые «наседки», то есть подсаженные осведомители, мне по неопытности не приходила в голову, но в мою бытность в 64 камере «наседок», видимо, и не было) и признался, что у меня гвоздем сидит в голове мысль, как переживет мой арест мать. Сибиряков сообщил, что он сидит за троцкизм, что нераскаявшмхся троцкистов остались считанные единицы, что они ушли в подполье, что название их партии – Всесоюзный центр большевиков-ленинцев и что их гимн – не «Интернационал», а «Варшавянка».
– Вихри враждебные веют над нами, Темные силы вас злобно гнетут, В бой роковой мы вступили с врагами, Нас еще судьбы безвестные ждут, —пробасил он вполголоса, с провидчески-мрачным вызовом, производившим, впрочем, трагикомическое впечатление по контрасту с его почти лилипутьей фигуркой, и добавил: – В двадцать седьмом году, после ноябрьской демонстрации, когда вся Бутырская тюрьма была забита троцкистами, здесь стены дрожали от «Варшавянки»!
Это была для меня новость. Жалобы Троцкого и Зиновьева на производившиеся в 27-м году аресты их единомышленников тогда не попадались мне на глаза. Я знал, что арестовывали и арестовывают монархистов, октябристов, кадетов, эсеров, меньшевиков, беспартийных интеллигентов, крестьян, священнослужителей, «бывших людей». Но что арестовывали и арестовывают товарищей по партии – это не укладывалось у меня в голове. И уж потом, когда я обжился в камере и ко мне вернулась способность думать не только о своем положении, моя мысль постоянно возвращалась к первому разговору с Сибиряковым. За что же арестовывали и арестовывают троцкистов? Какие у них средства борьбы? Сходки в лесу, письма, листовки, демонстрации. За что же тогда клеймить жандармов, разгонявших маевки и демонстрации, сажавших за участие в них и за распространение листовок? Почему школьники обязаны проливать слезы над участью горьковской «Матери»? В листовках революционеры призывали свергнуть самодержавие. А троцкисты призывают свергнуть не Советскую власть и Коммунистическую партию, а только диктатуру Сталина, свергнуть мирным путем, а не силой оружия. И почему никто не пикнул в защиту товарищей, не пикнул никто из самых «гуманных» большевиков – ни Рыков, ни Бухарин, ни Семашко, ни Луначарский?.. Только теперь я вычитал в старых газетах, что и Рыков, и Бухарин, и Томский одобряли аресты своих бывших сподвижников.
Вечером, после ужина, бессонная ночь и неприкаянность, – кроме Сибирякова, я ни с кем не познакомился в камере, я был на положении новичка, которому негде приткнуться, – довели меня до того, что я опять присел у кого-то в ногах и, уронив голову на руки, в первый и последний раз за всю мою тюремную жизнь заплакал. Вдруг кто-то погладил меня по голове. Я встрепенулся. Подле меня стоял Сибиряков. Он заметил мои вздрагивающие плечи и подошел ко мне.
– Коля, не плачьте! – Его бас прозвучал неожиданно-мягко. – Все у вас будет хорошо. И маму свою вы увидите непременно! Вот помяните мое слово!
И тут я будто переродился. Я поверил Сибирякову беспрекословно. Я улыбнулся сквозь слезы и крепко сжал его ручонку. Потом мне в Бутырках не раз бывало и страшно, и горько, и тяжко, я терпел лишения, но с той минуты я больше ни разу не впал в уныние.
На нарах многим не было места. На ночь из-под нар выдвигались деревянные щиты, и новички укладывались на них вповалку. Я лег в пальто, под голову подложил кепку и, истомленный, но и успокоенный, заснул.
Спанье на щитах было неудобно еще и тем, что около шести утра всех нас будил предупреждающий стук ключа в дверь. Поверка!.. В камеру входил корпусной начальник, коридорный останавливался в дверях, а корпусной пересчитывал выстроившихся справа и слева в две шеренги заключенных: одни стояли на нарах, другие на полу. После поверки те, у кого было место на нарах, могли еще поспать до чаю, а новички были обречены на слонянье, хотя у них с недосыпу слипались веки.
Одно из неписаных правил тюремного общежития состояло в следующем: по мере того, как кто-нибудь вызывался для выслушиванья приговора и отправлялся на этап или же выходил на волю и место его на нарах освобождалось, лежавшие на нарах передвигались на одно место ближе к окну, где воздух был свежее, а тот, кто дольше других провалялся на щите, переезжал на новоселье – на крайнее, ближайшее к двери место на нарах. Если освобождалось место справа от выхода, то «щитнику» везло, если же слева, то он был обречен круглые сутки дышать вонью стоявшей рядом «параши» – до очередной подвижки.
И потекли бутырские дни моей жизни…
Утром – поверка. Потом – всей камерой – в правый конец коридора – оправляться и умываться; двое дежурных заключенных выносили за ночь наполнившуюся доверху «парашу». Потом ты получал «пайку» хлеба, которую нужно было растянуть на целый день, потом – жидкий сладковатый чай. А потом – до самого обеда – делай что хочешь, почти как в Телемской обители у Рабле. На обед – баланда и каша» чаще всего – пшенная. Только 7 ноября нам дали рыбы и белого хлеба. На ужин опять каша и чай. После ужина – вторая поверка. Одно из утренних развлечений – дезинфектор, приходивший опрыскивать каким-то составом «парашу». Мы его с комической почтительностью называли «доктор». Кого-то – чаще всего ранним вечером – вызывали на допрос. Кого-то коридорный, держа в руках синий билетик, днем, часа в 4 – в 5, вызывал: «Такой-то!» «Такой-то» отвечал: «Здесь», – «Имя-отчество?» – «Так-то и так-то». – «С вещами соберитесь». И цвет билета, и время дня были дурными знаками: значит, вызывают для объявления приговора, вынесенного заочно, Особым совещанием при Коллегии ОГПУ. Ведь тогда нас женило без нас так называемое Особое совещание. Наиболее важные, с точки зрения ОГПУ, дела выносились на Коллегию. И только над лицами, которых Сталин находил для себя нужным судить публично, инсценировался суд с обвинительным заключением, публично даваемыми показаниями подсудимых, показаниями свидетелей, прениями сторон – словом, со всей процедурой всамделишного суда. В республиканских и краевых центрах тоже судили заочно так называемые «тройки». Выслушав приговор» подследственный превращался в осужденного» и его вели в помещение, в котором «набирался» этап» направлявшийся в те края, где, согласно приговору, осужденному надлежало отбывать срок наказания «Иногда вызывали поздним вечером по белому билетику. В камере возникало радостно-завистливое оживление: значит, на волю!.. Дрожащими, непослушными от счастья и от страха руками собирал свои манатки вызванный, а в это время товарищи наперерыв пытались вколотить ему в память адреса своих родных, чтобы он навестил их, и уговаривались, чтобы родные в знак того, что он у них был, положили им в следующую передачу» скажем, две луковицы или одну головку чесноку. Новичков чаще всего приводили утром. Каждый день перед обедом – прогулка по тюремному двору. Часовые во время прогулок не требовали от нас воинского повиновения. Мы ходили «вольно», не равняясь «в затылок». Из окон других камер заключенные, найдя среди нас своих «однодельцев» или знакомых, что-то кричали, показывали на пальцах, какой у них пункт обвинения. Двадцать лет спустя я узнал, что мне безуспешно делал знаки Виктор Яльмарович, – я его так и не заметил. Раз в неделю – баня. В бане наши носильные вещи подвергались выпариванию и дезинфекции. Когда мы возвращались в камеру, здесь тоже едко воняло карболкой. Я до сих пор не переношу этот запах – он стал для меня запахом неволи.
Те, кто посидел предварительно во внутренних изоляторах на Лубянке 2 или на Лубянке 14, утверждали, что в Бутырках хоть и грязнее, и скученнее, и голоднее, но зато здесь сравнительно «по-домашнему». Там каждому заключенному полагалась отдельная койка с чистым бельем, там прилично кормили, выдавали папиросы, но зато там царила пугающая тишина, разговаривать позволялось только шепотом, караульные отдавали заключенным распоряжения вполголоса, на допросы вызывали обычно ночью, когда человек, истомленный бессонницей, только-только уснет; если заключенный высовывался в фрамугу, часовой имел право стрелять без предупреждения. «Я вам не скажу за всю Одессу», как поется в песне, – я вам не скажу за всю Бутырскую тюрьму того времени, но при мне из 64 камеры никого не таскали на допрос ночью, никого не пытали. Ругались следователи на допросах художественно, угрожали, издевались. Бить – бивали, но только – «по мордам», да и то – не слишком часто, главным образом, в тех случаях, когда подследственный, набравшись храбрости, отказывался от своих предварительных показаний, от всего, что он наговорил на себя и на других по неопытности, со страху. В этих случаях его подвергал обработке с помощью угроз, мата и мордобоя целый коллектив следователей, но если смельчак выдерживал испытание, то ему обычно все-таки заменяли прежний пункт обвинения другим» более легким. Словом сказать» частота и тяжесть допросов для большинства тех» кого усылали с Лубянок в Бутырки» оставались позади, В Бутырках угнетали не частые допросы, а напротив – почти полное отсутствие допросов, томительное ожидание приговора. Заключенные очень скоро усваивали три основные заповеди, по которым надо было жить в советской тюрьме: «Не верь следователю, не бойся его и ни о чем у него не проси». И еще: если следователь кричит и грозит, это лучше, чем если он начинает с медоточивого, изысканно любезного тона, успокаивает, угощает папиросами – три рубля пачка – и предлагает коньячку. Чем мягче стелет следователь, тем жестче потом будет спать подследственному. Так обстояло в ОГПУ в мои времена.
По рассказам старожилов, раньше «политических» смешивали со «шпаной», и для «политических» это была казнь египетская. «Шпана» их била, обирала дочиста. При мне были отдельные «шпанские» камеры. К «шпане» могли перевести «политического» только за какую-нибудь весьма серьезную» с точки зрения тюремного начальства, провинность. Это было почти все равно что «поставить на комара».
В камерах при мне было самоуправление: на общем собрании заключенных выбирались староста (его могли переизбрать» если камера находила, что он не оправдывает ее доверия) и его помощник. Староста по своему выбору назначал библиотекаря. В обязанности библиотекаря входило раз в месяц посещать тюремную библиотеку и менять книги. Начальство смотрело сквозь пальцы на некоторые виды тюремной самодеятельности. Когда обязанности библиотекаря перешли ко мне, я постарался круг моих обязанностей расширить – из библиотекаря я стал «культурником»: по вечерам читал лекции по русской литературе, читал наизусть стихи, предлагал выступить с чтением стихов или юмористических рассказов другим. Почти каждый вечер у нас устраивались лекции и литературные концерты. Вот превращать камеру в «картное игралище» не дозволялось, И все же заключенные как-то ухитрялись проносить карты. Если коридорный углядывал в «глазок» увлекшихся и утративших бдительность игроков, то карты отбирались, игрокам грозили карцером, но при мне их угроза ни разу не была приведена в исполнение. Еще отбирали ножи и бритвы. Заключенные тайком мастерили их из ручек от шаек, которые они проносили из бани.
До меня библиотекарем был у нас приемный сын артиста МХАТ’а II Новского Владимир Михайлович Поллак. Он был лет на семь старше меня. Мы сошлись с ним на любви к литературе. Он был уверен, что по характеру его дела ему не миновать лагеря, хотя и не на долгий срок, и что скоро его вызовут на этап. Так оно и оказалось: ему дали всего два года самого близкого к Москве лагеря: «Волга – Москва». Он заранее уговорился со старостой, что когда его вызовут на этап, то обязанности библиотекаря перейдут ко мне. Перед годовщиной Октябрьской революции был «большой этап», и при этом почему-то, сверх обыкновения, ночной. Меня разбудили под утро. Оказалось, что Владимира Михайловича вызвали «с вещами». Мы с ним простились, и я прямо со щита, минуя не ласкавшее обоняния соседство с «парашей» перебрался на комфортабельное место на нарах, слева от входа, близко от окна. Я попал в окружение инженера-строителя Александра Николаевича Коншина, инженера-нефтяника Куприянова, бывшего директора одной из московских поликлиник доктора Романа Леонидовича Беляева и пекаря Вани Кондратьева.
Итак, с жильем я устроился как нельзя лучше.
Передо мной лежит лист пожелтевшей бумаги. Это – список книг, который я составлял на основании пожеланий заключенных перед уходом в библиотеку. Список у меня не нашли при обыске, когда я покидал Бутырки, и я сохранил его на память. Кого-кого только в нем нет! Щедрин и Мережковский, Чернышевский и Арцыбашев, Достоевский и Уэллс, Мельников-Печерский и Эренбург… Ходил я в помещавшуюся в другом корпусе библиотеку под конвоем, еще с одним заключенным – одному мне было не донести. Книги нам меняли заключенные с интеллигентными испитыми лицами, в ватниках с нарукавниками: они отбывали свой срок в Бутырской тюрьме. При обмене книг присутствовал гепеушник в форме, просматривал принесенные книги и драл с нас немилосердные штрафы за малейшие изъяны. Протестовать было бесполезно: поди доказывай, что оторвали корешок или помяли утолок страницы читавшие эту книгу до нас! Штраф потом раскладывался на всех, кто в нашей камере пользовался библиотекой и имел деньги.
Гораздо хуже обстояло у меня с едой. Раз в неделю нам разрешалось покупать себе папиросы и съестное (баранки, калачи, соленые огурцы, конфеты) в тюремной «лавочке», куда отправлялся староста с помощником, но деньги у меня отобрали на Лубянке, и покупать мне в лавочке было не на что. Наконец мне вручили квитанцию, где была точно обозначена сумма отобранных у меня денег. Сумма была, однако же, столь ничтожна, что на нее не очень-то можно было раскутиться. К довершению всего, я одну «лавочку» пропустил – так долго шла моя квитанция с Лубянки в Бутырскую тюрьму, и я целую неделю ждал второго похода за снедью. Нам дозволялось сообщать о том, где мы пребываем, родственникам или близким знакомым. Я написал Маргарите Николаевне, что обретаюсь в «Бутырском политизоляторе», как его приказано было тогда величать (при царе, мол, были тюрьмы, а у нас изоляторы), но потом и этот фиговый листочек был сброшен вместе со всеми прочими» вроде «меры социальной защиты» вместо «меры наказания»; всяких там комполка, комбригов, комдивов и комкоров вновь переименовали в полковников и генералов, а народных комиссаров – в министров. Однако мое краткое уведомление пришло на Тверской бульвар через месяц. Еще я очень нуждался в кружке и ложке. Кружка и ложка для заключенного – это все равно что тетрадь и перо для школьника. Мне приходилось клянчить эти необходимые в тюремном обиходе предметы то у того, то у другого. Продуктовую передачу каждый из нас имел право получать раз в декаду. Кроме того, нам можно было доставлять носильные вещи и передавать известную сумму денег раз в месяц. На эту сумму нам выдавались квитанции – иметь наличные деньги заключенным не полагалось. На стене у нас было вывешено расписание передач: по таким-то дням декады получали
АБВ
(то есть заключенные, фамилии которых начинались с этих букв), затем —
ГДЕЖЗИ
КЛМНОП
и так далее.
И вот уже раза два получали передачи КЛМНОПы, а мне все нет как нет…
Когда меня арестовали, Маргарита Николаевна была в Ленинграде. Но почему ничего нет от мамы? Зная ее нрав, я мог быть уверен, что, узнав, что со мной случилось, она бросит сестру, бросит работу и прилетит в Москву. Почему же мне нет передач? Значит, она больна?
Или
Весть помчалась через реки, Через города —И сердце сказало:
«Больше не могу»?Ну, а кроме того, хотелось есть, хотелось весь день. Меня подкармливал мой ровесник, слесарь Женя, но ему самому носила скудные передачи бабущка.
Наконец в один из дней КЛМНОПов, когда я уже отчаялся получить передачу, дежурный по коридору назвал мою фамилию, я в ответ назвал свое «имя-отчество», и мне передали большущий мешище со съестным, кружку, ложку и список принесенного, написанный мами «ной рукой. Я должен был на нем расписаться. Я написал, как писал потом всегда: «Получил сполна, здоров, благодарю, целую Николай Любимов». Иной бутырский «цензор» пропускал все, от первого до последнего слова, другой зачеркивал лирику, но так, что мама разбирала ее, третий густо-густо зачеркивал все, кроме «Получил сполна» и подписи.
Причина задержки с передачей выяснилась потом.
Приехав в Москву, мама сперва обегала больницы и морги – она была убеждена, что я жертва несчастного случая. Нигде не найдя моих следов, она поехала на Лубянку. Справки там давали тогда в ныне не существующем здании, находившемся на углу Лубянской площади и Мясницкой. Мама подошла к окошку и справилась, здесь ли такой-то. Интеллигентный по виду человек (я потом имел удовольствие видеть его и беседовать с ним) посмотрел на нее сквозь пенсне без оправы пустыми глазами, в которых лишь по временам вспыхивали недобрые искры, потом заглянул в какой-то список и с вкрадчивым злорадством объявил:
– У нас находится.
– То есть где у вас?
– Здесь, во внутреннем политизоляторе.
У мамы, воображавшей, что меня уже нет в живых, что я погиб под колесом трамвая иди автобуса, невольно вырвалось:
– Ах, здесь, у вас?.. Ну, слава Богу…
У человека в пенсне отвисла нижняя губа от изумления. На подобный эффект он явно не рассчитывал, да и вряд ли когда-нибудь вызывал его своим сообщением.
– А что можно ему передать?
– Справьтесь в таком-то окне.
В списке лиц, имевших разрешение на передачу, меня не оказалось.
Мама опять к человеку в пенсне:
– Там говорят, что моего сына в списке нет.
– Значит, передача ему не разрешена.
– Но ведь он ушел в летнем пальто, а сейчас завернули холода, и денег у него с собой почти не было. Надо же ему передать на питание, на папиросы – он курит…
– Не беспокойтесь, гражданка, – со своей обычной неторопливой вескостью заговорил человек в пенсне. – У нас тепло, кормят сытно и дают папиросы.
А я в это время был уже в Бутырках, за внутренним же изолятором не числился ни одного дня, ибо не переступал его порога.
Долго так гоняли маму от окна к окну. В другом окне человек оказался менее твердокаменным. Однажды он посмотрел на маму с подобием сочувствия в глазах и сказал:
– Да вы узнайте повернее в том окне. Может, вашего сына куда-нибудь перевели.
Мама – к человеку в пенсне:
– Там мне опять ответили, что мой сын не числится на получение передачи. Может быть, его перевели?..
Человек в пенсне, глядя на нее в упор, отчеканил:
– Гражданка! Я же вам несколько раз давал точную справку, что ваш сын – здесь, во внутреннем политизоляторе. Но дело в том, что некоторым заключенным передача разрешается сразу, другим – вскоре после ареста, третьим – не скоро, а некоторым… – он выдержал паузу: – и совсем не разрешается…
Но тут одна из страждущих, слышавшая этот диалог, отвела маму в сторону и сказала:
– Они здесь нарочно врут. Поезжайте в Бутырскую тюрьму, узнайте, на какие буквы в какие дни бывают передачи, а потом и поезжайте в свой день прямо с передачей. Примут – значит, ваш сын там. Я так и сделала.
Так поступила и мама. И когда ей вернули ее список с моей припиской, в которой не было зачеркнуто ни одного слова, она впервые со дня получения известия о моем исчезновении, не стесняясь ничьим присутствием, залилась слезами и долго целовала захватанную руками приемщика, цензора, разносчика и коридорного бумажку.
…Как постепенно сквозь утренний туман проступают очертания непохожих один на другой предметов, так из одноликой массы, какою мне вначале представилось народонаселение 64 камеры, для меня мало-помалу начали вырисовываться лица и фигуры во всем своеобразий выражений, положений, движений, ухваток, ужимок, повадок, улыбок, усмешек, ухмылок, шепота, говора, хохота, гогота, смеха, смешка.
В моем ряду крайнее к окну место занимал похожий лицом на киргиза староста камеры Александр Николаевич Коншин, инженер из Воронежа, до ареста работавший на каком-то крупном строительстве. Его долго мытарили в Воронеже, возили из Воронежа в Усмань, где обыкновенно приводились в исполнение смертные приговоры, вынесенные в воронежском ОГПУ, некоторое время держали его там в страхе смертном, потом снова увозили в Воронеж, наконец, не добившись толку, препроводили в Москву. В общей сложности он сидел около года, но так и не сдался и ничего на себя не подписал. Его жена за это время спустила все, что могла, из вещей и посылала ему тощие посылки. Те из нас, кто получал приличные передачи, старались хоть чем-нибудь его поддержать.
Рядом с Коншиным занимал место угрюмый» несловоохотливый инженер-нефтяник Куприянов. Его сломили, и он сознался во «вредительстве», Сидел он уже месяцев семь и со дня на день ожидал приговора. Больше всего он боялся Ухто-Печорского лагеря. Потом мы случайно узнали, что он получил 10 лет именно этого лагеря.
Рядом с Куприяновым лежал доктор Роман Леонидович Беляев, росту чуть ниже среднего, брюнет с черными усиками, придававшими ему сходство с добродушным тараканом. Ему почему-то клеили «шпионаж», ничего хорошего он для себя не ждал, тосковал по жене и дочке, но не терял не только присутствия, но и веселости духа, Я лежал рядом с доктором. Мы с ним были особенно дружны – дружны теплой дружбой отца и взрослого сына. Он укрывал меня по ночам, делился со мной всем, что ему передавали, выталкивал меня на прогулку.
– Николенька! На воздух! – с грубоватою ласковостью покрикивал он. – Тебе не надоело тюремным бздехом дышать? Ваня, тащи его!
Моим соседом справа был здоровый – об дорогу не расшибешь, статный, пригожий, – по таким девки сохнут, – пекарь Ваня Кондратьев. Он сравнительно недавно переехал в Москву и не успел утратить простоватость деревенского малого. От него еще пахло свербигой и коноплей. Видя мою неловкость и беззлобно над нею подтрунивая, он помогал мне во всем, где требовалось применить силу и выказать сметку.
Рядом с Кондратьевым было место немецкого коммуниста Карла Штейнара, в обиходе – «Карлуши». Штейнар бежал из Германии от безработицы и, приехав с женой на «родину всех трудящихся» в конце «первой пятилетки», поступил техником на один из московских заводов. Розовые внутри ноздри и белые усы делали его удивительно похожим на кота. Хотелось почесать его за ухом и под подбородком. В общем он был благодушен, но вспыльчив и азартен в спорах. О том, за что он сидит, Карлуша рассказывал на ломаном русском языке так:
– Меня зовут Гепеу. Зледователь говорит: «Скажи: твой начальник – шпиен, фащист». Вот – доктор, – тут Карлуша указывал на Романа Леонидовича. – Доктор – кароший человэк. Нье могу скасатъ: «Плехой»… И про мой начальник нье мог скасать. Тогда зледователь: «А, нье можешь! Ну, так ты сам – шпиён, фащист. Садис тьюрма». Ньет, нам Германия такой соцьялизм нье надо!.. – этой сентенцией Карлуша обыкновенно заканчивал свою краткую повесть.
Карлуша знал несколько строк из одной русской песни и время от времени с чувством мурлыкал:
Збзйтэ оковы, дайтэ мнье воля — Я научу вас звобода лъюбит…Рядом с Карлушей лежал шофер» до ареста ездивший на грузовике» Это была наша в некотором роде знаменитость. По ночам он так громозвучно испускал ветры» что сам себя этим будил» вскакивал и, спросонку не разобрав» что стряслось» оторопело мотал головой и протирал глаза.
Рядом с шофером расположился Тарасов, пузатый, с очень глупым лицом старик в сером свитере, специалист по пластмассе. Он только и говорил, что о пластмассе, о пластинках (за это мы прозвали его: «Пластмасса») да о своей молоденькой жене Аллочке, в благонравии которой он, по нашим наблюдениям, был не совсем твердо уверен. Этот, в отличие от своего соседа слева, по ночам выводил рулады носом. Порой наше терпение истощалось, и, растолкав его, мы говорили: «Перемените пластинку!»
Рядом с храпуном было место Якова Борисовича Розенфельда, попросту – Яши, «красавца-мужчины» с томными, игривыми» плутовскими черными глазами, единственного в нашей камере франта, ходившего в дорогом, цвета хаки, костюме военного покроя и в крагах. Этот костюм поначалу ввел меня в заблуждение, и я принял Яшу за начальство.
Яша Розенфельд был, что называется, малый «компанейский», отличный товарищ. Что было в нем неприятного, так это страсть рассказывать о своих неисчислимых любовных победах – рассказывать с хвастовством и несомненным прилыгиваньем, и его манера говорить о женщинах с каким-то слащавым, сюсюкающим похабством. Когда он повествовал о своих любовных похождениях с непременно «шикарными» женщинами, в больших его глазах появлялось нечто похожее на «сало», что перед рекоставом плывет по воде.
Яша обладал талантом эстрадного певца и этим своим талантом доставлял нам много скорбно-отрадных минут.
Яша не пел «под» Вертинского – он прекрасно пел его романсы и по-своему играл их лирического героя. Побывав много лет спустя на концертах Вертинского, я пришел к заключению, что Вертинский был неизмеримо более тонкий артист, но голос у Яши был не только свежее, но и сильнее, и звучнее, чем у Вертинского.
Когда Яша пел» его пошловатость шахермахера, распространявшего за известный процент портреты вождей и плакаты, и удачливого кавалера исчезала. Он преображался на глазах.
Ваш любовник – скрипач, он седой и горбатый, —поет Яша, и мы видим этого урода и проникаемся жалостью к ней, зачем-то связавшей свою жизнь с безобразным стариком.
Он вас дико ревнует» и любит» и бьет —это Яша нараспев» с надрывом проговаривает. И вдруг его голос преисполняется певучим» почти неземным восторгом, в котором слышится кипенье блаженных слез:
Но когда он играет концерт Сарасате…Легкая пауза – и опять оттеняющая голосовые переливы скороговорка:
Ваше сердце – как птица…Скороговорка внезапно обрывается:
…летит – и по-ет!..Сравнение перестает быть сравнением: в поднебесье взмывает птица, и мы слышим ее самозабвенное славословье.
Особенно нас, заключенных, брала за сердце в Яшином исполнении эмигрантская песня Вертинского:
Молись, кунак, в стране чужой, Молись, кунак, за край родной, Молись за всех, кто сердцу мил, Чтоб их Господь благословил. Пускай теперь мы лишены Родной семьи, родной страны, Но верим мы: настанет час, И солнца луч блеснет для нас.Репертуар Яши был разнообразен. Не менее выразительно исполнял он и цыганские песни с их заунывно-исступленным, носовым, гортанным, картавым клекотом:
Йе-ехали цыга-ане Да с ярымарыки, Цыга-не с ярымарыки, Да ой-ой-ой, Ёнэ ста-ановилися Ой да пады ябыланикай.Все мы, принимавшие участие в хоре, тихо подхватывали медлительный припев, мелодия которого залетела к нам Бог весть когда с кофейнолицего, изборожденного морщинами, точно скала – вековыми складками, и точно скала – неподвижного, погруженного в дремотное созерцанье Востока:
Ой-да-рай-да, Ой-да-рай-да, Ой-та-ри-там…Потом опять вступал Яша:
А за нэми прабигаль, прабигаль Парнишка д’молодой, д’молодой, В красной ён рубаюшоночкэ, Да нэ знаем, кто ж ён такой…Но, пожалуй, особенно хорош был Яша в репертуаре Утесова – наверное, потому, что он был одессит, а еще потому, что у него самого были какие-то черты утесовского героя.
Яша пел про Гоп-со-Смыком, а мы посильно изображали джаз. Особенно старался доктор Беляев: он то надувал щеки, подражая какому-нибудь басовитому инструменту, то складывал губки бантиком, чтобы изобразить пискливую флейту.
Ай, жил-был на Подоле Гоп-со-Смыком —Горделиво начинал Яша.
Та-рам! —отвечал ему самодельный джаз.
Славился своим басистым криком… Та-рам! Глотка была прездорова, И мычал он, как корова, А врагов имел мильон со смыком.Последнюю фразу Яша пел, многозначительно подняв указательный палец.
Гоп-со-Смыком – это буду я!Тут Яша застывал в величественной позе.
Вы, друзья, послушайте меня: Ремесло избрал я кражу, Из тюрьмы я не вылажу, Исправдом скучает без меня —это и с легкой иронией, и с сознанием собственного достоинства. Внезапно Гоп-со-Смыком мрачнел, и следующие две фразы звучали у него уже зловеще:
А если дело выйдет очень скверно, И меня убьют тогда наверно… Та-рам! —теперь у нас это звучит как барабанный бой перед казнью.
Пауза, а затем голос Гоп-со-Смыком преисполнялся уверенности, что кто-кто, а уж он преуспеет в любых обстоятельствах и в любом положении.
В рай все воры попадают, Пусть все честные это знают, — Нас там через черный ход пускают! —таинственно подмигивая, сообщал он.
Ну, а в раю Гоп-со-Смыком быстро оглядится и займется прежним своим высоким искусством – первым делом залезет в гардероб к Богу, обиталище которого он рисует себе в полном соответствии со своими идеалами и отдает ему дань завистливого восхищения:
Слитки золота, караты, На стене висят халаты, — Дай Бог нам иметь, что Бог имеет!Но Бога Гоп-со-Смыком собирается «обидеть не намного», а уж зато Иуду не пощадит:
Иуда Искарьётский там живет, Скрягой он всесветным там слывет. Ой, подлец тогда я буду: Покалечу я Иуду — Знаю, где червонцы он кладет.Затем Яша превращался в вора из леоновского романа с одноименным названием, но только опять-таки одессита: бывшего красного партизана, красного командира, отвыкшего за время гражданской войны от мирного труда, при НЭП’е не нашедшего себе места в жизни, возненавидевшего и НЭП, и нэпманов, знаменовавших для него возврат к старому, постепенно сделавшегося завсегдатаем исправдомов и тюрем.
Голос Яши выражал горечь и бессильную ярость обманутого и дотла прожегшего свою жизнь человека:
С одесского кичмана Сбежали два уркана, Сбежали два уркана Тай на во… во-во-во-во-во-во-лю… В вапнярской малине Они оста-новились, Они остановились Адыхнуть… Товарищ, товарищ! Болять мои раны, Болять мои раны В глыбоке, Одна-а заживаеть, Другая нарываеть, А третия раскрылась на боке. Товарищ, товарищ! Передайте моей маме, Что сын ее цогибнул на посте — И с сашкою в рукою, С винтовкою в другою, И с песнею веселой на усте. Товарищ, товарищ! За что же мы боролись? За что же проливали свою кров? Они же там танцу-ують, —поводя плечами, как это делают фокстротирующие, навзрыд негодовал Яша, —
Они же там пиру-ують, А ты здесь подавай им сыновьев!И наконец:
Шел я на малину, Повстречались урки, И один другому говорит: «Мы ж ее споймали В кожаной тужурке — Там за переулочком лежит». «Здравствуй, моя Маша, Здравствуй, дорогая, Здравствуй, моя Маша, и прощай! Ты зашухерила Все наши малины — Так теперь маслину получай! Разве было плохо У нас на всех малинах? Разве не хватало барахла? Зачем же ты связалась Со всеми лягашами И пошла работать в Губчека?»Последнюю фразу мы повторяли хором – повторяли с особым смаком и в такт неистово стучали ладонями о стол. Тут иногда в дверь просовывалась голова нашего любимого коридорного, широколицего голубоглазого рыжеусого мужичка, – таким я представлял себе тип прежнего «служивого».
– Хорошо вы поете, ребята, только нельзя ли потише? – говорил он, – А то и вам ну-ка достанется и мне как бы не влетело.
И это он не просто вызывал кого-либо в вечерний час: «С вещами соберитесь», а с неподдельной, нескрываемой радостью шептал на всю камеру:
– На волю! На волю! Скорей! Скорей!И тьма тюрьмы была не без добрых людей…
Хором пели мы украинские песни, и тогда к нам присоединялись не переводившиеся у нас в камере украинские «хлиборобы»:
Ой, на гори да жэнцы жнуть, Ой, на гори да жэнци жнуть. А под-пид горою, По-пид зэлэною Козакы йдуть.Струистые извивы знойного марева над изумрудною степью. Цокают в лад копыта сытых коней. Бренчат стремена. Звенят удила. Чуть покачивается в седлах чубатая черноусая вольница – быть может, далекие предки тех горемык, что изнывают сейчас вместе с нами в неволе:
Попэ — Попэрэду Дорошенко, Попэ — Попэрэду Дорошенко Вэдэ свое вийско, Вэдэ запоризькэ Хорошенько!Вместо «Дорошенко» мы пели иной раз «Петраченко» – такой с нами сидел проживавший в Москве хитрый хохол-делец, и тогда Петраченко важно и самодовольно приосанивался.
Когда же мы пели:
Щоб наша доля нас нэ цуралась, Щоб краше в свити жилося, —«хлиборобы» всегда как-то грустно оживлялись, и что-то похожее на робкую-робкую надежду засвечивалось в их сумных очах.
За Яшей Розенфельдом лежал нескладный, большеглазый, носатый Женя, тихий, смирный молчун. Он был круглый сирота, жил вдвоем с бабушкой, воспитавшей его. И он только однажды сказал мне своим протяжным, глуховатым баском:
– Бабушку жалко! Когда меня угонят, кто ее прокормит?
«Дело» его заключалось вот в чем: кому-то он имел неосторожность сказать, что у них в заводской столовой жрать нечего и в магазинах ни фига нет. Этот «кто-то», придав жениным фразам более широкий смысл, донес на Женю. К Жене явились с ордером на обыск и на арест и нашли старый заржавленный отцовский револьвер, про который Женя давно забыл. Женю арестовали и предъявили ему обвинение: 58-я статья, пункт 8-й. 58-я статья – контрреволюция, пункт 8 – террор.
– Следователь сказал, что года три концлагеря припаяют, – заключил Женя.
Слушая немногословный рассказ Жени, я думал: «Ну что бы Сталину заглянуть в нашу камеру и посмотреть, кого обвиняют в намерении покуситься на его драгоценную жизнь?.. Посмотрел бы он на Женю, на меня… Пусть бы полюбовался, как выглядят теперешние, да еще мнимые террористы. Ведь он должен был бы сгореть со стыда! Пусть бы даже он поверил, что мы с Женей и впрямь злоумышленники, но если сравнить нас с поднимавшими руку на царей и великих князей Кибальчичем, Желябовым, Каляевым, так ведь это же срам!.. А впрочем, по Сеньке и шапки!..»
За Женей обитал Сибиряков. Ему никто не приносил передач. Он жил только тюремным рационом, теми крохами, которые он получал из так называемого «комбеда» (по нашему неписаному правилу все получавшие передачи выделяли частицу для не получавших ни денег, ни передач), да случайными угощениями. Лицо у него было как у покойника, пролежавшего три дня в гробу. Вскоре он заболел, его перевели в больницу, и след его затерялся.
Прямо напротив меня лежал Алеша Гедройц. Была у него еще одна фамилия. Русское простонародье дифтонгов и скоплений согласных не терпит. Алешу выкликали: «Гедройц!» Он называл свое имя и отчество, тогда его спрашивали: «А другое фамилие?» Вот это его другое «фамилие» я позабыл.
У него было милое лицо с девичьи ласковым и застенчивым выражением. И лишь по временам карие его глаза вдруг становились как два острых, раскаленных уголька, и тогда на него было жутковато смотреть.
Он был со всеми ровен, приветлив, однако ни с кем не сходился. Чаще всего читал или погружался в невеселое раздумье. Меня к нему безотчетно влекло. Мало-помалу и он почувствовал ко мне доверие. Я подсаживался к нему, и мы говорили с ним о Боге, об искусстве. Он оказался стихийно верующим человеком, пришедшим к вере самостоятельно, и уже в тюрьме.
Как-то он сказал, что я – единственно близкий человек ему в камере, и он хочет рассказать мне свою жизнь – хочет особенно потому, что не знает, что его ждет, – может быть, и рассказать больше уж никому не придется, а поисповедаться тянет.
Рассказывал он о себе долго. Подробности выветрились из моей памяти. Краски облупились, остались контуры.
Он жил с родителями в Сибири. Отец его умер в гражданскую войну от сыпняка. Матери нечем было кормить мальчика, и она отдала его в детский дом. В детдоме то, что полагалось детям, раскрадывалось служащими, а дети питались впроголодь. Старшие подговорили Алешу принять участие в ограблении попа. Грабители они были неопытные, все вышло не так, как они задумали, священник проснулся, и они его убили. Суд присудил Алешу условно: принимая во внимание несовершеннолетие, пролетарское происхождение и первую судимость… В те годы это была стереотипная формула приговора. Да и убили-то они «нетрудовой элемент». Словом, Алеша оказался на свободе. Закончил среднее образование, поступил в техникум. Опять голодуха, студенческая. И опять он связался с нехорошей компанией. Ограбили сберегательную кассу в одной из среднеазиатских столиц (если память меня не подводит – в Ташкенте). И тут не обошлось без «мокрого дела»: убили постового милиционера, и опять случайно – заранее обдуманного намерения у них не было. На сей раз, несмотря на то, что ограбление было совершено с невероятной дерзостью, грабителей не нашли. Алеша сказал, что ему не для чего передо мной таиться, не для чего себя хотя бы в малой мере обелять, что он говорит мне чистую правду; после ограбления сберкассы он дал себе слово никогда больше на этот путь не вступать. Он окончил техникум, поступил на работу, женился на своей однокурснице (я запомнил ее имя – Галя), ничего не посмев ей сказать о своем прошлом, и за это сейчас он себя казнит, как и за то, что, не имея морального права, связал ее жизнь со своей. ¥ него есть маленькая дочка, которую он любит даже больше Гали. Спустя несколько лет после ограбления сберкассы, когда он стоял на трамвайной остановке в Москве, его задержали. Оказалось, бывшие его товарищи, засыпавшиеся по другому делу, заодно признались на допросе и в ограблении ташкентской сберкассы и в числе участников назвали и Алешу, жившего под другой фамилией, Алеша на первом же допросе во всем сознался.
Когда я слушал Алешу, мне вспомнились слова Троцкого из его статьи о Есенине: «Сорвалось в обрыв незащищенное человеческое дитя».
Сколько таких детей, как Алеша Гедройц, столкнула с обрыва революция!..
Особенно было тяжко Алеше, что судьба нанесла ему удар как раз тогда, когда семейное его счастье было в самом цвету; когда вошедшая в его жизнь большая любовь, казалось, смыла с него присохшую кровь и грязь. Однако уже здесь, в Бутырках, он постепенно пришел к сознанию, что кровь должна быть рано или поздно искуплена и что очищение его началось только в тюрьме, после того как Бог наказал его за душегубство.
Как-то в необычное время, когда уже поздно было вызывать на этап и рано – на волю, дверь приотворилась, и коридорный крикнул:
– Гедройц! С вещами соберитесь!
Алеша помертвел, и на мертвенно-бледном его лице двумя раскаленными и острыми углями загорелись глаза. С лихорадочной поспешностью собрал он свое добришко. Я подбежал к нему. Мы стиснули друг друга в объятиях. Он оторвался от меня и, втянув голову в плечи, двинулся к двери. Мелькнул его вещевой мешок, вот он обернулся и помахал мне рукой, дверь захлопнулась. Что его ожидало, что судил ему Бог – это осталось для меня тайной. Но долго еще заключенные сокрушенно качали головами и все повторяли:
– В нехорошее время его взяли! В нехорошее время!..
Рядом с Гедройцем расположилась целая компания жрецов однополой любви. Среди них наиболее характерен был Галкин, призывно вилявший бедрами, после умывания с женски кокетливой грациозностью откидывавший голову и встряхивавший прямыми русыми волосами.
Педерасты тоже оказались жертвами беззакония. До поры до времени им жилось на советской Руси вольготно-весело, никто их не трогал, у них даже происходили сборища в частных домах» заменявших им клубы. Так, педерастические журфиксы были у одного из артистов Театра имени Немировича-Данченко. Ну что бы сказать им на манер нашего коридорного: «Ребята! Нельзя ли потише?» Натурально, они разбежались бы, как разбегаются от яркого света по щелям тараканы. Но нет: никаких предостережений они не получали.
В «Известиях» от 10 сентября 33-го года был напечатан «подвал» под названием «Мариус Ван-дер-Люббе». Автор этого подвала скрылся под псевдонимом «Юр» (Радек?).
В статье автор, ссылаясь на «Коричневую книгу», утверждает, что Ван-дер-Люббе, обвинявшийся в поджоге рейхстага, гомосексуалист и что «эти его патологические наклонности» «интимно связали его с некоторыми деятелями национал-социалистического движения». Статья кончается историческим экскурсом:
Во второй половине прошлого столетия немецкая аристократия была уже весьма основательно разложена и деморализована. Все виды порока, в том числе и гомосексуализм, широко практиковались среди них (очевидно, подразумевается: среди аристократов – H. Л.). Более того, гомосексуализм был ими даже возведен в своеобразную теорию.
Автор не может обойтись без цитаты, как того требует обычай советской публицистики и критики, из «классика марксизма» – из полушутливого письма Энгельса Марксу от 22 июня 1869 года: «Педерасты начинают сплачиваться и полагают, что они составляют силу в государстве… победа их неминуема…»
Гитлеровская пресса ответила на это в таком духе, что, мол, ква-ква, сама какова, – у вас-то что под самым носом деется?.. И пошла охота в до той поры заповедных педерастических пущах. Артистов драмы, оперы, оперетты, балета, писателей, конферансье, бухгалтеров – всех выловили едва ли не за одну ночь, поелику же статьи, карающей за гомосексуализм, в советском уголовном кодексе не существовало, то им наспех пришивали кому что. У одного нашли рукописное «Послание евангелисту Демьяну Бедному», без всяких оснований, но упорно приписывавшееся Есенину, – на, брат, получай два года канала «Волга-Москва» за хранение нелегальной литературы! А ты, голубчик, бывал на банкетах в иностранных посольствах? Ну, получай восемь лет за «шпионаж». Примерно через год, post factum, статья, наказующая мужеложество, была составлена и объявлена во всеобщее сведение, а до тех пор в концлагерях жрецам однополой любви заключенные придумали общее юридическое наименование: «58-ж». Испокон советского веку на нашей неделе насчитывается даже не семь, а двадцать семь пятниц, но вот приемы расправы с населением отличаются у нас последовательным однообразием; завтра начнут хватать, сажать и поносить за то, что сегодня дозволяется, а иногда даже поощряется и одобряется.
За Галкиным и Кº наискосок от нас с доктором, расположился «колхоз», объединявший трех инженеров – Шлыкова, Никольского, Брауэра – и экономиста-плановика Гекова. Эти четверо старожилов складывали свои передачи в «общий котел». Преимущество «колхозного» хозяйства перед «единоличным» было для всех очевидным: у четырех членов «колхоза» никогда не было недостатка в продуктах.
Геков являл собою личность ничем не примечательную, Шлыков, представительный мужчина средних лет, аккуратист, в отличие от почти всех своих сожителей по камере, не опустившийся, следивший за тем, чтобы все у него было в порядке, начиная с прически, – он долго расчесывал по утрам в уборной свои волнистые черные с проседью волосы, – сразу отпугнул меня своими рассуждениями о том, что хотя мы тут и безвинно страдаем, но когда идет такое грандиозное переустройство всей жизни в стране, идет такая коренная ломка, то ошибки неизбежны. Смысл его рацей, которые я объяснял только предельной его осторожностью, сводился к пословице, коей многие следователи ОГПУ цинично утешали подследственных: «Лес рубят – щепки летят».
Адольф Самуилович Брауэр принадлежал к поколению евреев, в чьих движениях – в быстром повороте шеи, во вздроге плеч, которым словно хотелось, чтобы голова спряталась между ними, отчего за спиной словно вырастал горб, в молящем наклоне головы набок, в судорожном махании рук, – проглядывало что-то запуганное и трогательно беззащитное.
Я испытывал к этому вислоухому, длинноносому, губастому еврею, выбившемуся из простонародья, что было отпечатано на его лице, ту же острую и нежную жалость, какую вызывал у меня в «собачнике» русский дворянин Лев Львович Кормилицын. Мне почему-то всегда хотелось от чего-то укрыть его, от чего-то уберечь. В камере царил нерушимый интернационализм, юдофобством у нас и не пахло. Мне было жаль его за то, что он такой некрасивый, за то, что он так страдальчески улыбается. А еще я жалел его потому, что у него, наверное, было невеселое детство, исполненное лишений и унижений. Я жалел не только самого Адольфа Самуиловича Брауэра – в нем я жалел его предков, тех, кто всю жизнь должен был чего-то бояться, как боимся теперь мы, – тех самых «Мошек» и «Хаек», которых с оружием в руках защищал от погромщиков монархист Шульгин, о чем он рассказал в «Днях».
Глядя в честные, грустные, доверчивые глаза Брауэра, я забывал о тех его единоплеменниках, которые вкупе с Лениным создали не первое в мире рабоче-крестьянское, а первое в мире фашистское государство, по чьей милости сидел в Бутырках не только я, но и тот же Брауэр; о Троцком (Бронштейне), о Каменеве (Розенфельде), о Стеклове (Нахамкесе), о Свердлове, обагрившем руки в крови девушек-царевен и мальчика-царевича, о Володарском (Гольдштейне), забывал о Зиновьеве (Радомысльском) и об Урицком, этих «Ежовых» до Ежова, о екатеринбургском «комиссаре юстиции» Янкеле Юровском, застрелившем Николая Второго в подвале, о евреях, вместе с латышами облепивших ЧЕКА – ОГПУ. Я забывал о том, с каким злорадным упоением Лазари Кагановичи не оставляли камня на камне от белокаменной и златоглавой Москвы с малиновым звоном ее «сорока сороков», да еще и хвастались этим в своих докладах и выступлениях. Я забывал о Минее Израилевиче Губельмане (он же – Емельян Ярославский) и о всяческих Познерах, засевших в Союзе воинствующих безбожников. Я забывал о прорве Сосновских и Безыменских, оскорблявших письменно и устно национальное достоинство русского человека, поносивших историю и природу России, ругавшихся над ее полководцами и поэтами, государственными деятелями и живописцами.
…Мы с Брауэром, встречаясь глазами, всегда улыбались друг другу.
Ему тоже припаяли «вредительство» – что же еще могли припаять инженеру? Свое положение заключенного он переносил безропотно, только беспокоился за близких.
– У меня в семье нехаащо, – говорил он, начисто исключая из своего произношения звук «р». – Все больные. Что с ними будет, если меня надолго ушлют?..
С Юрием Александровичем Никольским, – с Юрочкой, как я его очень скоро стал называть, – меня связала, по выражению Радека, «интеллектуальная» дружба, возникшая на почве любви к литературе, к музыке и на почве безоговорочного неприятия советской действительности – неприятия, под которое тюрьма подвела наипрочнейший фундамент, ибо здесь, за кулисами, нам открылась вся машинерия сталинского театра, ибо здесь обнажились невидимые снаружи пружины в механизме сталинской власти. Юрочка, лет пять прослуживший на заводе высококачественной стали, делился со мной своими наблюдениями и соображениями инженера, делился своим опытом заключенного. Рассказывая, он с какой-то интеллигентски бравирующей выделанностью матерился, что не шло к его женственной внешности, к его шапке вьющихся светлых волос и васильково-синим глазам.
– Я все на себя подписал» – говорил он. – Посидите полгода в одиночке – и вы тоже подпишете. Однажды мой следователь ночью выводил меня на «расстрел». Проделал надо мной с помощью караула почти всю церемонию» как над петрашевцем. А уж револьвер во время допросов наводил постоянно. Раз вытащил из ящика кинжал» приставил к моей груди, потом отвел и говорит: «С каким удовольствием я вонзил бы этот кинжал в грудь своего классового врага!» Вы числитесь за Лубянкой два? Ну, а я – за Лубянкой четырнадцать. Фамилия моего следователя – Аленцев. Представьте, врач по образованию. Мы сидели на Лубянке четырнадцать в одной камере с доктором Холиным. Прямо с воли, еще тепленьким, он попал на допрос к красивой молодой латышке. Вообразите: Холин – чеховский интеллигент чистейшей воды, ни дать ни взять – «Дядя Ваня». А молодая красивая женщина обращается к «Дяде Ване» с таким приветствием: «Я тебя…твою мать, туда загоню, где ты десять лет ни одной живой…ды не увидишь». Потом мы узнали, что так она всех своих подследственных оглоушивает для первого знакомства. Холин разрыдался. Она и так и сяк. Холин рыдает, слезы текут по бороде. Он и от мужчины-то подобных словес отродясь не слыхивал, а тут красавица женщина повела с ним такой светский разговор! Латышка велела увести его в камеру. Холин тут же написал заявление, что следовательница такая-то недопустимо грубо с ним обошлась, что она ругается нецензурными словами, что он ни на какие ее вопросы отвечать не станет и просит передать его дело другому следователю. Просьбу Холина уважили» – имейте в виду: следователя иногда меняют, если подследственный проявит настойчивость, – дали ему моего Аленцева. Холин свет увидел: Аленцев называет его «коллегой», по имени-отчеству… Ну, а когда Холин заупрямился: я-де никого не собирался прирезать на операционном столе, да что вы» помилуйте, за кого вы меня принимаете, врачебная этика, миросозерцание потомственного русского интеллигента и прочая тому подобная беллетристика, – вот тут-то он и пожалел о своей латышке с красотами ее слога. «Какой ты профессор? – кричал ему Аленцев. – Дурак ты…твою мать, а не профессор!» Рраз по морде, два по морде! За бороду – хвать! «Стань в угол! Повернись спиной! Повернись лицом! Повернись спиной!» И так – часами. Не выдержал мой «Дядя Ваня» – сдался, подписал, что кого-то из вождей собирался на операционном столе прикончить.
Украинцы выказывали упорное трудолюбие и выносливость на родной земле. Как только их из земли вырывали, они тотчас же засыхали. Работать в концлагере, «на чужого дядю», хотя бы этот «чужой дядя» давал обещание освободить их досрочно» если они будут из кожи вон лезть» они не могли. Они убегали, их ловили» или же они сами» не выдержав голода и холода скитаний, «объявлялись», и опять все начиналось для них сызнова: тюрьма» этап, лагерь.
Если к нам в камеру вводили украинца, то мы уж так и знали, что на вопрос:
– Ты откуда?
Он ответит:
– Тикав.
Соль нам выдавали без ограничения, только это был «бузун», его приходилось растирать. И вот украинцы бесперечь ели бузун, распухали; их клали в больницу. Лица у них были как бы сплошь в синяках.
…20 ноября отпраздновал я в Бутырской тюрьме день моего рождения. Стукнул мне двадцать один год. Вскоре после этого вечером, после ужина, я начал читать лекцию о ком-то из русских классиков, и только разошелся:
– Любимов! Без вещей соберитесь.
Ну, значит, на допрос! Месячный отдых – и опять в меня уставится своими буркалами ряшка Исаева!..
В первые мои бутырские дни я жаждал допросов» – лишь бы вода куда-то двигалась, а не стояла, – а теперь мне так же не хотелось идти к следователю, как не хочется из теплой комнаты, угретому, вылезать на мороз.
Повела меня через двор в другое здание молодая латышка.
Мы с Исаевым поздоровались.
– Ну как поживаете? – насмешливо спросил он.
– Ничего, – угрюмо ответил я.
Он начал что-то писать. Я облокотился на стол.
– Уберите локти со стола, сядьте подальше.
Я закурил.
– Курить после будете.
Тут Исаев возобновил разговор о моем «терроризме».
Я решительно заявил, что террористических разговоров с Орловым не вел.
Исаев, почти не повышая голоса, начал внушать мне, что я всецело во власти ОГПУ, что ОГПУ может расправиться со мной любым способом и что я даже не в состоянии себе представить, что меня ожидает, если я буду и дальше гнуть свою линию.
Я молчал. Внутренний голос шептал мне три заповеди заключенного: «Не верь, не бойся и не проси». Да и запугивания Исаева были на сей раз при всем их мелодраматическом пафосе какие-то неопределенные.
– Ну что ж, тогда я вам сейчас устрою очную ставку с Орловым, – объявил Исаев с таким видом, как если бы он собирался вздернуть меня на дыбу.
Ввели Володю. Мы с ним поздоровались. Исаев предупредил нас, что мы не имеем права переговариваться.
Началась очная ставка.
Вопрос к Орлову о том, кто я.
Вопрос ко мне о том, кто такой Володя.
Все это Исаев записывает в протокол.
Вопрос к Орлову, кем я ему довожусь.
– Троюродным братом.
Вопрос к Любимову:
– Подтверждаете?
– Подтверждаю.
Вопрос к Орлову:
– Когда был у вас с Любимовым разговор террористического характера?
– Не помню.
– Как не помнишь? Ты ж мне аварил, шо второго мая этого ода?
– Не помню, – повторяет Володя.
– Любимов! Выйдите в коридор и ждите, пока я вас позову.
В коридоре до меня доносятся крики Исаева. Спустя некоторое время вхожу. Договорились: второго мая 1933 года.
Вопрос к Орлову:
– Где был этот разговор?
– Не помню… Не то у нас на квартире, не то мы встретились случайно на улице.
– Как не помнишь? Ты ж мне аварил, шо у вас на квартире.
Опять я выхожу, опять крики, опять Исаев меня зовет. Помирились Исаев с Володей на том, что разговор происходил у Орловых, на Александровской площади.
– Какой был разговор?
– Точно не помню.
– Как не помнишь?
И опять я выхожу, и опять крики, и опять меня зовут.
Володя диктует:
«Я сказал Любимову, что на Красной площади во время демонстрации плохая охрана и что поэтому легко совершить тер. акт против вождей».
– А что сказал на это Любимов?
– А Любимов ничего на это не сказал.
Вопрос к Любимову:
– Был такой разговор?
– Такого разговора я не помню.
– Не помните, или его не было никогда?
– Такого разговора не было никогда.
– Очень хорошо! – воскликнул Исаев, и это восклицание можно было истолковать так: ну вот теперь-то мы за тебя, голубчик, возьмемся!..
Он дал прочитать и подписать протокол сперва Володе, потом мне. Я прочел. Слово «никогда» в моем последнем ответе было написано раздельно: «ни когда». Мы оба расписались. Володю увели.
– Ну что ж, Николай Михайлович, будете сидеть, – неожиданно мягко и как бы с сожалением заговорил со мной Исаев: дескать, я тут ни при чем, пеняйте на себя.
Я молча пожал плечами.
– Пойдемте, – сказал Исаев и, выйдя в коридор, потрепал меня по плечу: – Подумайте, Николай Михайлович, молодой светлой гала-вой и… бросьте вашу спесь!
Затем он отдал распоряжение отвести меня обратно в камеру.
В камере вокруг меня сгрудились самые близкие мои друзья: Беляев, Никольский, Гедройц, Брауэр, Коншин, Яша Розенфельд, Ваня Кондратьев и те, с кем я был не так уже близок. Выслушав меня, все в один голос сказали, что дело мое подходит к концу, что после очной ставки меня на допрос, по всей вероятности, таскать уже не будут, что я «сорвал» следователю очную ставку, что я и себе, и моему одно-дельцу облегчил положение, что по канве нашего дела следователю при всем желании особенно замысловатых и ярких узоров не вышить и что дадут нам, судя по всему, не много.
Судьба потом ни разу не свела меня ни с кем из сокамерников. Все, наверно, погибли в разное время и от разных причин… А как бы мне хотелось встретиться с наиболее близкими мне – доктором Беляевым, Юрочкой Никольским, Яшей Розенфельдом, Адольфом Самуиловичем! Не наговорились бы…
Эту ночь я спал спокойным и легким сном…
Свет в камере горел всю ночь. Читать надоедало, а засыпал я с трудом, и чего только, лежа на нарах, бывало, не передумаешь, кого из родных и знакомых не вспомнишь!
Признаться, я боялся концлагеря. Боялся, что не вынесу физического труда. А еще боялся, что там не будут давать книг и журналов. И без Художественного театра я не мог себе представить свою жизнь.
Неожиданно вспомнился мне давно позабытый сон раннего моего детства: я у себя в саду, собираю малину. Оборачиваюсь, – на меня, притаившись в самой глубине малинника, ой какими страшными глазами смотрит чужой человек и вот-вот бросится на меня!.. Теперь мне казалось» что этот человек похож на Исаева.
И так же внезапно я вспомнил, что еще раньше тетя Соня как-то гадала мне по моей руке – руке пятилетнего ребенка – и нагадала, что, когда мне будет лет двадцать, я заболею опасной болезнью, такой опасной, что врачи откажутся лечить меня, но что я все-таки выздоровею. Теперь мне думалось: вот она, эта болезнь! Только поправлюсь ли я? Выведет ли меня из темницы «мой» святой, освобождающий от «уз и пленения», – Николай Чудотворец, к которому я особенно часто обращался с «умной» (мысленной) молитвой на сон грядущий?..
Разные мысли лезли мне в голову по ночам.
До ареста при мне было много разговоров и рассказов о ГПУ – начиная с 1923-го года, когда я впервые услышал поздно долетевшее до Перемышля «Яблочко» уже в новой, нэповской редакции:
Эх, яблочко, Куда котишься? В ГПУ попадешь — Не воротишься…Но все-таки я не представлял себе размаха, какого достигла деятельность «Тайного приказа» в начале 30-х годов, сколько в его узилищах и в его «каторжных норах» томится невинных людей.
Те, что сидели вместе со мной по так называемым «бытовым» статьям, пожалуй, что не без греха, – рассуждал я, – и пекарь Ваня, и шофер-громовержец, и проводник поезда дальнего следования татарин Хуснуддинов. Весьма вероятно, что на чем-нибудь спекульнул Яша. Не дам голову на отсечение и за «Пластмассу»: ради того, чтобы рядить как куколку свою Аллочку, он мог на старости лет пускаться в небезопасные плавания. Самое же большее, на что способны мы, интеллигенты, – это критика советского строя. Иные из нас критиковали мягко, иные – резко; иные – по частным поводам, по мелочам, иные смотрели в корень; иные осуждали келейно, с глазу на глаз, иные – в теплой, как им представлялось, компании, но все это не шло дальше разговоров со знакомыми. А им пришивают за разговор вдвоем 5810, то есть «индивидуальную агитацию», хотя они никого и ни против чего не агитировали. А им припаивают, если разговор происходил в тесном кругу, 5811, то есть – участие в контрреволюционной организации, хотя никакой организации не было. Иные мечтали о перемене строя, но только мечтали, как Манилов – о постройке моста, палец о палец для осуществления этой мечты не ударяя. Интеллигенты, как бы они к Советской власти ни относились, работали в полную меру своих способностей и талантов, в полную меру своего трудолюбия и добросовестности, – трудолюбие и добросовестность были у русской интеллигенции в крови» а им присобачивают «вредительство». Что же касается троцкиста Сибирякова, то и он юридически неуязвим, ибо он безусловно за Советскую власть, – мы с ним из-за этого даже как-то сцепились, – но только без Сталина и его клики» за Советскую власть с частью тех, кто окружал Ленина: с Троцким, Зиновьевым, Каменевым, Преображенским, Радеком, Пятаковым. А разве вот эти самые опухшие от соли украинцы при любом другом строе превратились бы в перекати-тюрьмы? Жили бы они в своих белых мазанках, покрикивали бы на волов: «Цоб-цобе!», трудились бы до седьмого пота и кормили бы и себя, и страну.
Кому нужна вся эта дьявольская мясорубка?
Она нужна сталинской клике и ее главной опоре, опоре, без которой она тотчас же рухнет, – ОГПУ.
Зачем она им нужна? Гепеушники должны оправдывать благоденственное свое житие – чем больше улов, тем, значит, ревностнее трудятся они на благо партии и правительства. Чем больше дел напекут, тем скорее продвинутся по службе, «кубики» сменят на «шпалы», «шпалы» на «ромбы», а повышение по должности и в чине влечет за собой, как пишут в газетах, «рост благосостояния»: больше денег, лучше пайки. Следователи выслуживаются перед начальниками отделов, начальники отделов – перед членами Особого совещания» Особое совещание – перед Коллегией, Коллегия – перед Менжинским, а раз Менжинский болен, то перед Ягодой, а Ягода – перед Сталиным, который считает необходимым держать страну в рабском повиновении, а значит, в страхе, и которому удобно перекладывать ответственность за провал безумной своей политики на других: промышленность хромает, потому что темпы индустриализации стране непосильны, потому что цифры плана берутся с потолка, – виноват не он, а старая инженерно-техническая интеллигенция, мечтающая о возврате прежних хозяев и якобы вредящая социалистическому строю на каждом шагу; коллективизация, насилующая крестьянскую природу и психику, проходит с отчаянным скрипом – виноваты кулаки и «подкулачники», виноваты сельские попы; из-за бешеных темпов индустриализации, из-за коллективизации, из-за отсутствия частной инициативы страна голодает – виноваты работники Наркомторга.
И еще одного матерого зайца одновременно убивает ОГПУ на радость Сталину: мы, заключенные, – это тьмы тем невольников, бесплатная рабочая сила, которую можно загнать к чертям на кулички, куда добровольно никто не поедет, а если и поедет, то в погоне за длинным рублем. Цель – насильственный набор бесплатной рабочей силы. И для этой цели все средства хороши. Лишь бы побольше! А каким образом рабочая сила набирается – это уже неважно. За «халтуру» со следователя если и взыскивается, то в случаях редчайших, в случаях крайнего невезения. Юрочка неоднократно указывал Аленцеву на вопиющие противоречия в уголовном романе, который тот сочинял об инженере Юрии Александровиче Никольском, вредившем на заводе высококачественной стали по заданию завербовавшей его иностранной разведки. То даты не сходились, то факты были уж очень явно подтасованы.
Аленцев отмахивался.
– Э, какая разница, Юрий Александрович! Ну, давайте поставим другое число.
Иногда поправлял, а чаще оставлял так.
Одного юношу, сидевшего вместе со мной, обвинили в том, что он принимал участие в вооруженном восстании против Советской власти на Северном Кавказе. Юноша без труда доказал, что ему было тогда пять лет. «Не все ли равно?» – не поведя бровью, возразил следователь. Да и зачем следователю проявлять щепетильность, если на открытом процессе «Промпартии», материалы которого печатались в центральных советских газетах, главный обвиняемый Леонид Константинович Рамзин, сочиняя о самом себе устный уголовный роман, завирался и путался в фактах и датах? Ведь ничего? Проехало? Съели?..
…Разные мысли лезли мне в голову по ночам.
…Но ведь мой благодетель Исаев и другие следователи, которые сидели с ним в одном кабинете, – это гепеушники с немалым стажем. Как ни быстро продвигались по службе в ОГПУ, все равно ромб (то есть, по-нынешнему, генеральский чин) так скоро не схватишь. Значит, они ей-е застали «железного Феликса». Значит, они продолжают «благородные» традиции ВЧК, Ну, а Менжинский, Ягода, Агранов – это же все сподвижники, выученики Дзержинского, его духовные сыновья. А так ли уж далеко падают от яблоньки яблочки?..
Но почему «политические» так скоро сдаются, почему они принимают на себя несуществующие вины, почему оговаривают других?
Прежде всего – потому, что они вовсе не «политические», они не борцы, им нечего отстаивать, никаких целей и задач у них нет, а у некоторых нет и мало-мальски стройной системы положительных взглядов в политике. Им всего дороже семья, любимое дело и, наконец, просто жизнь. Революционеры знали, за что и на что они идут. Революционеры вели борьбу с царским правительством, и ее проявления были многообразны: агитация, листовки, кружки, маевки, демонстрации, забастовки, террористические акты, вооруженные восстания. Революционеры ждали, что их каждую минуту схватят. Они были умственно и душевно готовы к разлуке с волей, с родными, к допросам и к приговорам. Советских граждан, ни к каким мерам борьбы против власти не прибегавших, самый арест, не говоря уже о допросах, обезволивал, подавлял своей неожиданностью. Они оседали, обмякали, как от удара обухом по голове. Революционеры сознавались в том, что они действительно совершали; на суде сознавались с гордостью, надеясь увлечь своим примером других. Но они бы никогда не сознались в том, чего не было, и не оговорили бы других. Рысаковы составляли исключение. Да и на допросах их не били, не материли, не грозили погубить семью. Тогда я еще не мог предвидеть, что оплеухи, хотя и расточаемые в изобилии, матерщина, хотя и многоэтажная, с затейливым орнаментом, угрозы казни, угрозы ареста домашних, выводы на мнимый расстрел, горячая и холодная камеры и кое-что другое – это детские забавы в сравнении с тем садом пыток, который с такой пышностью расцветет при Ежове и Берия. Тогда я еще никак не мог предвидеть, что на скамью подсудимых сядут уже не беспартийные интеллигенты, а бывшие вожаки большевистской партии и бывшие руководители советского государства, которые в середине 20-х годов отделывались пока только ссылкой. Но ж партийные герои процессов 30-х годов валили все, что угодно было суду и прокурору, на себя и друг на друга оттого, что уже ничем не отличались от инакомыслящих беспартийных. К тому времени они политически разоружились, размагнитились; хотя они и болтали между собой, хоть и поругивали Сталина, хоть и хихикали в кулак при его неудачах, но ни за что уже не боролись. Вдобавок – страх за семью и моральные пытки, вдобавок – стократ усилившиеся мучения физические. И наконец тут сказывалась их душевная гнилостность, ибо только люди с гнилою, измлада растленной душой могли в 17-м году поставить на огонь котел со смолой, в который двадцать лет спустя бросили живьем их же самих.
Бог «взыскивает за кровь… не забывает вопли угнетенных» (Псалтирь, 9, 13).
…Вот уже и свои именины отпраздновал я 19 декабря в 64 камере Бутырской тюрьмы, а на другой день почувствовал себя неважно; познабливало, все вокруг теряло очертания, расплывалось, и людей, и вещи я видел сквозь багровую дымку, режуще болело горло. Поставили термометр: 38 с чем-то. Врач объявил, что это – ангина и что меня переведут в больницу. Мне смерть как не хотелось расставаться с людьми, которые сумели заставлять меня хоть на время забывать, что я в тюрьме. Я утешал себя, что ангина – пустяк и что через неделю я увижу вновь уже родные мне лица Романа Леонидовича, Юрочки, Адольфа Самуиловича, Александра Николаевича, Яши…
Ваня Кондратьев собрал мое имущество, – а его оказалось немало: в предвидении этапа мама все подносила мне теплые вещи, – и я перешел в больничный корпус.
…Отдельная койка с чистым бельем. Возле койки – столик. На коридорном белый халат. И кормят здесь лучше. Два раза в день обходит палаты женщина-врач. Ставят нам градусники две медсестры, одна – русская» юная миловидная брюнетка, другая – пожилая латышка с плоским и широким, как поднос» лицом. Все три бездушны. Похожи не столько на медицинских работников, сколько на весовщиц или на приемщиц в мастерских. Мы для них – вещи, за целость и сохранность которых они несут ответственность.
Меня положили рядом в чернобородым» очень густо обросшим мужчиной, похожим на умную и печальную обезьяну. Это был староста палаты, армянин Бабаев.
Вместо обычных вопросов: за какой Лубянкой я числюсь и как давно с воли, он спросил меня:
– Вы – вэрующий?
Я ответил утвердительно.
– Я тоже вэрующий. Только вэра меня и поддерживает. Вы замэтили, что в тюрме даже коммунисты не выносят глумления над рэлигией? Как кто-нибудь начнет рассказывать антирэлигьозный анекдот – они говорят: «Нэ надо!»
В двух словах Бабаев рассказал о себе:
– На меня донес мой друг-прыятел, с которым я всэм делилса. Вы знаете: мы, кавказцы, народ радушный, для нас гостеприимство – прэжьде всего, и вот в благодарность он меня дрэдал. Я был с ним аткравэнен, не скрывал, что многим недоволен, – прэследованием рэлигьозных убэждений» напримэр, и он все мои слова сообщил. А для меня потэря свободы хуже смэрти. Я не могу жить в нэволе. Если б не вэра в Бога, я бы пакончил с сабой. Вы панимаете? Я задыхаюс… Меня давят стэны… Я уже несколько мэсяцев в тюрме – и все не могу привыкнуть к часовым, к решеткам, к глазку…
В доброте Бабаева я убедился скоро. Заметив, что я никак не могу согреться, он отдал мне свое одеяло. Не успев получить передачу, пошел от столика к столику с бидоном разливать по кружкам молоко, себе оставил на донышке. Потом всех до одного оделил бутербродами.
Бабаев не выносил неволи и не выносил хамства. Больные пользовались преимуществом – ходить в уборную не стадом, а когда кому понадобится. Одному из больных, постучавшему в дверь, коридорный грубо отказал в его просьбе – дескать, подождешь, успеешь. Тогда по праву старосты с коридорным вступил в переговоры Бабаев. Коридорный его обругал. Мы решили всей палатой написать жалобу корпусному начальнику.
Явился «Лодочка», которого так прозвали потому, что он был всегда пьян и шел, словно покачиваясь на волнах. Он вошел к нам в палату с нашей жалобой в руках и расшумелся:
– Вы по какой статье сидите? По пятьдесят восьмой? Значит, вы контрреволюционеры. Писать жалобы не имеете полного права. Это формальный бунт с вашей стороны.
Он повернулся с видом, ничего доброго нам не сулившим, и, пошатываясь, вышел из палаты.
Этот вечер был одним из самых тягостных вечеров, проведенных мною в тюрьме. Рядом, уткнувшись в подушку, глухо рыдал Бабаев, которого я не сумел успокоить и убедить, что, как бы ни вели себя с нами «Лодочки», они не в состоянии унизить наше достоинство.
А лежавший напротив меня украинец все причитал словно из «Думы про Опанаса»:
– Идэ ж мой домик? Идэ ж моя пара волов? Идэ ж мой садок вишневый? Идэ ж моя жинка Олэна Тимохвеевна?
А победу все-таки одержали мы. Грубиян коридорный после этого столкновения куда-то исчез.
26 декабря я получил передачу. Небольшая температура у меня еще держалась. Я просился обратно в камеру – врач сказала: «Не раньше, чем через несколько дней». После ужина я забылся в полудремоте. Вдруг кто-то назвал мою фамилию. Мне показалось, что я слышу этот голос во сне.
– Любимов! – громче повторил тот же голос.
Я открыл глаза. В дверях стоял знакомый мне коридорный, похожий лицом на официанта из плохого ресторана.
– С вещами соберитесь, – сказал он и скрылся.
Все стали уверять меня, что это – на волю: и час такой, и больных, мол, на этап не берут, и коридорный будто бы держал в руке белый билет, на который я от волнения не поглядел. Я склонен был думать, что, пожалуй, и впрямь на волю. Но едва я вышел в коридор, как из соседней палаты показался Володя. Я и обрадовался, и огорчился. Я слышал, что перед тем как отправить однодельцев по этапу в концлагерь, их соединяют.
И началось для нас многочасовое томление духа. Сперва – ожидание в больнице. Когда нас собралось несколько человек, мы под конвоем перешли в другое здание и остановились перед закрытыми дверями в соседнюю комнату.
Начали появляться новые лица. В этой небольшой своего рода «приемной» стало тесно от людей и вещевых мешков. Все мы недоуменно, озадаченно и встревоженно переглядываемся, перешептываемся; «Куда? Зачем? На волю? На этап?» И только один из опрошенных мною ответил уверенно:
– Да что вы! Какой там этап! Не тот час, и это же не «вокзал». Нынче будем дома. В крайнем случае вольную высылку могут дать.
Наконец нас стали по одному вызывать в соседний кабинет. Вот там держали недолго – только нам, ожидающим, каждая лишняя минута была невмоготу. Вышедших из кабинета куда-то уводили.
Дошла очередь и до меня. Мне объявили, что я свободен, но что утром мне надлежит явиться на площадь Дзержинского 4 за документами на высылку, в чем я должен был тут же дать письменное обязательство.
Слова «за документами на высылку» не произвели на меня никакого впечатления. Только сейчас я поверил своему счастью, в которое не смел верить до последней секунды: нынче ночью я увижу маму и Маргариту Николаевну, нынче ночью я выйду из тюрьмы, а там хоть на край света!
Поверхностный обыск, и вот я и один молодой красноармеец – на воле, мы вправе идти куда нашей душе угодно – и без конвойного, следующего по пятам.
Стоял лютый мороз, а я второпях не надел на себя ничего зимнего, да и жаль мне было ворошить Ванину мастерскую укладку. Мне было жарко. С незалеченной ангиной я шел по Новослободской в кепке, в летнем пальто нараспашку и в летних ботинках без калош. Красноармеец помог мне дотащить вещи до Страстной (ныне – Пушкинской) площади. Тут наши пути разошлись. Кое-как допер я узлищи до дому, позвонил. Долго никто не отворял. Было часа три ночи. Но вот послышался испуганный голос «Насти Юрьевской» (ее называли так в отличие от бывшей домработницы Маргариты Николаевны – тоже Насти):
– Кто там?
В тоне ее слышалось: «Опять за кем-то пришли! Уж не за Юрием ли Михайловичем?»
– Настя! Это я! Коля!
Настя отворила дверь и, даже не поздоровавшись со мной, кинулась будить мою маму, спавшую в коридорчике, на моей кровати, так что первая в доме приветствовала меня красавица Гера, – она закружилась вокруг меня, замахала своим волчьим хвостом и начала лизать мне руки.
– Елена Михайловна! – донесся до меня Настин шепот. – Вставайте! Вам радость! Вам радость!
Удивительно чуткой умеет быть простая русская женщина!.. А ведь у самой Насти никогда не было детей, она никогда не испытывала материнской любви. Просто она сочувствовала всякому горю. И не только сочувствовала, а приходила на помощь как умела. Во всех передачах, которые мама мне приносила, деятельное участие принимала Настя: ходила на рынок, выбирала продукты, как не могла бы выбрать мама, жарила мне котлеты, и все это безвозмездно, по доброте души. А и знакомы-то мы были с ней без году неделю.
Маму точно ветром сдуло с кровати. Из своей комнаты выскочила в одной сорочке Маргарита Николаевна… Неудержимые слезы текут но улыбающимся лицам. В узком коридоре все еще стучит по шкафам Герин хвост… Неурочное чаепитие… Рассказы» расспросы до утра. То, что мне предстояло покинуть Москву, пока еще слабо доходило до сознания, почти не омрачало радость встречи.
Утром мы с мамой пошли на Лубянку. Вот тут и мне довелось познакомиться с человеком в пенсне без оправы.
Первым делом он вернул мне отобранный у меня при обыске кошелек с крестиком, ключом от квартиры и подтяжками, а затем вручил бумагу, где было сказано, что я постановлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 23 декабря 1933 года по статье 588 через 17 приговорен к трем годам высылки в Северный край с явкой в Архангельск.
588 через 17 – это означало не террор, а подстрекательство к террору.
Выехать из Москвы мне предписывалось завтра.
Я попробовал возразить: мне надо хоть как-то устроить денежные дела, мне не на что ехать, и потом, меня выпустили прямо из больницы, с температурой.
– Поезжайте, Любимов. А то мы вас по этапу отправим…
В холодной пустоте стальных глаз сверкнули злые огни.
«Не верь, не бойся, но и не проси…»
Я отошел от окна.
Мама уже успела рассказать мне, что все это время она хлопотала за меня в Обществе помощи политзаключенным.
Однажды она ехала в трамвае. Какая-то девушка уступила ей место. Вглядевшись в лицо девушки, мама чудом узнала ее. Она видела ее всего один раз, мельком, при входе в мой институт. Я их познакомил. Это была Леля Фельдштейн, та самая Лелька, с которой мы так ловко удирали с антирелигиозных вечеров на Страстной и под Пасху в церковь.
– Вы меня, конечно, не узнаете, – сказала ей мама.
Леля посмотрела на нее с изумлением.
– Я – мать Коли Любимова.
– Ах, здравствуйте! Да, да, мы с вами знакомы. Ну как он? Мы с ним недавно виделись у нашей бывшей подруги по институту.
– А вы ничего не знаете?
– Нет.
Мама шепнула ей.
Леля ахнула, затем призадумалась.
– Знаете что, – сказала она. – Приходите к нам. Я думаю, что папа вам поможет.
Она дала маме свой адрес и телефон.
Михаил Соломонович Фельдштейн был юрисконсультом в Обществе помощи политзаключенным» а возглавляла Общество первая жена Горького – Екатерина Павловна Пешкова. Ежов это учреждение разогнал, но до ежовщины оно делало большое и благое дело. У Екатерины Павловны были связи, были прямые ходы к членам Коллегии ОГПУ. Общество хлопотало за заключенных, добивалось более мягких приговоров. Сыграло ли оно какую-нибудь роль в моем приговоре – судить не берусь, но что Екатерина Павловна и ее помощник, приятель Фельдштейна Михаил Львович Винавер, привлекший Фельдштейна к работе в Обществе, а в ежовщину, как и Фельдштейн, – сгинувший в недрах НКВД» добились того» что я был освобожден от этапа в Архангельск, – это я слышал из уст самой Екатерины Павловны.
Особенно благодетельно было Общество для иногородних. Переведут какого-нибудь туляка или костромича в московскую тюрьму. Что делать родным? В Москву с передачами не наездишься. Родственники иногородних политзаключенных переводили Обществу ту сумму, какую они в состоянии были ассигновать на передачу, и поручали ему на эти деньги закупать и передавать заключенному продукты и вещи. Общество же взимало с каждой суммы ничтожный процент на содержание секретарей и технического персонала (Пешкова, Винавер и Фельдштейн работали там бесплатно), на наем помещения и на коммунальные услуги. Конечно, среди сотрудников Общества были осведомители, Иначе ОГПУ ликвидировало бы это учреждение в два счета, оно просто не допустило бы его возникновения, – на кой черт оно было бы ему тогда нужно? Но Пешкова и Винавер делали людям столько добра, что вред, приносимый засланными туда осведомителями, по сравнению с их благодеяниями, был ничтожен. Вот мама и надумала пойти еще раз в Общество, иначе именовавшееся «Красный Крест», и похлопотать об отсрочке.
Екатерина Павловна принимала по вечерам. «Красный Крест» размещался в двух комнатках на Кузнецком мосту недалеко от ОГПУ, справа, если идти от Неглинки.
Мы с мамой прошли к Екатерине Павловне вместе. Похожа она была на учительницу провинциальной гимназии. Глаза у нее были ясные. Смотрела она на посетителей сквозь очки с пытливой благожелательностью. Прежде всего я поблагодарил ее за помощь. Затем рассказал об утреннем походе на Лубянку.
Выдержанную Екатерину Павловну всю передернуло от возмущения.
– Ну, положим, – сказала она, – не было еще такого случая, чтобы не выздоровевших отправляли по этапу. У вас же совсем больной вид. Садитесь вот за тот стол и напишите, чтобы вам отсрочили выезд в Архангельск по болезни, что вас выпустили прямо из тюремной больницы с повышенной температурой и что вам нужно устроить ваши материальные дела.
Я написал заявление и передал ей.
– Что же вы просите два дня отсрочки? Мало! – заметила она, – Просите больше.
Я попросил пять дней. Екатерину Павловну и это не удовлетворило:
– Просите десять дней. Надо – с запросом!
Я написал третье заявление.
– Завтра в это же время приходите ко мне за ответом.
На лестнице мы столкнулись с еще, если возможно, похудевшей и пожелтевшей, одетой, как нищая, тетей Катей. При виде меня она вся затряслась от рыданий и обвила мне шею руками. От нее мы узнали, что тете Лиле за давно уже прекращенную переписку с братом приклеили 586, то есть – «шпионаж», и приговорили к трем годам Мариинского концлагеря. Володе дали все то же, что и мне, но, приняв во внимание его несовершеннолетие, один год скостили.
На другой день Екатерина Павловна мне сообщила:
– Вам обещана отсрочка на десять дней. Завтра зайдите в ОГПУ – вам должны дать официальное разрешение.
На следующее утро человек в пенсне безмолвно и почти не глядя на меня протянул мне мое заявление с благоприятной резолюцией.
Дни летели стремительно и словно во мгле. Мы с мамой были у жены Бабаева, у жены Беляева. Я увидел дочку Романа Леонидовича Оленьку, худенькую девочку лет шести, без кровинки в лице, тихую не по-детски. Она родилась у них поздно, и Роман Леонидович, заждавшийся ребенка, души в ней не чаял. Она была особенно дружна с отцом. И она все эти восемь месяцев ждала, что вот-вот отворится дверь и войдет папа, который – непонятно куда и непонятно почему – так надолго уехал. Большие ее глаза смотрели недоуменно и ожидающе.
Несколько раз были мы у Грифцовых и у Фельдштейнов.
Зашел я и в «Academia». Грустно мне было смотреть на заменившую меня девушку, сидевшую за моим столом.
Когда я находился в тюрьме, мама была в издательстве у Эльсберга в надежде, что он прольет свет на мое дело, – быть может, нити от него тянутся к издательству. (Что я сижу по делу тети Лили и Володи – это ей почему-то в голову не приходило.) Мама мне рассказывала, что за то время, что я сидел, чутье у нее особенно обострилось. Она мгновенно отличала истинное сочувствие от показного, пустого внутри. И она уверяла, что Эльсберг, которого она тогда видела впервые, смотрел на нее неподдельно участливым взглядом. Верно, вспомнилась ему его катастрофа, вспомнилось, каково пришлось в пору его сидки мадам Шапирштейн. Вот так же добро и совсем не сверляще смотрел он и на меня, пока я вкратце рассказывал ему свою «эпопею». Он ни о чем не расспрашивал – он только очень внимательно, с живым интересом слушал. Прощаясь, он меня подбодрил: три года пройдут, мол, незаметно, потом милости просим опять в «Academia», а до тех пор он надеется прислать мне в Архангельск какой-нибудь заказ. В заключение беседы сказал, чтобы я по прибытии в Архангельск сообщил издательству свой адрес.
Надежда Григорьевна Антокольская без всякой моей просьбы отстукала на машинке справку, что я являюсь сотрудником издательства «Academia» на договорных началах, и побежала к директору. Вернувшись от него, она вручила мне эту справку за подписью Каменева, который, конечно, подмахнул ее не задумываясь, ибо ничего не знал о моей судьбе.
В Архангельске эта справка на первых порах мне ох как пригодилась! Это был для меня: «Сезам, отворись!» Но в январе 35-го года, как только я прочел в газетах об аресте Каменева, я эту справку порвал.
Как хорошо я и моя мать встретили новый, 1934, год с Маргаритой Николаевной, с Юрием Михайловичем и с Качаловыми – об этом я попытался рассказать в моих театральных воспоминаниях.
Мама и так уже поневоле «зажилась» в Москве: сначала под предлогом опасной «болезни» сына, потом под предлогом, что ей надо делать операцию на глазу (эту легкую операцию, с которой можно было и не спешить, ей делал профессор Одинцов, снабдив ее потом оправдательными документами), но уж к концу зимних школьных каникул ей необходимо было вернуться в Перемышль, а ей хотелось во что бы то ни стало поехать со мной в Архангельск и посмотреть своими глазами, как я там устроюсь, и мы, запасшись адресами, где бы можно было найти пристанище на самое первое время (адресами нас снабдил знакомый Фельдштейнов, брат доктора-гомеопата Постников, успевший побывать в ссылке в Архангельске, а затем, как и гомеопат, погибший в ежовщину), выехали из Москвы раньше установленного для меня срока.
Маргарита Николаевна дала мне на дорогу «образок святой», некогда висевший над кроватью Ермоловой.
…Вот уж промелькнул под окном вагона фонарь проводника, нехотя скрипнули, всхлипнули буфера, зазмеились в разных направлениях рельсы, а вот уже глянул в окно сплошной синий загородный мрак. А колеса отстукивали: «Прощай, Москва! Прощай, Москва! Прощай, Москва!»
Москва, декабрь 1968 – январь 1969
На теплом Севере
Добрых и полезных душам
нашим у Господа просим.
Из просительной ектеньиДорожные впечатления высыпались у меня из памяти, как из прохудившегося мешка. Вернее сказать, их и не было вовсе. Недавно пережитое было так мучительно-ярко, что мозг и душа отказывались воспринимать новое.
Я с детских лет обожал путешествия, даже недолгие. А тут, шутка ли – от Москвы до Архангельска! Полтора суток езды! Это было мое первое длительное путешествие. Дольше шести часов ехать поездом мне не случалось. Но меня не тянуло смотреть в окно. Соседи по купе, как ни вглядываюсь я в них сейчас, мелькают передо мной бесполыми тенями. Названия станций не запомнились. Выделилась только Вологда, да и то потому, что в этом городе родилась моя мать. Могла ли она думать, навсегда уезжая отсюда десятилетней девочкой, что сорок лет спустя проедет мимо Вологды, провожая сына своего в ссылку?..
Что же, меня отвлекала от внешних впечатлений неизвестность – не считая неизвестности тюремной, самая смутная из всех, какие когда-либо заволакивали предо мною даль? Ведь в моей «подорожной» указывалась лишь явка в Архангельск, а дальнейшая моя судьба зависела от благоусмотрения северного ПП ОГПУ: могут оставить в Архангельске, а могут и спровадить в Мезень…
Нет, и это меня не страшило. Я просто ни над чем не задумывался. К безразличию примешивалась тоска по оставленной Москве, но то была боль, какую испытывает человек под местным наркозом. А к тоске примешивалось чувство облегчения: все-таки свобода, хотя и не полная, – главное, ни допросов, ни поверок, ни решеток, ни нар. Но и чувство облегчения было какое-то безотрадное.
6 января 1934 года мы приехали утром в Архангельск. Сдали вещи в камеру хранения и пошли по замерзшей Двине. Решили прежде всего отделаться от самого неприятного – «явиться по начальству».
Найти ПП ОГПУ не составляло труда: оно помещалось в центре главной улицы (улицы Павлина Виноградова, бывшего Троицкого проспекта), в недавно выстроенном обширном здании. Я предъявил «подорожную» коменданту.
– Это не к нам, – пробежав ее глазами, сказал вахлацкого вида белобрысый и белоглазый дежурный комендант. – Поезжайте туда-то, – дал точный адрес, – там станете на учет и туда же будете ходить на отметку.
Нам пришлось поехать на трамвае обратно, в сторону вокзала. На улице, служившей продолжением улицы Павлина Виноградова, на той же стороне, что и ОГПУ, стоял наскоро сколоченный, плохо отапливаемый барак. В переборке были проделаны три окошечка, и к этим окошечкам стояли в очереди разного. возраста и обличья ссыльные. Я стал к среднему окошечку, – «на мою букву» регистрировались там. Ставил штамп на наших документах в знак того, что мы явились на отметку, наш брат ссыльный, работавший здесь по вольному найму. Мой регистратор, похожий на учителя средней школы, сидел в ватнике и по временам дул на руки. Посмотрев мою «подорожную», он заполнил какой-то бланк, потом куда-то вышел и, сейчас же вернувшись, поставил ящик с картотекой на стол, что-то написал на чистой карточке, а затем выдал мне мой новый вид на жительство, заменявший административно-ссыльному паспорт. В верхнем левом углу удостоверения было типографским способом напечатано: «Полномочное представительство ОГПУ Северного края», а само удостоверение, тоже напечатанное типографским способом, гласило, что оно выдано «адмссыльному» такому-то (имя, отчество и фамилия проставлены чернилами) и удостоверяет то-то и то-то.
Кажется» там было указано, что я имею право выезжать из Архангельска не дальше, чем на 25 километров.
– По этому документу вас пропишут в отделении милиции. К нам будете ходить на отметку пятого числа каждого месяца, – пояснил регистратор.
Ну, значит Мезень мне не грозит, я – житель Архангельска, только пока еще без жилья.
На всякий случай мы толкнулись в гостиницу. Свободных номеров, как и следовало ожидать, не оказалось. Мама достала из сумочки постниковские адреса. Постников особенно нам рекомендовал Евдокию Александровну Фомину и бывшего профессора Томского университета Николая Яковлевича Новомбергского. Оба они были «адмы», как сокращенно называли нас в Архангельске. Евдокию Александровну, служившую массажисткой в одном из кавказских курортных городов, выслали в Архангельск за активную деятельность в церковно-приходском совете» пришив ей 582, то есть участие в подготовке контрреволюционного вооруженного восстания.
К Евдокии Александровне мы попали, как говорится, «не в час». Здесь она тоже работала массажисткой, занималась и частной практикой, прямо со службы ей надо было успеть в церковь (ведь завтра Рождество!). На примете у нее ничего подходящего для нас не было, а она сама ютилась в комнатушке, в которой негде было повернуться. Обещала поискать. (Евдокия Александровна освободилась вскоре после моего приезда в Архангельск: она массировала жен главарей местного ОГПУ – мужья в благодарность выхлопотали ей досрочное освобождение. Но на Кавказе, когда занялось пламя ежовщины, Евдокию Александровну снова упрятали за то, что ее досрочно освободили гепеушники, которых тогда постигла кара, – значит, она, мол, из их шайки.)
От Евдокии Александровны мы уже более робкими стопами направились к Новомбергскому.
Нас встретил болезненного, сумрачного вида высокий, осанистый, седой человек с красивыми чертами простонародного лица. Сейчас было видно, что это интеллигент, но не потомственный, что его интеллигентность либо врожденная, либо добытая длительной работой над собой. В его смелом, открытом взгляде читалось душевное благородство. Его бирюковатость не отпугивала – сквозь нее просвечивало совсем не глубоко запрятанное, где-то совсем близко, сразу же за поверхностной нелюдимостью залегавшее дружелюбие. Новомбергский не выпустил нас без чаю (жена его, врач-физиотерапевт, была на работе), обещал тотчас же отправиться на поиски пристанища и взял с нас слово прийти к нему завтра – может быть, уже к завтраму что-нибудь подвернется. Сам он с женой помещался в комнате чуть побольше, чем у Евдокии Александровны.
Дальнейшие наши поиски оказались столь же неутешительны. Одна домовладелица, к которой направил нас Постников, только что сдала комнату ссыльному архиерею. Еще у одного человека, оказывается, кончился срок ссылки, и он выбыл из Архангельска.
А между тем уже смеркалось. Трамваи зажгли фонари. У нас оставалась одна-единственная надежда: бывший сослуживец Постникова по тресту «Северолес», бухгалтер, домохозяин, коренной архангелогородец Венедикт Александрович Карпов. Дом его на углу Вологодской, или, как говорят северяне, Вологодской, улицы и Петроградского проспекта мы нашли легко. В Архангельске вообще все просто найти благодаря нехитрой его планировке, благодаря тому, что он предпочел растянуться в длину, а не раскидываться в ширину… Дом в четыре окна на улицу, вход со двора. Отворила нам дверь востроглазенькая, востроносенькая северянка, на вид – лет тридцати пяти, и провела нас через сени в кухню.
– Венедикт! Тебя спрашивают! – крикнула она.
Вышел хозяин. При имени Постникова расплылся в улыбку, но сказал, что – увы! только вчера сдал отдельную комнату тоже ссыльному ветеринарному врачу с Украины.
– А вы когда же приехали? – вмешалась хозяйка.
– Сегодня утром.
– А где остановились?
– Нигде.
– Как нигде?
– Да так. Оставили вещи в камере хранения и пошли искать жилье, ходили-ходили, но ничего не нашли.
– Да вы бы сразу так и сказали!
Хозяева засуетились:
– Раздевайтесь, проходите в комнаты.
– Я сейчас самовар наставлю, – по-северному выразилась Марфа Ивановна (так звали хозяйку), – завтра праздник, я шаньги пекла, пироги с рыбой, отведаете наших северных шанёжек, пирогов…
Все это напоминало святочный рассказ или известное стихотворение о малютке, с той только разницей, что мы не посинели и не дрожали, ибо день был на удивление ласковый.
Сели за стол. Скоро он уставился всевозможными яствами. Появились и «сёмужка-матушка», как любовно величают семгу на севере, и навага, и пироги еще с какой-то рыбой, и шаньги. Уютно запыхтел самовар. Немного погодя мы уже разговаривали как добрые старые знакомые. А когда убрали со стола, Марфа Ивановна сказала:
– Ну, слава Богу! Я, грешница, нынче захлопоталась, в церковь не пошла, а Господь мне в утешенье дорогих гостей послал.
Нам постелили в столовой.
А наутро Венедикт Александрович объявил, что, посовещавшись с женой, он решается предложить мне на первое время, до приискания более удобного помещения: не соглашусь ли я пожить у них в столовой? Вот тут будет мой уголок: кровать и ночной столик, заниматься я могу за обеденным столом – они обыкновенно и чай пьют, и обедают, и ужинают в кухне и вообще в этой комнате почти никогда не бывают. Единственное неудобство: они будут через эту комнату ходить из кухни в спальню и из спальни в кухню. Может быть, и мальчик их когда помешает, но он целыми днями носится с ребятами на улице, ну и они за ним последят, чтоб не шумел, а так он не озорник…
Мы ответили, что попали к хорошим людям, – это самое главное» лучше нам ничего и не надо, и ничего мы больше не будем искать.
Порешив на том, мы поехали к Новомбергскому рассказать, как я устроился.
Николай Яковлевич встретил нас с той же безулыбочной приветливостью и тут же дал мне несколько наставлений, которым я по возможности старался следовать всю мою архангелогородскую жизнь:
– Только не падайте духом. Поверьте мне, старику: в том, что люди, распоряжающиеся нашей с вами судьбой, направили вас сюда, безусловно, есть для вас своя хорошая сторона. Вот вы только что окончили институт. Но вы, – простите за откровенность, – человек еще не образованный. Институт – это только подготовка к настоящему образованию. В суматошливой Москве вы бы завертелись, на вас посыпались бы срочные заказы, времени для расширения и углубления знаний у вас бы не оставалось. А тут времени для этого сколько угодно – была бы охота. Ссылка (не лагерь, а ссылка; вы благодарите Бога, что избегли лагеря), ссылка – отличная школа для людей, которые хотят стать не формально, а действительно образованными. Вам знакомо имя академика Тана-Богораза? Ученым он стал благодаря ссылке. Для литератора, как и для ученого, нужна не только светлая голова, но и… – извините, Елена Михайловна! – крепкая задница. Здесь есть прекрасная научная библиотека – недалеко от нас, почти напротив Большого театра.
Поменьше общайтесь с людьми. Это отвлекает от занятий. Когда я получил кафедру в Томском университете, я повесил на двери своей квартиры табличку: «Профессор Н. Я. Новомбергский. Никогда никого не принимает. Просьба не звонить и не беспокоить». А в наших с вами условиях это еще и небезопасно.
Особенно избегайте дружбы со ссыльными. Среди «адмов» немало осведомителей. С их помощью местное ГПУ, чтобы отличиться перед Москвой, создает новые дела, дает новые сроки. Если и не арестуют, то по доносу вызовут и пристанут: «Нам известно, что вы там-то говорили то-то и то-то. Поступайте к нам в секретные сотрудники, в “сексоты”, давайте подписку – а не то новый срок». Вербовка агентов тут идет полным ходом. И хозяевам особенно не доверяйте. Северяне – народ с виду неприветливый, суровый, но честный и отзывчивый. В этом вы сами убедитесь. Но ГПУ и хозяев вербует, велит за нашим братом, «адмом», послеживать. Вот я недавно отворил дверь из нашей комнаты – хозяйка еле успела отскочить. Я ее спросил: «Служите? Сколько получаете?»
Во главе северного ГПУ стоят два латыша – Аустрин и Шийрон, но его «мозгом» называют еврея Вольфсона. Говорят, он человек в самом деле неглупый, в политических вопросах разбирается, любит вести теоретические дискуссии со ссыльными троцкистами» меньшевиками, эсерами и ловко умеет оплетать. А уж если птичка попалась – «Стой! Не уйдешь из сети. Не расстанемся с тобой ни за что на свете».
Прощаясь с моей матерью, Новомбергский сказал, что хотя он и здесь придерживается своего правила – почти никого не принимает, но для меня дверь их комнатушки всегда открыта и что он с Марьей Ивановной (так звали его жену) сделают все, чтобы мне здесь жилось теплее.
Хозяин через свое учреждение достал моей матери билет до Москвы и поехал провожать ее на вокзал. Как я ни настаивал, мама умолила меня не провожать ее: был мороз с ветром, и она боялась, что я простужусь, переходя Двину. Потом она писала мне, что Венедикт Александрович всю дорогу ее успокаивал, ручался, что у них мне будет хорошо.
Бывало, я захлебывался слезами, когда мать уезжала из Москвы в Перемышль после проведенных со мною каникул. А тут, прощаясь с ней до лета, впервые оставаясь один в чужом городе, я не обронил ни одной слезы. Наркоз продолжал действовать. Внутри все болело, но болело приглушенно, тупо.
Несколько дней я не мог заставить себя выйти, погулять по городу. Даже перейти Петроградский проспект и купить по. «коммерческой» цене хлеба – это была пока еще непосильная нагрузка для моей надломленной воли. Я целыми днями читал, вернее – перечитывал. Книги брал у соквартирантов. Как нарочно, для начала мне попались «Бесы» и «Обреченные на гибель» Сергеева-Ценского. Я читал и думал: эвона куда тянутся нити от Аленцева, Исаева, прекрасной латышки и человека в пенсне! Идеи Ивана Карамазова толкнули Смердякова на убийство. Степаны Трофимовичи породили Петров Степановичей, Липутиных, Лямшиных и Шигалевых, те породили Иртышовых. Но у Петров Верховенских и даже у Иртышовых были бредовые, человеконенавистнические, но все же идеи, а мы отданы во власть просто бандитам, уже без всяких идей. Вот оно, генеалогическое древо большевизма!
Карповы проявляли заботу обо мне ежедневно и многообразно. Нередко Венедикт Александрович, в котором никак нельзя было признать местного уроженца – такие черные были у него волосы и такие черные дремучие брови, – явившись со службы, входил, волоча левую ногу и одной рукой держась за левую ягодицу, – у него был застарелый ишиас – и протягивал мне сверток.
– На-ка тебе, Никола, щёмушки, – шамкал он по причине отсутствия передних зубов. Семгу он раздобывал в своем «северолесовском» распределителе и уделял мне часть своего пайка. И не было такого случая, чтобы Марфа Ивановна не угостила меня каким-либо из своих тестяных изделий или «трещочкой», то есть трескою, которая для северян представляет лакомое блюдо во всех видах.
Венедикт Александрович был на войне с 14-го по 18-й год. Однажды, предаваясь воспоминаниям о том, как туго приходилось русским на передовых позициях, он задал мне вопрос:
– Нико́ла! Ты что-нибудь слыхал про Пуришкевича?
Я слыхал о Пуришкевиче как о яром монархисте, организаторе Союза Михаила Архангела; как о выдающемся ораторе, как о enfant terrible[15] Государственной Думы, прерывавшем речи «левых» кукареканьем, ругавшем с трибуны по матери ненавистного ему «Пашку Милюкова». Слышал о нем как о человеке, искреннем в своем фанатизме, бесстрашном, прямом, с трибуны бросившем министру внутренних дел Протопопову, что тот сидит не на своем месте, и на упреки «правых» в «полевении» и «покраснении» ответившем: «Я слуга своего царя и своей родины, но не лакей министра», помирившимся с Милюковым в начале войны, ибо сейчас, мол, надо забыть о мелких распрях во имя спасения России; заявившим уже в разгар Февральской революции: «Я убежденный монархист, готов пожать руку последнему социалисту, если он – верный слуга своей родины». Слышал, что в начале войны 1914 года он публично расцеловался с петербургским раввином за то, что раввин собрал крупную сумму на нужды армии. Читал в ранней юности случайно залетевшую к нам его книгу «Пред грозою». Слышал и читал о нем как об одном из убийц Распутина. (Его дневник мне тогда еще не попадался.) Наконец, до меня дошло стихотворение Пуришкевича, по своему стилю, ритму и даже по отдельным красочным пятнам близкое к «Двенадцати» Блока, быть может, отличающееся не столь значительными художественными достоинствами, но зато обличающее в его авторе несравненно большую, нежели у Блока, зрелость и стройность мысли и политическую дальнозоркость:
Не видать земли ни пяди. Все смешалось: шпики, бляди. С красным знаменем вперед Оголтелый прет народ. Нет ни совести, ни чести, Все с говном смешалось вместе. Так и хочется сказать: Дождались……….!– Я Пуришкевича до самой смерти не забуду, – сказал Венедикт Александрович.
Я подумал» что он преисполнен к Пуришкевичу ненависти как к заядлому монархисту.
– Если б он не подвозил нам на своем поезде продовольствия и не подбирал раненых, мы бы с голоду передохли и кровью истекли, – продолжал Венедикт Александрович. – Другие распинались за народ в Думе, а он дело делал. Ты не знаешь, он жив? Умер? Ну, царство ему небесное.
Таков был отзыв простого солдата о Пуришкевиче-человеке. Потом мне не раз приходилось слышать о нем подобные отзывы, и опять-таки от тех, кто узнал в первую мировую войну, почем фунт русского солдатского лиха.
Рассказам о Пуришкевиче, запавшим мне в память давным-давно, и словам Венедикта Александровича впоследствии я нашел подтверждение в дневнике Пуришкевича, переизданном у нас в 23-м году.
В дневнике Пуришкевич пишет, что он на фронте с первых дней войны:
В течение двух с половиной лет войны я был политическим мертвецом: я молчал и в дни случайных наездов в Петроград, посещая Государственную Думу, сидел на заседаниях ее простым зрителем…
У него вызывают негодование «забывшие о родине и помнящие только о своих интересах» Протопоповы, имя коим был тогда легион и которых он называет калейдоскопом бездарности, эгоизма и карьеризма:
…как жалки мне те, которые, не взвешивая своих сил и опыта, в это ответственное время дерзают соглашаться занимать посты управления…
19 ноября 1916 года Пуришкевич произнес свою знаменитую речь, в которой попытался «без ужимок лукавых царедворцев» сказать правду о положении России и которая вызвала восторженно-сочувственный отклик у представителей разных партий, направлений и разных слоев общества, а накануне порвал с правой фракцией Думы.
Он так прямо и пишет:
С гг, Марковым, Замысловским и Левашовым мне не по пути.
Война сдунула с Пуришкевича шелуху грубого национализма и косной партийности.
Он обосновывает свой уход от правых с позиций широкого, истинного патриотизма:
Нам не столковаться… ни в будущем, ни в особенности сейчас, в тяжелые годы войны, когда нужно прилагать все усилия к духовному объединению русских граждан, вне всякой зависимости от того, какой они нации, религии… (Курсив в цитатах из дневника Пуришкевича – мой – H. Л.)
Гг. Марковым, Замысловским, в их партийных шорах, не подняться выше своей уездной колокольни в тот день, когда на Россию нужно глядеть с колокольни Ивана Великого и суметь многое забыть, простить и со многим, во имя любви к общей родине, душевно примириться…
…все домашние распри должны быть забыты в минуты войны… все партийные оттенки должны быть затушеваны в интересах того великого общего дела, которого требует от всех своих граждан, по призыву царя, многострадальная Россия…
На одном из заседаний Государственной Думы Церетелли мягко парировал очередной выпад Пуришкевича:
– Вы ошибаетесь и в этом, как и во многом другом.
Владимир Митрофанович действительно ошибался во многом, иной раз принимал единомышленников за противников, стрелял из пушек по воробьям, тузил правого и виноватого, терял власть над своим темпераментом, мчался закусив удила. Сколько угодно доказательств тому можно почерпнуть из недавно перечитанной мною его книги «Пред грозою». Но в самом главном он не ошибался. В отличие от Церетелли, Милюковых и Родичевых всех отливов и переливов, Пуришкевич обладал птичьим предощущением надвигающейся бури, той бури, от которой Милюковым, Родичевым, Керенским, Черновым, Бурцевым, Зензиновым, Либерам, Данам, Мережковским пришлось удирать, задрав портки. В отличие от них он уже слышал раскатистый грохот обвала, а за обвалом видел смрадную мерзость запустения. И еще не ошибался он в том, что главными виновниками обвала были именно они.
Только человек, наделенный даром пророка, мог назвать свою книгу, вышедшую в июне 1914 года, – «Пред грозою».
Пуришкевич во введении к «Пред грозою» обращался к бледно– и ярко-розовым русским интеллигентам:
Вам – Панургово стадо в загоне Бурцевских лохмачей, вам – кроты русской государственности, вам – жалкие думские пигмеи, вам – соучастникам политического подполья» обкрадывающего душу народную» – вам эта книга!
Когда под дикий крик интернационала» с красным знаменем и топором в руках пойдет гулять до родовым поместьям вашим разъяренная чернь и зарево пожара горящих усадеб ваших ярко осветит ваши» паническим страхом искаженные лица, знайте – вы и только вы одни будете виновниками собственной гибели в чаду безумием вашим подготовленных событий.
Там и тогда, только тогда… вы клясться станете… вернуть Россию на путь спокойствия и государственного благополучия, тогда» только тогда, но, увы! – тогда[16]… тогда будет поздно!
Петербург
13 июня 1914 года.
Из главы I:
Молчит русское общество… а в низах народных идет глухая упорная работа над душою народа тех, которые, сознав истинные причины своих неудач в дни революционного угара 1905 года» дружно… взялись за их искоренение.
Из главы II:
В истории России не было момента более ужасного, чем тот, свидетелями коего являемся мы. Ни иноземные нашествия, ни потоки крови, коими заливалась Россия в годы своих общественных и государственных бедствий, – ничто не может сравняться с ужасом переживаемой нами «тишины», с гнетом царящего в России сейчас «общественного спокойствия».
Открытый враг, с которым приходилось сталкиваться России в дни ее прошлого… унижал ее, трепал ее, но закалял сердца народа в чувстве обиды и» сплачивая лучшие силы страны, приводил их к торжеству правой победы.
Из главы XIV:
Власть спит» убаюканная миражом наружного спокойствия. Власть не понимает или, вернее, не хочет понять того, что море народное всколыхнуть трудно и стоит больших усилий, но что разбушевавшееся – оно сметет все то, чем потщатся, в минуты отрезвления и быть может запоздалого раскаяния, остановить напор бушующей стихии слепые мудрецы, ищущие прав власти, но бегущие ее обязанностей, самодовольные и самоуверенные, душе коих чуждо сознание исторической ответственности за дальнейшие судьбы их попустительством уже духовно полуискалеченной России.
Из главы XVII:
…в низах народных… идет все разрастаясь, все ширясь, кипучая работа разрушения: выковываются сердца для второй русской революции…
…Спустя, примерно, неделю, я заставил себя выйти из дому. Первый мой выход был в книжный магазин, помещавшийся все на той же улице Павлина Виноградова, бесконечно длинной, единственной во всем городе, где ходил трамвай (он только на окраинах делал петли), на остановках которого кондукторши вместо: «Все вышли?» – спрашивали: «Все выходящие?» Тут был и универмаг, и гостиница, и лучшие продовольственные магазины, и доживавший последние дни Торгсин, и ресторан, и Театр юного зрителя, и кожновенерологический диспансер, и ОГПУ, и поликлиника» и правительственные учреждения, и Северолес, и краеведческий музей, и редакция газеты «Правда Севера», и кино «Ударник». Поодаль, на бывшей Соборной площади, на месте снесенного Троицкого собора петровского времени, стоит Большой драматический театр, наискосок от него, – в двух шагах от «Павлина Виноградова» – научная библиотека с читальным залом.
Первое время я все оглядывался, не идет ли кто-нибудь за мной. Если в трамвае ехал человек в форме ОГПУ, я проникался уверенностью, что это – за мной. Ну, ясно: я схожу на Вологодской, и он сходит на Вологодской, я иду направо, и он – направо. Я замедляю шаги, пропускаю его вперед. Он проходит мимо дома № 31 и заворачивает за угол… От этого страха я долго не мог излечиться.
И никак я не мог отделаться от ощущения внутреннего озноба. Мне казалось, что я прозяб где-то глубоко внутри, и этот холод из тайников души распространяется по всему телу. Несмотря на то, что стояла теплая архангелогородская зима, я, выходя на улицу, кутался так, как будто мне предстояло проехать тридцать верст на санях в трескучий мороз.
Однажды, ранним вечером, Марфа Ивановна сказала, что меня спрашивает какой-то мужчина. «Опять все сначала?» – подумал я. Выхожу в кухню – у порога Новомбергский.
– А я за вами… Что-то вы давно у нас не были. Мы уж забеспокоились – здоровы ли?
– Раздевайтесь, Николай Яковлевич, пойдемте ко мне.
– Нет-нет, Марья Ивановна нас ждет. Одевайтесь – и едем.
До трамвая он шел медленно из-за одышки: у него было больное сердце.
С тех пор я стал часто бывать у Новомбергских. И не знаю, кого я сильней полюбил, – Николая Яковлевича или Марью Ивановну, болезненно полную, с лунообразным лицом.
Перед Пасхой опять у меня неожиданно появился Новомбергский.
– Меня к вам Марья Ивановна прислала, – пояснил он и вручил мне узел. В узле оказались куличик, пасха и крашеные яйца.
Мне вспомнились слова Николая Яковлевича:
– Я – верующий, но я верю, не мудрствуя. Словопрения наших ученых богословов – Трубецкого, Булгакова, Бердяева – это для меня, по правде сказать, не в коня корм. В церковь я не хожу из-за сердца – боюсь давки, духоты. Но молюсь ежедневно, как встану: «Господи! Отведи врагов от дома моего и наставь меня на добрые дела!»
Осенью 34-го года я делал в Архангельске свой первый публичный доклад – о книжечке рассказов одного местного литератора. Николай Яковлевич пришел меня послушать, имел терпение досидеть до конца, а потом, у себя за чашкой чая, подробно разобрал доклад, в общем одобрил, но не без добродушного ехидства высмеял мое щегольство модными терминами.
Новомбергский, выходец из простонародья, окончил два факультета: юридический – в Варшаве и археологический – в Петербурге. Он был крупный историк. Когда я с ним познакомился, ему было уже за шестьдесят. Больше полжизни провел он в Сибири, читал лекции в Томском университете, сотрудничал в сибирских газетах, помогал никому тогда не ведомому ссыльному Бронштейну печатать его бойко написанные корреспонденции (то были первые пробы пера JL Д. Троцкого), интересовался бытом Сибири, побывал на Сахалине, присутствовал при допросах бродяг, приводил мне на память отрывки из диалогов:
– Как зовут?
– Иваном, родства не помнящим.
– Ты откуда?
– Из тех ворот, откуда весь народ.
Как профессор Новомбергский попал в Архангельск? Решив закончить свой многотомный труд «Слово и дело государевы», он в 29-м году ушел из Томского университета. Университетское начальство обратилось к нему с просьбой, больше похожей на требование: принести университету в дар его библиотеку. А библиотеку он собрал громадную, особый раздел в ней составляла Сибирь, ее история, география, этнография. Новомбергский ответил, что библиотеку он завещает в дар университету, но, пока он жив, она необходима ему для работы. Вскоре после этого за ним пришли из ОГПУ» а библиотеку опечатали. Так как в ней было много разных карт Сибири, то на основании этого Новомбергский был обвинен в шпионаже: он-де собирал карты для передачи японскому генштабу. Пришить ему шпионаж в пользу Японии было тем проще, что в начале века он там побывал, равно как и в Манчжурии, и в Корее. К тому же в 1905 году он читал лекции в Париже, в высшей русской школе общественных наук. Николай Яковлевич получил пять лет концлагеря, а библиотека его была конфискована. В лагере он пробыл три года. Заканчивать срок его отправили на вольное поселение – в Архангельск. В разговоре с Новомбергским я случайно упомянул, что сидел вместе с доктором Беляевым.
– С Романом Леонидовичем? – так вся и встрепенулась Марья Ивановна.
Оказалось, что Роман Леонидович, рискуя вылететь с места, много сделал для этой прежде совершенно не знакомой ему «русской женщины»: зная, что ее муж – в лагере, что в Томске ее уволили как жену японского шпиона, он принял ее к себе в поликлинику на работу, хотя в Москве она жила у знакомых без прописки. Когда же Николая Яковлевича отправили в Архангельск, Марья Ивановна приехала сюда и тут легко устроилась в поликлинике водников. В 34-м году Николая Яковлевича по болезни освободили досрочно. В том же году я, занимаясь творчеством Ал. Ник. Толстого, наткнулся в его заметках «Как мы пишем» на высказывание, из которого явствовало, сколь многим он, как исторический романист, обязан Новомбергскому, его труду «Слово и дело государевы», где приведены «пыточные записи», открывшие перед Толстым россыпи старинного народного языка: «Я работал ощупью. У меня всегда было очень критическое отношение к самому себе, но я начинал приходить в отчаяние: я не могу идти вперед. В конце шестнадцатого года покойный историк В. В. Каллаш, узнав о моих планах писать о Петре I, снабдил меня книгой: это были собранные профессором Новомбергским пыточные записи XVII века, так называемые дела “Слова и дела”… И вдруг моя утлая лодчонка выплыла из непроницаемого тумана на сияющую гладь… Я увидел, почувствовал, – осязал: русский язык.
Дьяки и подьячие Московской Руси искусно записывали показания, их задачей было сжато и точно, сохраняя все особенности речи пытаемого, передать его рассказ…
В судебных (пыточных) актах – язык дела, там не гнушались “подлой” речью, там рассказывала, стонала, лгала, вопила от боли и страха народная Русь, Язык чистый, простой, точный, образный, гибкий, будто нарочно созданный для великого искусства. Увлеченный открытыми сокровищами, я решился произвести опыт и написал рассказ “Наваждение”. Я был потрясен легкостью, с какою язык укладывался в кристаллические формы».
Я прочитал это место Николаю Яковлевичу и посоветовал обратиться к Алексею Толстому с просьбой посодействовать в получении академической пенсии, которая дала бы возможность Николаю Яковлевичу завершить труд многих лет. Николай Яковлевич так и сделал. Толстой не замедлил откликнуться: написал Николаю Яковлевичу краткое, но исполненное благодарного чувства и глубокого уважения письмо, в котором уведомлял его, что он уже вступил в ходатайство за него перед Народным Комиссаром Просвещения Бубновым. Но тут грянул выстрел в Кирова, и Бубнов положил просьбу Новомбергского под сукно, а Новомбергский больше о себе никому не напоминал. Но еще до моего отъезда из Архангельска его пригласили читать лекции в один из местных вузов. Труд свой он так и не закончил. Если не ошибаюсь, ему оставалось подготовить к печати всего один том. Умер он в преклонных летах, уже после войны, от рака поджелудочной железы.
С каждым моим приходом лицо у Николая Яковлевича светлело.
– А, пожалуйте, пожалуйте! – отворяя мне дверь, говорил он.
От природы он был не из весельчаков, светской любезностью не отличался, в чем я очень скоро удостоверился, и его сдержанное, но неподдельное радушие всякий раз меня трогало.
Его литературные вкусы изумляли своей широтой. Он любил, когда я читал наизусть стихи, а ведь я тогда читал почти исключительно послереволюционных поэтов. С особым волнением он слушал Есенина. Но ему нравилась и «Песня о ветре» Луговского – и он, и Марья Ивановна находили, что от нее пахнет Сибирью, охваченной пламенем гражданской войны. Нравился ему Антокольский, в котором он ценил уменье воссоздать колорит разных стран и разных исторических эпох. Нравились Багрицкий, Сельвинский, нравился Смеляков. На «бис» он всегда просил меня прочесть «Стихи в честь Натальи» Павла Васильева. Его ничуть не коробил огрубленный словарь Маяковского, «Весны» Багрицкого, стихов Антокольского о Парижской коммуне, «Стихов в честь Натальи». Он приветствовал эту огрубленность как одно из средств обновления поэтического языка, он видел в этом дальнейшее развитие некрасовской традиции.
По своим политическим убеждениям Новомбергский был либерал. Заветы Белинского, Чернышевского и Добролюбова были для него священны. Он один-единственный раз на меня рассердился, когда я сочувственно процитировал Тынянова: «В 1834 году Белинский отважно написал вздор о XVIII веке в “Литературных мечтаниях”: он с гордостью, даже с энтузиазмом заявил о своем невежестве…: “У нас нет литературы”». Верен был Новомбергский заветам своих духовных учителей в политике, в эстетике, но не в философии. Материализм, атеизм был чужд его действенно христианской душе.
– Самодержавный строй весь прогнил, до единого бревнышка, – говорил Новомбергский.
Всю свою сознательную жизнь он чаял революции, конечно, как и многие русские интеллигенты, не предвидя от сего тех последствий, к которым она привела. И в самом начале Октябрьской революции он раз навсегда от нее отшатнулся и уже не верил ни в какие посулы, ни в какие реформы. В июле 34-го года ОГПУ было преобразовано в Народный Комиссариат Внутренних Дел. Бывшему ОГПУ отводилось в нем как будто бы скромное положение – одного из управлений Комиссариата: оно теперь называлось Управлением государственной безопасности. Меня и мою мать смутило то обстоятельство, что во главе Комиссариата стали «знакомые все лица»: Ягода, Агранов, Прокофьев. Когда мы спросили Николая Яковлевича, какого он мнения об этом преобразовании, он заметил:
– Галстучки надели, для заграницы… Неудобно… В Германии – разгул фашизма, а у нас – «социалистический гуманизм»…
«Галстучки надели» и в Архангельске, но по существу все оставалось по-прежнему. Табличку, на которой было написано: ПП ОГПУ, сняли, вместо нее прибили другую: «Управление НКВД по Северному краю». Но во главе управления остались все тот же коренастый, пучеглазый Аустрин и гороподобный, плосколицый Шийрон. И по-прежнему около аустринского особняка днем и ночью стоял постовой милиционер. И по-прежнему над входом в чахленький садик, разбитый руками заключенных на улице Павлина Виноградова, красовалась надпись: «Сад Динамо имени тов. Аустрина».
Тою же мерой, какою мерили они, им отмерили в годы ежовщины, и не только им. В Архангельск прибыл с чрезвычайными полномочиями член Политбюро Андрей Андреевич Андреев и вывез в Москву на правеж целый поезд партийных и советских работников вместе с первым секретарем краевого комитета партии Дмитрием Алексеевичем Конториным.
Такие чрезвычайные меры были вызваны следующим обстоятельством: еще в бытность мою в Архангельске первым секретарем крайкома партии был некий Владимир Иванович Иванов, а Конторин – вторым. Как пресмыкался тогда сановный и чиновный Архангельск перед Ивановым, как ему кадили, какие пели панегирики и дифирамбы в печати и на собраниях! И еще при мне Иванова перевели в Москву с большим повышением – его назначили Народным Комиссаром Лесной Промышленности. А в ежовщину его почему-то замешали в бухаринеко-рыковский процесс и на процессе предъявили ему обвинение, помимо участия во всех «преступлениях», якобы совершенных бухаринцами, еще и в том, что он был агентом царской охранки. Как тут не вспомнить Роллановского «Дантона»!
Робеспьер. Я предлагаю не устраивать Дантону отдельного процесса. Много чести. Не следует привлекать к нему особое внимание Нации.
Билло. Потопим его в общем обвинительном заключении.
Вадье. А кого для приправы?
…………………………………………………
Робеспьер. Дело Дантона мы должны объединить с делом о банках. Пусть займет место на скамье подсудимых среди взяточников. Кстати, там он встретится со своим другом, со своим секретарем, со своим любимым Фабром д’Эглантином.
Вадье. Фабр, Шабо, богатые евреи, австрийские банкиры… Отлично, это уже на что-то похоже!
Билло. Надо бы присоединить к обвиняемым и Эро…
Сен-Жюст. Прежде всего – Филиппо…
Робеспьер. А заодно и Вестермана[17]…
…Молодость мало того что ветрена – она черства, неблагодарна. И, – замечу мимоходом, – вопреки тому, что принято думать о молодости, она гораздо более податлива, гораздо менее устойчива, нежели зрелость и старость.
В последний год моей жизни в Архангельске у меня появились друзья, представлявшие для меня больший интерес, чем Новомбергские, и я стал реже навещать моих стариков. Теперь я вспоминаю об этом со стесненным сердцем.
…Я прожил в Архангельске уже целый месяц, а все никак не мог отважиться на поиски работы. Между тем сидеть на шее у матери и у теток мне не улыбалось. Им и так уже мое заключение влетело в копеечку с коньком. Наконец я взял себя в руки. Прежде всего разъявился в редакцию краевой газеты «Правда Севера». Какой-то человек, весь в прыщах баклажанного цвета, сказал мне, что газете нужны «литправщики» и, несмотря на то, что я с места в карьер осведомил его о своем положении, попросил зайти через несколько дней. Когда же я зашел к этому самому товарищу Калиничеву вторично, он, подняв на меня подслеповатые глаза и тут же опустив их, выдавил из себя, как бы нехотя продолжая прерванный разговор:
– …Так слушайте, ничего у нас с вами не выйдет.
Прохаживаясь по улице Павлина Виноградова, я обратил внимание на одну вывеску, оповещавшую о том, что здесь находится оргкомитет Северного краевого отделения Союза писателей и редакция журнала «Звезда Севера». Я решил толкнуться туда. И оргкомитет» и редакция помещались в одной полутемной комнате. Слева, как войдешь, за занавеской что-то разогревал на керосинке сивобородый дед в шапке-ушанке и в валенках. Это был уборщик и сторож. Справа, у окна, я увидел пухленькую нарядную блондинку. Я подошел к ней и спросил, не могу ли я быть полезен оргкомитету и редакции. Она показала на человека, сидевшего в профиль к нам за столом у задней стены и при свете настольной лампы читавшего какую-то рукопись:
– Обратитесь, пожалуйста, к товарищу Попову.
Я приблизился к длинноносому человеку с отвислой нижней губой, придававшей его лицу обиженно-недовольное выражение.
«Товарищ Попов» был председателем оргкомитета и ответственным редактором журнала. Я и тут взял быка за рога: сообщил, что в Архангельске я не по своей доброй воле, а засим предъявил две справки: об окончании института и из «Academia».
– Ах, вас знает Лев Борисыч! – умилился Попов и назначил прийти к нему для окончательных переговоров через два дня.
Через два дня только мы с Поповым успели поздороваться, как он уже начал деловой разговор:
– Напишите для нашего журнала статью об Артеме Веселом. Кроме того, нам нужен консультант по работе с начинающими авторами. Нам со всех концов Северного края молодые авторы шлют свои рассказы, повести, стихи. Наш штатный консультант – поэт Владимир Иванович Жилкин – не может справиться со всей этой лавиной, потому что он по совместительству заведует поэтическим отделом журнала. Для своей творческой работы у него уже совсем не остается времени. Ваша задача – отбирать для журнала то, что вам покажется пригодным, а большинству пишите письма, учите их мастерству. Оплата – в зависимости от того, сколько вы прочтете рукописей, – построчно, если это стихи, и полистно, если это проза.
Я был на седьмом небе. «Россию, кровью умытую» Артема Веселого я любил, писать о ней мне было приятно.
Статья моя не вызвала возражений у редакции, но так и не увидела света. Вернее всего, это был мой «вступительный экзамен». А кроме того, Артем Веселый, входивший в так называемую «северную бригаду» московских писателей, вскоре из этой бригады вышел и перестал интересовать местную писательскую организацию.
Я стал заглядывать в редакцию все чаще и чаще. Приносил ответы на удручающе бездарные и малограмотные произведения «юных дарований» и забирал домой новую пачку.
Я приглядывался к литераторам, как к местным, так и к бывшим и нынешним ссыльным.
7 июля 1933 года покончил с собой член ЦК ВКП(б), Народный Комиссар Просвещения Украины Скрыпник. ЦК объявил во всеобщее сведение, что Скрыпник «запутался в связях» с активизировавшимися за последнее время «буржуазно-националистическими элементами», В извещении не были забыты прежние заслуги Скрыпника. Газеты поместили его портрет и не пожалели для него траурной каймы. Во второй половине 30-х годов, когда чуть не взвод крупных партийных и государственных деятелей над собой расправу учинил, считалось, что траурная кайма – это слишком много чести. А вот «запутавшись в связях» мы встретим потом и в других такого рода извещениях – эта формула была признана наиудобнейшей для объяснения широким трудящимся массам, почему старые большевики, участники гражданской войны, до последнего дня занимавшие видные, во всяком случае ответственные посты, пускают себе пулю в лоб. В 1933 году покончил жизнь самоубийством и писатель Хвылевой. Драматурга Кулиша и Остапа Вишню закатали в концлагерь. По всей Украине были проведены массовые аресты. Хлынула волна ссыльных украинцев и в Архангельск.
Один из них, бывший преподаватель педвуза Романенко, печатал свои критические статьи в «Звезде Севера». Самодовольная тупость написана у этого человека на лице.
– Поэта, равного Шевченко, нет во всем мире, – тоном, не допускающим возражений, говорил он. – Кого из русских поэтов вы поставите с ним рядом? Пушкина? Но вы и у Пушкина не найдете того, чем богат Шевченко. От! – для большей вескости добавлял он.
– А Лэся Украинка? Это ж единственный в своем роде лирик. Кого вы можете ей противопоставить? Тютчева? Он не такой задушевный лирик и не такой глубокий мыслитель. От!
– А Коцюбиньский? Его с Чеховым не сравнишь. Он стоит совершенно особняком. От!
Находившийся тогда в ссылке московский писатель Сергей Марков, пострадавший по одному делу с Леонидом Мартыновым, сосланным в Вологду, пародировал Романенко так:
– Э! Шо у вас Чернышевський, то у нас Мазэпа. От!
Как-то зашла в редакцию женщина средних лет и принесла Попову рукопись. Держалась она не развязно, но свободно, как не держали себя ссыльные, в которых сразу чувствовалась скованность.
– Вы, конечно, этого не напечатаете, – с усмешкой сказала она Попову. – В самом рассказе ничего «крамольного» нет – вы не напечатаете рассказ только потому, что его написала я. Принесла я вам его на всякий случай – а вдруг? Чем черт не шутит, когда Бог спит?
Я узнал, что это – Суровцева, в прошлом – видный партийный деятель на Украине. Она долго сидела в тюрьме, остаток срока отбывала в Архангельске как адмссыльная. Еще до знакомства с ней я убедился, что гепеушники не отвели от нее попечительного взора. В одну из первых моих бесед в «главном здании», о которых я расскажу дальше, мне задали вопрос:
– Вы Суровцеву знаете?
Я ответил истинную правду: в первый раз, мол, слышу такую фамилию. Но с того дня она запала мне в память.
Потом кто-то нас познакомил. Суровцеву можно было встретить в театре, в концертном зале – всегда с кем-нибудь из «украинских националистов». Она пришла на тот мой доклад, на котором присутствовал Новомбергский. (А делал я доклад о книге рассказов Георгия Шелеста. Этот самый Шелест был одно время уполномоченным Литературного фонда по Северному краю, но примерно через год после моего доклада проворовался, однако под суд не угодил, козла только выгнали из огорода. Еще немного погодя я узнал, что Шелест – сексот, а уже выехав из Архангельска, узнал, что в ежовщину это Шелесту не помогло и что он загремел в концлагерь. После реабилитации он всплыл, обосновался в Сибири и, для противовеса Солженицыну, сплел небывальщину о лагерных нравах в московском журнале «Знамя» за 1964 год.)
Бывать у Суровцевой я не бывал, но при встречах на улице беседовал с ней. От нее самой я узнал, что муж ее – в «конце». Она ждала, что муж, освободившись, приедет сюда, в уже насиженное ею гнездо, а там они рассудят, оставаться им в этом гнезде или лететь туда, где потеплей, – на «Вкраину милу».
После убийства Кирова и суда над Зиновьевым и Каменевым мы встретились с ней на пустынной по-зимнему набережной и долго гуляли. Я спросил, думает ли она восстанавливаться в партии.
– А зачем? – вопросом на вопрос ответила Суровцева. – Чтобы через некоторое время опять вышибли, да еще и новое дело пришили?
– Ведь вот же Бухарин, Рыков, Томский покаялись, – возразил я. – Вы, конечно, помните, что сказал Бухарин на пленуме в тридцать третьем году? «Исторически сложившееся руководство нашей партии», – ничего, мол, не попишешь, против рожна не попрешь. И вот все-таки они в партии, могут хоть как-то влиять на умы, Бухарин – по-прежнему редактор «Известий»…
– Ну» знаете, кому-кому» а Бухарину, Рыкову и Томскому я не завидую, – перебила меня Суровцева. – Не сегодня-завтра и до них доберутся.
Предсказание Суровцевой через два года сбылось. А тогда она показалась мне чересчур мрачной пессимисткой.
Уже когда я покинул пределы Северного края, до меня долетела весть, что, как только она дождалась мужа, их обоих арестовали вновь. Такова была участь всех, кто принадлежал к какой-нибудь партии или к оппозиции: такова была участь меньшевиков, эсеров, троцкистов, «правых оппортунистов», националистов.
Изредка залетал в редакцию низкорослый человечек, гордо выпячивавший грудь, чтобы казаться выше, с бегающими глазками, с черной бородкой, оттенявшей мучнистость его одутловатого лица. Он не говорил – он вещал. То отступит на шаг и примет величественную позу, то стремительно ринется вперед.
Это был московский поэт-импровизатор Борис Михайлович Зубакин, сосланный в Архангельск по одному делу с поэтом, стихотворным переводчиком, стиховедом и мемуаристом, другом Блока Владимиром Пястом, и уже отбывший срок ссылки. Про Зубакина разные слухи ходили: будто бы в Москве он спал в гробу, служил «черные мессы». В Архангельске он был и швец, и жнец, и в дуду игрец. Чем он только не занимался! Перед началом концертов в филармонии выступал с «пояснительными словами», преуморительно «марксизируя». Это дало повод Сергею Маркову одну из своих эпиграмм на Зубакина закончить так:
Он про марксистские науки С оккультным видом говорит…Одно время Зубакин прилепился к местной знаменитости – моржеобразному художнику-пейзажисту и сказочнику Степану Писахову – и всюду тискал о нем статейки.
Затем Писахов его почему-то отшил.
Мне в Зубакине претило его позерство. Казалось, что в нем нет ничего естественного, ничего непоказного.
Однажды я при всем редакционном народе вывел его на чистую воду.
– Даже Андрей Белый – уж на что злюка, а и тот назвал меня в своих воспоминаниях гениальным импровизатором, – похвастался Зубакин.
А я как раз незадолго до этого разговора прочитал «Начало века» Андрея Белого. Память у меня была тогда словно клеем намазана: к ней липли и стихи, и целые куски прозы.
– Нет, позвольте, Борис Михайлович, – вмешался я. – Белый назвал не вас, а Бальмонта «гением импровизации», а про вас у него сказано несколько иначе: «Слушал Зубакина, импровизатора: жарит-то как! Ни единого слова живого: пошлятина дохлая!»
Зубакин смутился только на мгновенье – и перепорхнул на другую тему.
Одна его фраза навела меня на нехорошие мысли о нем.
Как-то он разглагольствовал в редакции, когда там были только Попов и я. И вдруг он сделал изящный пируэт в сторону политики:
– После смерти Ленина в России выбор мог быть, конечно» только один: или Троцкий, или Сталин. Сталин – более крупный политик, Троцкий талантливей его, как литератор. Мне, литератору, больше импонировал бы, конечно, Троцкий…
Мы с Поповым еще глубже уткнули носы в бумаги.
Видя, что никто не клюнул, Зубакин сделал пируэт в сторону холмогорских резчиков по кости, потом в сторону вологодских кружевниц» потом в сторону устюжских мастеров по черни и вскоре удалился.
После убийства Кирова наркомвнудельцы произвели у Зубакина обыск, но почему-то в его отсутствие, когда он был в Москве. Все преисполнились к Зубакину особого сочувствия и с тревогой ждали вслед за молнией громового удара. Но удара, как ни странно, не последовало. Зубакин благополучно возвратился в северную столицу и снова запорхал по редакциям и филармониям. В 37-м году Зубакина в Архангельске все-таки загребли. Но ведь то был потоп всероссийский. Тогда гибли не только «чистые», но и «нечистые». Гибли и осведомители – за то, что служили ныне арестованным начальникам, за то, что, оказывается, осведомляли не так, наконец, просто за то, что много знали. Недавно я наткнулся в письме Горького к Пастернаку от 18 октября 1927 года[18] на одну фразу, укрепившую меня в моем мнении о Зубакине: «Человек с хорошими задатками, но совершенно ни на что не способный – и аморальный человек». Горький плохо разбирался в людях, за что в конце концов поплатился жизнью, а тут вдруг проявил ясновидение.
Вскоре после моего водворения в Архангельске я познакомился со штатным сотрудником «Правды Севера» Абрамом Ефимовичем Ицковичем. Вид у него был сердитый, я бы даже сказал – свирепый. А вглядишься – кротчайшее и жизнерадостнейшее существо. Вывести Абрама Ефимовича из себя, привести его в уныние было далеко не так просто. Свирепость придавали ему, должно быть, седые иглы дикобраза, которыми были утыканы его щеки и подбородок, вечно взлохмаченные седые волосы и очки, в которых одно какое-нибудь стекло было всегда треснуто, – от этого казалось, будто у Абрама Ефимовича бельмо на глазу, – а какая-нибудь одна сломанная дужка подвязана тесемочкой.
В Архангельск он приехал добровольно – временами им овладевала «охота к перемене мест». Он был женат вторым браком на вдове, и дети у них были «твои», «мои» и «наши», но любил их Абрам Ефимович, по-моему, одинаково. Самый старший был журналист» самая младшая ходила в детский сад. Если бы всех их выстроить в ряд, и самого старшего, и Муру, и Филю, и Аету, и Додика, и Алочку, и Ханочку, получилась бы живая диаграмма. Как Абрам Ефимович ухитрялся кормить почти всю эту ораву, как почти все они размещались сначала в гостиничном номере, а потом в двух каморках – это одному Богу известно. В «Правде Севера» Абрам Ефимович занимал скромное положение: он был, выражаясь языком дореволюционной журналистики, «судебным репортером», писал заметки «из залы суда» о растратчиках, мошенниках, взяточниках, квартирных склочниках, хулиганах. В редакции его ценили за добросовестность и абсолютную грамотность – сказывалась сытинская выучка: одно время Абрам Ефимович служил в редакции «Русского слова». Зарабатывал он в Архангельске немного и все же безотказно давал товарищам взаймы, иногда – «без отдачи». Когда он нес домой из столовой обед в судках, Додики, Ал очки и Ханочки выбегали к нему навстречу и устраивали танец веселых дикарей. Абрам Ефимович никогда не повышал на них голоса, как бы они ни галдели, сколько бы к нему ни липли.
– Додик! Ну как тебе не стыдно? – укоризненно глядя на сына поверх очков, пенял он ему. – Ты же видишь, что я разговариваю с дядей Колей.
21 января 1935 года, в «ленинский день», архангелогородские студенты-медики, воспользовавшись тем, что 22 января было тогда днем «неприсутственным» в память петербургских рабочих, расстрелянных в 1905 году, устроили в стенах института попойку, надрались и подрались. В попойке и потасовке принимал участие сын Абрама Ефимовича – Филя.
Это произошло вскоре после убийства Кирова. Архангелогородские наркомвнудельцы, только и думавшие, на ком бы проявить бдительность, похватали студентов и стали шить им «политику»: дескать, нализались нарочно, чтобы оскорбить память Ленина, Лиха беда – начало, а там уже колесо завертелось.
Абрам Ефимович получил приглашение явиться в Управление НКВД «для дачи показаний». Когда он поднялся на указанный в повестке этаж, мимо него провели под конвоем Филю.
В кабинете он застал самого начальника Секретно-политического отдела Блюменберга и его присных. Блюменбергу было известно, что Ицкович – бывший член РСДРП (меньшевиков), что при царе он сидел в тюрьме, побывал в ссылке, жил в эмиграции. Вокруг фактов его биографии и завертелся допрос.
– Назовите нам… ну хотя бы три фамилии видных членов большевистской партии, которых знаете вы и которые знают вас… – начал Блюменберг и тут же прервал себя: – Нет, сначала назовите три фамилии видных меньшевиков, которые в настоящее время проживают на территории СССР, которых знаете вы и которые знают вас.
– Нет» простите, не назову, – ответил Абрам Ефимович.
– Почему?
– Потому что я себе смолоду взял за правило: не называть ни одной фамилии в таких учреждениях, как ваше.
Допрос Абрама Ефимовича продолжался недолго.
– А теперь позвольте мне задать вам только один вопрос, – сказал Абрам Ефимович.
– Какие у вас к нам могут быть вопросы? – развалясь на диване, с издевательским недоумением спросил один из подручных Блюменберга.
– Представьте, что есть, и вы обязаны мне на него ответить, – отрезал Абрам Ефимович. – Я хочу знать» в чем обвиняется мой сын. Я человек юридически грамотный. Достаточно назвать статью и пункт – и я все пойму.
– Этого мы вам сказать не можем, – состроив многозначительно-зловещую мину, объявил Блюменберг.
– Ах, вот как! Не можете? – вскинулся Абрам Ефимович. – Ну тогда простите, настаивать не буду, тем более что это, по всей вероятности, бесполезно. Я только позволю себе рассказать один случай из моей жизни, не проводя никаких параллелей. Когда меня арестовали при царе за революционную деятельность, мой отец, бесправный еврей, мелкий ремесленник, пришел в охранное отделение к человеку, который вел мое дело, и тот ему обстоятельнейшим образом все изложил: в чем я обвиняюсь, что мне приблизительно грозит, когда примерно закончится мое дело, как мое здоровье и в чем я нуждаюсь. Повторяю: я никаких параллелей не провожу – просто мне это сейчас вспомнилось…
Тут Блюменберг торжественно объявил:
– Ваш сын арестован за участие в студенческой террористической организации.
Как можно было Филе и его товарищам, лупившим только друг друга и только при помощи кулаков, присобачить террор – это уж «секрет изобретателей» из архангельского НКВД.
Абраму Ефимовичу удалось узнать, когда военная коллегия будет судить «террористов». Утром, в день суда, он потащился с передачей. Один из караульных в грубой форме отказался принять передачу, хотя у других только что принял.
Ицкович был страшен, даже когда рассказывал мне об этом. Казалось, он кого-то сейчас пронзит своими иглами. Особенно дико сверкал у него один глаз со стеклянным бельмом.
– Зачем же я выхаркивал легкие по царским тюрьмам? – крикнул он. – Очевидно, только затем, чтобы такая сволочь, как ты, здесь распоряжалась.
Оскорбление было нанесено человеку при исполнении им служебных обязанностей. Свидетелей было много, но свидетели загудели сочувственно. И оскорбленный неожиданно обратился к Ицкевичу:
– Ну давайте! Что у вас там?
Филя получил пять лет концлагеря.
А немного погодя Абрама Ефимовича вызвал к себе в кабинет ответственный редактор «Правды Севера» Серебренников и предложил ему подать заявление об уходе «по собственному желанию».
Абрам Ефимович закончил свой рассказ так:
– Даю вам честное слово, Николай Михайлович: они из меня, еврея, социал-демократа… они из меня монархиста сделали!..
И все-таки Абрам Ефимович дешево отделался и за то, что у него сын – «террорист», и за свой меньшевизм, и за свои продерзости. То была всего лишь ягодовщина – в ежовщину ему бы показали, где зимуют раки, и послали туда, куда Макар теляток не ганивал.
Ицкович отправился искать работу почему-то в Ростов-на-Дону, – в город, ему прежде неведомый. Приехав в Ростов и сев в первый попавшийся трамвай, он разговорился с кондукторшей и так сумел расположить ее в свою пользу, что она пустила его к себе на квартиру. Потом он устроился на работу и выписал из Архангельска семью. Сумел ли он во время войны эвакуироваться с семьей из Ростова, мне неизвестно: я потерял его из виду, как только выехал из Архангельска.
Познакомился я в Архангельске и с двумя писателями-гастролерами.
Дважды при мне приезжала в «творческую командировку» на Север ленинградская писательница Елена Михайловна Тагер… Копна совершенно седых волос и молодое лицо… Молодили ее живые, чуть-чуть насмешливые глаза.
Она угодила в ссылку в Архангельск еще в начале 20-х годов – за принадлежность к партии эсеров. Муж ее, тоже эсер, был наказан значительно строже. В Архангельске она скоро устроилась на службу. Но когда она шла со службы к себе на квартиру, за ней неукоснительно и на незначительном расстоянии следовал соглядатай. Это ей в конце концов надоело. Как-то раз она неожиданно для шпика замедлила шаг, так что он невольно с ней поравнялся. Елена Михайловна протянула ему свой портфель.
– Послушайте, – сказала она, – понесите-ка мой портфель, он у меня сегодня тяжелый, а нам с вами, насколько я могла заметить, по дороге.
Шпик стушевался. С того дня такой наглой слежки Елена Михайловна уже за собой не замечала.
Елена Михайловна высказывала нелестные мнения о некоторых своих собратьях по перу. Их закат, вызванный все усиливавшимся политическим гнетом, был для нее очевиден:
– Помните, в «Сне Попова» Алексея Константиновича Толстого есть такие строки:
… как люди в страхе гадки! — Начнет как Бог, а кончит как свинья!Конечно, и Пильняк, и Леонов, и Федин начинали далеко не как боги, но все-таки удачно, и продолжали недурно, а вот уж кончают именно как свиньи. После «Голого года» и «Красного дерева» – «Созревание плодов», плодов червивых, гнилых, да еще тухлое, вонючее «Мясо». После «Барсуков» и «Вора» – «Соть», «Скутаревский», «Дорога на океан»: ведь это, простите, литературный онанизм. Там все фальшиво, все придумано, все нарочито: краденые у Достоевского ситуации, мотивы, язык. Одни покаянные блуждания Скутаревского-фиса вокруг Лубянки чего стоят! Ну чем не «Преступление и наказание»?.. После «Городов и годов» и «Трансвааля» – «Похищение Европы». Вы прочли его до конца? Нет? Напрасно. Если осилите, вам много грехов простится… А уж критики наши! Их злоба прямо пропорциональна их бездарности. Недавно зашла я в ленинградский Союз писателей. Смотрю, восседает на эстраде весь наш критический синклит: Нюся Бескина, Раиса Мессер, Зеликий Штейнман, Тамарченко, Горелов, Добин… Окинула я их взглядом, и невольно у меня возникло человеколюбивое желание: эх, кабы потолок над ними обвалился! Все-таки хоть на чуточку, а посвежел бы воздух у нас в Ленинграде… Но особенно «благородно» держит себя у нас пролезший в «деятели» племянничек Венгерова, Мишка Слонимский. Перед приемом в Союз писателей к нам из Москвы приехал ответственный секретарь Оргкомитета Юдин. Меня вызвали для приятных разговоров. И не Юдин, а именно член комиссии по приему в Союз ленинградских писателей Михаил Слонимский стал в его присутствии интересоваться моим отношением к Советской власти. А я прямо так и сказала: «Ну, отношения с Советской властью у меня не простые, и не вам, товарищ Слонимский, в них разбираться». Знаете, как ни странно, мои ответы (а они все были в таком духе), видимо, понравились Юдину. Во всяком случае, в Союз меня приняли… Нет, избавь нас, Боже, прежде всего от «беспартийных большевиков»! Эта порода людей хуже цекистов, хуже чекистов. Те хоть ничем не прикидываются и ни во что не играют.
Мы с Еленой Михайловной продолжали переписываться и после моего возвращения из ссылки. Внезапно она перестала отвечать на мои письма. Потом я узнал, что умерла в юном возрасте ее любимая дочь, а спустя некоторое время Елену Михайловну вновь арестовали: вспомнили былое ее эсерство и былую ее принадлежность к ленинградской писательской организации «Перевал». Вернувшись в Ленинград после смерти Сталина, она говорила своим друзьям, что была рада, когда ее взяли: арест, допросы, этап отвлекали от мыслей о дочери – иначе она сошла бы с ума. И еще Елена Михайловна сказала, что прошла свой жизненный путь как надо.
Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться? —спрашивал себя Александр Блок, Тагер была счастлива тем, что маялась вместе с Россией…
На пленум оргкомитета Северного отделения Союза писателей приезжал из Москвы Глеб Васильевич Алексеев.
На его повесть «Шуба» напустились критики – уж больно правдивую нарисовал он картину нравов советского уездного города. А писал он эту картину, по его собственному признанию, прямо с натуры, наезжая в город Мещовск Калужской губернии.
В повести «Жилой дом» Глеб Алексеев изобразил ужас советского быта в московском многонаселенном доме, реквизированном у купца. Жилой дом под номером таким-то на такой-то улице, описанный Глебом Алексеевым, – это и вся наша новая страна, откуда «необходимо кричать… всему человечеству» «о правде, которой не стало… о любви, которую придавили сапогом».
Когда мы читаем рассказы Глеба Алексеева, перед нами клубится тот душевный, тот нравственный хаос, в который ввергла молодежь революция. Мы убеждаемся, что изменились лишь формы жизни, к которым мелкие собственники и обыватели сумели приспособиться, не поступившись своей сущностью, и что от красных флагов в деревне не посветлело.
В Глебе Алексееве сейчас был виден писатель. Что-то именно писательское было в его изучающем взгляде, в той впитывающей в себя вдумчивости, с какой он мог, не прерывая, слушать собеседника, слегка склонив голову на бок, пожевывая губами, покуривая, смотря на него сквозь очки и время от времени проводя рукой по своим расчесанным на косой ряд волнистым, серым с прозеленью волосам.
При первом же знакомстве Глеб Васильевич пригласил меня к себе в номер. В тот вечер, когда я был у него впервые, мы почувствовали друг к другу приязнь, впоследствии перешедшую в дружбу. Оборвалась наша дружба только по причине его гибели, о которой я расскажу в следующей главе.
Разумеется, мы сразу же заговорили о литературе. Глеб Алексеев сказал, что считает себя учеником Бунина. Я признался, что читал только Бунина дореволюционного.
– Дореволюционный Бунин – это, конечно, прекрасный писатель, – прикартавливая, продолжал Глеб Алексеев, – но за границей он достиг титанического размаха. Он выпустил сборник коротких рассказов – на страничку, на полторы… Ну, например, о том, как пожилая певица готовится к выступлению в концерте. Ничего в этом рассказе не происходит. Но как он сделан, как он написан!.. Это больше, чем искусство, это чудотворство…. А его полуавтобиографическая повесть «Жизнь Арсеньева»? Ничего подобного никто в мире до него не создавал!
Все это было для меня тогда откровением. Я читал статью Горбова, в которой он или в самом деле обнаружил слепоту, или прикидывался слепым в «порядке парт дисциплины». Он назвал эмигрантское творчество Бунина «мертвой красотой». А тут вот известный прозаик говорит о титаническом размахе позднего Бунина!
Примерно через год я встретился в Архангельске с сосланным за религиозные убеждения доктором по внутренним болезням Дмитрием Васильевичем Никитиным, лечившим Льва Толстого, лечившим Горького. Вот что он мне рассказал:
– В Сорренто я спросил Алексея Максимовича, кого он считает лучшим современным русским писателем. Знаете, что он ответил?., «Мне не удобно об этом говорить, но вам я скажу: конечно, Бунина».
Вскоре после разговора с Глебом Алексеевым о Бунине я достал у знакомых «Митину любовь» и убедился, что это одна из самых прекрасных и психологически верных повестей о первой любви.
А вот о Горьком Глеб Алексеев говорил с раздражением. Разговор о Горьком состоялся у нас в одну из последующих встреч – и уже за рюмкой водки. Как писателя Алексеев Горького в грош не ставил, как человека – ненавидел.
– То, что распоясавшийся хам, именуемый великим пролетарским писателем, управляет теперь литературой вместо интеллигентного, скромного, чуткого Александра Константиновича Воронского – это беда нашей литературы, в этом ее погибель.
Из младших современников Глеб Алексеев выделял Андрея Платонова.
– Законченный мастер! – восхищался он. – Какое чувство эмоциональной силы слова! Непременно прочтите его повесть «Впрок», – она вызвала гнев Сталина, – и «Происхождение мастера».
На пленуме Глеб Алексеев выступил с разбором произведений местных прозаиков. Он порол их и за штампы, и за вычуры:
– У вас слова все стертые, как пятаки в сумке у трамвайной кондукторши.
– А у вас в этой фразе слова – как расшатанные зубы у больного цингой.
– А когда читаешь вас, то видишь, как с вас льется ручьями пот от усилий быть во что бы то ни стало оригинальным, а вот предметы, явления, которые вы пытаетесь описать, я не вижу.
– Прежде чем поставить слово на место, к нему нужно приглядеться, в него нужно вслушаться, к нему нужно принюхаться, пощупать его плотность, да еще и на вес прикинуть.
Глеб Алексеев говорил о расстановке слов, об интонационном строе, о ритме прозы, как может говорить только писатель, все познавший на опыте. Недолгое его выступление дало мне больше премногих томов.
Без всякой моей просьбы Глеб Алексеев принял участие в моей судьбе. Видимо, он говорил обо мне с Поповым, потому что после его отъезда Попов стал ко мне относиться еще тактичнее, еще доверчивее, стал больше считаться с моими мнениями и наконец, вернувшись из Москвы с Первого Всесоюзного съезда писателей, зачислил меня в штат.
Я близко сошелся только с одним местным писателем – Александром Яшиным, да и то не сразу. Он тогда уже выпустил в Северном краевом издательстве свой первый сборник стихов – «Песни – Северу». В этом сборнике нет ни одной живой, ни одной своей строчки – все взято, и притом из плохих рук.
Яшин был, как тогда выражались, «глубоко свой парень», «свой в доску», преисполненный благодарности Советской власти за то, что она дала ему, крестьянскому парню, высшее образование, за то, что его печатают, издают, за то, что он уже кандидат в члены Союза писателей, за то, что он делегат писательского съезда. Он слепо верил в то, на что его натаскивали сызмальства. Он следовал велениям партии и комсомола во всем, вплоть до внешнего облика. Нам объявлено, что мы живем зажиточной жизнью? «Слушаю, товарищи начальники». Яшин надевает фетровую шляпу, а юнгштурмовку с портупеей через плечо меняет на модный костюм. У нас на несколько месяцев провозглашена эра социалистического гуманизма? Яшин любезен с адмссыльными, тем более что их теперь берут и на идеологический фронт, но при случае не преминет попрекнуть местного прозаика Пэлю Пунуха его бело-эсерским прошлым: дескать, кому-кому, но не Пунуху указывать мне, непорочному комсомольцу, на мои идейные промахи.
Однако по натуре Яшин был человек порядочный. Совесть в нем все-таки бодрствовала.
Яшина отличала мужицкая тяга к знаниям и мужицкое упорное трудолюбие. Товарищи ругали его стихи за перепевы, за отсутствие поэтической культуры. Яшин стал писать все лучше и лучше. Он зазывал меня к себе, читал свои новые стихи и требовал строгой критики.
После убийства Кирова отношение к ссыльным в официальном мире Архангельска резко ухудшилось, И вот тут совесть Яшина заговорила внятно. Она не позволила ему отмежеваться от меня. Поверив с самого начала» что я ни в чем не повинен» он не порвал со мной отношений – напротив: мы виделись теперь чаще, чем прежде, хотя это грозило ему неприятностями в комсомольской организации.
Его послали учиться в Москву, во вновь открывшийся Литературный институт. На прощанье Яшин подарил мне свою карточку и написал на ней строки из своего стихотворения:
Большая дружба в тяжкий час Не обесчестит, не изменит.Мы с ним переписывались; когда он приезжал на каникулы – встречались. Уехав из Архангельска, я потерял с Яшиным связь.
После войны ура-патриотическая моча ударила Яшину в голову. Он написал чудовищную по аляповатости, сусальной лживости поэму «Алена Фомина» и получил за нее Сталинскую премию. Издали завидев Яшина на улице, я переходил на другую сторону.
И вдруг – смелое выступление на Втором Всесоюзном съезде писателей, а вслед за тем – «Рычаги». Яшина зазрила совесть, пробудилась его чистая от природы душа. Он сам о себе сказал:
Я как будто родился заново, Легче дышится, не солгу, — Ни себя, ни других обманывать Никогда уже не смогу…Теперь Яшин с ужасом оглядывается на прошлое:
Страшно недруга боготворить, Правдою клясться И зло творить.Он чувствует себя в неоплатном долгу перед людьми:
Чье сердце смягчил? Кому подал руку» Кому облегчил душевную муку?И призывает других:
Спешите делать добрые дела!Ему горько, что мы научились летать в космос, но не научились самому главному – не научились «друг друга беречь». И Яшин взалкал «сердечной теплоты, красоты душевной, чистоты» и объявил бой «показухе». Он бил по ней стихами и прозой. Он преследовал ее в быту и в отношениях между людьми. Он преследовал ее тем ожесточеннее, что прежде сам со всеусердием ей служил. Тогда-то и началась для Яшина запоздалая пора цветения. И цвет его поэзии и его поэтической прозы был так обилен и так морозоустойчив, что завернувшие холода не погубили его. Яшина-человека удалось подкосить, без поры без времени свести в гроб. Сломить Яшина-художника было уже невозможно – с «казенным слогом» он не «уживался».
Одно его стихотворение так и называется «Показуха» с подзаголовком: «Письмо из родной деревни»:
Прочитали мы рассказ — Все про нас да про нас, До того наглядно, Складно — Прямо слезы из глаз. Прочитали стихи — И стихи Неплохи, Просмотрели кино — И в кино Все одно. Как на выставке дома — С росписью, Точеные: Не дома, А терема, Крыши золоченые. Под конторой – особняк, Ресторан — Не чайная, Не ларек — Универмаг, Все необычайное. Заведенья скотные Все подряд добротные, Просто любо взглянуть: Не какие-нибудь, А высотные. По загонам табуны — Рысаки Да скакуны: Гладкотелы» Быстрокрылы, На бегах проверены. Ни одной простой кобылы, Мерины Похерены. А колхозники живут — И не курят И не пьют. Не ревнуют, Не скучают, Только книжки читают, Только песни поют. Все сознательные, И красивые, Показательные, И счастливые. Что ни день – гуляния, «Волжские страдания», Свадьбы да потехи. И в соревновании Что ни день – успехи. Все коровы рекордистки, Все девчата трактористки, Все молодки депутатки, Все в довольстве И в достатке. Образцовые порядки, Как во всякой сказке-складке. Вот какая жизнь у нас, Прямо – слезы из глаз. Тишь да гладь, Достигли цели, Все имеем, что хотели, Больше не о чем тужить. Нам бы в этакой артели Хоть денек пожить!Поздние наши потомки» которым захочется уяснить себе, на каких китах стоял наш лжекоммунизм» что прикрывали собою речи» доклады и сводки и как трудно было нам продираться к правде, как дорого давалось нам прозрение и очищение, многое поймут, прочитав «Рычаги», «Вологодскую свадьбу», «Сироту» и стихи Александра Яшина последних лет.
Мы с Яшиным столкнулись нос к носу в поликлинике Литфонда, и тут я не утерпел – сказал ему, что «Рычаги» – редкостная по глубине проникновения в нашу действительность вещь, объясняющая и ягодовщину, и ежовщину, и бериевщину, и все прочие прелести советской жизни. Яшин мне на это ответил, что вот за правду-то его и бьют.
– Они отлично знают, что это правда, а бьют меня за то, что я ее показал, – добавил он.
Конечно, Яшину и раньше было известно, что творится в деревне, но он завязывал себе глаза. После XX съезда он резким, брезгливым движением сбросил повязку с глаз.
Автора «Рычагов» печатали скупо и неохотно. После встречи в поликлинике у нас с ним была такая же случайная встреча в редакции «Огонька», на лестнице.
– Насолил я им «Рычагами», ох, насолил! – сказал Яшин. – Даже в моих охотничьих мелочишках «крамолу» ищут.
После «Вологодской свадьбы» он рассказывал мне, как была сфабрикована фальшивка – «письмо» односельчан, якобы протестовавших против искажения колхозной действительности в его очерке, сообщил, что получает горы писем от колхозников, партийных и беспартийных, восхищающихся правдивостью «Вологодской свадьбы» и упрекающих автора в том, что он многого не коснулся: у нас, мол, в колхозах крепостное право, нам паспортов на руки не дают, уехать из колхоза мы можем только за взятку, а ты об этом не написал.
Еще как-то я услышал от него устный «путевой очерк»:
– Ездил я к себе на родину. А у нас дороги, как при царе Горохе, автобуса не дождешься. Я по старой памяти – в райком, – дайте машину. Секретарь призадумался. Дать райкомовскую машину автору «Вологодской свадьбы» – как бы не попало, не дать – тоже может влететь: все-таки Твардовский похвалил мою «Свадьбу» в «Правде». Что ж ты думашь? Дал он мне машину скорой помощи! Вот мудрец! Не подкопаться! Дать дал, но – вроде как больному.
В 64-м году он подарил мне отдельное издание своей повести «Сирота», в которой выведен тип нового, советского кулака послевоенной формации и, как у нас теперь выражаются, «прохиндея».
Надпись на книге он сделал такую: «Николаю Михайловичу Любимову с очень давними добрыми чувствами и с любовью. Александр Яшин».
Последняя наша с ним встреча состоялась в Центральном доме литераторов 10 мая 65-го года. Придя домой, я тут же записал его слова. Отведя меня в сторону, сам себя перебивая, но особенно не понижая голоса, он спешил высказать то, что у него накипело:
– Мне жить не на что. Я вчера не пошел на встречу друзей-фронтовиков, – нечем заплатить… У Демичева на совещании я был как бела ворона… Я бывал и у Хрущева: там была ругань, чуть не до мата дело доходило, а здесь – все чинно-благородно. Но когда я выступил в защиту Федора Абрамова, – говорю: ведь это же правда – все, что он написал, – Демичев мне в ответ: «Нам нужна не всяка правда, нам нужна большевистска правда»… Эх, Коля, как я их всех ненавижу: и партию, и правительство! Какой там социализм, какой там коммунизм, у нас фашизм! Я ненавижу партию – и я «член»! Да я бы давно вышел из партии, давно бы всю правду им в харю выплюнул, да боюсь: семью угробят!.. Их сейчас, сволочей, экономика подпирает. Да разве они с ней справятся? Там же ни одного умного человека нет…
Первый раздел посмертно вышедшей книги стихов Александра Яшина носит название – «Совесть»…
…Наступила весна 34-го года – моя первая северная весна. Вскрылась река. Потом начались белые ночи, когда матери никак не могут зазвать ребятишек спать – им все кажется, что на дворе день.
Меня не влекло смотреть на Двину. Не покорил меня север и белыми ночами, как не пленял он меня в зимние морозные вечера и ночи отсветами северного сияния, похожими на зарево, стоящее над далеким невидимым городом. Я затосковал по родным местам, но весенний перелет был мне недоступен. И я презрительно фыркал, глядя на Двину и вспоминая беспрестанно меняющиеся берега Оки. «И это называется рекой? – думалось мне. – Да это огромная миска с водой, а не река». Мне вдруг осточертели дощатые тротуары, болотная жижа, чернеющая сквозь щели в них и хлюпающая, чавкающая под ногами, чуть только сойдешь с тротуара. Мне вдруг опротивели длиннющие параллельные улицы. Меня приводила в уныние редкая и чахлая растительность, не украшавшая столицу Северного края. Тоска брала смотреть на дома где-нибудь на Новгородском «проспекте», под которыми осела зыбкая почва, так что нельзя было понять, как и на чем они еще держатся. Надоели обеды в столовой Северолеса. Надоела румяная буфетчица Александра Ивановна, родом из Холмогор, по-северному встречавшая знакомых посетителей: «Здравствуйте пожалуйста!» Надоели входившие в столовую скопом, обедавшие за одним столом троцкисты, к слову молвить – все как один евреи. Наша пропаганда своей назойливостью все умеет опошлить и ко всему вызвать отвращение. И мне тогда до тошноты надоели челюскинцы, о которых Гопы-со-Смыком тут же сочинили на мотив «Шел я на малину…» песню» снижавшую романтику этой эпопеи: «Капитан Воронин судно проворонил», «Шмидт сидит на льдине, словно на перине», и кончавшуюся так:
Денежки в кармане, Рожи на экране — Вот что экспедиция дала.Раздражал меня и северный говор: «Ойти мнешеньки!»; «Иди-давай!»; «Мама, я ись хочу!»; «Сейгод друва дорогие»; «На дворе порато холодно»; «Цевой-то там давают-то?» (Это об очереди в магазине.); «Ивановна! Ты пецку не пахала?» (Не выгребла из печки золу?); «Ну, житники (так горожане называют крестьян), когда поле орать?» (сиречь – пахать); «Дроля, дроля, дролечка, оберучь тебя люблю!» (Это – объяснение в любви) и – многосмысленное «Ну дык!..» Оно выражает и возмущение, и смущение, и сознание неизбежности, необратимости чего-либо, и покорность судьбе, и ответ на изъявление признательности: это-де наша обязанность, не за что благодарить, и оно же является последним, самым веским аргументом в споре, когда все прочие доводы уже приведены, но не переубедили.
Нет, то ли дело у нас, в калужских весях и градах: «Манькя-у! Ты иде там?»; «Я ж табе говорила…»; «Закурить нетути?»; «Надысь бабка Аграхвена из Ладыгина приходила. Говорить: у Шитиковых усё чистушко погорело. Ох, головушкя горькия!»; «Как дожж – так у нас крыша текёть»; «Вчерась в Калугу обыденкой ездил»; «Поза-летось картохи хорошо уродились, а летось все погнили: дожжы да дожжы…»; «Дядь, а дядь! дай яблочкя!»; бабка зовет внука: «Митькя! Ужинать!»; Митька, с сокрушенным вздохом отрываясь от игры: «Ужинать – не ужинать, а итить надоть»; «Куда на человека прешь? Ай, ослеп?»; «Да неш я вас когда обманывала?»; «Хведор! На трожь его! Нехай спить»; «Сережк! Чаво-ж ты по протувару-то ездишь, мо-орда? Чуть было ребенка не задави-ил!»; «Ты мине не тыкай, ты мине не тыкай, я табе в отцы гожусь! Ишшо молоко на губах не обсохло!»; «Теперьчи в какую лавку не зайдешь – везде “нетами” торгують»; «Бывалоча, праздник – он и в душе праздник, а нонче церкву нашу разорили, пойтить Богу помолиться некуды, что праздник, что будни».
Летние каникулы пробыла со мной мать, но они пролетели как один день.
А незадолго до ее отъезда, в августе, Попов, как бы между делом, сказал мне:
– Я вчера был в НКВД. Там у меня один товарищ работает – мы с ним когда-то в одной комсомольской организации состояли. Фамилия его – Афанасьев. Он просил вас завтра к нему зайти. Вы теперь к нему будете ходить на отметку.
– А что это означает? – упавшим голосом спросил я.
– Да вы не волнуйтесь, – поспешил меня успокоить Попов, – На вашей работе у нас это никак не отразится. Дело в том, что все адмссыльные, которые находятся на идеологической работе, отмечаются в главном здании, у работников НКВД.
Я знал, что меньшевики, эсеры, националисты, а также все «адмы», занимавшие в прошлом или занимающие в настоящем высокие посты, ходят на отметку в главное здание. Нигде не работавший Новомбергский вплоть до самого своего освобождения отмечался там. Однако это «повышение» не льстило моему самолюбию – оно меня пугало… Я попадаю в фокус. На меня вновь устремлено недреманное око. И потом я слышал, что в главное здание ходят на отметку чаще; иным вменяется в обязанность отмечаться через каждые два дня.
На другой день я пошел в комендатуру. Пропуск на мое имя был уже выписан. В кабинете я увидел невысокого, коренастого человека с попорченным правым глазом, этакого «верлиоку» из сказки.
Афанасьев задал мне несколько самых общих вопросов, осведомился, не притесняют ли меня на работе.
– Вы будете ходить ко мне на отметку раз в десять дней, – объявил он и расписался на обороте моего документа.
Мать уехала в тревоге за меня.
Уже самое учащение походов было мне тягостно. Там постоял немного в очереди – и домой. А здесь иной раз попадешь сразу, а иной раз предъявишь документ дежурному коменданту – он позвонит: «К вам Любимов идет на отметку» и протянет мне документ: «Афанасьев занят» или «Афанасьева нет на месте». Походишь по улице, опять суешь документ в окошко. Бывали случаи, когда я так и не добивался толку и приезжал на другой день.
У меня начинало ныть сердце уже накануне дня отметки. Комендатура помещалась напротив главного здания. И всякий раз, получив пропуск и переходя на другую сторону, я взглядывал на небо и думал: «Может быть, я смотрю на вольный небесный простор в последний раз… Может быть, мне опять будет виден только узкий его квадрат». И всякий раз, выходя на улицу, я жадно втягивал в себя хоть и городской, но все-таки воздух свободы.
В один из моих «отметочных» дней Афанасьев без обиняков предложил мне сотрудничать в НКВД.
– Если вы согласитесь, мы сможем выхлопотать для вас досрочное освобождение, а то ведь это может у вас никогда не кончиться, – сказал он, искоса взглянув на меня.
Я отказался наотрез.
– Почему же вы не хотите нам помочь? – спросил Афанасьев, – Мы не требуем от своих сотрудников провокаций, клеветы, нам нужна только правда. У нас может составиться ошибочное представление о человеке как об антисоветском элементе, а вы нам поможете разобраться.
Я сказал, что я – работник кабинетного типа; может быть, это мой недостаток, но таким уж я на свет уродился. Я ни с кем здесь не общаюсь, не вылезаю из библиотеки, а на работе никто с адмссыльным откровенничать не станет.
На этом разговор прекратился, но я почувствовал, что продолжение последует.
Афанасьев попросил меня написать для него обзор вышедших в этом году номеров «Звезды Севера». Я просидел две ночи и написал обзор листах на шестнадцати убористым почерком. Я подверг все напечатанные в семи вышедших в этом году номерах журнала повести, рассказы и стихотворения тщательному, но чисто литературному анализу. О некоторых вещах я высказывал отрицательные суждения, но опять-таки с точки зрения чисто литературной. Так, я критиковал стихотворение одной восторженной дамы, посвященное челюскинцам, за то, что оно написано в характерном ритме Игоря Северянина, это, мол, не соответствует теме. Я понимал, что Афанасьеву нужно совсем другое, но прикидывался простачком.
Я отдал ему свой отзыв; когда же через десять дней опять пришел на отметку, он ни слова мне о нем не сказал, а еще через десять дней, протягивая мне мой документ со своим «автографом», неожиданно произнес:
– Знаете, Любимов, ведь у вас большие способности!
Я поблагодарил его за лестное мнение.
– Вы могли бы быть для нас ценным сотрудником.
– Если у меня действительно, как вы говорите, есть способности, то только к литературе, и на этом поприще я надеюсь принести скромную пользу.
После этого Афанасьев не заговаривал со мной о сотрудничестве, а вскоре его то ли повысили, то ли перевели в другой отдел; словом, теперь я изредка встречал его на улице, а на отметку начал ходить к Филиппову. Филиппов был значительно моложе Афанасьева. Но если у Афанасьева, хотя он и наседал на меня (впрочем, наседал спрохвала, только потому, что на него наседало начальство, а натолкнувшись на мою неподатливость, отстал), хоть и пригрозил мне пожизненной ссылкой (впрочем, пригрозил мимоходом и словно бы нехотя), какие-то признаки человечности порой проступали, то в смазливом Филиппове угадывался из молодых, да ранний. Он был со мной, в отличие от суховатого Афанасьева, в высшей степени вежлив, даже любезен, но, передавая мне документ со своим автографом, смотрел на меня в упор, вытянув шею» и в его до жути сладкой улыбочке я читал: «На сей раз я тебя отпускаю домой, но ты целиком в моей власти: в следующий раз возьму и не выпущу!»
Вскоре после убийства Кирова Филиппов сообщил, что меня хочет видеть начальник отдела, но сейчас он занят – не могу ли я прийти завтра, в это же время?
– Только сначала зайдите ко мне, а я вас направлю к нему, – заключил он.
Час от часу не легче!
Когда я на другой день пришел к Филиппову, он задал мне вопрос:
– Товарищ Афанасьев предлагал вам у нас сотрудничать?
– Предлагал, – ответил я.
– И что же вы?..
– А я отказался.
– Мотивируя?..
Голова у него закачалась, как маятник.
– Мотивируя тем, что у меня к этой работе нет никаких способностей и что я ни с кем в Архангельске частным образом не встречаюсь.
– Та-ак, – зловеще протянул Филиппов и, побарабанив пальцами по столу, сказал:
– Начальник ждет вас. Пройдите по коридору направо, комната номер такой-то, и постучите.
Коридоры в коридоры, В коридорах – двери…Найдя указанную мне комнату, я постучался и приоткрыл дверь.
Сидевший за столом маленький, худощавый, кудлатый человек сказал с сильным еврейским акцентом:
– Подождите в коридоре. Я вас позову.
«Ну, начинаются гепеушные штучки! – сказал я себе. – “Посидите”, да “подождите”, да “подумайте”»…
Но тут какой-то голос явственно прозвучал – как мне показалось – не во внутреннем моем слухе, а где-то в груди:
– Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна. (Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего.)
В детстве я заучивал десять синайских заповедей наизусть, но, признаюсь, давно-давно их не вспоминал. И вдруг, спустя много лет, вспомнил именно эту, и где, в какой момент!..
Нет, чудеса не перестают твориться в мире! Только являются они теперь людям не в грозе и в буре, а неслышно и незримо для окружающих, но от этого их животворящая сила слабей не становится…
Спокойный и бодрый вошел я в кабинет на зов начальника.
И опять разговор шел сначала вокруг да около, а затем снова уперся в желательность моего сотрудничества. И, снова «Здорово», я принялся доказывать, что я не «создан для блаженства» быть секретным сотрудником НКВД.
«Начальник» слушал не прерывая и все время прощупывал меня своими умными глазами. Когда же я, истощив аргументы, смолк, он развел руками.
– Ну, раз вы отказываетесь… – произнес он тоном сожаления, в котором я не уловил ни одной угрожающей нотки. – За пропуском зайдите к товарищу Филиппову.
Зайдя к Филиппову» я спросил его:
– Кто со мной говорил? Товарищ Блюменберг?
– Нет, товарищ Вольфсон, – проболтался застигнутый врасплох Филиппов.
«Ах вот оно что! – подумал я. – Стало быть, я имел честь беседовать с “мозгом архангельского ГПУ”»!
В тот день Секретно-политический отдел поставил крест на мне как на желанном для него осведомителе.
Через два дня, когда я подошел к Попову, чтобы передать ему для прочтения мои письма начинающим авторам, он, не глядя на меня, глухо проговорил:
– Вас придется освободить от штатной должности. Но вне штата вы по-прежнему будете у нас работать.
Я не ставлю в прямую связь мой отказ от сотрудничества в НКВД с моим увольнением из Союза писателей. Крайком партии дал директиву: «повышать бдительность», и «рычаги» заработали. Когда мы как-то остались с Поповым наедине, он мне пояснил:
– У нас к вам никаких претензий нет. Нам пришлось уволить вас в общем порядке, и надеюсь, что – временно.
Но если бы я дал согласие сделаться осведомителем, а затем пожаловался Филиппову, что меня увольняют, меня бы, пожалуй, не тронули.
В следующий раз, когда я пришел на отметку, Филиппов сказал:
– Минуточку!..
И снял телефонную трубку.
– У меня сейчас Любимов. Он вам нужен?.. Ага! Понятно! Понятно!..
Это «понятно, понятно» могло иметь для меня любой смысл, вплоть до самого грозного.
Однако я благополучно отретировался, а вскоре меня перебросили от Филиппова к Павлову, и тут «раб судьбу благословил». Этот угрюмый брюнет здоровался со мной вежливо, но сухо, никогда ни о чем не спрашивал, даже о том, что ему надлежало знать, – где я работаю, моментально делал отметку на документе, подписывал пропуск на выход и проборматывал: «До свиданья».
Разговор у меня с ним был только один, и начал этот разговор я.
Доктор Никитин проходил те же этапы: «афанасьевский», «филипповский» и «павловский», и мы с ним сходились во мнениях: самый омерзительный при всей «галантерейности» своего обхождения и самый заскорузлый гепеушник при всей своей относительной молодости – Филиппов; единственно, кто совсем не лезет в душу, – это Павлов, и поэтому, несмотря на его суровость, с ним лучше всего иметь дело. И вот, когда передо мной встал один нелегкий вопрос, я решил попытаться, не достучусь ли я в Павлове до человека.
За несколько месяцев до моего освобождения мне предложили поступить в Северный радиокомитет на должность штатного литературного редактора. Предложение было для меня заманчиво, – иметь постоянный заработок и не думать о том, у кого бы перехватить трешку, – но и опасно. За советом я обратился к Павлову.
Выслушав меня, Павлов заговорил с легким раздражением в голосе:
– А почему вы меня об этом спрашиваете? Вы же знаете, что мы не препятствуем адмссыльным поступать на работу! Это дело начальника учреждения и ваше. Зовут – идите.
– Вы меня не так поняли, – сказал я. – Я не спрашиваю у вас разрешения. Я прошу у вас совета – и не как у сотрудника НКВД, а как у товарища Павлова: стоит ли мне, – я подчеркиваю: мне, – в моем положении идти на работу в такое учреждение, как Радиокомитет?
Павлов посмотрел на меня с польщенным удивлением.
– А работа у вас есть? – спросил он.
– Есть.
– Ну так тогда зачем же вам идти на радио? Это учреждение каверзное. Кто-нибудь прозевает ошибку, а скажут на вас.
Я поблагодарил Павлова за добрый совет и ответил на Радио отказом.
Когда я пришел к нему в последний раз на отметку, он объявил:
– За документом на освобождение вы придете уже не ко мне, а к Обленову – это на первом этаже, комната номер такой-то.
– А если там выйдут какие-нибудь недоразумения, я могу позвонить и зайти к вам? – спросил я.
– Никаких недоразумений у вас там быть не должно.
– Ну, я все-таки?
– Вам не придется мне звонить. Уверяю вас: все будет в порядке.
Тут я еще раз поблагодарил его за ровное и бережное отношение ко мне.
Он хмуро, но довольно улыбнулся, пожал мне руку и пожелал всего хорошего. Больше я его не видел.
Слово свое он сдержал: никаких осложнений с получением справки об освобождении у меня не произошло.
Я поминаю Павлова добром, а не лихом. Будь на его месте Филиппов, он отравил бы мне даже радость освобождения, он до последнего дня старался бы показывать мне, что моя судьба в его руках, пытал бы меня страхом неизвестности. Павлов делал все для того, чтобы мучительная процедура отметки проходила для меня как можно незаметнее.
…Но я забежал далеко-далеко вперед!
Осенью 34-го года к моим хозяевам зашла сослуживица Венедикта Александровича – Евдокия Петровна Савельева, которую и он, и Марфа Ивановна называли – «Душенька». Она была выслана в 30-м году из Москвы в Архангельск этапным порядком по делу совета одной из московских церквей. Арестовали всю так называемую «двадцатку», то есть церковный совет, и кое-кого из причта. Кому дали лагерь, в том числе – ее родному брату, кому, в том числе ей – ссылку. Оговорил их, как она потом мне вкратце рассказывала, один архиерей: имени его она не называла. Много лет спустя об одном не «красном» архиерее-осведомителе мне рассказывал художник Павел Дмитриевич Корин. Уж не он ли оговорил Душеньку?
Мы стали встречаться почти ежевечерне, как будто бы до того были век знакомы.
Что меня к ней влекло? Ее внешность? Несомненно. Однако внешность ее была не безупречна – там было к чему придраться строгому вкусу.
Лицо у нее было как облачный день. Когда солнце выглянет из-за облаков, кажется, что все вокруг повеселело, даже прячущаяся в густой тени садовая скамейка. Солнце ушло – и все нахмурилось, даже «золотые шары» в цветнике. Истинно хороша она была, когда в ее обычно чересчур неподвижных агатовых глазах вспыхивал радостный блеск или когда в них прыгали неукрощенные чертенятки кокетливого задора. Тогда каждая черточка ее смугло-алого лица с персиковым пушком на щеках начинала играть. Блеск потухал – во взгляде появлялась сумрачная отчужденность, отрешенная сосредоточенность, и она дурнела. В ее поступи, во всей ее фигуре было то, что прежде называлось вальяжностью. К двадцати шести годам она уже чуть-чуть располнела, но она была выше среднего роста, и полнота ее не портила. Одевалась она просто, но к лицу. Скромность одежды гармонировала с гладкой прической на прямой ряд.
То, что она вызывала в моей душе, нельзя назвать влюбленностью. Вернее, влюбленность возникла потом. Все началось с моего душевного к ней тяготения.
Мы разнились друг от друга и нравом, и кругом запросов. Объединяло нас то, что мы вкладывали в слова: христианская вера.
На первых порах я держал себя с нею развязно, как никогда прежде не держал себя с женщинами и как никто и никогда с ней себя не держал. Очень скоро начал обращаться к ней на «ты», хотя она еще долго говорила мне: «Николай Михайлович, вы». А она не только терпела эту мою бесцеремонность, лишь по временам пытаясь слабо протестовать, – вольность моего обхождения ей безотчетно нравилась: быть может, потому, что это ей было в новинку и в диковинку, что робкое обожание ей надоело. Я с мальчишеским верхоглядством осуждал лавирующую политику патриаршьего местоблюстителя Сергия, возмущался тем, что в храмах по его указу молятся «о властех». Я говорил, что мне нужны Пресвятая Троица, Божья Матерь, святые, Евангелие, а церковь, в сущности, не нужна, что я хожу туда изредка единственно потому, что теперь это катакомбы, а если бы религия не подвергалась гонению, я бы и совсем перестал туда ходить.
Мои дерзкие, непривычные для ее слуха суждения оказывали на нее двоякое действие: они и пугали, и притягивали ее ко мне – притягивали опять-таки как нечто для нее совершенно новое, ибо до сих пор она привыкла думать, что в России есть только два пути: православие или безбожие. К тому же она, видимо, поставила перед собой цель: вернуть меня в православное лоно.
Бывало, гуляем мы с ней по Новгородскому проспекту, и я, чтобы подразнить ее, так и сыплю непочтительными выражениями по адресу главы церкви и уверяю, что предпочитаю «обновленцев» «тихоновцам», потому что обновленческий митрополит Введенский по крайней мере проповедует слово Божие, а «тихоновцы» как воды в рот набрали. Краем глаза я вижу, что она бросает на меня испытующе-испуганно-возмущенные взгляды, и продолжаю разыгрывать из себя еретика. Да нет, я и в самом деле был тогда еретиком – моя рисовка перед ней заключалась лишь в вызывающей резкости выражений.
Как-то раз она мне сказала:
– Тебе еще предстоит пережить много тяжелого, и ты непременно вернешься к церкви. Вот увидишь.
Вещие ее слова сбылись уже через полгода…
…Почувствовав, что хватил через край, я менял тон и устремлялся туда, куда нам было с ней по пути, и тогда я ловил на себе иной ее взгляд – взгляд, лучившийся успокоенной благодарностью.
Я часто доказывал ей, что Бог сотворил мир не для того, чтобы человек отворачивался от его красоты. Я доказывал ей, что величайшие произведения искусства созданы по произволению и внушению Божию и не наслаждаться ими – великий грех, ибо это значит отвергать Божьи дары, пренебрегать и гнушаться ими. Она соглашалась, но прибавляла, что ей это не нужно, что ей довольно того, что у нее есть, что ее жизнь полна до краев. Она уверяла меня, что и тюрьма, и этап, и ссылка – это были для нее события радостные, как ни болела у нее душа за родных, и я ей верил, ибо она была сама правдивость.
«Блажени естё, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол, на вы лжуще Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех».
И все же тот мир, который я своей неумелой рукой открывал перед ней, манил ее. Когда я говорил с ней о литературе или о театре, она слушала меня затаив дыхание и – я ощущал это всем существом – сильнее привязывалась ко мне.
Жила она на окраине, на Обводном канале, в комнатушке, куда нужно было проходить через комнату хозяйки.
Придя к ней как-то вечером по ее приглашению, я неожиданно не только для нее, но и для себя самого, обрушил на нее восторженный ливень слов – и так же внезапно стих.
– Я люблю тебя больше, чем родного брата, поверь мне, – с усилием заговорила она. – Дорог ты мне бесконечно, но быть твоей женой я не могу: когда моя мать умерла, я дала обет, что никогда не выйду замуж.
Последние слова она, произнесла, как мне послышалось, с грустью.
Я долго целовал ее лицо и руки. Она не сопротивлялась. Потом вдруг со строгой полуулыбкой спросила:
– Тебе кто позволил меня целовать?..
Больше в тот вечер мы не сказали друг другу ни слова. Она стояла не шевелясь, а я целовал ее со всей нерастраченной в мимолетных увлечениях нежностью, с чувством, сложность которого мне стала ясна тридцатилетие спустя. Многое было в этом чувстве: и тяга к ней как к старшей сестре, которой мне всегда не хватало (именно сестры, а не брата; мне на протяжении многих лет детства и юности снился один и тот же блаженный сон: у меня есть старшая, тихая и любящая, сестренка), и радость обретения друга, и восхищение ее девичьей прелестью, уже свободной от угловатости, уже сочетавшейся с женственной мягкостью движений.
Расстались мы с ней далеко за полночь. Я шел от нее в кромешной тьме по буеракам, и, когда споткнулся, с носа у меня слетели очки в массивной роговой оправе. Так я их и не нашел, сколько ни шарил, и, махнув рукой, зашагал дальше.
Ее ответ нимало меня не обескуражил. Юношеская моя самонадеянность нашептывала мне, что из борьбы с ее монашеством в миру победителем выйду я. Но она все чаще заводила разговор о том, что родные зовут ее в Москву и что ее долг быть с ними. Я упросил ее отдалить срок отъезда. «Лишь бы оттянуть, – говорил я себе. – Важен каждый лишний день. Потом ей будет уже невмочь от меня уехать».
Она обещала, что уедет только после Нового года.
7 ноября, когда я провожал ее до дому, мы с ней из-за пустяков повздорили. Когда же мы остановились неподалеку от ее дома, спор перешел в ссору. Я попытался склонить ее на мировую, Она была непреклонна.
– Прощай! – отрывисто сказала она и направилась к калитке.
Я трижды окликнул ее. В ответ на третий мой зов брякнула щеколда.
…Придя домой, я повалился на кровать и заснул мертвым сном. Если со мной накануне что-то стряслось, я просыпаюсь рано-рано, словно от укола иглы в сердце и в мозг. Так было и на этот раз. Первая мысль: «Разрыв с ней. Как же я теперь буду жить?»
У меня был билет на утренний спектакль в Большом драматическом театре. Я все-таки решил пойти – в надежде хоть немного рассеяться. Не тут-то было. Помню, что шла пьеса Киршона «Чудесный сплав». Помню, что актеры и актрисы двигались, жестикулировали и ужасно глупо острили. Я смотрел на них как сквозь сетку дождя. От ржанья в зрительном зале у меня стучало в висках. Я ни на что не надеялся. Я думал об одном: «Как я буду без нее жить?»
Когда я пришел домой, Марфа Ивановна сказала с игривой, понимающей усмешкой:
– А вам письмо!
– От кого?
– Наверно, от Душеньки, Фрося принесла. (Фрося снимала угол в комнате у ее хозяйки.)
Письмо было длинное. Оно содержало в себе много мягких упреков, но лейтмотив письма был: «Вернись!» Она будет ждать меня три вечера подряд. Если я не приду, она поймет, что я решил с ней порвать, и больше о себе не напомнит.
Я опрометью бросился на Обводный канал. И когда я вошел, я увидел на ее лице то же растерянно-сияющее выражение, с каким она впервые слушала мои слова о любви.
Вот тут бы мне и воспользоваться ее поражением в борьбе с самою собой и потребовать: «Ты видишь – я пришел, я примчался по первому твоему зову – не покидай же меня…»
Но мне было не до условий. Я целовал ее и шептал:
– Ну вот мы и снова вместе!
Прошло несколько дней – и она опять заговорила о том, что родные зовут ее все настойчивее и что после Нового года она непременно должна уехать, Я испытывал и испытываю упоение в бою только со словом. Если мое чувство наталкивалось на внутреннее сопротивление той, которая чем-то волновала меня, я отходил без боя. И я уже и не отговаривал ее – я только старался надышаться перед смертью: все свободное время был с ней.
Тихо и грустно встретили мы Новый год.
А 2-го января 35-го года Марфа Ивановна и я проводили ее на поезд. Проводы выпали из моей памяти, изменившей мне на этот вечер.
Утром, когда я проснулся, мне хотелось задрать голову и выть волчьим воем.
Скоро ко мне приехала погостить мама. Я рассказал ей все и попросил на обратном пути зайти к Евдокии Петровне и передать, что прошу ее вернуться. Мама обещала. Я послал с ней письмо. Однако надеялся я не столько на мое эпистолярное красноречие, сколько на уменье моей матери говорить с людьми.
После встречи с Евдокией Петровной у мамы сложилось впечатление, что она любит меня не только любовью сестры, – именно потому и бежала она от меня из Архангельска. Евдокия Петровна сказала моей матери, что сейчас никак не может оставить родных, чтобы я потерпел до лета. Моя мать не скрыла от меня, что, по ее глубокому убеждению, Евдокия Петровна ко мне не вернется, но постаралась меня утешить. Она рассуждала так: что Бог ни делает, все – к лучшему. Она смотрит в будущее. Я расстанусь с Архангельском, снова буду жить в Москве, войду в прежний круг друзей и знакомых. Как себя буду чувствовать я, введя в этот круг Евдокию Петровну, и как себя будет чувствовать в этом кругу она? Единомышленница Евдокии Петровны, моя мать не одобряла ее замыканья в хотя и прекрасный, но малый мир, не одобряла ее схимы. И ей представлялось несомненным, что даже если Евдокия Петровна соединит свою жизнь с моей, она не захочет сломать монастырскую стену, какой она обнесла свою жизнь. «Как бы вам потом не было друг с другом тяжело! – писала мне мать. – Ваши жизни, сблизившись, стукнутся одна об другую и разобьются. Не говоря о том, как мне жаль было бы тебя, – это тебе должно быть понятно без слов, – мне было бы очень жаль и ее».
Евдокия Петровна написала мне примерно то же, что говорила моей матери. Я оборвал переписку.
…В начале 37-го года я шел утром по Бородинскому мосту на Киевский вокзал купить билет до Калуги. Гляжу: навстречу мне Евдокия Петровна! Она возвращалась от ранней обедни из тогда еще не снесенного храма в Дорогомилове. Постояли, поговорили, осведомились, как поживаем, – и разошлись.
Довлеет дневи злоба его, А тогда злоба ежовская была уже в своем полном, дымном, чадном и смрадном разгаре. И брала свое молодость. Молодость горяча сверху, внутри у нее холодок. Молодость убеждена, что все самое радужное у нее впереди, и ей некогда и неохота оглянуться назад.
И остались у меня на память о Душеньке чудом сохранившиеся два ее подарка: акафист святителю Николаю и Евангелие на церковно-славянском языке, в котором не стерлись карандашные ее пометочки (она отмечала двенадцать Евангелий, читаемых в Великий четверг) и в котором лежат стебельки от засушенных ею цветов да зеленая лента – закладка.
…После убийства Кирова (1 декабря 34-го года) адмам пришлось туго. Местным властям необходимо было проявлять особенно высокую бдительность: на одной с Зиновьевым и Каменевым скамье подсудимых неожиданно очутился прокурор Северного края Сахов и вместе с Зиновьевым, Гертиком и Куклиным получил больше всех остальных, фигурировавших на этом процессе: десять лет тюремного заключения. Тон задавали центральные газеты, «Ату!» прокатилось по всей стране. Печатавшиеся в центральных газетах списки расстрелянных в четырех столицах (Москве, Ленинграде, Киеве и Минске) возвращали нас к эпохе военного коммунизма и красного террора. «Правда Севера» старалась не отстать от других газет, каждый день вопила о повышении бдительности и «подавала сигналы»: где-то «окопались» троцкисты, где-то «засели» «чуждые элементы», где-то «орудуют» «кулацкие недобитки». На кого будет направлен главный удар – это очень скоро стало ясно уже в Архангельске. Только успел прогреметь в Смольном выстрел Николаева и в газетах было опубликовано лишь краткое сообщение о «злодейском убийстве» и о том, что убийца задержан, а в учреждениях уже начались митинги, на которых громили «озверелую банду троцкистов». В первую очередь пострадали троцкисты, но коммунистический террор обладает свойством задевать все слои населения. «Чистка» Ленинграда приобрела размах широчайший. В число выселявшихся в трехдневный срок попадали робко доживавшие свой век старухи с дворянскими фамилиями. Тогда я склонен был думать, – и далеко не я один, – что убийство Кирова – дело рук НКВД. Я считал, что в этом провокационном убийстве Сталин не повинен. Я рассуждал так: летом судебную коллегию ОГПУ все-таки упразднили. Особому совещанию при НКВД не дали права расстреливать и приговаривать к заключению в лагеря и к ссылке более чем на пять лет; словом, его урезали в правах, и наркомвнудельская верхушка задумала убить Кирова, чтобы доказать Сталину, какого он дал маху, вот, мол, отпустил вожжи – и что вышло? Контрреволюция подняла голову… Между московскими и ленинградскими гепеушниками давно уже шла грызня. Убийство Кирова – удобный случай прищучить ленинградцев: дескать, прошляпили, недоглядели. И точно: начальник Управления НКВД по ленинградской области Медведь и его присные были арестованы и 23 января 35-го года Военной Коллегией Верхсуда СССР под председательством Ульриха приговорены к заключению в концлагерь на разные сроки. Чистить Ленинград были наряжены первый заместитель Ягода Агранов, а от ЦК – будущий Наркомвнудел Ежов. Временное исполнение обязанностей начальника Управления НКВД по Ленинградской области было возложено на того же Агранова («Известия» от 24 января 1935 года). Все это мы расценивали как торжество Ягода. Неунывающие россияне сочинили по сему случаю анекдотцы. Какая разница между лесом и НКВД? В лесу медведь ест ягоду, а в НКВД Ягода съел Медведя. Будто бы существует постановление ЦИК’а о переименовании созвездий Большой и Малой Медведицы в созвездия Большой и Малой Ягодицы. Я не знал одного существенного обстоятельства: в 34-м году при выборах в ЦК на XVII съезде партии Киров получил больше голосов, чем Сталин. Что у Сталина тут же родилась ослепительно жуткая мысль: одним махом всех убивахом, что Кирова застрелили по его тайному приказанию, что последовавшие за убийством казни, суды и аресты представляли собой лишь прелюдию к ежовщине, что будут истреблены все сделавшие свое дело «мавры» и почти все делегаты XVII съезда – на это у нас открылись глаза лишь много лет спустя.
В Архангельске прошел слух, что кое-кого из «пятьдесятвось-мушников» наладили из Архангельска в глубь Северного края. Последовали массовые увольнения ссыльных. Это губительно сказывалось на науке, технике, экономике, ибо культура Архангельска с царских времен, как на сваях, держалась на ссыльных. Но об этом никто не думал.
Бдительность» бдительность превыше всего! Не проявишь, «проглядишь» – исключат из партии, снимут с работы. Арестовали и осудили заведующего научной библиотекой за то, что он не снял с выставки книгу Луначарского» в которой была цитата из Троцкого, о чем заведующий и не подозревал. Арестовали группу студентов медицинского института.
Осенью 34-го года один осведомленный человек, мой соквартирант, говорил мне: «К Новому году здесь ни одного ссыльного не останется – всех освободят. К тому идет». А тут стали поступать пополнения из разных городов. Нашего адмссыльного полку прибывало. В Архангельске это не могло не броситься в глаза. Все волей-неволей толклись на небольшом участке улицы Павлина Виноградова, и каждое новое, мало-мальски примечательное лицо обращало на себя внимание.
Я долго не ложился спать, время от времени подходил к окну и вглядывался в ночь. Слева, на перекрестке, освещенный уличным фонарем, стоял постовой милиционер. Мне чудилось, что он не отрываясь смотрит в мое окно. Все несноснее были для меня дни отметки. К душевным тягостям примешалось безденежье. Сперва меня вывели из штата, потом отказали и во внештатной работе. Я перестал брать в столовой первое блюдо, потом лишил себя второго, брал только сырники, потом и вовсе перестал обедать. Просить денег у матери не хватало решимости. И начался для меня четвертый круг голодухи. По милости Ленина, за добра ума в 18-м году в стране, которую мировая война и без того привела в упадок, запретившего частную торговлю, но, впрочем, в 21-м все-таки пошедшего на попятный и объявившего НЭП, я голодал в детстве. По милости другого рачительного хозяина, Сталина, с его идиотской коллективизацией, недоедал студентом. Недолго голодал в тюрьме. Сколько продлится голодуха в ссылке?.. Чай, сахар, хлеб. «Бывали дни веселые», когда я ходил по улицам, шаря взглядом у себя под ногами: авось на мое счастье кто-нибудь обронил рубль, на худой конец – хоть двугривенный. Был день, когда я, красный от стыда, попросил в булочной свесить мне сто граммов хлеба. Но в этот же день неожиданно получил перевод из Москвы: это, сложившись, прислали мне денег Маргарита Николаевна, Татьяна Львовна и «Карпыч». Присланных денег хватило не надолго – цены на продукты в Архангельске были значительно выше московских. Я задолжал за квартиру. Наконец не выдержал – написал моим ковинским теткам письмо с просьбой о «единовременном пособии» в связи с тем, что я вынужден был оставить работу. Тетки стали посылать мне денег ежемесячно, и обстоятельства мои поправились.
Чтобы не опуститься, я каждый день, как на службу, ездил, а чаще ходил заниматься в читальный зал и восполнял пробелы, коих у меня по милости Института, пичкавшего нас марксизмом-ленинизмом за счет науки, оказалось немало.
Я пристрастился к русской поэзии XVIII века с диковинной мощью ее красок и звуков, постиг очарование ее одических и песенных ритмов. Я надолго припал к этим истокам. Я твердил себе стихи Сумарокова не только потому, что они поразили меня предвосхищением сологубовских мотивов и ритмов, но и потому, что они отвечали моему настроению – настроению человека сталинской эпохи, уставшего от лжи и от злобы:
Лжи на свете нет меры. То ж лукавство да то ж, Где ни ступишь, тут ложь; Скроюсь вечно в пещеры, В мир не помня дверей, Люди зляе зверей.Я полюбил державинское приютное и уютное, переливчатое великолепие. Я пристрастился к поэтам пушкинской поры. Багрицкий указал мне на горькую мудрость Баратынского. Теперь я полюбил милую идилличность Дельвига. Я полюбил игристую, ликующую удаль Языкова. И особенно я полюбил Вяземского: и его умение с такой силой столкнуть «далековатые» слова, что из них брызжут снопы искр, и его юношески разымчивый «Первый снег», и единственные в своей строго продуманной безнадежности Senilia.
Я успевал просматривать московские и ленинградские журналы: «Новый мир», «Красную новь», «Знамя», «Октябрь», «Звезду», «Литературный современник», – впрочем, просмотр этот был уже теперь беглым: литература мельчала на глазах, – и две газеты: московскую «Литературную газету» и «Литературный Ленинград». Читал те номера послереволюционных журналов за истекшие годы, которые в свое время ускользнули от моего внимания. И вот во втором номере «Красной нови» за 1929 год я впервые прочел рассказ Вс. Иванова «Барабанщики и фокусник Матцуками». Несмотря на фантастическую окраску, которую любил придавать своим вещам поздний Вс. Иванов, а вернее – благодаря ей, со страниц рассказа на меня глянула тупая и страшная харя советской жизни. В одном из городов бесперечь переименовывают улицы в честь умерших граждан. В другом городе любят устраивать праздники. «Наводнение – они праздник устраивают. Десятое, говорят, по счету наводнение!» Еще в одном городе на заседаньях «буржуев признают друг в друге и немедленно друг на друга доносят». А нищий на площади, который «еле ноги передвигает, потому что никто ему не подает», «сам с собой заседает и сам на себя доносит».
В страсти к переименованию улиц и городов сказывается не только равнодушие к отечественной истории, к своему прошлому, но и неуверенность в своем земном бессмертии: не переименуешь, как бы завтра не забыли какого-нибудь «вождя», «героя гражданской войны» или «строителя пятилетки». А донос – это альфа и омега ленинско-сталинского государственного устройства. На нем основаны раскулачивание, чистки партии и «советского аппарата». На нем зиждется деятельность «Гепеужаса». Несчетное число ставящихся на правеж, а потом направляемых в «централы», на каторгу и на поселение – это жертвы доносов, поступающих от соквартирантов, метящих на твою площадь, от сослуживцев, зарящихся на твою должность, от односельчан, позавидовавших трудоемкому твоему зажитку.
Вс. Иванов острее, чем кто-либо из советских писателей, почувствовал чумное дыхание доноса. Номер с «Барабанщиками» не конфисковали: тихий голос рассказчика все еще заглушали колеса «Бронепоезда 14–69». Я тут же сделал выписки из «Барабанщиков» и пронес этот рассказ в своей памяти через всю жизнь. И первое, о чем я заговорил с Всеволодом Вячеславовичем, в 1959 году попав к нему на Переделкинскую дачу, – это о «Барабанщиках и фокуснике Матцуками».
…Выйдя из читального зала архангельской научной библиотеки, я вспомнил лето 24-го года… Я растянулся в саду на траве и под знойное гудение пчел, позабыв о надкусанной коричневке, читаю в «Красной нови» повесть неведомого мне автора Всеволода Иванова «Бронепоезд 14–69». И вот что любопытно: меня, двенадцатилетнего мальчика, сильнее всего захватили не фигуры партизан, не драматические положения повести, иные из коих мне, уже взрослому, показались явно неправдоподобными (например, остановка бронепоезда, да еще в условиях войны, из-за Син-Бин-У, легшего на рельсы), а лирические отступления, проникнутые радостью жизни, любовью к ней, которую Вс. Иванов бережно, как огонек свечи – в Вербную субботу, проносит сквозь огонь и кровь: «Хорошо, хорошо – всем верить… и любить». Когда я читал «Бронепоезд», я проникался убежденностью автора, что лязгу буферов, грохоту снарядов и визгу пуль не заглушить, как сказано у него же в «Цветных ветрах», голоса «зеленого, плодородного и светлого ветра», как запаху крови и стали не заглушить призывный запах земли: «Пахнет земля – из-за стали слышно». И пахнет она, – утверждает Вс. Иванов, – «радостно и благословляюще». Этот гимн радости я услышал потом и в других произведениях Вс. Иванова: «Все пройдет мимо, но цветом неохватным расцветает за горем радость. Каждую весну трава! Каждую осень летят журавли…» («Отец и мать»). Но гимн этот скоро затих.
На первых порах Всеволода Иванова, как и Есенина, даже как Клюева, взметнула стихия крестьянской борьбы за землю, но уже в «Бронепоезде» корявый мужичонка замечает, что за таким мудреным словом, как «интернасынал», «ничего доброго не найдешь. Слово должно быть простое, скажем – пашня… Хорошее слово!» И уже на первых порах Вс. Иванов разглядел бесчеловечную и коварную природу Октябрьской революции. О кровожадности и лживости большевизма написаны произведения Сергеева-Ценского, с которыми он выступил в 20-х годах. Но Сергеев-Ценский был к тому времени сложившимся писателем, с целым тюком жизненного опыта за плечами. Какую же чуткость надо было иметь птенцу, только-только расправлявшему крылья, чтобы в стихии, которая тогда еще была чем-то ему родственна, уловить ее пагубность! «Чего народу жалеть? Новый вырастет», – говорит в «Бронепоезде» Знобов. «Ничего нет легче человека… убить», – признается Антон из «Партизан». «Человека – что его, его всегда сделать можно, – вторит ему Селезнев. – А ведь это, заметь, еще “хо-орошие парни”»! Коммунист Никитин из «Партизан» открыто признает необходимость удовлетворения кровожадных инстинктов человека: «Звери все, зверям – крови!.. Понял? Я даю кровь». Да ведь это же развитие и претворение в жизнь ленинского лозунга: «Грабьте награбленное»! И если Каллистрат Ефимович из «Цветных ветров» увещает стального большевика Никитина: «Любовь надо для люду. Без любви не проживут…» – то Никитин отзывается на это отрывисто, точно камни кидает: «Не надо любви…» «Не над-да…» – подтверждает серб Микеш. «Без любви вечно воевать будут», – замечает прозорливый Каллистрат Ефимович.
Профессор из «Возвращения Будды» размышляет: «Будет же что-нибудь выдвинуто в противовес этой неорганизованной тьме, этому мраку и буре. Неужели же кровь и смерть?.. Генералы будут вешать, расстреливать… коммунистов… Коммунисты будут восставать и расстреливать генералов… для чего же нам даны сердца?» Правда, Василий Витальевич – прекраснодушный интеллигент. Но и мужика-партизана Вершинина из «Бронепоезда» еще в разгар гражданской войны начинает подтачивать червь сомнения. Конечная цель революции ему не видна. «Вершинин насупился и, строго глядя куда-то подле китайца, сказал: “Беспорядку много. Народу сколь тратится, а все в туман… Пошто это, а?”» Но и китаец нисиво, нисиво не зынает. И Вершинин с досадой кричит: «Ну вас к черту!.. Никто не знат, не понимат… разбудили, побежали, а дале что?» И, уже обращаясь к Знобову, настойчиво допытывается: «Кабы настоящие ключи были. А вдруг, паре, не теми ключьми двери-то открыть надо»[19].
А дале что? Дале самоуверенный, казалось бы, раз навсегда решивший все мировые вопросы Гафир, и тот доходит до сознания, что «не все можно понять и выучить в партшколе, хотя бы и была она республиканского масштаба» («Гафир и Мариам».) Эпиграфом к циклу рассказов Вс. Иванова «Тайное тайных» можно поставить слова из «Гафира и Мариам»: «Мало ли приходится страдать человеку в столь социально-неустроенное время». И всюду, даже на буддийском Востоке, – «страсти роковые». И от революционной судьбы, обернувшейся стопами, ворохами, горами бумаг-доносов, нацарапанных огрызком многажды слюнявившегося карандаша или же с кропотливым, смачным злорадством выведенных безупречным писцовым почерком, от этой судьбы советскому человеку, как бы высоко он ни залетел, в какой бы норке он ни хоронился, защиты нет. В «Барабанщиках и фокуснике Матцуками» Вс. Иванов подвел итоговую черту своим наблюдениям и размышлениям о ходе событий в послеоктябрьской России.
Я штудировал и конспектировал теоретиков литературы» с наибольшей основательностью – труды Томашевского и Жирмунского.
Придя к убеждению, что не единой формой жив человек в искусстве, я накинулся на русских мыслителей минувшего и нынешнего века. «Дневник писателя», статьи и вышедшие к тому времени два тома писем Достоевского я прочел с увлечением неотрывным. Я жил даже мелкими событиями русской и европейской жизни, на которые откликался Достоевский. Я жил двойной жизнью: жизнью его современника и сегодняшним днем, и дальнозоркость, и глубозоркость Достоевского меня ошеломляла. Расстояние, – ведь он заглядывал в будущее России еще до взрыва бомбы на Екатерининском канале, – скрадывало от него лишь некоторые подробности; самое главное он разглядел. Но даже влюбленный в него Волынский, разбирая «Бесов», упрекал его в сгущении красок. Впрочем, Волынский писал книгу о Достоевском до революции. Теперь нам виднее.
Я прочел все историко-литературные и публицистические работы Мережковского, опубликованные им до революции, вплоть до его восторженного отклика на «Детство» Горького («Две правды русской жизни»), показывавшего, с каким сокрушительным напором сметает настоящее явление искусства перегородки в тех случаях, когда эти перегородки разделяют людей, искусству преданных и для искусства рожденных. По молодости лет я не обращал внимания на белые нитки в шитье Мережковского, на его напряженные позы, как будто вот он сейчас кинется с кручи, меж тем как ему предстоит всего-навсего переступить через лужицу; на однобокость и крайность некоторых его суждений; на то, что он, придумав схему, пытается втиснуть в нее историю и современность; на то, что его слог кое-где блещет блеском мишурным. Я был захвачен водоворотом его мыслей. Я был пленен тем, как мастерски пишет он о мастерах слова. Прочитав его «Гоголя», я несколько дней был как шальной.
Мой новый знакомый, помогший мне довыработать мировоззрение, поощрял мое влечение к русским идеалистам – философам и критикам. Звали его Владимир Александрович Окатов.
Меж нами ничто не рождало споров, но все влекло к размышлению. Мы с ним исповедовали единую веру. Мы ненавидели большевистскую тиранию. Мы сходились с ним в литературных вкусах. Наш любимый писатель был Достоевский. Окатов утончал во мне понимание и чувство России, углублял мою любовь к ней. Он укреплял во мне сознание недосягаемого величия русской литературы – сознание, которое я унаследовал от отца и матери: мой отец признавался, что даже произведения первостепенных иностранных писателей оставляют в нем менее сильное впечатление, чем произведения второстепенных русских.
Мы говорили с Окатовым об эстетике православия. Он указывал мне на самородную красоту русской мысли. Давал мне читать Аполлона Григорьева, «Три разговора» Владимира Соловьева с их апокалиптически грозными прозрениями судьбы человечества, в наше время уже начинающими отчасти сбываться, Розанова. Упиваясь дневниковой интимной непосредственностью розановских интонаций в «Опавших листьях», я думал: «Какое счастье, что Розанов был своим собственным Эккерманом!» Как по-достоевски точно представлял себе Розанов социализм: «Социализм пройдет как дисгармония. Всякая дисгармония пройдет, А социализм – буря, дождь, ветер… Взойдет солнышко и осушит все, И будут говорить, “Неужели он… был? И барабанил в окна град?.. – О да! И еще скольких этот град побил!1”» «Революция… будет все расти в раздражение; во никогда не настанет в ней того окончательного, когда человек говорит: “довольно! я – счастлив! Сегодня так хорошо, что не надо завтра”… Революция всегда будет с мукою и будет надеяться только на “завтра”, И всякое “завтра” ее обманет и перейдет в “после-завтра”, В революции нет радости. И не будет»[20].
«Битой посуды будет много», во «нового здания не выстроится»,
…………………………………………………………………………………………..
«…Новое здание повалится в третьем-четвертом поколении»[21]. Даже будущее советской литературы разглядел он, точно в полевой бинокль:
25-летний юбилей Корецкого. Приглашение, Не пошел. Справили. Отчет в «Нов. Вр.»
Кто знает поэта Корецкого? Никто. Издателя-редактора? Кто у него сотрудничает?
Очевидно, гг, писатели идут «поздравлять» всюду, где поставлена семга на стол.
Бедные писатели. Я боюсь, правительство когда-нибудь догадается вместо «всех свобод» поставить густые ряды столов с «беломорскою семгою». «Большинство голосов» придет, придет «равное, тайное, всеобщее голосование». Откушают. Поблагодарят. И я не знаю, удобно ли будет после «благодарности» требовать чего-нибудь… Иловайский не предвидел, что великая ставка свободы в России зависит от многих причин и еще от одной маленькой: улова семги в Белом море[22].
Как близки мне были уже тогда мысли Розанова о религии:
…при всех порицаниях как страшно остаться без попов. Они содержат вечную возможность слез… все-таки попы мне всего милей на свете…» «Необыкновенная сила церкви зависит (между прочим) от того, что прибегают к ней люди в самые лучшие моменты своей души и жизни: страдальческие, горестные, страшные, патетические. «Кто-нибудь умер», «сам умираю». Тут человек совсем другой, чем всю жизнь. И вот этот «совсем другой» и «лучший» несет сюда свои крики, свои стоны, – слезы, мольбы. Как же этому месту, «куда все снесено», не сделаться было наилучшим и наимогущественнейшим.
(за утренним чаем, 23-го июля)[23].Розанов писал эти слова, еще не испытав того, что принесла с собой Октябрьская революция. А вот запись из дневника племянника Бунина Николая Алексеевича Пушешникова от 20 апреля 1918 года:
Вечером опять у Ивана Алексеевича. Он только что пришел из церкви. Глаза заплаканы.
– После всей этой мерзости, цинизма, убийств, крови, казней я был совершенно потрясен. Я так исстрадался, я так измучился, я так оскорблен, что все эти возвышенные слова, иконостас золотой, свечи и дивной красоты песни произвели на меня такое впечатление, что я минут пятнадцать плакал навзрыд и не мог удержаться. Все, что человечество создало самого лучшего и прекрасного, все это вылилось в религию… Да, только в редкие минуты нам дано это понимать.
Так говорил один из последних великих русских писателей.
А вот как двумя годами позже воспринимал церковь Василий Витальевич Шульгин, один из очень немногих людей в предреволюционной России, отличавшихся глубиной государственного ума и политической прозорливостью, выдающийся публицист и оратор, член Государственной Думы, рыцарь без страха и упрека, белый офицер, эмигрант, узник советской тюрьмы, прошедший муки отступления, бегства, скитаний, игры в прятки с одесской Чрезвычайкой, муки изгнанья, муки допросов в советской тюрьме, оставивший драгоценные записи о предсмертных годах России, – записи, в которых так и сверкает его ухватистый ум и талант:
Я вовсе ничего не идеализирую… Я знаю и вижу нашу русскую церковь… И все-таки среди этого расцвета зла, когда поля и нивы зардели махровыми, буйными, красными будяками, церковь уже потому утешает, что она молится…
И еще:
Церковь среди большевизма имеет какую-то особенную непонятную в обычное время прелесть. Если бы от всей нашей земли ничего не осталось среди враждебного, чужого моря, а остался бы только маленький островочек, на котором все по-старому, так вот это было бы, что церковь среди красного царства[24].
Какой остротой социально-исторического зрения обладал Розанов! «Есть не своевременные слова. К ним относятся Новиков и Радищев. Они говорили правду и высокую человеческую правду. Однако, если бы эта “правда” расползлась в десятках и сотнях тысяч листков, брошюр, книжек, журналов по лицу русской земли, – доползла бы до Пензы, до Тамбова, Тулы, обняла бы Москву и Петербург, то пензенцы и туляки, смоляне и псковичи не имели бы духа отразить Наполеона».
Как близко мне отношение Розанова к Льву Толстому:
Вся судьба толстовца Толстого в этих словах: «Чего хотел, тем и захлебнулся». Когда наша простая Русь полюбила его простою и светлою любовью за «Войну и мир», – он сказал: «Мало. Хочу быть Буддой и Шопенгауэром». Но вместо «Будды и Шопенгауэра» получилось только 42 карточки, где он снят в 3/4, 1/2, en face, в профиль и кажется «с ног», – сидя, стоя, лежа, в рубахе, кафтане и еще в чем-то, за плугом и верхом, в шапочке, шляпе и «просто так»…
Какой широкий и верный литературный и музыкально-поэтический вкус был у Розанова!
Таких, как эти две строки Некрасова:
Еду ли ночью по улице темной — Друг одинокий!.. —нет еще во всей русской литературе. Толстой, сказавший о нем, что «он нисколько не был поэт»… не обнаружил беспристрастия и простого мирового судьи. Стихи, как
Дом не тележка у дядюшки Якова —народнее, чем все, что написал Толстой.
………………………………………………………………………………………
Его «Власу» никакой безумец не откажет в поэзии» Его «Огородник», «Ямщик», «Забытая деревня» прелестны, удивительны и были новы по тону в русской литературе. Вообще Некрасов создал новый тон стиха, новый тон чувства, новый тон и звук говора.
Сочувствие в общем вызывало во мне и отношение Розанова к Щедрину, из произведений которого я очень люблю только «Губернские очерки», «Пошехонскую старину», «Господа Головлевы» (вещь почти «достоевскую») и пьесу «Смерть Пазухина».
…из «Истории одного города», – признается Розанов, – прочел первые три страницы и бросил с отвращением… Думаю, что этим я много спас в душе своей.
Этот ругающийся вице-губернатор – отвратительное явление. И нужно было родиться всему безвкусию нашего общества, чтобы вынести его[25].
Меня ничуть не коробили – напротив, восхищали раблезианские словечки Розанова: ведь я стал раблезианцем задолго до того, как прочел «Гаргантюа и Пантагрюэля». Ну, а уж по существу-то я был всецело на стороне Розанова и с превеликой охотой исполнил бы собственноручно его пожелания, во всяком случае – второе:
Спенсеришку надо было драть за уши, а «Николаю Гавриловичу» (Чернышевскому. – Н. Л.) дать по морде, как навонявшему в комнате конюху[26].
Книги Розанова – это учение о душе:
Общество, окружающие убавляют душу, а не прибавляют. «Прибавляет» только теснейшая и редкая симпатия, «душа в душу»… В них душа расцветает… А толпы бегай или осторожно обходи ее[27].
Мой друг никогда бы не сказал, как однажды обмолвился Пастернак, что его душе нечего делать на Западе. Но все, взятое нами напрокат, все, перешедшее к нам с чужого плеча и не переделанное по мерке, плохо на нас сидевшее, все кургузое и длиннополое, широченное и обуженное вызывало у него гадливую насмешку. Любимым его историком был Карлейль. Его идеалом в политике были английские консерваторы. Он утверждал, что мудрый консерватор дальновиднее, предприимчивее и гибче самых ярых революционеров.
Окатов дал мне прочесть «Несвоевременные мысли» Горького. В этой книге собраны статьи «буревестника русской революции», печатавшиеся в 17-м и 18-м годах в газете «Новая жизнь».
В «Несвоевременных мыслях» достается не только Ленину, Троцкому и Зиновьеву. Достается даже «лирически настроенному, но бестолковому А. В. Луначарскому» («Новая жизнь», № 194, 6 (19) декабря 1917 г.). В каждой строчке «Несвоевременных мыслей» слышится плач по России, которую до основания разрыли свиными своими пятачками господа большевики, как величает их Горький. Он не желает участвовать в «бешеной» пляске г. Троцкого над развалинами России… Каждая строчка его книги полна ужаса перед гибелью русской культуры; перед творившимися ежедневно и ежечасно злодеяниями еще до введения «красного террора»; перед удушением свободной мысли, перед «истреблением инакомыслящих» (от Ивана Грозного «…этим простым и удобным приемом… пользовались все наши политические вожди – почему же Владимиру Ленину отказываться от такого упрощенного приема?» – пишет Горький в № 11 (225) «Новой жизни» от 11 (30) января 1918 г.). Горький непочтительно возвращает «господам большевикам» билет на «светлый праздник народов» («Новая жизнь» № 179, 12 (25) ноября 1917 г.), к которому они шагают через горы трупов. И это писал человек, который спустя несколько лет бросит лозунг: «Если враг не сдается – его уничтожают»..!
Владимир Александрович Окатов был местный уроженец. Отец его – бухгалтер, мать – «домашняя хозяйка». Когда я смотрел на этих немудрящих обывателей или беседовал с ними, я с трудом верил, что Владимир Александрович – их родной сын. И внешность у них была вполне заурядная. Его отец мог бы торговать в свечной лавочке, быть церковным старостой, мать напоминала рыхлую, благодушную просвирню. А Владимир Александрович и по внешности был интеллигентом самой высшей пробы: чистый, высокий лоб, взгляд – как у Владимира Соловьева на портрете Крамского, чуть курчавившаяся каштановая борода, подчеркивавшая восковую мертвенность впалых щек, на которых временами играл чахоточный, неестественно яркий румянец… Таким он был в свои 27–28 лет, когда мы с ним познакомились.
В 29-м году он выступал в Архангельске на литературных сборищах, громил местных рапповцев, говорил незадолго до коллективизации, что надвигается новая революция, быть может еще более страшная, нежели революция 17-го года, и что только слепые могут не замечать ее приближения.
За такие речи его выгнали со службы. Он бежал в Ленинград и там устроился. В Ленинграде заболел туберкулезом, В Архангельске к тому времени успели позабыть о его выступлениях, РАПП была ликвидирована, на сцене появились новые люди. Окатов вернулся в Архангельск и стал корреспондентом Северного отделения ТАСС. Его часто можно было видеть выходящим на репортерский промысел вместе с двумя сослуживцами: сыном местного окулиста Леней Головенко и разгуливавшим зимой и летом в одном френче, без пальто и без шапки, Арнольдом Раппопортом, рассуждавшим о сверхгениальности Джойса, которого он не читал, и уверявшим, что лучшие русские поэты – это Тихон Чурилин и Елена Гуро. (Хлебников был для него слишком старомоден,) Окатова и меня связывало с Раппопортом неприятие современности. Оба у меня бывали: Окатов – часто, Раппопорт – редко. Увидев однажды на другой стороне улицы эту тройку над чем-то взахлеб хохотавших приятелей и проводив их глазами, я подумал: «Уж очень у них вызывающе насмешливый вид. Одного этого им не простят».
Осенью 35-го года арестовали и отправили в концлагерь Головенко. В чьем-то присутствии он неосторожно высказался; при обыске у него отобрали стихи, свидетельствовавшие только о том, что он смотрел на жизнь не через розовые очки. Уже после моего отъезда арестовали Раппопорта: кажется, кто-то вспомнил его юношеский троцкизм. Окатова избавила от тюрьмы и каторги смерть: чахотка доконала его в начале 37-го года…
В книжном магазине, где я появлялся едва ли не ежедневно и в кассе которого много раз оставлял деньги, первоначально предназначавшиеся на обед в столовой, я той же зимой – зимой 34–35 года – познакомился с давно уже примелькавшимся мне человеком. Он ходил в пальто с рыжим меховым воротником и в рыжей меховой шапке. У него был мелкий, очень быстрый, скользящий шаг, не шаг, а шажок. Казалось, он ступал не по доскам, а по паркету, в лад шажкам покачивая головой. В профиль он был похож на чорта: нос крючком, козлиная бородка. Он курил трубку с изображением чорта. Как-то он сидел в сквере и покуривал. Мимо него шла девочка лет семи. При виде его она остановилась и долго переводила глаза с трубки на него.
– Дяденька! Трубка на вас похожа, – установила она.
Это был Борис Натанович Лейтин, или, как я для простоты стал называть его, когда мы с ним сблизились, – «Борнат».
Он получил высшее юридическое образование, в молодости пописывал стихи. При НЭП’е его родственник со стороны жены, крупная фигура в валютном управлении тогдашнего Народного Комиссариата Финансов, соблазнил Бориса Натановича легким и весьма приличным заработком, и Борис Натанович стал государственным маклером на бирже. Под его родственника подкапывался председатель правления Госбанка, зам. Наркомфина СССР Шейнман, впоследствии удравший за границу. Паны дерутся – у хлопцев чубы болят. В 26-м году Шейнман таки засадил Борнатова родственника и самого Борната в тюрьму. Родственник получил некий срок лагеря, а Борната приговорили к трем годам ссылки в Сибирь. Шейнман этим не удовольствовался и добился через Ягода пересмотра дела. Бориса Натановича «со свечой», то есть с одетым в штатское конвоиром, вернули с дороги на Лубянку. Его родственника расстреляли. Борнат получил 10 лет Соловецких лагерей. Вскоре после того, как он этапом добрался до Соловков, жена его вышла замуж за профессора-терапевта Зеленина. В Соловках Борнат отсидел три года, два года провел в лагере в Кеми, а потом ему заменили лагерь ссылкой в Северный край, и с 1931-го по 36-й год он пребывал безотлучно в Архангельске.
Жестокие соловецкие нравы смягчались у него на глазах. Заключенным было разрешено устраивать спектакли, вечера самодеятельности. Борис Натанович пел мне гимн, исполнявшийся на таких вечерах. Из него я запомнил две строки припева:
Край наш, край Соловецкий — Каэров и шпаны прекрасный край! —и две строки одной строфы:
…И со всех концов земли Советской: Прет сюда восторженный народ.Борис Натанович показывал мне комплект типографским способом издававшегося в Соловках журнала, в котором сотрудничал и он.
В лагере он писал много стихов. Одно стихотворение, написанное им вскоре после прибытия в Соловки, мне запомнилось:
Когда жизнь, как полынь, горька; Когда холодеет рука; Когда любо ворону: «Кар!» Кричать в закатный пожар; Когда нищим проснулся вдруг; Когда предал и лучший друг — Надеждам не верь ты: врут! Развей их на рвущем ветру! И, сердцу сказав: «Каменей В удушливых клетках дней!..» — Миражей неверный свет Погасишь ты жестким: «Нет!» …Будет вечер и тих и синь» Будет горькая мягче полынь, И жизнь, такую как есть, Ты примешь как жданную весть.Эти стихи ценны тем, чти выросли из невыдуманных переживаний. В них запечатлен душевный опыт осужденного на долгий срок, и они характерны для Борната: он почти до самой кончины принимал жизнь «как жданную весть».
В лагере он занимался английским языком, начал переводить в стихах.
Он называл себя «Двадцать два способа зарабатывать деньги». И впрямь: чем он только не занимался в Архангельске! Был экономистом-плановиком, статистиком, распределял по учреждениям абонементы в оперетту, ездил, как выражался его приятель, на «великую» и на «малую халтуру», то есть разъезжал по рабочим клубам со своим «антрепренером» – ссыльным грузином, по прозвищу «светлейший князь Асоциани», и выступал в концертах с чтением «Песни о ветре» Луговского и «Пожара пугачевского» Василия Каменского. В свободное время переводил из английских поэтов и посылал свои переводы на отзыв Горькому, Святополк-Мирскому, Отзывы получал одобрительные, но переводов его не печатали.
Весной 36-го года он освободился и съездил ненадолго в Москву. Я провожал его на поезд. На вокзале он вел себя как человек, едущий откуда-нибудь из медвежьего угла, никогда не видевший железной дороги. Растерянно озираясь, он без всякой надобности метался по вокзалу, тянул меня вместо выхода на перрон к противоположному выходу, полез не в свой вагон.
В ежовщину он вовремя унес ноги из Архангельска, и тут для него началась длительная полоса скитаний. Бывших ссыльных отгоняли все дальше и дальше от Москвы, запрещали жить в некоторых областных городах. Только устроится Борис Натанович в Твери – выметайся. Устроится в другом месте – и здесь введен строгий паспортный режим. Наконец он обосновался в Александрове. Кое-какая работенка перепадала ему из московских издательств. Когда он приезжал в Москву, то непременно заходил к нам и все повторял фразу, которая стала у нас в семье крылатой:
– Не дают людям спокойно жить!..
В 39-м году он подал в НКВД заявление о снятии судимости. Ему отказали. В начале войны его опять посадили только по подозрению и «на всякий случай» целый год продержали в александровской тюрьме.
Во время и после войны ему все неохотней давали работу – надо было иметь упорство Борната, чтобы все-таки где-то что-то урывать.
После смерти Сталина Борис Натанович Лейтин был реабилитирован.
Шервинский, Вильмонт, Левик и я содействовали его принятию в Союз писателей.
Лейтину принадлежит лучший, после пастернаковского, перевод «Отелло».
…Лето 1935 года со мной провела мать. Я по-прежнему был безработным.
Спустя несколько дней после ее отъезда, вернувшись поздно из читального зала, я нашел у себя на столе письмо из редакции «Звезды Севера»: меня просили зайти и взять на редактуру рукописи двух повестей.
Это был мой первый заработок после полугодовой безработицы, и это был знак некоторой перемены в отношении к «адмам».
Я не мог похвалиться Борнатовым искусством двадцатью двумя способами заколачивать деньги, и все же я последний год моей архангельской жизни потрудился на разных поприщах: ставил в любительском драмкружке поликлиники водников «Квадратуру круга» Валентина Катаева и играл в этом спектакле Абрамчика; преподавал французский язык врачам из кожно-венерологического диспансера; давал информацию о культурной жизни города в «Последние известия», передававшиеся по местному радио; брал интервью для тех же «Известий» у художественных руководителей и директоров театров; был литературным консультантом Большого драматического театра и драматического коллектива Клуба моряков имени Фрунзе; прочел цикл лекций по теории стиха для начинающих поэтов.
У меня сохранился пожелтевший, с оборванными краями, номер «Правды Севера» от 15 ноября 36-го года. В нем помещено объявление:
Лекции о мастерстве поэта
15 и 16 ноября в 7 часов вечера в Северном отделении Союза советских писателей (П. Виноградова, 64, вход с ул. К. Либкнехта) состоятся вторая и третья лекции H. М. Любимова о мастерстве поэта. Приглашается литактив.
Правление Северного отделения Союза писателей
Жил я тогда уже на другой квартире, на окраине Архангельска, в Кузнечихе, у пожилой вдовы Варвары Сергеевны Дворниковой. Не знаю, как теперь, но тогда честность северян изумляла. И у Карповых, и у Дворниковой я никогда не прятал денег, и у меня за всю мою архангелогородскую жизнь ни «копья» не пропало. Варвара Сергеевна была родом из Саратова, говорила не по-северному, нравом же и обличьем была настоящая северянка: под внешней хмуростью таила добросердечие. Недавно женившийся сын ее Николай Андреевич был грузчик. Ему случалось зарабатывать хорошие деньги. После получки он приходил домой вдрызг пьяный, непременно заходил ко мне и, еле держась на ногах, вываливал из всех карманов пачки дорогих папирос и коробки консервов. Я все эти дары принимал беспрекословно, как меня учила Варвара Сергеевна, а наутро возвращал ей.
Жил я в каморке с единственным окном, которое упиралось в забор. Комнатка напоминала купе. У меня стояли две кровати (на одной из них я усаживал гостей), у окна – столик, у столика – стул. Вдобавок комнатенка была проходная. От прохода из кухни в комнату хозяев меня отделяла занавеска. И вот строчишь, бывало, по заказу Радиокомитета конферанс к спектаклю «Отелло», который должен транслироваться по радио из Большого театра, а за стеной перебранка. Ругается с матерью Николай Андреевич, злой с похмелья, да еще навинченный молодой женой «Агнищей» (Агнией). Мать предъявляет к нему какое-то законное требование.
– …! – односложно отвечает ей почтительный сын.
– Сам его жуй! – парирует Варвара Сергеевна, и вслед за тем слышится ее уязвленное aparte: – Вот времячко-то пришло! Кто ж бы это раньше посмел родную мать…ми кормить!
Как-то я вышел из дому. Меня окликнула Варвара Сергеевна.
Поравнявшись со мной, она сказала:
– Вы идите, а я вас провожу.
И начала со мной советоваться: стоит ли подавать ей на сына в суд. По какому случаю – теперь уж не помню. Она привела веские доказательства, что суд может его упечь.
– Варвара Сергеевна! Ведь вы – верующая, и вы – мать, – заговорил я. – Это вы сгоряча решили так поступить. Ну, засудят его – вы же себе этого потом не простите. А будет поздно.
Прошло дня два. Я вышел в кухню, когда там, кроме Варвары Сергеевны, никого не было.
– Помирились мы! – сообщила она.
И тут я в первый раз увидел на ее строгом лице улыбку.
Как ни странно, под ругань мне работалось споро. Отвлекала она меня лишь в те мгновенья, когда приобретала уж очень затейливые формы раешного стиха, больших и малых морских узлов. Как же скоро брань выдыхалась и сбивалась на трафарет, я выключал слуховой аппарат и вновь сосредоточивался на своих писаньях. У Карповых мне было в этом отношении труднее: там меня нередко выводили из равновесия детские резвости за стеной, даже не слишком шумные, – я бросал перо и бежал куда-нибудь в гости.
Уезжая из Архангельска, я прощался с Варварой Сергеевной и с Николаем Андреевичем как с друзьями и потом довольно долго с ними переписывался.
…Консультировать спектакли в Большом драматическом театре меня пригласил его художественный руководитель (так тогда называли главных режиссеров) Николай Константинович Теппер: бабье лицо, нос пуговкой, малюсенькие хитренькие глазки. Почти полное отсутствие растительности на лице природа возместила ему лесом волос на голове, й этот лес разрастался у него буйно. Карьерист-неудачник, он хотел подчеркнуть этим «поэтическим беспорядком», как и небрежной простотой одежды, что он витает в облаках искусства и считает ниже своего достоинства уделять внимание такой прозе, как туалет и прическа. Был он человек стихийно одаренный, но весьма мало образованный. К чести его нужно сказать, что он не стыдился учиться у людей, более сведущих, чем он, и много читал. Библиотека у него была колоссальная. Он принадлежал к кочевому племени провинциальных режиссеров, и таскать за собой из города в город библиотеку было для него тяжким крестом, но он нес этот крест с подвижническим благоговением и все подкупал и подкупал вновь выходившие книги и букинистические редкости. Он мог быть резок и груб, а когда хотел, был отменно любезен, даже обаятелен. Со мной он всегда хотел быть любезным. Во-первых, я был ему нужен – и не только для того, чтобы что-то у меня почерпнуть, но и чтобы при случае похвастаться перед начальством: вот-де, я отыскал испаниста, он у нас консультирует постановку «Собаки на сене» Лопе де Вега; вот-де, я привлек консультанта, который учит актеров, как нужно читать стихи. Во-вторых, он был человек не злой, и ему было жаль меня: такой молодой, и уже угодил в ссылку! И был он человек по тем временам смелый: осенью 36-го года взял на работу в театр режиссера Калугина, отбывшего данный ему срок каторги на Соловках.
Чего-чего только Теппер в «Собаке на сене» не накрутил! Перенес место действия из Неаполя в Мадрид и попросил меня иепанизировать имена действующих лиц. Попросил меня прослоить пьесу отрывками из «Театра Клары Гасуль» Мериме. (Стихотворного перевода Лозинского тогда еще не существовало, и Теппер ставил пьесу в дореволюционном прозаическом переводе, который я стилистически выправил.) Затем попросил меня написать несколько кратких диалогов по-испански и научить актеров их произносить. Дворецкого Октавьо Теппер превратил в придворного священника Дианы, на вид – блюстителя нравов, а тайком кутящего в винном погребке с Теодоро, Тристаном, Марселой и Доротеей. Ну и все в том же чухломско-мейерхольдовском роде.
Первое мое знакомство с труппой произошло на репетиции «Собаки на сене».
При той текучести состава, которая испокон веку размывала наш провинциальный театр, труппа не могла не быть разношерстной. Общим знаменателем была для нее дисциплина: на репетициях – до перерыва – никаких посторонних разговоров; я не помню ни одного случая опоздания на репетицию, не говоря уже об опоздании на спектакль. Среди актеров как старшего, так и младшего поколения были люди начитанные, знавшие толк в музыке, в пении. Разумеется, дело не обходилось и без курьезов.
Перед началом репетиций пьесы Виктора Гусева «Слава» старый артист Александр Иосифович Свирский предупредил меня:
– Не знаю, что вы со мной будете делать. Я совершенно не понимаю и не чувствую стиха. До революции я даже включал особый пункт в контракты с антрепренерами: «Пьес в стихах не играю».
Теппер из любви к пусканию пыли в глаза завел не только штатного заведующего литературной частью, не только внештатного консультанта – он вызвал из Москвы штатного театроведа, некоего Ивенина, человека уже в летах.
Ивенин принадлежал к особому типу любителей Бахуса: он приносил ему жертвы в совершенном одиночестве. Он не выносил собутыльников – не по причине мизантропии, а по причине скаредности: он боялся потратиться на угощение.
В 36-м году проходила «дискуссия о формализме». Замутила воду статья в «Правде» – «Сумбур вместо музыки»: так изволил отозваться об опере Шостаковича «Катерина Измайлова» Сталин. Как раз в это время приехавший в Архангельск на гастроли Шостакович до того растерялся, что хотел было отменить гастрольный концерт. На дискуссию необходимо было откликнуться и архангельскому драматическому театру. Сделать доклад поручили Ивенину. Ивенин, объявлявший себя хранителем традиций Малого театра и заветов Щепкина, не терпевший никаких таировско-мейерхольдовских новшеств (Теппер купил его как кота в мешке, не подозревая, что приобретает в его лице противника), охотно согласился, – и давай изничтожать крамольный дух формализма и эстетизма!
Рассуждая о том, что есть формализм и что есть реализм, Ивенин для пущей наглядности привел два примера из русской поэзии. Сперва прочел стихотворение Фета «Шепот, робкое дыханье…».
– Ну что это такое, товарищи? – комментировал он. – Набор красивых слов, безо всякого толка и смысла. Вот это и есть «искусство для искусства», иными словами – чистейший формализм.
Затем Ивенин прочел стихотворение Пушкина «Пью за здравие Мери…».
– Это ведь тоже не гражданская, а интимная поэзия, – пояснил он. – Но какое глубокое понимание человеческой психологии, какое тонкое реалистическое чутье! Вы только вдумайтесь в эти гениальные строки…
И тут он еще раз с чувством продекламировал:
Тихо запер я двери, И один, без гостей, Пью за здравие Мери.Актеры, знавшие одну особенность Ивенина, надорвали себе животы от хохота.
Однажды директор театра Ситников вывесил за кулисами приказ: «Объявляю выговор артистке Грековой за то, что она во время прогонной репетиции бранила допустившего недосмотр технического режиссера нецензурными словами, чем подала дурной пример рабочим сцены».
Эти забавные случаи запомнились мне именно потому, что их было немного. А в общем это была труппа быстро сыгравшаяся, любившая свое дело превыше всего. Интриганы в Большом театре водились, но интриганы-одиночки; не находя применения своим способностям, они вынужденно бездействовали и шипели по углам. Актеры «водочку кушали», иной раз – до полного самозабвения, но – за стенами театра. Чтобы явиться в нетрезвом виде на спектакль или на репетицию – этого и в заводе не было.
Я стал захаживать к театральному художнику Николаю Ипполитовичу Данилову и к его жене – заведующей литературной частью Ольге Александровне Стиро.
Николай Ипполитович знал и любил русскую и западно-европейскую поэзию, писал стихи. Поклонник Мейерхольда, он многое прояснил мне в его режиссерских принципах.
Какой Данилов был прекрасный театральный пейзажист – в этом я убедился, когда смотрел пьесу Льва Никулина «Дело рядового Шибунина». Тут Данилову было где развернуться, и он в одной из картин открыл перед нами такие бесконечные полевые просторы, во всей ласкающей глаз простоте многоцветного их убора, что, когда раздвинулся занавес, по зрительному залу прошелестел выдох восторга.
К Даниловым я зачастил. Мне открылся еще один теплый, уютный и любопытный мирок.
Николай Ипполитович, среднего роста русский медведь с сединой, рано забравшейся в его вечно взлохмаченные волосы, с очень умными» добрыми, до лукавого озорства живыми глазами» со скрипучим, как немазаное колесо» голосом, и Ольга Александровна, красавица с греческим профилем» много рассказывали мне о театральной провинции, о тогдашних ее знаменитостях, – например, о будущей артистке Московского Малого театра Зеркаловой, – и, слушая эти рассказы, я втягивал в себя воздух областных театров, разглядывал повадки советских Несчастливцевых и Аркашек, Негиных и Смельских, их наиболее приметные черты, вслушивался в их речь, резко отличавшуюся от речи Кручининых и Коринкиных» Незнамовых, Робинзонов и Шмаг.
Благодаря Данилову и Стиро мне стали понятнее архангельские актеры и актрисы, я быстрее сблизился с ними, быстрее нашел с ними общий язык.
Николай Ипполитович и Ольга Александровна любили шутку, просоленную в очень строгую меру. У них всегда было весело и легко. В их веселости, как я догадался потом, уже расставшись с ними навеки, таилось еще и желание приободрить меня, не подпустить близко ко мне хандру. Воспоминаниям о смешных случаях, поддеваниям на удочку и «розыгрышам» в их комнатке не было конца. И на прощанье, по окончании сезона, Ольга Александровна не удержалась – подарила мне свою карточку с надписью: «Дорогому Николаю Михайловичу Любимову – от женщины, которая, как ни старалась, так и не смогла его соблазнить».
Из Архангельска Данилов переехал в Воронеж и оттуда писал мне о тогдашнем руководителе Воронежского театра Сергее Николаевиче Воронове, некогда поразившем Москву своим исполнением Смердякова в спектакле Художественного театра «Братья Карамазовы». Воронов, как мне стало ясно из писем Николая Ипполитовича, обратил его в мхатовскую веру.
Первое время я неохотно посещал спектакли Большого театра. Во мне говорил гонор бывшего столичного жителя: чего я там не видал? Но скоро я удостоверился, что меня манит в театр не только запах кулис. У меня появились любимые актеры, которых мне хотелось смотреть в одной и той же роли еще и еще.
Я не мог отвести взгляд от холодных глаз артиста Чепурнова, игравшего в пьесе Афиногенова «Портрет» «мокрятника», который, понимая, что ему «хана», что гибель его неотвратима, глядит ей в лицо и, развалясь на стуле, заложив руки в карманы, с дикой, злой бесшабашностью поет блатную песню:
Город Николаев, Французский завод — Там живет мальчишка, Двадцать один год. Он сидит, скучает В городском саду…Сергей Иванович Бестужев был лучшим из всех Костей-Капитанов в погодинских «Аристократах», каких я видел. Может быть, ему помогло то, что он, одессит, вдоволь насмотрелся на таких типов. Его Костя по праву носил свою кличку: его авторитет держался на силе воли и на обаянии. Между тем Костя-Капитан в исполнении Рубена Симонова был начисто лишен обаяния. В его облике, в манере говорить было что-то неприятное, даже отталкивающее. Зритель недоумевал: в чем же притягательность этого человека? Почему его не только боятся, но и любят?
Я видел в нескольких ролях Григория Акинфовича Белова, ставшего впоследствии провинциальной знаменитостью, игравшего Мичурина и Римского-Корсакова в кинофильмах. Это актер мыслящий: все у него взвешено и продумано, это актер-ювелир: все у него пригнано, отточено, отгранено. В его Карандышеве было много от героев Достоевского, и это не расходилось с замыслом драматурга, потому что в «Бесприданнице» Островский ближе, чем в какой-либо другой своей пьесе, подошел к Достоевскому.
«Величаться» – вот сквозное действие беловского исполнения. Карандышева-Белова слишком часто унижали, и эти беспрестанные унижения вскормили его распухшее, раздувшееся самолюбие. В фигуре Карандышева-Белова, в выражении его лица чувствовалась крайняя напряженность. Он был как заряженное ружье с взведенным курком. Он каждую минуту ждал, что кто-то его заденет, кто-то кольнет, и становился все трагичнее в своей жалкой надменности. И было ясно, что изъязвленная его душа не вынесет последнего унижения.
В Большом театре Белов потерпел только одну характерную для того времени неудачу. Тогда шекспироведы прилагали усилия к тому, чтобы превратить Шекспира в одного из его героев – чтобы превратить его в Фальстафа. Об этом же заботилась и переводчица Радлова, всеми доступными ей средствами огрублявшая и обеднявшая язык Шекспира, извлекавшая только одну, и притом далеко не самую важную ноту из этого сложнейшего музыкального инструмента. В шекспироведении принижению Шекспира задал тон Смирнов, в театре – печально знаменитый «Гамлет» на сцене Театра им. Вахтангова (постановка Акимова). Гнавшийся за модой Теппер был рад стараться – и ну «приземлять» «Отелло»!
И вот сталинского размаха злодей Яго превратился у Белова в нечто среднее между Фигаро и Глумовым из «На всякого мудреца».
Когда Белов произносил:
Придумал! Зачато! А ночь и ад На свет приплод чудовищный родят —он чуть ли не потирал руки от удовольствия. Дескать: «Все уладил!»
В труппе Большого театра был артист, который мог бы занять одно из видных мест в тогдашней артистической Москве, точнее – в тогдашней труппе Художественного театра. Звали его Михаил Иосифович Корнилов.
– Стоит мне войти перед началом спектакля в фойе Художественного театра, как у меня начинает щипать в носу, – говорил он. – И что бы я там ни смотрел – «Дни Турбиных» или «Квадратуру круга» – я весь спектакль плачу от счастья, что я – в Художественном театре» от счастья видеть его артистов. Они, такие-сякие, всю душу мне переворачивают.
Корнилов не проходил школы Художественного театра, а играл как ученик Станиславского и Немировича-Данченко. Наполненная чувством и мыслью простота, непосредственность переживаний – вот к чему стремился на сцене Корнилов. Он не унижался до эффектных приемчиков, до мелодраматической или балаганной дешевки. И он не заигрывал с публикой. Вот почему, вероятно, он не был ее любимцем.
– Чтобы пронять здешнюю публику, – сокрушался артист Николай Николаевич Янов, – ее нужно колотить телеграфным столбом по п…дячей кости.
А до чего был разнообразен Корнилов! Какие чекистские были у него глаза, когда он играл Громова в погодинских «Аристократах»! Как он зыркал ими на заключенных!
– Где это ты на Громовых насмотрелся? Как тебе удалось перенять их повадку? – недоумевал я. – Ведь ты же ни одного дня не сидел, в ГПУ, насколько мне известно, не работал, а играешь так, будто бы ты или соратник Дзержинского, или десять лет в Соловках отгрохал.
А в «Школе неплательщиков» Вернейля и Вера Корнилов являл собою типичного французского буржуа.
Образ рядового Шибунина Корнилов лепил из плохой никулинской глины, на репетициях крошившейся у него в руках. Скульптор преодолел убогость материала. Я несколько раз смотрел эту бездарную пьесу Никулина ради Корнилова, вызывавшего во мне те же чувства, какие я испытывал в Москве на спектаклях Художественного театра. Сцену накануне казни Корнилов проводил внешне спокойно, но сквозь спокойствие волевой натуры прорывались непобедимый ужас перед близким уходом в небытие, перед бессмыслицей этого ухода, и смертная тоска – тоска расставания с матерью-мачехой – жизнью, с милой, ненаглядной землей и с той единственной, которая умела пробудить в нем» отданном в солдаты крепостном художнике-самородке, жившем с холодным отчаянием в душе» одеревеневшей от издевательской муштры, бесхитростную и застенчивую нежность.
А когда Шибунин-Корнилов вспоминал стихи Огарева:
«Часовой!» – «Что» барин» надо?» — «Притворись» что ты заснул: Мимо б я да за ограду Тенью быстрою мелькнул…» —в глазах его мерцала надежда на чудо.
…Корнилов недаром любил напевать старинную актерскую песенку:
Нынче мы играем» Завтра уезжаем И по шпалам прем пешком. Но не унываем, Но не унываем — Хлещем водку и поем.Корнилова выбила из колеи душевная драма. От него в Екатеринбурге ушла жена, и он, до ее ухода не бравший хмельного в рот, стал пить. Он не пьянел – он только выходил из состояния грустной самоуглубленности. Хмель у него был веселый. Ему не сиделось на месте, и он кочевал из города в город со своим отцом, бывшим учителем гимназии, сухоньким старичком, и огромным, умнейшим псом Ральфом.
В Архангельске Корнилов прослужил всего один сезон. Летом 36-го года он, почти как Счастливцев, направлявшийся из Вологды в Керчь, переехал из Архангельска в Симферополь, занял там первое положение. След его затерялся в дыму войны…
…С осени 36-го года по улице Павлина Виноградова замелькал новый человек. Особенно часто я встречал его на почте и в книжном магазине. По улицам этот высокий человек ходил быстрым, нервным шаром, слегка сгорбившись и растопырив руки, будто нес на плечах невидимое коромысло. Наши взгляды встречались. На его узком, как бы вытянувшемся в длину некрасивом лице черными бусинками поблескивали глаза. Хотя их прикрывало пенсне, в них видна была и настойчивая мысль, и скорбная сосредоточенность, и доверчивая открытость.
Я был бегло знаком с адмссыльным Лихачовым, который всю жизнь занимался Чаадаевым и утверждал, что «все – в нем и все – от него». Узнав, что я люблю символистов, он сказал:
– Я вас непременно сведу с Дмитрием Михайловичем Пинесом – это большой знаток эпохи символизма. Мм с ним живем в одном доме.
Немного спустя я встретил на почте Лихачова и высокого человека в пенсне. Это и был Дмитрий Михайлович Пинес. Он тут же пригласил меня к себе.
Дмитрий Михайлович жил на улице Карла Маркса» в мезонине» – к нему нужно было взбираться по узкой лестнице. Дмитрий Михайлович шутил, что это «башня Дмитрия Пинеса», подобно тому как в Петербурге была «башня Вячеслава Иванова». Я сделался постоянным ее посетителем.
Дмитрий Михайлович, ученый, библиограф, специалист по русской литературе XX века, которого можно было разбудить глухою ночью, и он ответил бы наизусть, сколько у Ильи Эренбурга сборников стихов и как они называются, до ареста служил в Ленинградской Публичной библиотеке. Левый эсер, он в 32-м году был арестован по одному делу с Ивановым-Разумником. Иванов-Разумник поплатился тогда за свою дружбу с эсерами ссылкой в Саратов, а Дмитрий Михайлович получил пять лет ярославского «централа». После убийства Кирова в армию заключенных влились столь многочисленные пополнения, что для них пришлось освобождать место. Больного Дмитрия Михайловича отправили отбывать оставшийся срок в Архангельск.
Хотя Дмитрий Михайлович пострадал» а впоследствии погиб за свои политические убеждения, жил и дышал он не политикой. Я часто думал с досадой и с тревогой за него: на кой ляд ему, любомудру, ему, упоенному искусством поэтического и прозаического слова, ему, поклоннику Евтерпы, Талии, Мельпомены и Терпсихоры, – на кой ему ляд политика? Добро бы еще социал-демократия, но на кой ляд ему» петербуржцу, наездами бывавшему в Москве и дальше Парголова в глубь России не заезжавшему, – на кой ляд ему эсерство?.. Это так и осталось для меня загадкой.
Его терпимость к чужим убеждениям знала только один предел: большевизм, – ему одному он оправданий не находил. В архиве Сологуба он обнаружил люто юдофобское его стихотворение 1922 года «Еще гудят колокола…» Автора «Жуткой колыбельной», негодующе отозвавшегося на дело Бейлиса, ожесточило преследование православной церкви, кровавая и тюремная расправа над ее архиереями, священниками и прихожанами, в которую особенно много творческого энтузиазма, как и вообще в красный террор, вложили председатель Петроградского Совета рабочих депутатов, предсовнаркома Союза Коммун Северной области Григорий Евсеевич Зиновьев и Кº. В начале революции зиновьевщина была ежовщиной северо-западного масштаба.
Это стихотворение, которое Дмитрий Михайлович вместе с другими ненапечатанными стихотворениями Сологуба дал переписать мне, не набросило даже легкой тени на любовь Дмитрия Михайловича к Сологубу – поэту и человеку. Он его понял, а поняв, простил этот сгусток обобщающей, нерасчленяющей ненависти.
Как-то я сказал Дмитрию Михайловичу без околичностей, что Достоевский – не только самый мой любимый писатель во всей мировой литературе, но и самый близкий мне мыслитель-философ, моралист и политик. Дмитрий Михайлович тоже не представлял себе человеческой культуры без Достоевского. Но эсеру вряд ли было по пути с Достоевским в политике. И все-таки после той несколько вызывающей прямоты, с какой я объявил себя приверженцем Достоевского в политике, между нами не пробежало даже махонького белого котенка, не говоря уже о черной кошке, как, впрочем, и эсерство Дмитрия Михайловича не мешало мне любить его всем сознанием и подсознанием, и поверхностью, и глубью души, так что и теперь, по истечении десятилетий, я не могу думать о нем без подступающего к горлу кома все еще не доплаканного о нем плача – плача сироты, чающего Христова утешения.
Он сложился как личность в эпоху расцвета символизма и до конца остался верен его идеям и его эстетическим принципам. На все, что развивалось вне символизма, на все, что пришло ему на смену, Дмитрий Михайлович смотрел, как смотрят с горы на расстилающуюся внизу долину. Вон там – синяя полоска леса; там, среди игрушечных избушек, белеет церквушка, – все это красиво, но уж очень все это крохотное! Он сочувственно повторял слова Зинаиды Гиппиус: «Какой большой талант у Алексея Толстого!.. Но какой же он маленький писатель!» Исключение Дмитрий Михайлович делал только для Ахматовой, Клюева, Маяковского и Пастернака. Он признавался, что иные и не уступают по силе дарования символистам, как, например, Бунин-прозаик, однако реалисты XX века, даже самые из них яркие, – Бунин, Горький, Куприн, – бесконечно бледнее символистов, ибо мир их идей узок и низок. Что же до символистов, то Дмитрий Михайлович был равнодушен к Вячеславу Иванову, – он считал его «головным», – и не высоко оценивал стихи Волошина – по его мнению, «поэтическая кишка» была у него тонковата.
Высочайшие взметы литературы XIX века были для него ослепительными знамениями грядущего символистского царства. Он прозревал символизм не только у автора «Медного Всадника», не только у автора «Ревизора», не только у автора «Войны и мира», не только у автора «Братьев Карамазовых», не только у певца древнего хаоса и последнего катаклизма, не только у автора «Запечатленного ангела», но и у автора «Леса», «Грозы» и «Снегурочки», а уж Чехов был для него яримым предтечей символизма. Распад символизма был для него не распадом, но уходом в катакомбы, а «Двенадцать», «Первое свидание», «Котик Летаев», «Крещеный китаец» и «Москва» – выходом из катакомб на проповедь.
Дмитрий Михайлович близко знал Блока и Сологуба, после смерти Сологуба вместе с Ивановым-Разумником разбирал и приводил в порядок его архив, дружил с Андреем Белым, Ахматова дарила ему свои книги с сердечными надписями. Он вполне разделял мнение Иванова-Разумника, что Блок и Белый – это вершины русской литературы XX века. С момента возникновения и вплоть до запрета Петроградской Вольной философской ассоциации (так называемой «Вольфилы») он был ее секретарем. В 1930 году «Academia» выпустила под редакцией и с комментариями Иванова-Разумника и Пинеса «Записки о моей жизни» Греча. Пинес принял участие как текстолог в редактировании первых томов собрания сочинений Блока, выпускавшегося Издательством писателей в Ленинграде. Уже в тюрьме держал корректуру. После ареста Иванова-Разумника и Пинеса редакция этого издания перешла к Владимиру Николаевичу Орлову, и Дмитрий Михайлович посылал ему из Архангельска свои текстологические предложения. В Архангельске он написал статью «Литературное наследство Андрея Белого»; она появилась в 27 – 28 томе «Литературного наследства» (1937) за подписью вдовы писателя Клавдии Николаевны Бугаевой и его друга – Алексея Сергеевича Петровского. Жена Дмитрия Михайловича, Роза Яковлевна, посылала ему из Ленинграда в Архангельск нужные для работы книги, и он давал мне то «Луг зеленый» Белого, то его прозу, то «Вершины» Иванова-Разумника, то третью книгу воспоминаний Белого, почти весь тираж которой был задержан цензурой из-за предисловия Вольпе (она поступила в продажу только в 39-м году), то книгу о Блоке, состоящую из выступлений на вечере памяти поэта в «Вольфиле».
Дмитрий Михайлович все время звал меня: вперед и выше!
Я говорил, что читать Мережковского трудно – так клокочет у него мысль.
– Э, что Мережковский! – возражал он. – Конечно, его книга о Гоголе была, я бы сказал, «эпохамахент». Но Мережковский покажется вам фельетонистом рядом с Гегелем или Кантом, а те покажутся фельетонистами, когда вы приметесь за древних и когда вы умудренными глазами станете перечитывать Ветхий и Новый завет.
Человек, изучивший каждую горную складку в мирах, сотворенных великими мыслителями и поэтами разных времен и народов, от Екклесиаста до Ницше и от Гомера до Пастернака, Дмитрий Михайлович дивился, как это я, «западник» по образованию, не обнаруживаю тяги к Западу. Он придумал разговор между ним и мною:
– Вы читали «Евгению Гранде» Бальзака?
– Ах, отстаньте вы от меня с вашим Бальзаком! Я еще Шеллера-Михайлова не всего успел прочитать.
Дмитрий Михайлович знал досконально и Бальзака, и Шеллера-Михайлова, Но родной его стихией был символизм. И о нем он мог говорить часами. Растолковывал мне символику «Двенадцати», выросшую из Евангелия: двенадцать апостолов, блудница. Спросил, как я понимаю «мировой пожар в крови». Я ответил, что Блок, очевидно, приветствует мировую революцию, хотя бы она была вся в крови.
– Тогда при чем же – «Господи благослови»? – возразил Дмитрий Михайлович.
Для него эта строфа из «Двенадцати» была связана с духовным максимализмом Блока, и толковал он ее так: на горе мировому мещанству мы – Господи благослови! – совершим переворот в человеческой душе. Только ради этой революции, «революции духа», и стоит совершать революцию социальную, а иначе овчинка не стоит выделки.
Я как-то сказал Дмитрию Михайловичу, что на меня сильное впечатление произвела поэма Белого «Первое свидание» в чтении Багрицкого и что мне хотелось бы прочитать ее самому. Дмитрий Михайлович выписал поэму из Ленинграда. Для начала он прочитал поэму вслух и всю ее прокомментировал, строчка за строчкой, потом дал мне книгу на дом.
Дмитрий Михайлович, находился не только под обаянием Белого-художника, но и Белого-человека. Бьющую в глаза непоследовательность Белого он объяснял так:
– С Андрея Белого, как со всякого большого поэта, взятки гладки. Белый не знал удержу ни в злопамятности, ни в добропамятности. В более ранних воспоминаниях ополчается на Брюсова, а Блока причисляет к лику святых. Потом нашел у Блока нелестные для себя строки – и вот уже в «Начале века» паинька – Брюсов, а бяка – Блок. Белого швыряло из увлечения в увлечение. Сегодня славословит «огненную» социал-демократию, завтра обзывает ее «колоссом на глиняных ногах». «Коль любить, так без рассудку…» Поэзия Ходасевича у него – «рембрандтова правда в поэзии наших дней». Не слишком ли это жирно для Ходасевича?
Когда я заметил, что напрасно Белый в «На рубеже двух столетий» с такой злобой обрушился на Щепкину-Куперник, он мягко прервал меня:
– Да, да, не стоило по воробьям из пушек палить.
Еще как-то я заговорил о том, что Белый незадолго до смерти начал зачем-то «перестраиваться».
– Да, но вы знаете, – возразил Дмитрий Михайлович, – когда Белый пытается «перестроиться», подладиться, у него это получается до смешного наивно. Вот он разглагольствует о диалектике. И на кого же он опирается как на адамант марксизма? На Федора Гладкова!
Дмитрий Михайлович был органически не способен на заигрывание с властями, но писателям подхалимство скрепя сердце спускал; когда, мол, живешь столько лет с волками, трудно не завыть по-волчьи.
Дмитрий Михайлович вспоминал, что однажды Белый при ком-то из своих старых друзей забрел в такие неокантианско-антропософские дебри, что собеседник не выдержал и спросил:
– Во что же вы в конце концов веруете?
Белый неожиданно встал и, опустив голову, тихо и проникновенно ответил:
– В Господа нашего Иисуса Христа-..
Дмитрий Михайлович любил рассказывать о том, что когда Андрей Белый, вернувшись из Германии, читал в «Вольфиле» «Первое свидание», то потрясены были все, включая старичка, совмещавшего обязанности капельдинера, сторожа и уборщика.
– Ну как? Понравилось тебе, Михеич? – спросил его Пинес.
– Слезинка на лике Божьей Матери!.. Как же это может не понравиться, Дмитрий Михалыч? – ответил тот.
Из слов Михеича Дмитрий Михайлович делал вывод:
– В большом произведении искусства «хватит про всякого». В душу Михеича запали вот эти строки:
И Богоматерь в переулок Слезой задумчивой глядит.Дмитрий Михайлович читал стихи без поэтического «подвыва» и без актерской декламации. Показывал, как читали свои стихи разные поэты, имитировал манеру Бальмонта читать стихи слегка в нос, с видом заклинающего мага:
Красные кони, красные кони, красные кони, – кони мои!
И тут он, как это делал Бальмонт, резко и горделиво поворачивался в профиль.
Он воспроизводил интонации Белого:
Взойди́, звезда воспомина́нья; Года́, пережитые вно́вь; Поэма – пе́рвое свиданье, Поэма – пе́рвая любовь. Я ви́жу – ду́ющие зо́вы, я ви́жу – ду́ющие тьмы́…– Очень зло читал Белый вот эти строчки, – вспоминал Дмитрий Михайлович:
Переварив дары природы Тупыми животами – мы Перетопатываем годы; И – утопатываем в тьмы.Он воссоздавал трагедию последних лет жизни Сологуба, Петрополь как занялся в 17-м году со всех своих дворцовых концов, как запылал, отсверкивая в уже не гладкой глади торцов, так все еще полыхал, кроваво-красный и мерзлый.
Жена Сологуба, Анастасия Николаевна Чеботаревская, не вынесла ледяного пожара. Смерть Блока, смерть голодная, расстрел Гумилева и мука ожидания, когда же наконец ей и мужу разрешат покинуть Родину, которую она Родиной уже не ощущала (Сологуб подал прошение о командировке за границу с целью остаться там навсегда, но разрешение задерживалось, потому что незадолго перед тем выпросивший у Луначарского заграничную командировку Бальмонт не возвратился), – все это добило Чеботаревскую, и она повредилась в уме. Пыталась броситься в реку, но ей помешали. Доктора предписали Сологубу установить над ней неусыпный надзор. И все-таки Сологуб не уследил, Чеботаревская утопилась. Теперь уже помрачился разум у Сологуба. Он подолгу беседовал вслух с навеки ушедшей от него спутницей жизни и упрекал ее в том, что она покинула его – и в какое время!.. Он просил накрывать стол на два прибора и все говорил, говорил…
До смерти жены писавший стихи ежедневно, Сологуб за несколько месяцев после ее кончины не написал ни строчки. Но потом кастальский ключ все же забил в поэте. Это было знаком просветления.
И удивительно просто, просто до боли, читал Дмитрий Михайлович первые стихи Сологуба, вылившиеся у него из души после молчания и посвященные ей:
1921 (конец) – улицы —
КОЛЫБЕЛЬНАЯ
В мире нет желанной цели, Тяжки цепи бытия. Спи в подводной колыбели, Настя бедная моя. Вот окно мое высоко, Над тобою я стою. Снял я мантию пророка И, как няня» я дою: Баю-баюшки – баю. Бай мой» бай, волшебник-бай, Настю тихо покачай. В муках дни твои сгорели, И не спас тебя и я. Спи в подводной колыбели, Настя милая моя. Подняла над волей Рока Волю гордую свою. Спи спокойно, спи глубоко, Над тобою я пою: Бай мой, бай» кудесник-бай, Настю тихо покачай. Вспомни, звук моей свирели Был усладой бытия. Спи в подводной колыбели» Настя милая моя. До уставленного срока Сядь в надзвездную ладью, Унесись со мной высоко, И спою тебе в раю: Баю-баюшки-баю. Светозарный Божий Май, Настю в светах покачай.30/XI – 13/XII – 1921
Сняты все мантии – мантия пророка, мантия чародея, мантия учителя жизни» мантия декадента. Перед нами ничем не защищенный человек один на один со своим горем. Он стоит у себя в комнате и смотрит в окно. А внизу, в «подводной колыбели», – она.
Но у Сологуба была не только мантия, но и сердце, и разум пророка. И священным, пророческим гневом звучали у Дмитрия Михайловича вот эти сологубовские строки:
Грабеж, убийства и пожары, Тюрьма, петля, топор и нож — Вот что, Россия, на базары Всемирные ты понесешь.Я твердил себе эти строки, когда орды «победителей» и грабителей хлынули на Балканы, в Восточную Германию, в Чехословакию, в Венгрию, с воронье-дикарской жадностью на все блестящее унизывая отнятыми у мирных жителей часами, кольцами» браслетами все места своего тела, вплоть до причинного, когда в Болгарии повесили Петкова, а в Чехословакии – Сланского, когда в Чехословакии выбросили из окна Масарика, когда в Венгрии давили танками безоружных.
К человеческим слабостям Дмитрий Михайлович был снисходителен. Он не терпел насилия, не терпел всяческих проявлений неуважения к человеческой личности. Рассказывал, что однажды в Ленинграде бросился с кулаками на театрального швейцара, державшего публику на холодном ветру только для того, чтобы показать свою «власть».
Это был человек совершенной душевной чистоты и негнущейся стойкости. Следователь спросил у него, кто бывал у Иванова-Разумника и о чем преимущественно велись у него разговоры. Дмитрий Михайлович ответил:
– Даже если бы мы собиралися (он употреблял этот старославянский суффикс), собиралися для того, чтобы читать «Евгения Онегина», я все равно бы вам не сказал, кто при этом присутствовал и у кого происходили чтения.
Он с гадливостью вспоминал «героев» процессов, оговаривавших друг друга, вспоминал, что в ярославской тюрьме политические объявили бойкот Суханову (Гиммеру) за то, как он держал себя в 31-м году на процессе «Союзного бюро меньшевиков».
Летом 36-го года моя мать прочла в газете письма Дзержинского, опубликованные по случаю десятилетия со дня его смерти. Дзержинский писал, что он на «адской работе», что он измучен, что он с наслаждением ушел бы в Наркомпрос, ведал бы детскими учреждениями. Моя мать заговорила об этом с Дмитрием Михайловичем в таком духе, что, значит, мол, Дзержинский был все-таки не чета Ягодам, раз он тяготился своими обязанностями.
– Милая Елена Михайловна! Он – председатель ВЧК, – напомнил Дмитрий Михайлович.
– Вы правы, Дмитрий Михайлович, этим все сказано, – согласилась моя мать.
Я до известной степени симпатизировал «любимцу всей партии», как назвал его Ленин, Николаю Ивановичу Бухарину – за то, что он был против «военно-феодальной эксплуатации» крестьянства, как он определил политику Сталина в деревне (см. резолюцию Объединенного заседания Политбюро и Президиума ЦКК по внутрипартийным делам от 9 февраля 1929 года), за то, что он противопоставлял душегубству раскулачиванья мирное врастание кулака в социализм. «Мы ему (кулаку. – Н. Л.) оказываем помощь, но и он нам, – писал Бухарин в статье “О новой экономической политике и о наших задачах”. – В конце концов, может быть, и внук кулака скажет нам спасибо, что мы с ним так обошлись». Платформа «правой оппозиции» (Бухарина, Рыкова и Томского) представлялась мне и наиболее разумной, и наиболее человечной из всех большевистских платформ. Я высказал это Дмитрию Михайловичу.
– А все-таки Бухарин чем-то напоминает Петра Степановича Верховенского. Вы не находите? – спросил Дмитрий Михайлович и насмешливо сверкнул стеклами пенсне.
Много-много лет спустя я перечитывал «Злые заметки» Бухарина[28], в которых он сравнил Есенина с Барковым, договорился до того, что русская дореволюционная литература «не могла не быть, в лучшем случае, радикально-мещанской», и, комментируя строку из стихотворения Павла Дружинина «Российское»: «И в каждой хате есть царевна…», злорадно напомнил, что царевны «в свое время были немного постреляны…»
Перечитал я эти и впрямь злые, развязные, глубоко невежественные и, в школьном смысле, малограмотные заметки – и хоть, поздно, а пришел к выводу, что Дмитрий Михайлович еще очень мягко определил «любимца всей партии». В Бухарине было много от Петра Степановича Верховенского, а иначе он не мог бы стать вождем и теоретиком большевистской партии.
Ох и отлилась же кровь царевен, и далеко не только царевен, целым легионам большевистских бесов – отлилась каждому в свой срок, отлилась с избытком, и ждать им этого срока пришлось совсем даже недолго – не более двадцати лет!
«Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет ненавидящих Тебя» (Псалтирь, 20, 9).
«…сеявшие зло пожинают его; от дуновения Божия погибают и от духа гнева Его исчезают» (Книга Иова, 4, 8 и 9).
Члена Уральского и Екатеринбургского советов, областного комиссара по продовольствию Войкова в 27-м году хлопнул в Польше Каверда. Свердлов, вскоре после того, как по его приказу убили Романовых, отдал концы. Белобородов, председатель Уральского областного исполнительного комитета, в 20-х годах – Наркомвнудел, оказался в лагере троцкистов и пропал – может быть, и его застрелили где-нибудь в лубянском подвале, как застрелили по его настоянию Николая Второго в подвале Ипатьевского дома. Сафаров, вместе с Войковым командированный Свердловым в Екатеринбург для неусыпного наблюдения над Романовыми и решения их участи, руководивший алапаевским злодеянием, еще более страшным, чем екатеринбургское, ибо в Алапаевске великую княгиню Елизавету Федоровну, великого князя Сергея Михайловича и трех сыновей поэта К. Р. – князей Игоря, Иоанна й Константина – и других бросили живыми в шахту» а потом бросали туда бревна и гранаты, 23 июля 1918 года на страницах газеты «Уральский рабочий» назвавший убийство царя, царицы» великих княжон и наследника» в которых всаживали по нескольку пуль, которых кололи штыками и добивали прикладами, «крайне демократическим», в 35-м году вместе с другими «участниками контрреволюционной зиновьевской группы» выступал в качестве «свидетеля» по «делу» Зиновьева и Каменева, а потом был приговорен к ссылке[29]. Но не угодил ли и он вместо ссылки, которой ему на первых порах заменили концлагерь за особую услужливость, в какой-нибудь из чекистских подвалов?
Не могла не покарать Немезида и «правых».
19 декабря 1927 года на торжественном пленуме Московского совета, посвященном десятилетию ВЧК – ОГПУ, Бухарин захлебывался от восторга перед праздновавшей свой юбилей всероссийской бойней:
…появился новый, пламенный человек. Чекист – наиболее законченный тип такого нового человека. Праздник ЧК – ОГПУ, это праздник не только чекистов и не только по поводу 10-летия ВЧК – ОГПУ, а праздник всей страны. Это – праздник высвободившейся от всеобщей спячки энергии России («Известия» от 20 декабря 1927 года).
Позволю себе напомнить еще одну черту из политической жизни Бухарина.
В октябре 27-го года на объединенном пленуме ЦКК и ЦК ВКП(б) Троцкий бросил обвинение не только Сталину, но и Бухарину:
– …фракция Сталина – Бухарина сажает во внутреннюю тюрьму ГПУ прекрасных партийцев.-.
По поводу «белогвардейского заговора», который якобы недавно раскрыло ОГПУ и нити от которого тянутся к тем, кто работал в нелегальной типографии оппозиционеров, Троцкий заявил» что это обман партии, что противники оппозиции выдают за врангелевского офицера подосланного к оппозиции агента ГПУ.
Бухарин не нашел ничего лучшего, как восславить ГПУ:
– Через агента ГПУ нашли человека, который работал в вашей типографии и в то же время был связан с белыми. Слава ГПУ за то, что оно это сделало!
Вот ведь и Рыков, которому я отчасти симпатизировал и за которого мысленно цеплялся, как за якорь спасения, наивно полагая, что он, глава правительства, не даст разгуляться сталинской своре, Опять-таки много лет спустя, проглядывая «Правду» за июнь 27-го года, я наткнулся на заявление Предсовнаркома Рыкова, в котором он, отвечая на протест лейбористов против расстрела двадцати человек без суда, – расстрела, поразившего мое детское воображение, – защищает приговор коллегии ОГПУ и утверждает, что виновность казненных «была доказана документально». Где доказана? Когда доказана? Кому и какие были предъявлены документы? Ведь суда-то не было. В 27-м году я читал газеты от случая к случаю; кто-нибудь принесет почитать что-нибудь экстраординарное, кто-нибудь принесет сверток, а я разверну старую газету и прочитаю. Номер с приговором коллегии ОГПУ нам принесли, и этот приговор я запомнил на всю жизнь, а заявление главы советского правительства, как и выступления Троцкого и Бухарина, откопал недавно. Знай я его раньше, моя симпатия к Рыкову поубавилась бы намного.
Помимо всего прочего, Бухарин и Рыков отличались крайней близорукостью. Даже инстинкт самосохранения был у них развит слабо. Они не понимали, как опасно всяческое беззаконие. Сегодня они затыкают рот троцкистам и зиновьевцам (ляпнул же Бухарин в докладе «К итогам XIV съезда ВКП(б)» на собрании московского партийного актива 3 января 26-го года: «…где написано, что в большевистской партии нельзя было затыкать рта?»[30], – да еще и аплодисмент сорвал), а завтра сталинцы заткнут рот им. Сегодня они настаивают на необходимости расстрела невинных людей, которых казнят только в отместку за убийство Войкова, к чему они были непричастны, – в отместку и для острастки, и уверяют, что все правильно, что тут комар носу не подточит, а завтра Сталин, Ежов и Вышинский казнят их. Разница та, что их еще промучают физически и нравственно около года, что над ними еще поиздеваются всласть, что их заставят играть главные роли в пьесе под названием «Суд над правотроцкистским блоком» и они будут признаваться в злодеяниях, которые им и во сне не снились.
А ведь умные люди их предупреждали.
Исключенный из Коминтерна немецкий коммунист Урбане в издававшейся им газете «Die Fahue des Kommunismus»[31] от 17 июня 27-го года после казни 20-ти писал: «…“мощные революционные” жесты с 20 расстрелами являются одновременно угрозой в отношении оппозиции…»
Я цитирую Урбанса по статье будущего бухаринца, будущего «право-оппортуниста» и «предателя» Слепкова, участь которого была не менее плачевна, чем его идейного вождя и чем его товарищей по «школе Бухарина». В статье «Об одном процессе “перерастания”» («Правда» от 30 июля 27-го года) Слепков смешивает Урбанса с грязью» ставит его на одну доску с самыми ярыми врагами Советской власти. Своей судьбы и судьбы своих соратников Слепков в «клеветнических измышлениях» Урбанса не прочел.
Ну и наконец Томский, удел которого долго не давал мне покою. 15 ноября 27-го года он выступил с докладом на ленинградской областной партконференции («Правда» от 19 ноября 1927 года).
Доклад тогдашнего профсоюзного вождя свидетельствует, прежде всего, о том, что и этот будущий «правоуклонист» столь же близорук, как и его ближайшие соратники. Он думает, что высмеивает «фантазии» троцкистов и зиновьевцев, не понимая, что рисует реалистическую картину положения в партии и в жалчайшем виде выставляет себя и своих сподвижников. А главное, его речь доказывает, что все большевистские вожаки сделаны из одного теста. Разница только в том, что «подошло» оно или не совсем «подошло», но тесто одно. Итак, Томский сказал:
– …все у оппозиции направлено на то, чтобы дискредитировать тов. Сталина… чтобы изобразить дело так: в партии один человек со злой волей, мрачный злодей, а вокруг него стада телят и баранов, которыми он руководит. Конечно, это неверно по отношению к тов. Сталину, который никаким злодеем не является… это ни капельки не похоже на нас, ЦК… мы служили и служить будем перед нашей партией, а перед вождями служить не будем. (Бурные аплодисменты.)…Сталин отметает личность. Сталин меньше всего хочет изображать вождя… Попытка оппозиции создать темную атмосферу по рецепту – клевещи, клевещи, что-нибудь да останется… сводилась к тому, чтобы изображать Сталина мрачным злодеем, а членов ЦК и Политбюро прялками, которыми он руководит, а они его боятся. Нужно быть идиотами, чтобы этому поверить. Наверху – Сталин, а кругом него кучка лакеев, это руководящий центр, ниже чиновничий аппарат, который трясется перед секретарем Сталиным, а дальше еще чиновники, которые трясутся перед секретарем ячейки и т. д. И так вся партия, все трясутся друг перед другом и все друг друга боятся…
……………………………………………………………………………………….
Если бы партия состояла из тиранов, если бы на три процента было правильно, что одни управляют, а другие боятся их, так эту партию нужно было бы разогнать.
……………………………………………………………………………………….
Они (Томский имеет в виду троцкистов) очень широко распространяют слухи о репрессиях, об ожидаемых тюрьмах, о Соловках и т. д. Мы на это скажем нервным людям: «Если вы попытаетесь теперь выйти на фабрики и заводы, то мы скажем: “Присядьте, пожалуйста” (бурные аплодисменты), ибо, товарищи, в обстановке диктатуры пролетариата может быть и две, и три, и четыре партии, но только при одном условии: одна партия будет у власти, а все остальные – в тюрьме. (Аплодисменты.)…Разве с меньшевиками нам легко было разорвать, разве мы раньше с меньшевиками не ели, не пили, на нарах в тюрьме не валялись? А все-таки пришлось разорвать и ввести диктатуру пролетариата против них. Ничего не поделаешь. Ибо при диктатуре пролетариата у власти может быть только одна партия, а кто попытается бороться с партией, будет сидеть в тюрьме. Это называется диктатура».
Все три лидера правой оппозиции, как и лидеры троцкистов, втихомолку ругмя ругали Сталина, а чуть что – виляние, покаяние, расшаркиванье и пение «сталиниссимо».
Недостойно они вели себя на Объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) (7 – 12 января 1933 года), когда разбирался вопрос об «антипартийной группировке» Эйсмонта, Толмачева, Смирнова А. П. Бухарин заявил («Правда» от 14 января 33-го года):
В заслугу нашему руководству должно быть вменено и то, что это руководство разгромило вдребезги силы правой оппозиции.
Относительно группировки Александра Петровича Смирнова, мне кажется, ни у одного из членов партии не может быть двух мнений:…с ней должна быть суровая расправа.
Я считаю, что мои бывшие соратники по руководству правой оппозицией тт. Томский и Рыков сделали добавочную крупнейшую и тяжелейшую политическую ошибку, которую они сами признали, тем, что они не использовали в достаточной степени энергично того плацдарма времени, который у них был, чтобы выйти к настоящему пленуму уже с определенным активом своей энергичной работы по борьбе с уклоном, по борьбе за проведение генеральной линии партии.
…исторически сложившееся руководство нашей партии во главе с т. Сталиным (фамилия выделена жирным шрифтом. – Я. «ZL), этой энергичной (набор слов у Бухарина небогатый! – Н. Л,), железной фигурой, целиком завоевало себе право на руководство дальнейшим процессом…
Впрочем, лукавый царедворец Бухарин и тут остался верен себе» Клеймя группу Эйсмонта-Смирнова, он не преминул ввернуть» что эта группа называла режим Сталина в партии «казарменным режимом»» хотя вполне мог бы обойтись и без цитаты. Отмежевавшись от этого определения, он его – по всей вероятности, не без тайного умысла – разгласил и пустил в обращение.
Рыков заявил («Правда» от 15 января 33-го года):
Борьбу с классовым врагом нужно вести… не останавливаясь перед всяческим использованием диктатуры.
…фактами доказан не только антипартийный характер этой (Смирнова – Эйсмонта. – Н. Л.) группировки, но и ее явные контрреволюционные тенденции. Поэтому я считаю, что по отношению к ее участникам нужно применить самое суровое наказание.
Во мне, как в члене партии, Центральный Комитет и партия всегда найдет того члена, который будет бороться со всеми этими группировками и колебаниями с полной и безусловной решительностью.
Томский в своем выступлении («Правда» от 16 января 33-года) вспомнил о группе Рютина и Слепкова, «платформа которой носила явно контрреволюционный характер и которая скатилась на путь контрреволюции».
Члена ЦК А. П. Смирнова Томский назвал «организующим центром антипартийной группировки» и осудил его «преступление перед партией».
…Политбюро и Президиум ЦКК были совершенно правы, – продолжал Томский, – когда упрекали меня в том, что я фактически защищал т. Смирнова и во всяком случае своим молчанием дал возможность толковать, что я чего-то выжидаю.
Я сам неоднократно выступал в период своей оппозиционной деятельности с критикой режима партии, с нападками на вождя партии т. Сталина… Потому что он был наиболее яркой фигурой в руководстве, потому что у него политически наиболее зоркий глаз и твердая рука…
Томский подчеркнул «исключительно почетную роль и исключительные заслуги тов. Сталина».
И совсем недавно, в феврале 34-го года, на XVII съезде партии, сам себя называвшем «съездом победителей» (почти со всеми «победителями» Сталин очень скоро покончил), Бухарин, Рыков и Томский предстали перед аудиторией в виде куда как неприглядном. Пели дифирамбы Сталину Зиновьев и Каменев. Каменев договорился до того, что, мол, к рютинцам недостаточно было применить меры идеологического воздействия, – понадобились меры, как он выразился, «материального воздействия», поделом ворам и мука, и он, мол» тоже пострадал не безвинно. Но от Каменева совсем недалеко ушел и «Бухарчик». Он говорил о «разных группировках, которые все быстрее и все последовательнее скатывались к контрреволюции[32], каковыми были и охвостья партийных течений (“охвостья течений” – ну и слог у хваленого трибуна революции!), в том числе и ряд моих бывших учеников, получивших заслуженное наказание».
Сталина он называет «персональным (?) воплощением ума и воли партии».
Единственный из всех оппозиционеров, Бухарин сошел с трибуны, сопровождаемый «продолжительными аплодисментами». Эта ремарка свидетельствует о том, что из бывших врагов Бухарин был в наибольшей милости у Сталина.
Рыков заявил:
Разгром правого уклона был совершенно необходим…
Правая оппозиция, к которой я принадлежал» разбита вдребезги…
Несмотря на эти признания, к Рыкову отношение съезда, а следовательно – Сталина, было жестким.
Я хочу характеризовать роль тов. Сталина в первое время после Владимира Ильича…
Его перебивают:
Знаем и без тебя!
…урок, который мне был дан, который я продумал до конца за эти годы…
Опять голос с места:
Что-то не видно.
И хотя ему аплодировали, но не «продолжительно», а голос с места зловеще крикнул ему вдогонку: «Посмотрим». Мол, посмотрим, как-то ты будешь себя вести…
Продолжительно аплодировали Бухарину. Аплодировали Зиновьеву, Каменеву, Пятакову, Радеку, Рыкову. Томскому не аплодировали. Стало быть, с него опалу Сталин не снял. А между тем выступил Томский так же «благородно» и «смело», как Бухарин и Каменев. Он сказал:
Партия правильно осудила мою близость со Смирновым, которая давала возможность прикрываться моим именем контрреволюционной группировке Эйсмонта – Смирнова.
…Для Дмитрия Михайловича не было большего удовольствия, как доставлять удовольствие другим. Он любил делать подарки, любил угощать.
– Действуйте, – обычно говорил он мне, указывая на стол, и если я не очень уверенно «действовал», то дрожащими руками делал мне бутерброд. (После того, как он посидел в Ленинграде, в промозглой, с крысами, одиночке, а потом в централе, руки у него тряслись, как у пьяницы.)
Зная пристрастие моей матери к Художественному театру, он подарил ей снимки Качалова в разных ролях, хотя сам не любил Художественного театра и не любил Качалова – его театральные симпатии принадлежали Мейерхольду и Михаилу Чехову, а музыкальные, если говорить о его современниках, Шостаковичу и Отто Клемпереру. 19 августа 36-го года он принес нам яблок. Мы с матерью забыли, что сегодня – Преображение, а он, еврей, нам, православным, напомнил.
Я никогда не спрашивал Дмитрия Михайловича напрямик: христианин ли он. Я знал, что он верит в Бога – Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, что Христос и христианство значат для него бесконечно много. И я знал, я ощущал самое важное: если не плотью, то духом он во Христа крестился и во Христа облекся.
Зимой я промучился несколько дней с воспалением среднего уха. Наконец боль отпустила. Я лег и заснул днем у себя в «купе». И вдруг проснулся словно от чьего-то бережного прикосновения. Поднимаю глаза – у моей постели сидит Дмитрий Михайлович и, глядя на меня, обеспокоенно ждет, когда я проснусь. У меня сполз бинт, и он, несмотря на дрожь в руках, перебинтовал мне ухо с ловкостью опытной медицинской сестры.
У Дмитрия Михайловича возникла дружба с моей матерью, как только они познакомились. Я никогда, ни прежде, ни после, не наблюдал, чтобы люди, до этого дня знавшие друг о друге понаслышке, так быстро ощутили духовную близость. Дмитрий Михайлович обращался к моей матери почти всегда с прибавлением постоянного эпитета, «Милая Елена Михайловна», – как-то особенно ласково выговаривал. Когда я уезжал из Архангельска» он подарил мне на память сборник северных частушек и на титульном листе выписал из книги две строчки:
Матушка родимая — Свеча неугасимая.Перед моим отъездом из Архангельска он признавался, что завидует мне: у меня есть родной дом, а куда денется он? В Ленинграде его не пропишут. Подумывал о Кашире, где в то время жил кончивший срок саратовской ссылки Иванов-Разумник, В том, что в Архангельске его не задержат, он не сомневался.
Он писал мне и моей матери в Перемышль» мы ему писали в Архангельск, звали в Перемышль, обещали найти ему пристанище у хороших людей. К одному из его писем сделала коротенькую приписоч-ку Роза Яковлевна. В ее приписке была такая фраза: «Спасибо вам за вашу любовь к Дмитрию Михайловичу».
…В феврале 37-го года я собрался недельки на две в Москву. В день отъезда почтальон принес мне открытку из Архангельска от Борната. Несколько строк он приписал так, что для того» чтобы их прочесть, надо было перевернуть открытку.
Внезапно буквы запрыгали у меня перед глазами. В приписке Борнат «конспиративно» сообщал: «Давид Моисеевич болен. Не пишите ему».
Я прочитал эти две фразы про себя, потом, все еще не понимая их непоправимого смысла, – вслух. И вслед за тем по-предвесеннему молодой, яркий солнечный свет померк для меня. Все стало серым, тусклым и каким-то совершенно ненужным. Расхотелось ехать в Москву. Расхотелось куда-то и к чему-то стремиться. Расхотелось жить на земле. И когтистою тяжестью навалилась на сердце тоска.
С течением времени моя тоска по Дмитрию Михайловичу ослабела. Но такой ли уж чудодейственный врач хваленое время? Если рана – глубокая, то она хоть и затянется, зарубцуется, а все же нет-нет да и заноет. И если чьи-то черты были тебе воистину дороги, то самое большее, что может сделать время, – это накинуть на них прозрачный покров, но, покуда ты жив, оно не изгладит их из твоей памяти и не сотрет. Если у тебя отняли нечто и впрямь драгоценное, тоска по утраченному притупится, но зато распространится и вширь и вглубь, овладеет всем твоим существом, врастет в тебя, пустит узловатые, цепкие корни.
…Я прислушиваюсь к моей душе. Там, где когда-то шелестели редкие купы, теперь шумит заповедный лес, и шум этот год от году внятней и отрадней для слуха.
…На протяжении не лет, а целых десятилетий, в разных городах: в Москве, в Калуге, в Ленинграде, в Тарусе – мне мерещилось, что навстречу идет Дмитрий Михайлович. Я так страстно мечтал с ним увидеться, что в каждом сколько-нибудь похожем на него высоком, сутулом человеке в пенсне мне наперекор рассудку чудился он.
До меня случайно, через двадцатые руки, дошла весть, что умер он в лагере, вскоре по прибытии его этапа. Роза Яковлевна, год проработавшая врачом в Архангельске, перед окончанием срока ссылки Дмитрия Михайловича вернулась в Ленинград, чтобы приискать ему прибежище за сто с лишним километров от Ленинграда. Накануне окончания срока за Дмитрием Михайловичем ночью пришли. Розу Яковлевну известили его соквартиранты. Она приехала на несколько дней в Архангельск, а когда вернулась в Ленинград, то арестовали и ее.
Москва, 1969
Прощание с Севером
Расплясались, разгулялись бесы
По России вдоль и поперек.
Максимилиан ВолошинВ начале лета 36-го года в газетах опубликовали проект новой Конституции, которой потом присвоили наименование «Сталинской». Было написано, что в выработке проекта принимают участие в числе других Бухарин и Радек. Конституция даровала избирательное право сословиям, которые до сих пор таковым не пользовались: духовенству, бывшим торговцам, «кулакам» и всяким прочим ci-devants[33]. Казалось бы, есть от чего возликовать. Этот невиданный по широте демократический жест Советского правительства вызвал в иных умах переворот. Но меня, хоть и молодого, но уже стреляного воробья, провести на мякине Конституции было невозможно. Я говорил своим ближайшим друзьям – Новомбергским, Окатову, Пинесу, – что означает сей манифест: «мертвым – свободу, живых – под арест». Их мнение не расходилось с моим. Но я все-таки не мог предвидеть, сколь близка к истине моя невеселая шутка.
Надо отдать справедливость Сталину: он знал психологию черни, обывательскую психологию и умел на ней играть.
Чернь обожает зрелища, от которых пахнет кровью. Чернь падка до всякой уголовщины.
Что проку от того, что ты в докладах, речах и постановлениях долдонишь про своих противников: они-де, мол, извращают учение Маркса-Энгельса-Ленина?
«А шут вас разберет, кто вернее толкует ваш талмуд! – почесывая плешь, думает обыватель. – Не нашего ума это дело. Вон Зиновьев сколько лет в партии состоял, сколько около Ильича терся, в шалаше вместе с ним хоронился, а ведь брякнул же про него на дискуссии: “У дядюшки у Якова хватит про всякого”. И кто из вас раскумекал погудки “дядюшки Якова” – ты ли» Сталин, левые или правые – от этого мне, простому обывателю, право же, ни тепло, ни холодно».
Но если перед обывателем, во все века любившим читать про сыщиков и про разбойника Чуркина, во все века любившим читать про Анну Редклиф и Александра Дюма» развернуть роман приключений и ужасов, обыватель не заметит, что роман сметан на живую нитку, не задумается над тем, что перед ним: художественное произведение или изделие литературного закройщика, что перед ним: «Преступление и наказание» или роман, изготовленный Синим домино и печатающийся фельетонами в «Новостях дня», – его захватит сюжет.
В романе, канву которого плел Сталин, что ни глава, то новый поворот. Его идейные противники – не просто ревизионисты, оппортунисты, загибщики, искривляющие генеральную линию партии. Они – вредители, они – диверсанты: они отравляли воду в колодцах, взрывали шахты, сбрасывали под откос поезда. Они – шпионы, изменники родины: они еще в утробе матери были связаны с иностранными разведками и мечтали дорваться до власти для того, чтобы завтра же уступить ее чужеземцам; они распродавали родину: кто – оптом, кто – в розницу. Они – террористы. Они выстрелом из револьвера покончили с Кировым. Еще ужаснее – они отравители, действовавшие с помощью убийц в белых халатах.
Такие сюжетные ходы возбуждали любопытство обывателя и разжигали в нем злобу. Взрывы шахт, отравления колодцев, крушение поездов – это уже не теоретические тонкости. Это затрагивает благосостояние обывателя, это опасно для его жизни и для жизни его близких, возмущает его благородные чувства.
«Ну, раз они шпионы, убийцы, вредители, отравители, – а ведь они же в этом сознаются, газетные листы сверху донизу заполнены их повестями и рассказами, – так туда им и дорога».
И когда, после очередного процесса, обывателям внушали, что вокруг любого из них полным-полно «врагов народа», только не крупного разбора, то многие обыватели таким внушениям поддавались легко – и ну обнюхивать каждый куст!
20 августа 1936 года начался процесс «троцкистско-зиновьевского террористического центра». Главными действующими лицами его были, как и в 35-м году, Зиновьев и Каменев, от процесса до процесса сидевшие в тюрьме. За этот промежуток времени Каменева судили еще раз негласно и добавили ему к пяти годам заключения, которые он получил в 35-м году, еще пять лет. Среди второстепенных и третьестепенных действующих лиц в этом новом варианте пьесы произошла перетасовка: все, фигурировавшие в 35-м году, кроме Евдокимова и Бакаева, не появились на сцене, вместо почему-то вычеркнутых из списка выпустили других. Обвиняли «террористический центр» не только в том, что он убил Кирова и замышлял убить Сталина, но и в том, что он замышлял убить так или иначе впоследствии истребленных Сталиным Коссиора, Постышева, Орджоникидзе.
Было очевидно, что и суд, и казнь – это возмездие «ленинской гвардии» за все ее многообразные преступления перед человечностью, что такой конец для садиста Зиновьева и для всех, кто в октябре 17-го года ввергнул или хотя бы помогал сталкивать Россию в пучину зол, исторически закономерен и справедлив, что взявшие меч от того же самого меча и гибнут.
«…революция отверзтый гроб для добродетели и – самого злодейства, – писал Карамзин в “Письмах русского путешественника”. – Всякие… насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот».
Было очевидно, что почти у всех «ленинских гвардейцев» вместо души – зловонный пар. Как угодливо все они, кроме Ивана Никитича Смирнова, оговаривали и топили на процессе самих себя и друг друга!
От подсудимых не отставали и те, кто еще находился на свободе. Они не просто отрекались от своих убеждений – они оплевывали их, оплевывали бывшего своего вождя Троцкого, оплевывали соратников. 21 августа «Правда» напечатала отклик Раковского, которого будут судить в 38-м году вместе с Бухариным и Рыковым: «Не должно быть никакой пощады!» и отклик Пятакова, которого чуть ли не в тот же день схватят и будут судить несколько месяцев спустя: «Беспощадно уничтожить презренных убийц и предателей», а 24 августа, – в том же номере, где опубликован приговор, вынесенный 24 августа, почему-то в 2 часа 30 минут утра, – отклик бывшего секретаря ЦК Преображенского «За высшую меру измены и подлости – высшую меру наказания!» – отклик, заканчивавшийся верхним «до»: «Пусть будет трижды проклято это мое позорное прошлое!» В «Известиях» от 21 августа помещена статья обер-троцкиста Карла Радека под названием: «Троцкистско-зиновьевская фашистская банда и ее гетман Троцкий» – помещена накануне или, во всяком случае, за несколько дней до ареста автора. «Известия» печатали корреспонденции «из зала суда», принадлежавшие перу журналиста Изгоева, который в этих своих корреспонденциях не поскупился на бранные эпитеты для подсудимых. В ежовщину этот мастер орнаментальной прозы тоже не миновал Лубянки.
Ну, а судьи кто? И как они судят? И в какого аспида вымахнул, однако, бывший до революции помощником присяжного поверенного Малянтовича, бывший меньшевик Вышинский, которому Малянтович доверял защиту кухарок, в недалеком прошлом – скромный помощник Луначарского, начальник так называемого Главпрофобра, ведавший преимущественно покраской и побелкой высших учебных заведений, а ныне – прокурор Союза CCP!
– Взбесившихся собак я требую расстрелять – всех до одного! Боже праведный! Как мы не сошли с ума от одного этого кровавого визга?.. Только существо воистину «зляе зверей» могло так выразиться в присутствии обреченных,
В исступлении заплетык у Вышинского языкнулся, и слово «собака» он отнес к мужскому роду.
21 августа, на вечернем судебном заседании, Вышинский сделал заявление, опубликованное в газетах 22-го:
На предыдущих заседаниях некоторые обвиняемые (Каменев, Зиновьев и Рейнгольд) в своих показаниях указывали на Томского, Бухарина, Рыкова, Угланова, Радека, Пятакова, Серебрякова и Сокольникова как на лиц, причастных в той или иной степени к их преступной контрреволюционной деятельности… Я считаю необходимым доложить суду, что мною вчера сделано распоряжение о начале расследования этих заявлений обвиняемых в отношении Томского, Рыкова, Бухарина, Угланова, Радека и Пятакова, и в зависимости от результата этого расследования будет Прокуратурой дан законный ход этому делу. Что касается Серебрякова и Сокольникова, то уже сейчас имеются в распоряжении следственных органов данные о том, что эти лица изобличаются в контрреволюционных преступлениях, в связи с чем Сокольников и Серебряков привлекаются к уголовной ответственности.
А на другой день на второй странице «Известий» и «Правды», в верхнем правом углу мы прочли, видимо, в последнюю минуту подверстанные строки:
ЦК ВКП(б) извещает о том, что кандидат в члены ЦК ВКП(б) М. П. Томский, запутавшись в своих связях с контрреволюционными троцкистско-зиновьевскими террористами, 22 августа на своей даче покончил жизнь самоубийством.
Томского уже не было в живых, но весть о его самоубийстве втиснули в сверстанные номера, – вот отчего крики «Распни, распни его» раздались и после того, как он ушел из жизни. В том же номере «Правды», где сообщалось, что Томский покончил с жизнью все счеты, приведены выступления рабочих на московском заводе «Серп и молот». Некий Угреев порскнул:
Цепь преступлений тянется и к Бухарину, Томскому» Рыкову, Пятакову и Радеку… Раскрывается новое гнездо… Мы требуем немедленно расследовать это дело.
Другой рабочий, по фамилии не названный, будто бы заявил:
Презрения в наших глазах заслуживают и Бухарин, Томский, Рыков, Радек, Пятаков, которые из-под полы протягивали руку этим мерзавцам.
В том же номере «Правды» напечатано письмо работников Государственного украинского академического ордена Ленина Театра оперы и балета, «Гоп мои гречаныки» подпели москалям:
…сорваны маски и с правых – Бухарина, Рыкова, Томского, Угланова, – явных двурушников, нашедших общий язык с троцкистско-зиновьевской бандой убийц.
Последняя должность бывшего лидера профсоюзов Михаила Павловича Томского – директор Объединенного государственного издательства (ОГИЗ’а). Из препарированного газетного отчета, напечатанного в «Правде» от 22 августа под заглавием «На партийном собрании в ОГИЗ’е» и начинающегося: «В ОГИЗ’е третий день идет партийное собрание…», все же явствовало, что Томский держался мужественно. Он никого не окатил помоями, ни на кого на донес. В чем же он, собственно, признался? В том, что в 29-м году вел переговоры с Каменевым о создании блока. Но, позвольте, когда же это было? А потом, переговоры-то ведь ничем не кончились. Блок-то ведь не состоялся! Еще Томский признался» что Зиновьев звал его к себе на дачу, что лидер «рабочей оппозиции» Шляпников, вернувшийся из ссылки» зашел к нему. «На квартиру к Томскому заходил и Угланов», – многозначительно добавляет автор отчета. Ну, заходил, а дальше что? Мало ли кто к кому заходит! Угланов и Томский – старые знакомые, единомышленники, почему же им было и не встретиться и не поговорить по душам? Еще Томский признался, что в 29-м году он жаловался Каменеву на плохое отношение к нему в партии, что его «бьют, обижают», что потом Каменев заходил к нему в ОГИЗ, – а Каменев не мог к нему не заходить, поскольку директор издательства «Academia» был ему подчинен, – но что беседовали они, как буквально выразился Томский, «обо всем и ни о чем».
Обо всем и ни о чем… Метче и правдивее невозможно определить разговор и «левых», и «правых», с 28-го года переливавших из пустого в порожнее и так ни до чего и не договорившихся[34].
Обо всем и ни о чем, – но вышереченный Угреев или, вернее всего» те» кто за пять минут до митинга сунули ему шпаргалку, мигом приготовили из «обо всем и ни о чем» острое блюдо.
«Ведь вчера сам Томский должен был уже признать, что подлая рука тянулась из-под полы правых к банде Троцкого-Зиновьева», – продекламировал Угреев.
Примечательно, что и Угреев, и безымянный оратор прибегают к образу руки» тянущейся из-под полы. Уж не разные ли это варианты одной шпаргалки?
Того, что Угреевы приписали Томскому, в отчете» помещенном в «Правде» и, конечно, профильтрованном и подвергшемся соответствующей обработке, днем с огнем не найдешь. Но поведение Томского все-таки было названо в отчете «подлым двурушничеством» – только на том основании, что Томский не бегал в партийную ячейку каждый раз сообщать, кто у него завтракал, обедал, ужинал или играл в преферанс.
Выстрел из револьвера уберег Томского от телесных и нравственных мук.
Пример Томского оказался заразительным. В разное время покончили с собой начальник Политуправления армии Гамарник» председатель ЦИК Белоруссии Червяков (о нем в газетах от 17 июля 1937 года было сказано, что он «покончил жизнь самоубийством на личной, семейной почве»), председатель Совнаркома Украины Любченко, застреливший сначала жену и дочь, чтобы не оставлять их на муки, а потом себя.
10 сентября я прочел в «Известиях»:
В Прокуратуре Союза ССР
В настоящее время Прокуратурой Союза ССР закончено расследование по поводу сделанных на процессе троцкистско-зиновьевского террористического центра в Москве 19 и 20 августа с. г. некоторыми обвиняемыми указаний о причастности в той или иной степени к их преступной контрреволюционной деятельности Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова.
Следствием не установлено юридических данных для привлечения Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова к судебной ответственности, в силу чего настоящее дело дальнейшим следственным производством прекращено.
Я был рад за Бухарина и Рыкова, но сердце сжалось при мысли об Угланове» Пятакове и Радеке. Угланову я сочувствовал как человеку из бухаринского лагеря, Пятакова и Радека мне было жаль просто как живые существа, у которых на дыбе станут вырывать пыточные записи. Но ведь судьба Угланова – это судьба всех» роющих яму другому, а большевистские верховоды, дорвавшись до власти, занимались этим со всеусердием. В 27-м году на заседании Исполкома Коминтерна Троцкий незадолго до того, как его наладят из партии, сказал: «…опаснейшей из всех опасностей является партийный режим…» Значит же, солоно пришлось ему самому. Угланов, возглавлявший московскую партийную организацию, бил троцкистов и в хвост и в гриву и тем оказывал немаловажную услугу Сталину. А когда Сталин сосредоточил в своих руках диктаторскую власть и отпихнул тех, кто помогал ему отпихивать троцкистов и зиновьевцев, Угланов спокаялся: прав-де был Троцкий, когда говорил о режиме в партии. О чем же ты думал раньше, голубчик?
В «Известиях» от 27 сентября на первой странице, в правом углу, два портрета – тов. Н. И. Ежов и тов. Г. Г. Ягода. Под портретами постановление ЦИК СССР об освобождении тов. Рыкова Алексея Ивановича от обязанностей Народного Комиссара Связи Союза ССР. Постановление скрепили подписями председатель Президиума ЦИК СССР Петровский и секретарь Акулов. Под постановлением: «Москва, Кремль, 26 сентября 1936 г.» А под этим постановлением еще два, скрепленные теми же двумя подписями и с той же датой: о назначении тов. Ягода Генриха Григорьевича Народным Комиссаром Связи Союза ССР и о назначении тов. Ежова Николая Ивановича Народным Комиссаром Внутренних дел Союза ССР. Далее следует краткая биография Ежова.
По газетным фотографиям трудно судить о лице человека: они и прихорашивают, и огрубляют. Но даже на газетной фотографии на лице Ежова отчетливо проступают признаки вырождения. У Ягода – высокий лоб с взлизами, порочные глаза, фатовские усики, раздвоенный подбородок – подбородок жестокого сластолюбца. Рассматривая портрет, я вспомнил Ромена Роллана. Примерно год тому назад я вычитал в одной из наших газет, что этому великому психологу, встретившемуся во время своего пребывания в СССР с генеральным комиссаром государственной безопасности, померещилось в Ягода что-то от Робеспьера и Жан-Жака Руссо.
Портрет Ягода под постановлением о его перемещении был напечатан только для «прилику». Сталину тогда еще не хотелось мазать дегтем ворота НКВД. И все же, как показал дальнейший ход событий, это было начало конца Ягода. Кстати, почему у большевистских главарей, за малым исключением, такой жуткий и такой богомерзкий внешний облик, в котором не чувствуется души (какая там душа!), в котором мелькает ум низменный, практический, циничный, и то не всегда, с каждой сменой кабинета все реже и реже, в котором нет ума светлого и высокого? Ленин – каторжанин, совершивший несколько зверских, однако холодно, с усмешечкой обдуманных убийств и мастерски выполнивший множество краж со взломом. Как прекрасны «парубки» и «дивчины»! В верхах большевистской партии Украина была представлена тупорылым бандюгой Крыленко, этаким Болботуном из булгаковских «Дней Турбиных». Ну, а кем была представлена Польша? Вышинским… Не поляк, а полячишка. Ничего не выражающие ледяные глаза. Губы в ниточку, над верхней губой – полосочка усиков, тяжелый и злой подбородок… Дзержинским… Не лицо, а гильотина… Сколько мы знаем интеллигентных, печальных, участливых еврейских лиц! Ну, а евреи-большевики? Троцкий – Мефистофель, у которого свой гинекологический кабинет. Выкормыши Дзержинского, у которого они научились готовить в лучшем виде блюда под всеми соусами (какой и когда требуется руководству партии), – вышеназванный Ягода и Агранов с томно проститучьими глазами. Какое добродушие и какая сметка в лице русского простолюдина! Ну, а лицо Никиты Хрущева? Не то хряк, не то хамская прыщавая задница. Представитель русской интеллигенции – самодовольная крыса в пенсне: Луначарский.
В «Известиях» от 30 сентября я прочел еще три постановления Президиума ЦИК СССР от 29 сентября: первого заместителя Рыкова по Наркомсвязи Ивана Павловича Жукова отставили, на его место временно посадили бывшего второго заместителя Ягода по Наркомвнуделу Георгия Евгеньевича Прокофьева. Это уже было начало конца Прокофьева. Заместителем Ежова назначался начальник Главного управления лагерей Матвей Давидович Берман. Но и Бермана ожидала участь Ягода и Прокофьева. Газеты от 17 августа 37-го года сообщили, что Берман освобождается от обязанностей зам. НКВД и назначается Народным Комиссаром Связи. Ну, а из Наркомсвязи Бермана, как и Ягода с Прокофьевым, по проторенной дорожке снова препроводили в НКВД, только уже не в кабинет, а в камеру.
Пошла министерская чехарда, отличавшаяся от всякой другой министерской чехарды тем, что все, кому было приказано играть в чехарду, – и те, что подставляли спину, и те, что перепрыгивали, – кончали плохо.
Во всех газетах свист, вой, улюлюканье… Советские писатели, как всегда, перестарались. После процесса московские «инженеры человеческих душ» сочли долгом послать приветствие не только Сталину, но и Ягода. В Архангельске вылетели из партии, а вслед за тем полетели с работы все, кто когда-либо пил чай с троцкистами. Но архангельское Управление госбезопасности почти никак не реагировало на события. Видимо» еще не был дан сигнал раздуть пламя костра. А вылезать вперед оно не решалось. Оно было явно растеряно, озадачено – и выжидало. Да и было отчего впасть в нерешительность: до сих пор никого из заправил этого учреждения не снимали; власть переходила к другому только после смерти предшественника, и этот другой был плоть от плоти ОГПУ. Умер Дзержинский – председателем ОГПУ был назначен первый его заместитель Менжинский. Умер Менжинский – бразды правления принял первый его заместитель Ягода. Иерархический чин не нарушался. Чужаки на самую высокую ступень не допускались. А тут вдруг Ягода – ссыльный в Наркомсвязь, на его место – не «свой» Агранов, а «чужой» Ежов.
Как-то Дмитрий Михайлович шел по улице Павлина Виноградова. Впереди шли два наркомвнудельца в форме и вели «дельный разговор вели между собой». До Дмитрия Михайловича долетела недоуменно-вопросительная фраза одного из них:
– Да, но Наркомсвязь?..
Однако совсем никак не «откликнуться», совсем не «проявить бдительности» архангелогородские блюстители «государственной безопасности» без риска для себя не могли. Осенью 36-го года был арестован корреспондент одной из ленинградских газет, постоянно живший в Архангельске, веселый и безвредный делец, Михаил Максимович Максимов (Френкель), говоривший о себе так:
– У нас в стране людей делят на две категории: на героев и на классовых врагов, а я ни то и ни другое, – я самый обыкновенный заурядный обыватель и стремлюсь к обывательскому благополучию.
…А со мной творилось нечто странное. Я считал месяцы и дни до своего освобождения, но уезжать из Архангельска мне не хотелось, У меня был в это время роман с одной из участниц пушкинского спектакля, который при моей общелитературной и стиховедческой консультации готовил коллектив клуба моряков к приближавшейся столетней годовщине со дня гибели Пушкина. Все признаки сильного увлечения были словно бы налицо, но какой-то совсем уж подспудный внутренний голос шептал мне, что этот цветок не долговечен, что он облетит в первые же дни разлуки. На сей раз меня страшила неизвестность. Куда я еду и на что я еду? В Архангельске из моего «купе» Варвара Сергеевна меня не выгонит, а в Москве меня не пропишут. Значит, жить у матери, а за работой ездить в Москву? Мне было жаль моей холостяцкой, хотя бы и не устроенной, бесхозяйственной самостоятельности, жаль лишаться возможности побыть одному, когда есть в этом потребность. А мать и тетка жили в одной комнате. И ужасно не хотелось снова приниматься за переводы. Хмель кулис бродил у меня в голове.
Когда моя мать приехала ко мне в последний раз на летние каникулы 36-го года, я не утаил от нее своих сомнений и колебаний.
Мама была расстроена и обижена – этого она никак не могла от меня ожидать. Она воззвала как к суперарбитру к своему любимцу Дмитрию Михайловичу. Дмитрий Михайлович пришел к нам по особому ее приглашению, внимательно выслушал обе стороны, а затем обратился ко мне с дружеским увещанием. Он понимал меня вполне, но призывал найти в себе силы, чтобы преодолеть свое состояние.
– От Архангельска вы взяли все, что могли, – убеждал меня он. – Если вы здесь застрянете, вы остановитесь в своем развитии. Ваш любимый актер Корнилов уехал. Ваши приятели Данилов и Старо уехали. Эти люди дали вам много. Теперь вас ожидает в театре духовное одиночество. Вы заскучаете, а от скуки начнутся возлияния и прочее такое… (Он часто употреблял это присловие.)
Кошачья привычка к месту оказалась сильнее даже доводов Дмитрия Михайловича, авторитет которого в вопросах не только литературных, но и житейских был для меня непререкаем.
Уже освободившись, я пытался «застрять» в Архангельске. На мое счастье, Большой театр меня на штатную работу не взял – директор побоялся в столь острый момент связаться с бывшим ссыльным, а начальник только что сформированного Краевого управления по делам искусств Казангап Казангапович Казангапов, азиат с глазами как у бенгальского тигра, рассудил – и тоже на мое счастье – примерно так же, как и Дмитрий Михайлович: уже через год я непременно заскучаю и стану просить его отпустить меня, а ему нужен работник не временный, а постоянный.
15 октября 36-го года со мной разыгрался эпизод почти из «Аристократов». Ровно три года тому назад я сидел в кабинете следователя ОГПУ Исаева, и он звонил в «прием арестованных два», чтобы пришли за арестованным Любимовым. А теперь я сидел в президиуме торжественного заседания в Клубе моряков, и мне под аплодисменты вручали почетную грамоту за активное участие в подготовке пушкинского спектакля, в который были включены три сцены из «Русалки»: сцена первая, сцена княгини и мамки, сцена князя и мельника; сцена в подвале из «Скупого рыцаря», сцена в корчме и сцена у фонтана из «Бориса Годунова» и моя инсценировка «Цыган» с чтецом.
Через два дня я получил в НКВД документ об освобождении – паспорт и военный билет.
После освобождения я прожил в Архангельске больше месяца. Было много хлопот с книгами, которых у меня набралось посылок на десять – я постепенно переправлял их матери. Надо было заработать деньжонок на первое время. Тут мне снова пришел на помощь, как и в первые дни моего пребывания в Архангельске, Николай Дмитриевич Попов. Хотя он был членом организовавшегося в 1934 году Союза советских писателей и председателем правления Северного отделения Союза, но ни рассказов» ни повестей, ни пьес» ни стихов никогда не писал. Он сам о себе скромно говорил: «Я – не писатель, я – публицист». Попросту говоря, он был сотрудником газет, по масштабам Северного края – видным, и видным партийным работником. В конце 33-го года, до Всесоюзного съезда писателей, Северный крайком партии вручил ему бразды правления в оргкомитете Северного отделения Союза писателей и назначил его ответственным редактором журнала «Звезда Севера», где он помещал «руководящие» статьи под своей собственной фамилией, а рецензии подписывал псевдонимом, который он избрал еще на заре своей сольвычегодско-журналистской юности: «Ю. Николич». В 35-м году на съезде писателей Севера он был избран председателем правления Северного отделения ССП СССР. Однако делать в литературном департаменте было решительно нечего, ежемесячный журнал «Звезда Севера» за недостатком более или менее литературоподобного материала, а главным образом – за недостатком подписчиков, превратили в альманах, а Николая Дмитриевича назначили по совместительству заведующим отделом литературы и искусства в газете «Правда Севера». Он заказал мне статьи о вышедших на севере книгах, о новых спектаклях. Ни одну из этих статей так и не напечатали, но деньги я получил сполна.
Чаша страданий не прошла и мимо Попова. В ежовщину его услали с большим понижением в Вологду и там замели.
…За несколько дней до отъезда состоялось мое прощание с драмкружковцами Клуба моряков. Они собрались в полном составе, чтобы поблагодарить меня за помощь и вручить мне на память серебряный портсигар. Этот портсигар и сейчас лежит у меня в ящике письменного стола. На нем написано: «H. М. Любимову от драмколлектива Клуба моряков им. т. Фрунзе 19/XI 1936 г. Архангельск». Расцеловавшись со всеми, я познакомил собравшихся с Дмитрием Михайловичем, который должен был меня заменить, о чем я предварительно договорился с руководительницей драмколлектива артисткой Большого театра Платонидой Андреевной Федоровой.
…Меня до сих пор преследует сон, который снится мне во всей беспощадной достоверности мелких подробностей… «Я снова в Архангельске. Меня сюда выслали уже без всякого “дела”. Просто принесли мне на дом предписание, чтобы я выезжал из Москвы в Архангельск. Но теперь-то, теперь-то за что?.. Архангельск изменился. Барак для отметки снесли. Все “адмы” отмечаются в главном здании. И во сне я думаю: ‘‘Нет уж, на сей раз мне это не снится. Такими правдоподобными сны не бывают”. И опять я без работы, и опять я без денег. Только новая ссылка для меня гораздо страшнее: ну я-то – ладно, а кто будет содержать семью? Ведь она пропадет в Москве без меня». Я просыпаюсь – и мне стоит немалых трудов убедить себя» что ссылка мне снилась и что я в Москве.
А наяву я с благодарностью вспоминаю мой теплый Север, Самый Архангельск я невзлюбил – я привязался к людям, которые меня там окружали.
Вот уже и билет в кармане. Прощанье с Окатовым. Прощание с Новомбергским. Николай Яковлевич сказал мне:
– Мы с Марьей Ивановной навсегда сохраним о вас и о вашей маме безоблачно светлую память. Но переписываться не будем – мы живем во времена, для эпистолярного жанра неблагоприятные.
В самый день отъезда я был у Дмитрия Михайловича. Он дал мне письмо к Клавдии Николаевне Бугаевой – он как бы поручал меня ей.
Он проводил меня до Клуба моряков – там у меня было назначено свидание. Судьба и тут обо мне позаботилась: отрадная боль предстоящей разлуки с той, которая собиралась проводить меня на вокзал, умеряла боль от разлуки с друзьями. Я знал, что в Клубе меня ждет она. И все же я сделал над собой усилие, чтобы уйти от Дмитрия Михайловича. Когда я медленно затворял за собой дверь, он стоял и смотрел на меня…
Я благодарю Бога за то, что Он, хоть ненадолго, соединил меня с ним.
…Поезд тронулся. На душе было смутно.
В Москве на Северном вокзале меня должна была встретить мать. Сердце прыгало от одной мысли, что через какие-нибудь полтора суток я увижу Москву и москвичей. Но ведь я снова ехал навстречу совершенной неопределенности, в сплошной туман неизвестности! Я лишь предощущал, что еду не на праздник. Но моему обыкновенному, человеческому слуху не дано было уловить, что над Россией, пока еще в вышине, вновь завывает метель, лютее всех прежде бесновавшихся над нею метелей, и что скоро она всю ее занесет своими кровавыми хлопьями.
Моста, 1969
Кровавый буран
…политика отсечения чревата большими опасностями для партии… метод отсечения, метод пускания крови… опасен, заразителен; сегодня одного отсекли, завтра другого, послезавтра третьего, – что же у нас останется от партии?
Сталин. Из заключительного слова на XIV партсъезде (1925).…Сталин, в качестве генерального секретаря, внушал Ленину опасения с самого начала. «Сей повар будет Готовить только острые блюда», – так говорил Ленин в тесном кругу в момент X съезда партии.
Троцкий. Из речи на пленуме ЦКК и ЦК ВКП(б). («Правда» от 2 ноября 1927 г.)И вот я снова в Москве. Но только теперь Москва – моя-не моя. О прописке в Москве или в пригороде, хотя бы и временной, нечего даже и думать.
Прописался я в Перемышле и наезжал за работой в Москву. Щепкина-Куперник называла меня «беззаконной кометой в кругу расчисленных светил».
В Архангельске Глеб Алексеев подарил мне свою историческую повесть «Мария Гамильтон» с ободряющей надписью: «…в знак и приятство будущей московской встречи». И еще в Архангельске он взял с меня слово, что я прямо с вокзала – к нему, на Старую Башиловку (теперь – улица Расковой) и расположусь у него, а в Москве взял с меня другое слово, что и впредь я всякий раз буду останавливаться у него. Квартира у Глеба Васильевича была отдельная, управдомша к нему благоволила, и мое пребывание у него не грозило неприятностями ни хозяину, ни гостю. Если Глеб Васильевич с женой куда-нибудь уезжали, я иногда ночевал у Маргариты Николаевны, но вот это уже было небезопасно; там меня помнил едва ли не весь дом, и кому-нибудь могла припасть охота проявить бдительность и сообщить в отделение милиции, что в квартире № 10 ночует-де, мол, гражданин без прописки. Я предпочитал ночевать в «комнате отдыха» на Брянском (Киевском) вокзале. Мой молодой сон не боялся всенощного, то усиливавшегося, то затихавшего, слитного вокзального гула.
А Москва подурнела. Поубавилось в ней древних храмов.
К этому я был подготовлен. Центральные газеты с видимым удовольствием сообщали о «сносе старых зданий» – так называлось тогда разрушение древностей. В «Известиях» от 26 сентября 1936 года я прочел: «Начался снос Страстного монастыря». Наконец-то исполнилось желание Маяковского, высказанное им еще в 28-м году а стихотворении «Шутка, похожая на правду»: «…снесем Страстной и выстроим Гиз». Если память мне не изменяет, ни один поэт, ни до, ни после Маяковского, не замахивался на творения зодчих и живописи цев. Маяковский был одним из рекордсменов советского подхалимажа. Тут он поставил особый рекорд – рекорд вандализма, который мы не прощаем даже несмысленной черни. И жизнь ему воздала должное, не посмотрев на его несомненное дарование: поле его поэзии заросло травою забвения, как и поле поэзии Александра Прокофьева. Павел Васильев воспевал тюрьмы. А Прокофьев – расстрел мальчика-наследника («Разговор другого порядка»). Ведь это же надо быть каким извергом!
…И следа не осталось от Сухаревой башни, от Красных ворот. Зато по улице Горького и по Ленинградскому шоссе загундосил не слыханный мною доселе бас троллейбуса, похожий на голос бывшего протодьякона, певца Большого театра Максима Дормидонтовича Михайлова. Без меня провели первую линию метрополитена. Она шла от Сокольников до Охотного ряда, а здесь разветвлялась: один поезд шел до Парка Культуры, следующий – до Смоленской площади. Метро удивило меня просторностью станций, теперь кажущихся клетушками, а главное – порядком при посадке. Мне были памятны гроздья, висевшие на подножках автобусов и трамваев, озверевшие лица втискивающихся, а тут – ни толкотни, ни ругани; вместо визгливых и бранчливых кондукторш – подтянутые проводники, по-военному зычно подававшие команду: «Гатов!» – и первое время вводившие меня в заблуждение: мне казалось, что они подзывают переводчика Александра Гатова.
У Глеба Васильевича мне жилось уютно. Я спал у него в кабинете на тахте. Мы с ним рано вставали, вдвоем пили на кухне утренний чай, садились за работу в кабинете. Оторвавшись от рукописи, он кричал: «Никита!» На зов из другой комнаты мчался его мальчуган, за ним следом врывался пес, со шкафа прыгал злющий сибирский кот-недотрога – все трое были Никиты. Глеб Васильевич любил, когда я испытывал обширность его книгохранилища. Я называл каких-нибудь наглухо забытых писателей (он собирал главным образом русскую литературу), и Глеб Васильевич тянулся к полке и с торжеством библиофила протягивал мне творения или Полевого, или Масальского, или Засодимского, или Омулевского, или Нефедова, или Мачтета, или Авсеенко, или Баранцевича, или Салова, или Щеглова, или Тихонова-Лугового, или Владимира Тихонова, или исторический роман Зарина-Несвицкого «Тайна поповского сына», или Лазарева-Грузинского, или Ладыженского, или Лазаревского, или Фонвизина, автора «Романа вице-губернатора», или Лаппо-Данилевскую» или Потапенко.
Наши отношения с Глебом Васильевичем теплели день ото дня. Несмотря на то, что он был намного старше меня, он настоял на том, чтобы мы с ним «в знак и приятство» первой московской встречи выпили на «ты». И карточку свою он надписал с тронувшей меня многозначительной краткостью: «Николаю – Глеб». У него осталось всего два экземпляра лучшей его повести «Шуба». Я стал клянчить у него один экземпляр. Он не сдавался, наконец подошел к одной из книжных полок, коими был увешан и заставлен от пола до потолка большой его кабинет, вытащил «Шубу» и, с благодарной нежностью неизбалованного автора глянув из-под очков на упорного своего почитателя, прокартавил:
– Ну на, черт с тобой!
В Архангельске Глеб Алексеев сразу проникся сочувствием к моей если не сломленной, то, во всяком случае, надломленной судьбе. На словах он его не выражал. Я только видел, с какой ласковой грустью задерживался на мне его всех и вся изучающий взгляд. А вот о моей матери он писал мне в Архангельск, не боясь показаться сентиментальным: «Не могу смотреть на Вашу маму без ощущения слезы в горле…»
Глеба связывала любовь-дружба с его матерью до самой ее кончины. Он часто ездил на кладбище, обкладывал ее могилу дерном, сажал в ограде и на могиле цветы. Он знал о моей дружбе с матерью. «Вот такой же любовью, как Вы, любил и я свою мать – самого близкого мне человека на всей земле», – писал он мне тогда же.
В Архангельске Елена Михайловна Тагер предупреждала меня:
– У Глеба Алексеева такая биография, что в нее жутко вглядываться…
Намекала Елена Михайловна на то, что Глеб Алексеев, белый офицер, после войны очутился в Югославии, потом в Германии, выпустил там книгу о разложении эмиграции «Мертвый бег», переизданную затем у нас с благосклонным предисловием Мещерякова, одним из первых писателей-эмигрантов вернулся в Советский Союз, и здесь Борис Пильняк, вместе с которым Глеб Алексеев до революции начинал свой литературный путь, свел его с «Яшей» Аграновым. Алексеев и Пильняк бывали у «Яши», «Яша» бывал у них.
Об одном приключении, связанном с Аграновым, Глеб мне рассказал.
Однажды дамский угодник Агранов на вечеринке у Глеба попросил его на следующую вечеринку пригласить Валентину Александровну Дынник, критика и историка французской литературы, жену фольклориста Юрия Матвеевича Соколова. Глеб обещал– Зверь побежал прямехонько на ловца. Несколько дней спустя Глеб Алексеев, проходя по зале Дома Герцена, во всю ширину которой был накрыт стол для банкета, встретился лицом к лицу с Валентиной Дынник – и давай расстилаться перед ней мелким бесом:
– Валентина Александровна! Красивая женщина! В следующую субботу у меня соберется народ, и я был бы счастлив видеть вас в моей избушке на Башиловке. Обещали прийти Пильняк, Костя Большаков, Сережа Буданцев… С вами мечтает познакомиться Яков Саулович Агранов – он тоже у меня будет…
Валентина Александровна смерила Глеба королевски надменным взглядом.
– Вы что же это, Алексеев, в «Чеку» меня зовете? – спросила она. – Нет уж, извините. Это вы, очевидно, нуждаетесь, в «высоком» покровительстве, а мы, пока вас не было в России, обходились без дружбы с «Чекой», – как-нибудь обойдемся и впредь.
С этими словами Валентина Александровна величественно проплыла мимо Глеба.
…Много лет спустя, подружившись с Валентиной Александровной, я спросил у нее, был ли такой разговор с Алексеевым. Она припомнила – и подтвердила.
…И вот вечеринка у Глеба в разгаре. Изрядно выпив, все разбрелись по комнате, служившей и кабинетом, и гостиной. Кто-то стал наигрывать на рояле. Хозяин дома, облокотившись на рояль, призадумался. Вдруг кто-то сзади обнял его. Глеб оглянулся – в упор на него смотрит Агранов.
– Глеб! Тебе не удалось зазвать Валентину Дынник?
– Да, понимаешь, я ее звал, но она не может: едет читать лекции в какой-то провинциальный институт.
– Глеб! Ну зачем ты мне врешь?
Далее Агранов воспроизвел со стенографической непогрешимостью диалог между Глебом и Дынник.
– Ну, скажи, Николай, кто мог нас подслушать? – пучил свои наивно-хитроватые глаза Глеб Алексеев. – В дверях на секунду мелькнула пьяная рожа Левки Никулина и тут же исчезла. Остается предположить, что кто-то сидел под столом, и за скатертью его не было видно.
Русские интеллигенты даже в тех случаях, когда простое и единственно правильное решение напрашивалось само собой, предпочитали строить самые невероятные догадки, забывая о том, что они не герои романов Анны Редклиф или Александра Дюма, а вместо лишь граждане Советского Союза, где уголовная поэзия и уголовная фантастика были не в чести и не в моде и уступили место незатейливой прозе. И вот это чесанье левой ногой за правым ухом недешево обходилось интеллигентам.
Фигура Льва Никулина, жившего в одном доме с Алексеевым, так и осталась ему неясной.
После смерти Сталина кто-то сочинил эпиграмму:
Никулин Лев, стукач-надомник, Недавно выпустил трехтомник.В эпиграмме сфера деятельности Льва Никулина, – видимо, по неосведомленности автора, – сужена. Никулин ухитрился первым из советских писателей побывать за границей (почему-то его посылали с нашей дипломатической миссией в Афганистан): и в Турции, и даже в Испании эпохи Примо де Ривера, куда всем прочим писателям путь был заказан. Все это не навело Глеба Алексеева на грустные размышления.
Биография самого Алексеева могла казаться «жуткой» лишь издали. Агранов время от времени делал меценатские жесты и кое-кого из писателей выручал. Меценатство давало ему возможность завязывать дружеские отношения с писателями и получать нужные ему сведения из первоисточника. Он афишировал свою дружбу с писателями: его подпись стоит первой под некрологом Маяковского «Памяти друга» («Правда» от 15 апреля 1930 года), а при жизни «друга» он все о нем выведывал у своей любовницы Лили Брик и не пустил его в 30-м году за границу, что, по всей вероятности, подтолкнуло Маяковского на самоубийство. Приятельствовать с Аграновым бывшего белого офицера, бывшего белоэмигранта Глеба Алексеева заставлял инстинкт самосохранения: ему хотелось схорониться под крылышко. Но никто от близкого знакомства Алексеева с Аграновым не пострадал. На такой афронт от Дынник Алексеев не рассчитывал: знакомить кого-либо с «Яшей» после того случая он закаялся и держал при нем – и не только при нем – язык за зубами.
Свое отношение к строю жизни, который Глеб Алексеев застал по возвращении в бывшую Россию, он выражал в повестях и рассказах, но не в беседах. Он говорил мне» что ничего не таит только от Пильняка, что они смотрят на вещи одинаково, и отсюда я делал вывод, что весьма сомнительная и в политическом, и в художественном отношении пильняковщина, которой нас угощал частенько перепевавший самого себя даже и в лучшие свои времена автор «Голого года», что его полая внутри патетика («СССР – страна народов, ушедших в справедливость») – это не более как мимикрия, как попытка замести следы «Повести непогашенной луны» и «Красного дерева».
Я вспомнил свой разговор о Пильняке с Грифцовым, состоявшийся в начале 30-х годов, Я заметил, что Пильняк в последних своих вещах расподхалимничался напропалую. Грифцов возразил, что это он зарабатывает себе прощение за «Красное дерево», но что, по имеющимся у него, Грифцова, достоверным сведениям, исходящим от друзей Пильняка, он кипит от возмущения процессами, раскулачиванием, голодом на Украине.
…Я отвлекся. Итак, в разговорах Глеб Алексеев выказывал осторожность сугубую. Осторожен он был на первых, архангелогородских порах и со мной. Но уже в Архангельске он как-то при мне и при Попове прорвался. Речь зашла о горе-поэте Иване Молчанове, который, как и Алексеев, входил в «Северную бригаду» Союза писателей.
– Я терпеть не могу хулиганья и хамья! – вдруг возвысил голос Глеб Алексеев, в трезвом виде предпочитавший средний регистр. – А советский хам» советский хулиган – это разновидность самая опасная и самая омерзительная!
Форточка тут же захлопнулась. Но в Москве, чем ближе мы с Глебом сходились, тем шире распахивал он передо мной уже не форточку, а обе створки окна в свой внутренний мир.
Заговорили мы с ним о Грифцове.
– Грифцов задумал служить молебен революции во время шапочного разбора… – сказал Глеб и, помолчав, добавил:
– А на Бальзаке далеко не уедешь…
Все больше тревожило Глеба Алексеева положение в литературе.
– При РАПП нас только что по матери не обкладывали, но печатать печатали, – говорил он, – Мы у рапповцев тоже в долгу не оставались – не в печати, а при встречах. Я как-то на банкете сидел напротив Алешки Селивановского, взял да так прямо и ляпнул: «Селивановский! Ведь ты даже не вошь, – для вши это сравнение обидное, – ты просто гнида на волосах нашей литературы!..» Ну и ничего, сошло. А теперь писателя ругают за ненапечатанную вещь! До чего мы дожили» о россияне! Таких порядков отечественная словесность от самого своего сотворения не знала… Когда ты был в Гослите, ты случайно не заглянул в стенгазету? Там Бориса обозвали чуть что не вредителем за вещь, которую он представил в издательство и которая находится еще в рукописи!..
Если не ошибаюсь, Пильняка изничтожили в издательской стенгазете за так и не увидевшую света последнюю его вещь «Тринадцать глав классического повествования».
Из писателей у Глеба Алексеева при мне чаще других бывали Пильняк, Клычков и Артем Веселый. «По-соседски» иногда заходил чего-нибудь попросить заморыш с желтым, сморщенным лилипутьим лицом, «пролетарский писатель» Сергей Иванович Малашкин, привлекший к себе внимание читателей бездарной, но зело похабной повестью «Луна с правой стороны», почему-то пользовавшийся покровительством Молотова, который изредка осчастливливал его своим посещением. Дом, в котором жили четыре писателя: в первом этаже – Никулин и Караваева, во втором – Алексеев и Малашкин, стоял в глубине двора, и, когда Предсовнаркома прикатывал к Малашкину, двор усеивался молодыми людьми в штатском.
Малашкин высказывал суждения о литературе в духе ежовского времени.
Раз при нем зашел разговор о Сергееве-Ценском.
– Вонючий писатель! Фашист! – по-дьячковски провякал пролетарский Арцыбашев.
Меня вновь поразил Сергей Антонович Клычков, которого я не видел три года, – поразил сочетанием крестьянина с барином. Вот он входит. Э, да это один из моих земляков и знакомцев Алексей Андреевич Кузин из деревни Галчань, у которого мы покупали уголь для самовара и сухие березовые дрова, или мельник Яков Семенович Краснощеков из-под Во льни, у которого я однажды на Масленицу съел несметное количество ноздреватых поджаристых блинов со сметаной, копчушками и красной икрой! Только окающий говор выдает не калужское его происхождение. И вдруг – откуда что берется! Горделивый постанов головы, барственное изящество движений… и этот синий свет, внезапно хлынувший не из глаз – из очей!..
Псевдоним, который взял себе Николай Иванович Кочкуров, – Артем Веселый, – можно было воспринять как горькую его насмешку над самим собой и над его трагической эпопеей «Россия, кровью умытая»… Угрюмец, молчун… Все думает, опустив наголо остриженную голову, какую-то хмурую думу. По виду совсем не писатель. Одевается по-рабочему скромно и просто. Черты лица – в самой своей грубости – благородные, свидетельствующие о том, что он не из охлоса, а из плебса, не из черни, а из народа. Я тогда не знал, что Артем (имя, которое он сам себе дал, к нему приросло: все давным-давно забыли, что во святом крещении он – Николай, и называли его не иначе как «Артем»), – не знал, что Артем – сын волжского грузчика, но я сразу почувствовал в нем волжанина с азиатчинкой в крови: на это указывал разрез глаз и непокорное их выражение. Артема легко было себе представить на одном из Стенькиных устругов…
Да, по виду, в отличие от хозяина дома, вовсе не писатель. Но только глянешь в строгие, нелгущие его глаза, и сразу скажешь себе, что это – человек необыкновенный, Богом отмеченный, что он наделен каким-то особенным даром и нелегкой судьбой… И насколько же он, при всей своей простонародности, внутренао интеллигентнее не в меру развязного сына ветеринарного врача Вогау, избравшего себе псевдоним – «Пильняк»!
По приезде в Москву из Архангельска мне с помощью Федора Викторовича Кельина удалось завязать отношения с редакцией журнала «Интернациональная литература» и с детищем Михаила Кольцова – с издательством «Жургаз» (Журнально-газетное объединение). Я никакой мелочишкой, вплоть до перевода писем, не брезговал, и работа шла у меня бесперебойно. Переводил я преимущественно повести, рассказы, очерки, статьи латиноамериканцев, в «творчестве» которых новомодные, завезенные из Европы и Соединенных Штатов «измы» сталкивались с ученической беспомощностью и безвкусицей. «Сюрреалисты» оборачивались унылыми бытовиками. Когда я встречал у переводимого автора такое описание утренней зари: «Небо стирало солнечной губкой укусы светящихся блох», мне становилось моркотно. Хотелось бросить все и укатить в Архангельск. Но постепенно я втянулся в этот особый мир перевода, требующий беспрерывной борьбы с авторами. Мой переводческий пыл поборол отвращение к дикарям, увешавшим себя стекляшками. Зуд от укусов светящихся блох меня уже не донимал. Если мне удавалось пересадить на русскую языковую почву какие-нибудь из этих уродливых растений так, что оно выглядело причудливым, но не безобразным, я испытывал нечто вроде профессионального удовлетворения.
Теперь я отдаю себе отчет, что судьба и тут позаботилась обо мне. Ведь я еще был тогда подмастерьем, и, попадись мне другой материал, я бы его испортил. Набивать руку надо на том, чего не жалко. Изредка мне перепадали крохи французской классики. И опять-таки управиться с крохами мне тогда было под силу – большим куском я бы, пожалуй что, подавился.
…А Россию между тем облегла снеговая туча. И густо повалил на землю русскую снег. И был тот снег не белый, но алый, как кровь…
В конце 36-го года – «Кемеровский» процесс: увертюра к процессу Пятакова и Радека. В январе 37-го года – процесс бывшего заместителя Народного Комиссара Тяжелой Промышленности Пятакова, в 22-м году судившего эсеров, бывшего члена редколлегии «Известий» Карла Радека, бывшего заместителя Народного Комиссара Железнодорожного Транспорта Лившица, бывшего командующего войсками Московского военного округа Муралова, бывшего Народного Комиссара Финансов, бывшего заместителя Народного Комиссара Иностранных Дел Сокольникова и других.
Все – по уже заведенному ритуалу. 20 января сообщение – «В Прокуратуре Союза ССР»: такие-то и такие-то привлечены по делу троцкистского «параллельного центра», – потом его переименуют в «троцкистский антисоветский центр». Несколько дней длится артиллерийская подготовка. В каждом номере центральных газет печатается статья под улюлюкающим заголовком: «Троцкистские шпионы, диверсанты, изменники родины». Или: «Подлейшие из подлых». В газете от 24 января – обвинительное заключение и начало процесса. В газете от 30 января – приговор. В газете от 2 февраля сообщение о том, что приговор приведен в исполнение.
Радеку позволили произнести длинное последнее слово подсудимого. Он сказал, что его связывала с Бухариным «интеллектуальная дружба», а это, мол, самый прочный род дружбы. И вот-де от избытка дружеских чувств он поведал суду о Бухарине тайну, которую Каменев унес с собой в могилу. Тайна же сия велика есть.
На суде Вышинский задал Радеку вопрос:
– Какие у вас были разговоры с Бухариным?
На что Радек с готовностью ответил:
– Если это касается разговоров о терроре, то могу перечислить конкретно. Первый разговор был в июне или в июле 1934 года после перехода Бухарина в редакцию «Известий». В это время мы с ним заговорили как члены двух контактирующих центров. Я его спросил: «Вы стали на террористический путь?» Он сказал: «Да».
Чем дальше в лес, тем больше дров.
Показания Каменева были близки к истине. Он только не имел морального права давать подобного рода показания – он же не мог не понимать, как они будут использованы, Радек – не только предатель, но и клеветник. Если бы все эти люди были действительно террористы, то чего же они медлили, чего же они тянули? Муралов наговорил на себя, что он руководил в Западной Сибири несколькими террористическими группами. Итог, подведенный им самим на суде: «…фактически никаких террористических актов в Западной Сибири не было совершено». Что же это за Кузькины матери, которые все собирались умирать, умереть не умерли, только время провели? Допустим, что это они убили Кирова. Но почему они начали с Кирова, а не убили Сталина, в котором они видели главное зло и к которому иные из них были вхожи? Чтобы подставить под удар все свои параллельные и вертикальные центры?
Злая обезьяна Радек раскривлялся на процессе вовсю. Он то цинично издевался над другими и над самим собой, то играл в покаянный надрыв. Видимо, это нравилось судьям праведным. Отношение суда и прокурора Вышинского к Радеку было мягче, чем к другим. И приговор ему был вынесен тоже более мягкий, чем его гораздо менее заметным товарищам по процессу: его приговорили не к расстрелу, а к десяти годам тюремного заключения. Вероятно, это все-таки не помешало ежовщикам «в глухой тюрьме тихонько задавить» того, кто помог им засадить Бухарина и дал лишний повод к выпуску на волю всех духов подозрительности и человеконенавистничества, В своем последнем слове Радек предостерегал: нас, мол, поймали, но по всей стране шныряют «полутрочкишты, четверчьтрочкишты, одна вощьмая-трочкишты…» Что глубже пропитывало это зловещее шепелявенье? Липкий пот смертника, не теряющего надежды вымолить себе жизнь, или яд, скапливающийся внутри получеловека, жаждущего выместить свою судьбу на ком угодно и как можно больше потянуть за собой?..
Второй цели Радек во всяком случае достиг. Сталину этого-то и было нужно. Если, дескать, уж такой матерый троцкист, как Радек, заявляет на процессе, что СССР кишмя кишит троцкистами, стало быть, их и впрямь несметная сила. И вот, как во время коллективизации в каждой деревушке требовалось «выявить» кулаков, так после радековского процесса во всех учреждениях от ЦК, ЦИК’а и Совнаркома до аптеки в Серебряных прудах Каширского района – стали выискивать «врагов народа», В 30-м году за «невыявление» кулаков партийцев вычищали из партии. В 37 – 38-м годах большие и малые начальники, не сумевшие разоблачить хоть одного троцкиста и бухаринца, хоть одного «врага народа», сами погибали не за понюх табаку. Одни «разоблачали» страха ради, другие – сводя счеты, третьи – просто по злобе, у четвертых охота на «врагов народа» переросла в манию. Всеволод Иванов в рассказе «Барабанщики и фокусник Матцуками», как в воду глядел: сотрудник Государственного издательства художественной литературы Корнев доносил-доносил на товарищей, а затем, подобно нищему из названного рассказа, взял да и донес на себя: он-де с кем-то из арестованных в свое время якшался.
19 февраля мы узнали из газет о «скоропостижной» смерти Орджоникидзе. Некролог вместе со Сталиным подписали заместитель председателя Совнаркома Чубарь, первый секретарь ЦК Украины Коссиор, секретарь Западно-Сибирского крайкома ВКП(б), впоследствии – Наркомзем Эйхе, заместитель председателя Совнаркома СССР Ян Рудзутак, Постышев, Ежов, Акулов, бывший Наркомзем, делавший доклад о сельском хозяйстве на XVI партийном съезде, потом – заведующий сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б) Яковлев (Эпштейн), заместитель председателя Совнаркома СССР и председатель Государственной Плановой Комиссии СССР Валерий Иванович Межлаук, спустя несколько дней назначенный вместо Орджоникидзе Наркомтяжпромом (о его назначении на этот пост мы узнали из газет 25 февраля). Хоть один из них уцелел?..
В апреле уже привычные россияне все-таки ахнули, прочитав в газетах о том, что Ягода смещен с поста Наркомсвязи и привлекается к уголовной ответственности.
Всякий раз» приезжая из Москвы в Перемышль, я привозил короб однородных новостей, доходивших до меня не в той последовательности, в какой совершались события.
Арестован Бухарин. Арестован Рыков. Арестован Иван Катаев.
Из Архангельска до меня долетела весть о том, что схвачен Дмитрий Михайлович Пинес, – весть, опустошившая и выстудившая один из самых теплых и самых наполненных уголков моего внутреннего мира.
Перемышль до поры до времени был городом воистину богоспасаемым.
В гражданскую войну испанка выкосила у нас человек пять, сыпняком переболели немногие, в самом городе никого не «поставили к стенке». На купцов наложили контрибуцию, являлись к ним с обыском, кое-что отбирали. Летом 19-го года, когда казалось, что Деникин вот-вот прорвется к Калуге, – его разъезды заглядывали уже в соседний, Лихвинский уезд, – купцов заставили рыть под городом окопы. К землекопным работам они были не приучены, и в вырытых ими траншеях могли укрыться разве что куры. Одну нашу почтенного возраста купчиху, Надежду Акимовну Пономареву, заставили мыть полы в двухэтажном доме, где стояли красноармейцы. Другим утеснениям наши «буржуи» в первые годы революции не подвергались. В нашем клубе выступали антирелигиозники, но ни «Комсомольских рождеств», ни «Комсомольских пасх» наш городок не видел. В 23-м году изъяли церковные ценности, но ни одного священника пальцем не тронули. В начале 30-х годов позакрывали все церкви, кроме одной, посадили же только одного священника, у некоторых отобрали дома. Под флагом сплошной коллективизации обчистили всю так называемую «69 статью»: у лишенных, согласно 69 статье тогдашней конституции, избирательных прав отбирали все, вплоть до столов и стульев, но дело обошлось без арестов и высылок. За «политику» в 23-м году арестовали Петра Михайловича Лебедева и, продержав месяц в калужской тюрьме, отпустили, – впрочем, со зловещим напутствием: «Пока вы свободны».
В Калуге ОГПУ устремило свой взор на интеллигенцию еще в начале 30-х годов. Сперва пристали к зубным врачам. Это был период, когда бюджет советского государства в связи с непомерными расходами на «социалистическое строительство» затрещал по всем швам, когда были проданы за границу какие-то ценности из Эрмитажа, и ОГПУ было дано задание: вытряхнуть из граждан валюту, золото и серебро. По сему обстоятельству кто-то сострил: в Москве открылись два новых театра – Оперно-драматический театр имени ОГПУ, ставящий по ночам «Разбойники» или «Искатели жемчуга», и Драматический театр имени Наркомфина (Народного Комиссариата Финансов), ставящий две пьесы: вечером – «Бедность не порок», а утром – «Не было ни гроша, да вдруг алтын».
Лучшего в Калуге зубного врача-протезиста Фридмана довели до того, что он, придя с очередного допроса, повесился.
Потом взялись за учителей. В 33-м году сварганили дело калужских учителей и инспекторов Губоно. Обвинили их во вредительстве. Приговор вынесли относительно мягкий: сослали хоть и в места отдаленные, но с правом преподавания в школах.
В 34-м году посадили лучшего калужского хирурга Валерия Петровича Карпухина, которому было тогда пятьдесят два года. С 14-го года он заведовал хирургическим отделением Калужской земской больницы. В 23-м году ему было присвоено звание Героя труда. С 14-го по 34-й год он сделал в Калуге 10 тысяч операций. С 34-го года по 45-й год он сделал в дальневосточных концлагерях 4 тысячи операций.
В 45-м году ему разрешили вернуться в Калугу. В Калуге он до самой смерти (1965 год) работал в областной больнице, вылетал в район для срочных консультаций, а в трудных случаях сам и оперировал.
В Перемышле в 32-м году трясли бывших купцов, купеческих вдов, трясли аптекаря Царского, но, подержав в тюрьме, выпустили всех до единого. Вообще тех, кого где бы то ни было сажали в чаянии, что они укажут свои тайники и похоронки, часто выпускали на волю вне зависимости от того, указывал ли схваченный, где у него припрятаны драгоценности, выдерживал ли он обработку угрозами и матерщиной, выдерживал ли он холодную и горячую камеры и заветных кладов не выдавал или же не сознавался просто потому, что у него в самом деле серебряной ложки не осталось – все спустил, когда жрать было нечего.
На убийство Кирова Перемышльское отделение НКВД сочло своим долгом «откликнуться»: схватили одного молодого человека, на вечеринке, в подпитии, молвившего вольное слово в присутствии доказчика, впоследствии расстрелянного немцами.
Сын перемышльского учителя Владимира Федоровича Большакова, преподававший в Шамординской школе-семилетке Перемышльского района» как выразился в разговоре со мной его родственник, «необдуманно поухаживал» за женой начальника Перемышльского отделения НКВД Калдаева. Начальник стал «собирать материал» на гражданина Большакова Алексея Владимировича, пленившего его супругу чернокудрой, чернобровой, черноглазой, смуглой красотой своего чуть-чуть татарского лица. «Собирать материал» на Алешу было делом не трудным: ради красного словца он не пожалел самого себя.
Как-то Алеша явился «под мухой» в клуб на торжественное общеколхозное собрание, еще до его открытия, занял место, как ему полагалось, за столом президиума, тряхнул кудрями и, окинув взглядом собравшихся, звучным своим баритоном произнес:
– Что, мужички, не веселы, головы повесили? Или рано власть в свои руки взяли?..
Всего несколько раз успел Алеша выказать в своих речах удаль молодецкую – и поехал строить канал «Москва-Волга».
Этой жертвой Перемышльское отделение НКВД словно бы насытилось.
В начале 37-го года Москва в ожидании поздних гостей уже не спала до трех – до четырех утра. Для москвичей приобрели совершенно реальный смысл слова из 90-го псалма: «Не убоишися от страха нощнаго… от вещи, во тьме приходящия…» А Перемышль спал сном безмятежным…
После моего возвращения из ссылки в Перемышль меня особенно потянуло к Лебедеву. Этот так и не обтесавшийся, грубоватый с виду человек показал моим родным столько неназойливой сердечности, столько бережного и деятельного участия, на какое не способны многие чувствительные натуры. Друзья познаются в беде. Беда, посетившая нашу семью, прояснила, что самый близкий нам человек во всем городе – Петр Михайлович. Он был по-прежнему жаден до впечатлений – от людей, от животных, от лесов и лугов, от книг, от музыки, от театра. Он рассказывал, как ему удалось благодаря отзывчивости сжалившегося над ним Михальского попасть в Художественный на «Воскресение», как ошарашил его весь спектакль и, особенно, чтец-Качалов. Когда я приезжал из Москвы, Петр Михайлович в тот же вечер прибегал к нам и расспрашивал меня обо всем, что там деется. Если кто-нибудь перебивал меня, Петр Михайлович проявлял нетерпение: «Ну, ну, ну, дальше, дальше!» Потом начинал приставать к нему я – за разъяснением событий, ибо разъяснения, какие я получал в Москве, не всегда меня удовлетворяли. Обращался я к нему за помощью и как переводчик. Петр Михайлович хорошо знал дореволюционную юридическую и коммерческую терминологию. Помогал он мне и в передаче военной терминологии. Почти всю первую мировую войну он пробыл на фронте и мог подсказать мне, как должна звучать по-русски та или иная команда, как называются те или иные строевые приемы.
Слушая мои устные синодики взятых под стражу, а иногда и без всякого повода, Петр Михайлович задумчиво повторял:
– Да, «грусьмено» на свете, «грусьмено»!..
В июне 37-го года я женился, и мы с женой решили провести ее отпуск в Перемышле. В день ее приезда у нас были Петр Михайлович со своей матерью, Екатериной Петровной, и с Надеждой Васильевной. Мы уговорились, что через несколько дней, после того как Петр Михайлович скачает последний экзамен, мы к ним приедем вечерком.
И вот экзамен кончен. Впереди у Петра Михайловича – длительный отдых, поездки на велосипеде в дальние леса за грибами…
В ту же ночь за ним пришли.
До ареста Петра Михайловича моя мать бывала у Лебедевых не часто. Теперь она ежевечерне, как на дежурство, шла мимо окон НКВД навещать мать и жену заключенного.
В таких городках, как Перемышль, всплывали мелкие, а иногда и более важные тайны НКВД.
В Перемышле тюрьмы не было. Отделение НКВД размещалось в двухэтажном доме, некогда принадлежавшем одному из купцов, а какую-то надворную постройку переделали под каталажку. И вот, когда в допросах Петра Михайловича наступал перерыв, его угоняли за восемнадцать верст в Лихвинскую тюрьму, а потом пригоняли опять. Его сопровождал верхоконный детина, а Петр Михайлович в стужу и в зной шел пешком.
День и час первого его угона стал известен жене и матери. В НКВД служил караульным некий Сергей Сергеевич Кубарев. Он был свой, коренной перемышлянин, сердце у него было не камень, и мзда карман ему не драла. Родственники заключенных пробирались к нему домой глухою ночью, и он сообщал, когда кого пригонят или угонят, когда приносить передачу. Этот-то благодетель и дал знать родным Петра Михайловича о том, что его угоняют в Лихвин.
Екатерина Петровна, Надежда Васильевна и моя мать подстерегли Петра Михайловича при выезде на Лихвинскую дорогу и на расстоянии простились с ним. Моя мать жестами показала ему, что не оставит его родных. Он спускался с горы бодрый, по виду спокойный, и успел на ходу бросить моей матери:
– По-видимому, пустяки…
Больше Петр Михайлович и моя мать на этом свете не встретились.
Когда Петра Михайловича арестовали в 23-м году, моя мать, Софья Иосифовна и моя тетка Софья Михайловна подали заявление председателю Перемышльского уисполкома Подвязникову. Ручаясь за политическую благонадежность Петра Михайловича, они ходатайствовали о скорейшем освобождении этого незаменимого учителя и администратора. Моя мать понимала, что в 37-м году такие ходатайства могут только повредить Петру Михайловичу. Но оставаться в школе, где она его уже не увидит больше, и выслушивать на собраниях: «Распни, распни его!» – это было ей не по силам. Сославшись на состояние здоровья, она подала заявление об уходе. Ее «отставка» была принята.
Пурговой исступленный вой ворвался и в тишь Перемышля.
В местной газетенке «Колхозный труд» Петр Михайлович был объявлен врагом народа. Это чрезвычайно широкое обозначение, весьма удобное для затуманивания мозгов, облегчавшее науськивание и натравливание злобной и завистливой мрази и легковерных простачков на невинных людей, было впервые введено в ежовщину и применялось без разбора – от Радека и Ягода до колхозного деда, который, по воспоминаниям сидевшего с ним в лагере бывшего военного прокурора НКВД Льва Матвеевича Субоцкого, объясняя недоумевавшим товарищам по несчастью, за что его-то, старого хрена, взяли и за что ему десять лет дали, отвечал: «Следователь мне говорит: “Ты – трахтист”. А я к ихнему трахтору близко не подходил».
Немного спустя в той же газетенке, выходившей под редакцией двух проходимцев – Макарова и Перкона, которые прибыли в Перемышль в самом начале ежовщины и которых, когда ежовщине пришел конец, точно ветром выдуло из Перемышля, было объявлено, что враг народа Лебедев орудовал в школе не один – под его руководством там вредительствовали Траубенберг, Будилин и Большаков.
Незадолго до ареста Лебедева директор школы Сергей Яковлевич Фролочкин созвал учителей и прочел с соответствующими комментариями газетное сообщение от 13 июня о расстреле шпионов и изменников родины – первого заместителя Ворошилова Тухачевского, Уборевича, Фельдмана, Эйдельмана, Якира, Примакова, Корка и Путна. Выходило, что родине изменил, за малым исключением, цвет Красной Армии. Второго заместителя Ворошилова – маршала Егорова и маршала Блюхера, судившего Тухачевского и других, замели позже, без оглашения в печати. Начальник Политуправления армии Гамарник успел покончить с собой.
На учительском митинге взял слово простодушный Григорий Владимирович Будилин и выразил горестное недоумение, как, дескать, дошел до жизни шпиона и предателя Уборевич, который на глазах у Григория Владимировича, служившего в его штабе, отдавал весь свой талант полководца защите революции от белогвардейцев, в самое тревожное время не спал ночей и, склонившись над картой, пил чай чернильного цвета.
Это выступление оказалось для Григория Владимировича роковым. В статье об учителях-«вредителях» Макаров и Перкон выпустили по нему в газете пулеметную очередь: «Сын попа, выученик фашистского бандита Уборевича…»
В литературе, в науке и в искусстве тоже шли суды, 5 июня «Правда» разразилась статьей И. Новича под заглавием «Осколки враждебных группировок» против «Наших достижений» – журнала, основанного Горьким. После этой статьи журнал прихлопнули. В статье Иван Катаев назван врагом народа. Среди обвинений, предъявленных журналу, есть и такие: в нем печатался «один из столпов “Перевала” Пришвин»… Осечка… Пришвина не тронули. Кое на ком из писателей было начертано сталинское «табу».
Замахнулись на Тарле.
В «Правде» от 10 июня появилась статья А. Константинова «История и современность (по поводу книги Е. Тарле “Наполеон”)».
Вот ее начало:
Враги народа, боящиеся дневного света, прячущие свое подлинное лицо, охотно избирают историческую литературу в качестве орудия своей двурушнической вредительской деятельности… Книга Тарле о Наполеоне – яркий образец такой враждебной вылазки…
Вся статья выдержана в этаком тоне:
…видны ослиные уши изолгавшегося контрреволюционного публициста.
Тарле был давно известен как фальсификатор истории… Практика у этого господина не отставала от теории: стоит лишь вспомнить, что в карикатурном «кабинете» Промпартии вредителя Рамзина… за ним был закреплен пост министра иностранных дел. Книга о Наполеоне вышла под редакцией Радека. Враг народа Бухарин усиленно пропагандировал Тарле.
В тот же день «Известия» напечатали все о том же «Наполеоне» «подвал» Дм. Кутузова «Против фальсификации истории».
А на другой день – отбой и в «Правде», и в «Известиях». «Правда» поместила заметку:
От редакции
Во вчерашнем номере «Правды» была напечатана рецензия А. Константинова «История и современность» на книгу Е. Тарле «Наполеон». Рецензент предъявил автору книги «Наполеон» строгие требования, какие предъявляются к автору-марксисту. Между тем, как известно, Е. Тарле никогда не был марксистом» хотя и обильно цитирует в своей работе классиков марксизма. За сшибки в трактовке Наполеона и его эпохи ответственность несут в данном случае не столько автор Тарле, сколько небезызвестный двурушник Радек, редактировавший книгу» и издательство» которое обязано было помочь автору. Во всяком случае, из немарксистских работ, посвященных Наполеону, книга Тарле – самая лучшая и ближе к истине.
В «Известиях» отбой прозвучал так:
Профессор Е. Тарле, как известно, не марксист, книга его «Наполеон» содержит ряд существенных ошибок. Это, однако» не давало никаких оснований автору статьи назвать проф. Тарле фальсификатором истории и связывать его имя с именем редактора его книги – врага народа, троцкистского бандита Радека.
Это тем менее допустимо, что книга проф. Тарле о Наполеоне по сравнению с работами других буржуазных историков является безусловно одной из лучших.
Обе газеты – разумеется, по «прямому указанию товарища Сталина», – сами себя высекли.
Этого мало: 3 июля «Известия» напечатали «подвал» Тарле «Вторжение Наполеона». Там есть такие строки: «…надо очень мало знать русскую историю и совсем не знать испанской, чтобы допустить те грубейшие ошибки, какие допустил т. Кутузов в своей статье в “Известиях” о моей книге “Наполеон”».
«Правда» от 30 августа поместила письмо в редакцию архитекторов Л. Савельева и О. Стапрака «Жизнь и деятельность архитектора Щусева». И это письмо написано в стиле эпохи: авторы бросают фразочку, что Щусев приближал к себе «темных личностей», «ныне арестованных органами НКВД».
«Колхозный труд» объявил во всеобщее сведение, что, как выяснилось на следствии, враг народа, меньшевик Лебедев являлся одним из вдохновителей и вожаков Корекозевского восстания. Родные и друзья Петра Михайловича знали, что во время корекозевских событий его духу не было ни в Перемышле, ни в Перемышльском уезде. Но мы с моей матерью знали и другое – для НКВД факты и даты – что дышло: куда повернешь, туда и вышло. Петра Михайловича подводили к камере смертников.
Путь его из Перемышля в Лихвинскую тюрьму лежал через деревни и села. И народ всякий раз устраивал своему «врагу» встречу и проводы. Мужчины с сумеречными лицами снимали шапки и низко кланялись, бабы выли как по покойнику:
– Родимый ты наш! И на кого ты нас покидаешь!
Да и как не завыть! Ведь это он вывел в люди Гришку, Ваську, Степку, Леньку, Мишку, Микиту, Максима, Сергуньку, Хведьку: один – анжинер, другой – дохтур, третий – агроном, четвертый – учитель…
Исключили из партии, сняли с работы за то, что проглядел врага народа, а потом посадили директора школы Фролочкина. Исключили из партии, сняли с работы, а потом посадили заведующего РОНО Алексея Георгиевича Спасова, с которым сводили счеты Макаров и Перкон за то, что он в каком-то другом районе вывел этих голубчиков за ушко да на солнышко. (После ареста Спасова Перкон занял его место. В лагере Спасов скоро скончался.)
В Перемышль из Калуги приехал на два дня Юрий Николаевич Богданов с женой. У нас было тесно, и я снял для них комнату в другом доме. После их отъезда я пошел к их хозяйке за вещами» которыми мы их снабдили, и через весь город пронес подушку. К вечеру по городу распространился слух, что посадили Елену Михайловну и сын понес ей подушку в НКВД.
Траубенберга, Большакова и Будилина таскали на допросы по делу Лебедева. Георгий Авксентьевич прямо с допроса пришел к нам. Он был белее мела, зубы у него стучали как при ознобе, руки тряслись.
– Там каждое наше слово известно, там каждое наше слово известно! – выпив воды, повторял он. – Известна и моя фраза: «Новая конституция – это свобода слова для детских садов и для сумасшедших домов»… Я сказал, что и сам этого не говорил, и ни от кого не слышал. Калдаев на меня заорал: «Лжете! Нам точно известно, что эти слова были сказаны то ли вами, то ли в вашем присутствии… Ну так кто же это сказал?..» Вы не можете себе представить, как там страшно… Калдаев мне пригрозил: «Вы не говорили, так кто-то же говорил, а вы не донесли. А за недонесение знаете, сколько лет полагается?… Запирательство вам не поможет. Слова эти говорил Лебедев, так? Ну вот и подпишите, иначе мы вас арестуем…» И я подписал, что, насколько помню, слышал эти слова от Петра Михайловича… Там известны все наши разговоры с глазу на глаз… Какой ужас, Боже мой, какой ужас!..
Я привел Георгию Авксентьевичу слова, которые любил повторять мамин брат, дядя Коля, и справедливость которых я проверял на опыте: «Ничего мерзавцы не знают, кроме того, что мы наговорили сами на себя или друг на друга».
Георгий Авксентьевич не спал всю ночь, а наутро без зова пошел в НКВД и заявил Калдаеву, что вчера он дал ложные показания из страха, – он, мол, давно уже страдает манией преследования, – что и сам он таких слов не говорил и никогда их не слышал ни от Лебедева, ни от кого-либо еще.
Калдаев выхватил из ящика письменного стола протокол вчерашнего допроса и, разорвав его на мелкие клочки» гаркнул:
– Вы манией лжи страдаете! Убирайтесь вон!
На лестнице Георгий Авксентьевич упал. Его палка прогремела по всем ступенькам. Вышедший на стук Калдаев бросился к нему:
– Вам нехорошо? Может быть, воды?
И стал поднимать его.
– Нет, благодарю вас… Мне ничего не надо… Я сам… – ответил Георгий Авксентьевич и» сделав над собой усилие, медленно поднялся. Калдаев пошел за ним, поднял палку и подал ему.
Несколько лет спустя я узнал от Петра Михайловича, что в течение всего следствия Калдаев даже имени Георгия Авксентьевича ни разу не упомянул.
Георгий Авксентьевич долго ломал себе голову:
– Кто же это мог донести? Ведь я сказал эти слова о Конституции только Петру Михайловичу и Пятницкому. Кто мог нас подслушать?
Ох уж эта интеллигентская недогадливость! Казалось бы, чего было разводить романтику со шпиками под скатертью видавшему виды Глебу Алексееву, заметившему притворявшегося пьяным Никулина, когда он звал к себе Веру Дынник? Казалось бы, чего было теряться в догадках Георгию Авксентьевичу, отлично знавшему, что доктор Пятницкий – бывший правый эсер, после Февральской революции – товарищ Калужского губернского комиссара, член Калужского губернского исполнительного комитета, после Октябрьского переворота бежавший об одном сапоге из Калуги в Перемышль и почему-то сейчас разгуливающий на свободе? Первое время о Пятницком в кутерьме, вероятно, забыли, но ведь потом-то не могли не вспомнить! Тем более что от Перемышля до Калуги рукой подать. Распоряжения за его подписью сохранились в Калуге у частных лиц, про архивы и говорить нечего. И как не раскусил Пятницкого старый социал-демократ, подпольщик и конспиратор Лебедев?..
Больше Георгия Авксентьевича к допросу не потянули. Но его, Большакова и Будилина, «лебедевское охвостье», выгнали из школы. Все трое ездили хлопотать за себя в Наркомпрос. Наркомпрос умыл руки. Только в начале зимы 38-го года, когда Перемышль, как и Калуга, был отнесен к Тульской области, —
Тула, Тула перевернула, Назад козырем пошла:Георгия Авксентьевича» видимо снисходя к его немощи, допустили до преподавания в Перемышльской школе, а Большакова и Будилина сослали в сельские школы.
Летом, осенью и зимой 37-го года я несколько раз ездил в Калугу повидаться с Юрой Богдановым, и он всякий раз меня оглоушивал вестями о посадке чекистов и членов правительства, – вестями» которые почему-либо не дошли до меня в Москве, – сообщал городские новости:
– Рудзутак сел…
Бубнов сел…
– Межлауки сидят… (Брат Валерия Ивановича Межлаука Иван Иванович Межлаук был председателем Всесоюзного комитета по делам Высшей школы при Совнаркоме СССР.)
– Ты знал нашего калужского батюшку Остроглазова? Он ведь очень старый и почти совсем слепой. Его арестовали. Сам он идти не мог. Его ночью под охраной арестовывавших вела в НКВД дочь, а в другой руке у нее был узел для отца с подушкой и одеялом.
– У нас в Калуге идут аресты среди партийной верхушки. Первый секретарь Трейвас уже сидит.
– Посадили бывшего адвоката, преподавателя литературы Фридберга. Помнишь, который на диспуте защищал Есенина от зав. Губоно Любимова (Гуревича)?
– У нас в Калуге врачей посажали: глазника Попова, зубных врачей – Костромина, Маркевич…
– Ну, Костромина – это я еще могу понять: его брат с Бубновым в Наркомпросе работал, наверное загремел, а из-за него взяли брата. Ну, а старуху Маркевич-то за что?
За польскую фамилию – больше не за что.
– Посадили Юрия Александровича Вусовича. (Это был врач-эпидемиолог, видный краевед.)
В Перемышле меня всякий раз тоже ждет какая-нибудь «приятная» новость.
Со Спасовым дружил директор одной из районных школ-семилеток, крестьянин села Корекозева, член Коммунистической партии с 18-го года, участник гражданской войны Николай Алексеевич Вдовин. Когда Спасова посадили, Вдовин стал посылать свою дочь в помощь больной жене арестованного, оставшейся с маленьким ребенком, и та приносила ей воды, мыла полы, стирала. Николая Алексеевича исключили из партии за оказание помощи жене «врага народа».
8 июля в «Правде» статья без подписи: «Профессор-насильник, садист». Оказывается, Плетнев черт знает что разделывал с некоей гражданкой Б. Впоследствии профессор-кардиолог Олег Ипполитович Сокольников рассказывал мне, что он знал «гражданку Б.» Это была сотрудница «Правды», психопатка и притом уродина.
– Если даже Плетнев и был развратником, то вряд ли он польстился бы на такое страшилище, тем более что выбор у него был богатейший, – добавил Сокольников.
Олег Ипполитович называл мне ее имя, отчество и фамилию, но я, к сожалению, запамятовал.
9 июля в «Правде» помещена резолюция Всероссийского и Московского терапевтических обществ под названием «Маска с врага сорвана». Среди подписавших эту резолюцию – будущие «врачи-убийцы» Вовси и Борис Коган, которых в конце концов реабилитировали только благодаря тому, что Сталин дал дуба. А затем пошли писать и проф. А. Д. Сперанский, и проф. А. В. Вишневский, и Левин, которого несколько месяцев спустя будут судить вместе с Плетневым и расстреляют как отравителя. Мораль советского человека: падающего толкни, лежачего бей.
9 июля мы прочли:
В прокуратуре СССР
В редакцию газеты «Правда»
Сообщаю, что по моему распоряжению следователем по важнейшим делам прокуратуры Союза начато расследование фактов, изложенных в статье «Профессор-насильник, садист».
Прокурор Союза ССР
А. Вышинский
17 – 18 июля в Мосгорсуде при закрытых дверях слушалось «дело Плетнева». Защищал Коммодов. Плетнева приговорили к 2-м годам лишения свободы условно.
Сообщения о вражеских вылазках и происках, о разоблачениях, исключении из партии и судах перемежаются восторгами по поводу полетов и перелетов наших летчиков, перечнями наград, ими полученных, орденопадом на артистов и певцов, треском петард, изготовлявшихся для «Известий» Хмелевым в честь будто бы триумфальных гастролей Художественного театра[35], пускавшего пыль в глаза парижанам такими шедеврами русской драматургии, как «Враги» и «Любовь Яровая». Два главных палача, перестрелявших почти всю «ленинскую гвардию», – Ежов и Вышинский, – получили по ордену Ленина.
В конце лета я приехал в Москву.
Глеб обрушил на меня лавину столичных новостей:
– Арестована верхушка НКВД: Яша Агранов, Прокофьев, Балицкий, Дерибас…
– Арестован Антоныч (Клычков),».
– Арестован Воронский…
– Арестован Святополк-Мирский…
– Арестован Виктор Кин…
– В Ленинграде арестован режиссер Алексей Дикий…
– Арестован Бруно Ясенский…
Вот тебе раз! И Ясенский?.. А ведь в поднятом критикой на щит индустриально-бульварно-детективном его романе «Человек меняет кожу» Ясенский изобразил инженеров вредителями, связанными с иностранной разведкой и подбрасывавшими ядовитых змей в комнаты «честных специалистов». Еще так недавно, 1 сентября 36-го года, на собрании «новомирского» актива писателей, на котором Олеша пинал неостывший труп казненного Пикеля и на котором с восхитительным мужеством держал себя Пильняк, хотя над ним уже сгущались тучи, Ясенский хвастался тем, что «несколько дней тому назад мы исключили из партии писателя Ивана Катаева за измену партии» и расценивал как «преступление» то, что Пильняк несколько лет назад оказал денежную помощь Радеку, когда тот находился в ссылке[36]. И уж совсем недавно наша пресса в ответ на утверждение польской печати, что в СССР преследуют поляков, ссылалась между прочим на то, каким почетом и уважением окружен у нас Бруно Ясенский. А немного погодя появляется статья Моты левой, доказывающая, что роман «Человек меняет кожу» мог написать только шпион.
Один за другим, один за другим люди попадали в яму, которую они страха ради или же из любви к труду землекопа рыли другим.
Мы с матерью, посовещавшись, пришли к заключению, что быть постоянно прописанным в Перемышле для меня небезопасно: ведь в паспорте, который я получил в Архангельске, было указано, что мне его выдали не на основании прежнего паспорта, а на основании справки из НКВД.
Я прописался у теток в лесной глухомани, за тридцать верст от Малоярославца и за сорок верст от Калуги. Тут я глаза НКВД не мозолил.
Осенью, когда я из Новинки приехал в Москву, Глеб сообщил мне об аресте Артема Веселого и лучшего своего друга – Бориса Пильняка.
Пильняка арестовали в день рождения его сына. Он поехал в центр за покупками, – жил он тогда на Ямском поле (ул. Правды) в ожидании квартиры в доме, строившемся на углу ул. Горького и Лесной, – ему хотелось отпраздновать этот день вдвоем с женою. Не успел вернуться, как за ним приехали. Он ушел взволнованный, но уверял жену» что это недоразумение, что его сейчас же выпустят. Быть может» он питал робкую надежду» что писателя с мировым именем все-таки не засадят, и не принимал в соображение, что Сталин точил на него зубы с 26-го года» когда появилась «Повесть непогашенной луны», а быть может, хотел только подбодрить жену. Потом арестовали и ее.
Поздней осенью я поехал навестить мать и тетю Сашу.
Без меня Перемышльское отделение НКВД провело осенью «предвыборную компанию» (в декабре должны были состояться первые выборы в Верховный совет СССР на основе Конституции, принятой в 36-м году).
В эту компанию в Перемышле были вдобавок к уже взятым арестованы так и пропавшие потом без вести священник Николай Павлович Бриллиантов, не служивший с 29-го года; объединивший вокруг себя местных евангелистов, начитанный от Писания не хуже ученого богослова кузнец Матросов; бывший огородник, давно восстановленный в правах гражданства за образцовую работу в перемышльском колхозе Павел Михайлович Дешин и уполномоченный предреволюционного Перемышльского городского общественного управления, член попечительного совета прогимназии, при НЭПе торговавший в компании с двумя согражданами, яко рыба безгласный брат «Лошадиной головы», старый холостяк Федор Николаевич Гудков, которого все называли за глаза ласкательно-уменьшительно «Федя Носик», хотя нос у него был крупнокалиберный. Оснований для его ареста могло быть только два: размеры носа, выделявшие его из обывательской массы, и привычка теплыми вечерами в совершенном одиночестве посиживать на лавочке около дома, где он жил с двумя своими незамужними сестрами, и попыхивать трубочкой. Идешь, бывало, в кромешной тьме – вдруг возникает светящаяся точка: а, это Федя Носик! Значит тут будет рытвинка, надо держаться левей, поближе к забору. Закрыв лавку еще до ликвидации НЭПа, Федор Николаевич высовывал свой носище только за ворота – ни на какой другой улице, ни на площади, ни на базаре я его ни разу не видел.
– Пол-Перемышля в Лихвинскую тюрьму переехало… по случаю построения социализма, – подвел итог тридцать седьмому году Георгий Авксентьевич Траубенберг.
Говорили, будто подручные Калдаева предлагали арестовать священника, служившего в единственной тогда еще не закрытой в Перемышле Георгиевской церкви, о. Иоанна Никольского, на что Калдаев будто бы наложил милостивую устную резолюцию:
– Черт с ним, пускай старый хрыч остается, все равно скоро сдохнет.
Петр Михайлович все еще сидел в Лихвинской тюрьме, но, по слухам, в деле его произошел перелом. Летом Калдаева вызвали в Москву: в Москве не хватало следователей, и участие в Корекозевском восстании Петру Михайловичу пришили в его отсутствие. Вернувшись из Москвы, Калдаев самое страшное обвинение с Петра Михайловича снял.
В это время в Детчине, районном центре Калужской области, состряпали дело ветеринарных врачей и зоотехников, якобы по заданию какой-то иностранной разведки моривших колхозный скот. Несколько человек расстреляли.
…Опять я в Москве, и опять «свежие новости».
Арестован заведующий сельскохозяйственным отделом ЦК Яковлев. Он совсем недавно делал доклад на сессии ЦИКа о проекте «Положения о выборах в Верховный Совет СССР». Только что издал брошюру о том, как надо выбирать; эту брошюру вменялось в обязанность изучать всем членам избирательных комиссий и рекомендавалось изучать избирателям.
Ликвидировано «троцкистское гнездо» «Перевала», арестованы «выкормыши матерого троцкиста», «агента Троцкого в литературе» Воронского: член партии Зарудин, член партии Губер, Пакентрейгер, позднее других – Абрам Захарович Лежнев.
Арестован один из самых злых рапповских псов, присяжный драматург Киршон, рапортовавший XVI партийному съезду о достижениях советской литературы и клеймивший внутренних ее врагов, от них же первый – автор «Красного дерева» Борис Пильняк.
Арестован «лефовец» Сергей Третьяков.
Александр Вильямович Февральский, через Мейерхольда близкий к футуристическим кругам, рассказывал мне двадцать лет спустя, что в разгар «реабилитанса» к нему неожиданно позвонил Асеев и спросил, не помнит ли он, любил или не любил Третьяков играть в карты и не был ли азартным игроком. Февральский ответил, что, насколько он помнит, Третьяков, этот сухарь, игравший под делового иностранца, никаких карт в руки не брал.
– А почему вы меня об этом спрашиваете, Николай Николаевич?
– После объясню. Это не телефонный разговор.
Оказалось, что «дело» Сергея Михайловича Третьякова, автора популярного в свое время романа «Дэн-ши-хуа», пьесы «Рычи, Китай!», шедшей у Мейерхольда, и бездарных футуристических стихов, было сляпано следующим образом. Третьяков свободно изъяснялся на нескольких иностранных языках, рыбу ножом не ел, и его просили принимать у себя иностранных писателей и постоянно посылали за границу. Ну, а в ежовщину он как нельзя больше подходил к роли шпиона. Его арестовали и предъявили следующее обвинение: будто бы он за границей проиграл в игорном доме огромную сумму. Расплатиться ему было нечем. Тогда к нему подскочил некто и, отведя в сторону, шепнул, что он уплатит его долг, но что за это Третьяков должен стать агентом такой-то разведки. Третьяков будто бы согласился. При пересмотре дела оказалось, что это – эпизод не из биографии благоразумнейшего, рационалистичнейшего, не склонного ни к каким порывам и увлечениям Третьякова, а из плохого уголовного романа, наспех сочиненного следователями.
…Арестован ответственный редактор «Литературной газеты», совмещавший эти обязанности с обязанностями военного прокурора НКВД, Лев Матвеевич Субоцкий.
Арестован его брат Михаил, член редакционной коллегии журнала «Знамя».
– Теперь у нас попасть в шпионы и диверсанты легче, чем нарваться на штраф за то, что спрыгнул на ходу с трамвая, – заметил Глеб.
А по радио мы чуть не каждый день слышим:
Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек.А в газетах, журналах, по радио фамилия «Сталин» сопровождается постоянными эпитетами: «великий», «гениальный», «любимый», «мудрый», «родной».
Споем же, товарищи, песню О самом большом человеке, О самом родном и любимом, — О Сталине песню споем, —призывает Михаил Исаковский в «Песне о Сталине». Глаза Сталина видятся песеннику (сослепу, что ли?) «ясными и чистыми», как «светлая вода в колодце», сам Сталин – воплощением «правды народов».
А фамилия Народного Комиссара Внутренних Дел Николая Ивановича Ежова появляется не иначе как с присовокуплением составных постоянных эпитетов: «железный нарком», «любимый сталинский нарком». А подхалимы азиатские, вереща и блея свои стихи, величают этого плюгавца (таких русский народ величает «выпердышами») «Батырь Ежов». А печать в припадке буйного раболепства восхваляет «ежовые рукавицы». Бывшего художественного руководителя киевской киностудии Соломона Моисеевича Баевского следователь заставлял по нескольку часов кряду стоять «смирно» – заставлял, зная, что у подследственного больные ноги, отмороженные в гражданскую войну, – весело потирал руки и приговаривал:
– Это вам не ягодовщина – это вам ежовщина!
Я получил от тети Саши письмо… Мама «– в больнице: тяжелое нервное расстройство. Я полетел в Перемышль.
Болезнь моей матери нарастала исподволь, еще со времен моего сиденья и ссылки. Общероссийские и перемышльские события растравили незаживающую рану.
Мы боялись друг за друга, Я боялся, что ее арестуют в Перемышле. Ни на миг не утихала ее тревога за меня. Я – бывший ссыльный – подолгу живу в Москве без прописки. Случайный или не случайный – по доносу соквартирантов – милицейский обход, и я подвожу родных моей жены, хозяев квартиры, а меня могут не просто попросить о выходе, а загрести.
Как-то, когда я уезжал из Перемышля в Москву, маме захотелось проводить меня до Калуги. Времени до отхода поезда оставалось еще много. Мы с ней сели подзакусить и выпить чайку в вокзальном ресторане. За соседним столиком сидел молодой человек и, прихлебывая чай, водил пером по ватмановской бумаге. По-видимому, это был студент Калужского строительного техникума, уезжавший на практику и что-то наспех, перед отходом поезда, подправлявший в своих чертежах. Временами он отрывался от своего занятия и останавливал рассеянный взгляд на ком придется, в том числе и на нас.
Мама долго смотрела на него, потом ее внезапно побелевшие от ужаса глаза глянули на меня.
– II te dessine[37], – шепнула она.
Мне стоило немалых усилий разуверить ее.
Бредовые видения, сначала посещавшие ее изредка, к концу 37-го года сомкнулись вокруг нее кольцом.
Я побежал в больницу. Мама лежала в палате одна.
Она меня сразу узнала и заплакала слезами радости. Еще немного – и ее лицо исказила душевная боль.
– Тебе тетя Саша успела сказать, что Петру Михайловичу дали десять лет?
Я постарался утешить маму так же, как на другой день утешал Екатерину Петровну: по нашим временам десять лет с правом переписки – пустяки. Главное, что с него сняли обвинение в организации Корекозевского восстания, а 5810 – это самое легкое обвинение, какое только могут дать «политическому». Полного срока он, конечно, не просидит, – его освободят по возрасту и по здоровью.
Мама приободрилась. И вдруг опять уже знакомый мне белый ужас оледенил ее взгляд.
– Слышишь? Стучат!
– Да это дверью кто-то хлопнул.
– Нет, нет, это печку ломают, нарочно… а потом скажут, что это я сломала печку… что я – вредительница…
От доктора Татьяны Никитичны Жиздринской я узнал, что несколько дней назад мама в одном халате, с непокрытой головой убежала из больницы. Был холодный позднеосенний день. Сиделки вовремя хватились ее и бросились искать. Терапевтический корпус стоял рядом с кладбищем, и моя мать, с развевающимися по ветру седыми волосами, бежала меж памятников и могильных холмов. Ее догнали.
– Куда вы, Елена Михайловна?
– Пустите меня! Я иду в НКВД – говорить правду о моих оклеветанных товарищах!..
По делу Петра Михайловича мою мать так и не вызвали. Говорить правду в НКВД об оклеветанных товарищах ей еще предстояло.
На другой день, когда я пришел навестить маму, она была уже в полном сознании.
Итак, – думалось мне, – Петр Михайлович еще счастливо отделался. Он – не вдохновитель восстания, он – не главарь вредительской шайки, будто бы окопавшейся в школе, он – вообще не вредитель, он не вел пропаганды среди учеников. Но приклеить-то ему что-нибудь надо! Выпустишь – как бы самому не сесть. В таких случаях приходит на помощь спасительная 5810 – то есть «индивидуальная агитация». Но кого же он, однако, агитировал? Самого себя? Или своих добрых знакомых, которых давным-давно без его участия разагитировала сама жизнь?
Перед тем как отправить Петра Михайловича по этапу в концлагерь, ему дали свидание в Лихвинской тюрьме с женой и матерью.
Тюрьма не ожесточила Петра Михайловича, для которого понять человека почти всегда означало простить.
Каким-то образом стало известно, что под давлением следователя один из сослуживцев оговорил Петра Михайловича, что им была устроена очная ставка и что Петр Михайлович доказал лживость показаний «свидетеля». И вот, когда жена и мать спросили его, правда ли, что сослуживец и приятель так отплатил за добро, которое Петр Михайлович делал ему на протяжении многих лет, он махнул рукой:
– Ну, что с него спрашивать! Испугался за сына, старый дурак! (Сын «свидетеля» находился в лагере.) Да и показания его гроша медного не стоят, я его живо посадил в калошу.
Траубенберг имел мужество отказаться от своего показания. Другой сослуживец что-то сболтнул из страха за сына. Но доносили на Петра Михайловича из года в год, изо дня в день осведомители: доктор Владимир Владимирович Пятницкий, учитель Иван Иванович Рыжов. С Пятницким Петр Михайлович был откровенен, при Рыжове рассказывал невинные анекдоты. И все-таки самые тяжкие и напролет лживые показания дали против него не сексоты, а бывший псаломщик, затем «совслужащий» Валерьян Иванович Соколов, с которым Петр Михайлович только здоровался при случайных встречах на улице или в магазине, и племянник Соколова Николай Георгиевич, по прозвищу «Сопля», единственный Иуда из всех лебедевских учеников.
Возмездие не замедлило: Рыжова убили на фронте; Соколова убили на фронте; комсомольца Георгиевского советский военный трибунал судил за то, что он перед приходом немцев в Перемышль драпанул из своей части в Перемышль и там при немцах отсиживался. Дальнейшая судьба Георгиевского неизвестна. Когда Петр Михайлович возвратился на родину, ни в чем перед ним не повинная учительница Раиса Ивановна Георгиевская, урожденная Соколова, сестра и мать лжесвидетелей, в то время уже погибших, пришла к Петру Михайловичу просить за них прощения.
Петр Михайлович любил рассказывать случай, происшедший с ним в молодости.
В доме у соборного дьякона Даньшина, сочувствовавшего революционным настроениям молодежи, перемышльские крамольники читали вслух запрещенную литературу, пели вполголоса: «Царь-вампир пьет народную кровь». Бывал на этих собраниях и учитель Лебедев. В один прекрасный день его вызывает к себе исправник и говорит:
– Мне, господин Лебедев, все известно о ваших сборищах у дьякона Даньшина. Вам должно быть понятно, что я держусь иных взглядов. Но раз что вы пропаганды среди населения не ведете, я вашим собеседованиям значения не придаю. Но среди вас находится охранник, Дмитрий Воронцов. И вот он доносит на вас в Калужское охранное отделение. В случае чего я вас защитить не смогу. Поэтому мой вам совет: с Воронцовым в откровенности не вступать, а ваши сборища – по крайней мере, временно – прекратить. Вы – человек молодой, единственный сын у матери, вся жизнь у вас впереди, не губите же из-за пустяков себя и не причиняйте горя вашей матери.
Во времена дореволюционные на весь Перемышль приходился один доносчик – Митька Воронцов, выгнанный из Калужской духовной семинарии за безобразия. К 30-м годам наушничье племя расплодилось и размножилось. Во времена протекшие какой-нибудь Валерьян Иванович Соколов прозябал бы мирным обывателем, не осквернив себя ни одним наветом. Новая жизнь иных запугивала, иных прельщала серебрениками, иных улещала почетом, ибо извет был возведен в доблесть, всколыхивала зловонную муть со дна человеческих душ и душонок. Прежде низменные побуждения частенько дремали в человеке и, не находя себе применения, глохли и отмирали. Теперь их-то как раз и пробуждали, за ними ухаживали, как за деревьями, и деревья эти принесли плод мног, обилен и ядовит.
Я поделился перемышльскими впечатлениями с Глебом. Он слушал, жуя своими толстыми, добродушно-плотоядными губами и, когда я замолк, воскликнул:
– Вот бы написать обо всем этом! Какой бы вышел рассказ!
Жена Петра Михайловича из-за глухоты разобщила себя с внешним миром. По всем делам ходила старуха-мать. Как-то, уже накануне войны, она выстояла на ледяном ветру долгую очередь и заболела крупозным воспалением легких. И все звала Петю в предсмертном бреду…
Осенью 43-го года я получил сведения, что Петра Михайловича, выражаясь на официально-лагерном жаргоне, «сактировали», то есть по состоянию здоровья досрочно освободили, но в Перемышль не пустили, и он поселился в рабочем поселке Костичеве Балахнинского района Нижегородской (Горьковской) области. На лесоразработках его зашибло деревом, и в Костичеве у него открылось кровохарканье.
Мне дали его точный адрес. Я тотчас послал ему письмо.
Ответ пришел быстро – в конверте со штампом: «Просмотрено Военной Цензурой Горький 168».
В своем первом письме к Петру Михайловичу я вкратце писал приблизительно то, что написано мною о моем отношении к нему и о том, чем он был для меня, на страницах этой книги.
Его первое письмо ко мне начинается так:
Дорогой Коля!
Письмо Ваше принесло мне, старому деду, много приятного. Оказывается, в старости не менее нравится, чем в молодости, когда тебя гладят по головке…
Переписка у нас завязалась частая и оживленная.
О себе он писал:
За эти годы так много утекло воды, притом мутной и грозной воды, что даже немножко страшно оглядываться.
………………………………………………………………………………………
Итак, я учитель начальной школы. У меня 31 ученик, всего три класса – 1, 2, и 3, и я как будто приспособился к новым для меня условиям. Живу в школе один-одинешенек. Перед школой мой небольшой огород, дальше озеро, за ним сосновый лес. Вид чудесный… Летом было много всяких ягод, к сожалению» мало грибов – год не грибной. Есть только одно «но»: в поселке половина людей болеет малярией. Есть опасность заразиться. В свободное время почитываю историю XIX стол(етия) Лависа и Рамбо… добрался до 6-го тома. Очень интересное издание, под редакцией Тарле. Знакомы ли Вы с ним? Сейчас попалась книжка того же Тарле о Талейране. Как видите, стараюсь приобщиться к культуре.
В другом письме Петр Михайлович пишет, что прочитал монографию Леонида Гроссмана о Пушкине, но что она не вполне его удовлетворила: «…нового почерпнул очень мало», – отмечает он.
Интерес к литературе и театру в нем не ослабевает. Я написал ему, что меня тронули своей человечностью стихи Сергея Спасского о ленинградской блокаде и о войне. Петр Михайлович откликается:
О Спасском я слышу впервые от Вас, и очень рад, что среди литераторов не оскудевают хранители великих традиций…
Современное литературоведение вызывает у Петра Михайловича скептическое отношение. В ответ на мою фразу о том, что Богословскому в книге о Чернышевском удалось размочить сухарь в молоке, он пишет:
…Вы меня простите за старческое ехидство… но когда я читал Вашу фразу о сухаре, размоченном в молоке, мне невольно захотелось спросить – а не в воде?
И дальше:
«Мой» Художественный театр, можно сказать, уже ушел. Вы пишете, что В(асилий) И(ванович) уже почти не выступает (кто заменяет его в «Воскресении»?) Но я с наслаждением посмотрел бы «Войну и мир». Удастся ли?[38]
Интересно, что нового дает в пьесе об Ив(ане) Грозном Толстой? Если знаете, пожалуйста, напишите. Вообще, если у Вас есть что-нибудь интересное из соврем(енной) литературы, очень буду благодарен, если Вы пришлете мне. Желаю Вам всего лучшего. Привет Вашей семье. Так хотелось бы сказать: до скорого свидания! Но…
П. Лебедев.
17/IX.43.
Третье письмо, от 10 октября 43-го года, начинается так:
Дорогой Коля!
Когда здесь, в Костичеве, я получаю Ваши письма, мне кажется, что я перелетаю в другой – такой дорогой и такой далекий от меня мир! Вы снова приобщаете меня к кругу моих друзей – Мопассана, Анатоля Франса и т. д., с которыми непосредственно я почти не имел общения за последние годы, но которые до сих лор сохраняют во мне то «жизнелюбие», о котором Вы пишете. Да, я все-таки остался жизнелюбцем, несмотря на все перенесенные удары и даже несмотря на то, что и по возрасту и по болезни (у меня туберкулез, и не в начальной форме) мне не придется иметь дело с жизнью длительное время. Болезнь обнаружилась для меня совершенно неожиданно и пока беспокоит не сильно. Болезнь не из приятных, но ведь когда-нибудь и от чего-нибудь умирать нужно, поэтому я отношусь к ней сравнительно спокойно.
Пишет Петр Михайлович и о моих литературных занятиях:
Я рад, что, кроме переводов, Вы все-таки «пописываете», хотя и не печатаетесь. Буду рад за Вас, если Вы приметесь за «Дон Кихота». В последние годы в Перемышле я как раз перечитал его, и перечитал с большим наслаждением.
И еще в первом письме, в ответ на мою жалобу, что мне уже больше тридцати лет, а я еще ничего путного не сделал:
Помните, что Мопассан до 30 лет учился своему ремеслу, и только в 30 лет напечатал свою «Пышку».
В марте 44-го года, ранним вечером, к нам в квартиру позвонили. Мне сказали, что меня спрашивает Лебедев. Я выскочил в переднюю и увидел не Петра Михайловича, а его тень – так исхудал этот когда-то плотный человек. Его отрепье висело на нем, как на вешалке.
Мы с ним проговорили целый вечер. Петр Михайлович рассказал мне, как велось следствие, как ему жилось в лагере. Говорил, что самое страшное, ни с чем не сравнимое, – это этап. После этапа лагерь показался ему на первых порах Эдемом. С беззлобной гадливостью вспоминал перемышльских доносчиков. Помянул добром Калдаева:
– Меня в его отсутствие хотели подвести, а он направил следствие совсем по другому руслу. И в общем он был со мной корректен. А я, по правде сказать, донимал же его своим упрямством! Ангел потерял бы со мной терпение! – И тут Петр Михайлович засмеялся знакомым мне придушенным свистяще-шипящим смехом. – Как-то он долго уговаривал меня подписать протокол – я уперся. Он хвать меня за ус, А я ему: «Хорошо! Это в преддверии-то двадцатилетия революции!» Он моментально опустил руку и, перед тем как расстаться со мной, пробормотал: «Вы знаете, у нас такая нервная работа – иной раз выйдешь из себя…»
Все это Петр Михайлович рассказывал с эпическим спокойствие ем, но время от времени повторял твердо и уверенно:
– Рано или поздно Карфаген падет!
Был у нас Петр Михайлович проездом в Перемышль. Ему наконец разрешили постоянное жительство в Перемышле, где его ждала жена и где у них был свой дом.
В Перемышле Петра Михайловича к довершению всего начала трепать малярия. Все же какое-то время он преподавал в школе, но туберкулез и малярия соединенными усилиями одолели его, и он слег. Лежал сперва дома, потом в больнице. Однажды ему стало нечем дышать в палате, и он попросил, чтобы его вынесли на воздух. На вольном воздухе, под открытым небом, он и скончался. Было это в день объявления победы над фашистской Германией. Похоронили Петра Михайловича рядом с матерью.
…Его судьба увела меня вперед.
В газетах все то же да про то же.
В газетах от 20 декабря 37-го года сообщение о том, что 16 декабря в Верховном суде рассматривалось дело по обвинению в измене родине, террористической деятельности и систематическом шпионаже в пользу одного из иностранных государств бывшего секретаря ЦИК СССР Авеля Софроновича Енукидзе, на которого Сталин озлился за то, что он в своей книге по истории революционного движения в Закавказье не водрузил ему монумента, заместителя Наркоминдела Карахана и других. Всех подсудимых расстреляли, в том числе барона Штейгера – сексота, специализировавшегося на актерах и донесшего на Виктора Яльмаровича Армфельта, того самого Штейгера, которого впоследствии под именем барона Майгеля вывел Булгаков в «Мастере и Маргарите». Вспоминая в предыдущей главе Зубакина, я уже говорил о том, что в ежовщину заметали и тех, кто осведомлял, и тех, кого осведомляли. Да что там осведомители! В начале ежовщины замели Ягода, а кончилась ежовщина тем, что замели и самого Ежова.
Глеб часто и много пил, во хмелю был задирист, буен. Что-то его точило внутри, и, когда он пьянел, тревога и тоска из-за сущей безделицы выливалась в озлобление и выплескивалась на близких. А потом и попойки прекратились – не на что стало пить. Ни в Союзе писателей, ни в издательствах он не показывался. Видимо, ему хотелось, чтобы о нем забыли. Некоторое время он жил поделками: правил рукописи для затевавшихся в Архангельске альманахов.
– Их и столярный карандаш не возьмет, – говорил он об этих произведениях, в которых оставлял только имена собственные.
Архангельск не спешил с высылкой гонорара. Перед новым, тридцать седьмым, годом Глеб послал Попову телеграмму: «Встречаю Новый год без копейки желаю тебе того же».
Архангелогородская ежовщина отняла у Глеба и этот последний, более или менее случайный заработок. До ежовщины его библиотека год от году росла. Новые пополнения вытесняли менее нужные книги на застекленный балкон. Теперь стены балкона оголились, да и в кабинете на полках образовались прогалины.
После ареста Артема Веселого, Клычкова и Пильняка Глеб никого из писателей у себя не принимал. Но как братья-писатели откликались на гибель товарищей – об этом он знал из газет, да и слухи все же на Старую Башиловку долетали.
– На днях пьяный Олеша на весь «Националь» орал: «Пильняк – шпион четырех держав…» – говорил Глеб. – Замухрышка, сволочь, так его разэтак и растак! Все крутился вокруг Святополк-Мирского, чуть не каждый день пил за его счет.
– Эх, Николай! – сказал Глеб в один из зимних вечеров, которые мы с ним проводили вдвоем. – Проснуться бы завтра в Париже! Да не в Париже, а хотя бы в Загребе, где я обувь чистил, где я был беден, как церковная крыса, но зато так спокоен и счастлив!
– За каким же чертом, за каким рожном ты ехал сюда? – спросил я. – Живут же эмигранты – живут и пишут. Ты сам говорил, что Бунин достиг за границей титанического размаха – цитирую тебя дословно.
– Сравнил… мужской член с колокольней! Да и потом, Бунин вывез за границу огромный запас впечатлений. Этого запаса ему на всю жизнь хватит. А я попал за границу мальчишкой. Я бы очень скоро выдохся, исписался.
Но мечты о Загребе оставались мечтами, а действительность полнила его слух каждодневными вестями о чьей-нибудь гибели, чьем-нибудь предательстве, о чьем-нибудь злопыхательстве, о бегстве со своих постов наших посланников, – их вызывали в Москву, а они знали, чем это пахнет, – о вынужденном отречении жен и детей от заключенных детей и отцов, что обычно не спасало их от тюрьмы, от лагеря или от ссылки, о сказочном превращении двуногих существ в ищеек, в гончих, в борзых. И Глеб Алексеев написал повесть «Глухой Бетховен»…Глухота была для Бетховена благом: она накинула пелену на лязг, визг и скрежет, которым забивала ему уши постылая разноголосица жизни…
Но и в эту постылую стынь влюбленность в слово часто вспыхивала у Глеба.
Его обрадовал цикл «Из летних записок» Пастернака, напечатанный в десятом номере «Нового мира» за 36-й год. Жмурясь, как кот, которому чешут за ухом, он все повторял наизусть строки о Тициане Табидзе:
Он плотен, он шатен, Он смертен, и однако Таким, как он, Роден Изобразил Бальзака.Конец февраля 38-го года. Я приехал погостить к маме и тете Саше.
В Москве скоро начнется суд над Бухариным, Рыковым, бывшим заместителем Наркоминдела Раковским, бывшим заместителем Наркоминдела, а за год до суда (о чем сообщали газеты от 29/III 1937 г.) назначенным на должность заместителя Наркомюста, Крестинским, Наркомфином Гринько, Наркомвнешторгом Розенгольцем, Наркомземом Черновым, Наркомлеспромом Ивановым, над Ягода, над двумя азиатскими царьками, секретарем ЦК Узбекистана Икрамовым и председателем узбекистанского Совнаркома Файзулла Ходжаевым, над докторами Плетневым, Левиным и Казаковым, над секретарем Горького Крючковым… Ноев ковчег, только отправляющийся в плаванье с совершенно иной целью… Еще так недавно мы читали статьи Чернова и Гринько в «Правде»!
В разгар процесса Зиновьева и Каменева бывший столп советской дипломатии Раковский в газете оплевал с головы до ног Троцкого – того самого Троцкого, который посвятил свою книгу «Литература и революция» Раковскому, «другу, человеку, революционеру». Отречение от друга не спасло Раковского – его пристегнули к Бухаринско-Рыковскому процессу.
Я читаю вслух газетные отчеты…
Процедура та же, до ужаса знакомая. 28 февраля в газете напечатано сообщение «В прокуратуре Союза ССР»; привлекаются к судебной ответственности участники (pour changer[39]) «право-троцкистского блока». Передовая «Известий» от 1 марта, озаглавленная: «Наемники фашистских разведок», полна уже совсем беспардонного вранья: «Троцкий. Бухарин. Рыков. Эта черная троица всегда была единой». А кто же, как не Бухарин, вынес на себе почти всю тяжесть идейной борьбы с Троцким?
Развертывается уголовный роман. Участники блока убили Кирова, умертвили Куйбышева, Менжинского, Горького, Максима Пешкова, готовили покушение на Ежова.
Обвинение в терроре стало одним из штампов советского «правосудия». По тому, кого якобы собирались укокошить подсудимые, можно было догадаться, кто сейчас ближе всего к пирогу, В июне-июле 25-го года был на живую нитку сметан процесс трех немецких юношей, которых советская печать называла «немецкими фашистами». Одно из предъявленных им обвинений: они намеревались совершить ряд террористических актов, в первую очередь – «против тт. Сталина и Троцкого». В 27-м году в числе 20-ти был расстрелян Соломон Наумович Гуревич. Он, как сказано в приговоре, «пытался совершить террористические акты против тт. Бухарина, Рыкова и Сталина…»
И судьи все те же. Председательствует на суде над «антисоветским право-троцкистским блоком» Ульрих. Государственный обвинитель – Вышинский.
Но на сей раз не по нотам разыгрывается процесс – это чувствуется даже по выутюженному отчету, резко отличавшемуся от стенограммы.
На первом же утреннем заседании 2 марта Николай Николаевич Крестинский заявляет:
– Я троцкистом не был.
В его разговоре с Бессоновым «не было ни одного звука о троцкистских установках».
– …Я не входил в состав троцкистского центра, потому что я не был троцкистом.
– …Я был троцкистом до 1927 года.
– …я заявляю, что я не троцкист.
А на вечернем заседании 3 марта Крестинский заговорил по-другому:
– Вчера, под влиянием минутного острого чувства ложного стыда, вызванного обстановкой скамьи подсудимых, и тяжким впечатлением от оглашения обвинительного акта, усугубленным моим болезненным состоянием, я не в состоянии был сказать правду, не в состоянии был сказать, что я виновен.
……………………………………………………………………………………..
– Я прошу суд зафиксировать мое заявление, что я целиком и полностью признаю себя виновным по всем тягчайшим обвинениям, предъявленным лично ко мне, и признаю себя полностью ответственным за совершенные мною измену и предательство.
Чистая работа…
На том же заседании Алексей Иванович Рыков признался не только в том, что он «боролся… главным образом против политики партии в отношении к крестьянству», но и в том, что его блок «поставил своей задачей насильственное свержение советского строя путем измены и путем соглашения с фашистскими силами за границей».
Вышинский. На каких условиях?
Рыков. На условиях расчленения СССР, отторжения национальных республик.
В уголовный роман вплетаются все новые и новые сюжетные мотивы. Крестинский понесся вскачь. На вечернем заседании 4 марта он докладывает о том, что связь его и Троцкого с германским рейхсвером завязалась еще в 21-м году.
Сам собой напрашивается вопрос: что же, эти люди сидели по царским тюрьмам и томились в ссылке с мечтою о том, что едва они захватят власть, как тотчас примутся распродавать Россию иностранным державам? И куда же смотрел Ленин? Из кого же состояла верхушка его партии? Как же он, при всей своей «гениальности», дал себя окружить шпионами, террористами и диверсантами? А может, он и сам затеял Октябрьский переворот ради того, чтобы расчленить Россию?
Крестинский валит на мертвых: говорит о связи блока с «группой Тухачевского»; заодно приплетает и Рудзутака.
Теперь, когда «группа Тухачевского» реабилитирована, когда в честь «маршала Тухачевского» переименованы улицы, малый ребенок поймет, что все процессы тех лет – небылицы, представленные в лицах.
Смелее всех держится Николай Иванович Бухарин. Видимо, главным образом, из-за него, из-за его мужества так долго – около года – готовили этот спектакль.
На обработку Радека и Пятакова понадобилось вдвое меньше времени.
Даже если не знать бухаринского более или менее здравого и гуманного взгляда на крестьянский вопрос, даже если не вспомнить, что в 36-м году ни он, ни Рыков ради спасения своей шкуры не написали в газетах ни единого слова, чернящего их бывших товарищей по партии – Каменева и Зиновьева, нельзя не проникнуться к Бухарину состраданием. А ведь на него особенно лихо наскакивает Вышинский.
Вечернее заседание 5 марта.
На вопрос Вышинского о том, в чем заключалась связь Бухарина с австрийской полицией, Бухарин ответил так:
– Связь с австрийской полицией заключалась в том, что я сидел в крепости в Австрии.
И добавил:
– Я сидел в шведской тюрьме, дважды сидел в российской тюрьме, в германской тюрьме.
7 марта на вопрос Вышинского:
– …не угодно ли вам признаться перед советским судом, какой разведкой вы были завербованы – английской, германской или японской?
Бухарин ответил:
– Никакой.
Так перед советским судом не держался ни один участник «блоков».
Нет, не по нотам разыгрывается процесс. Неожиданно портит музыку доктор Казаков – пытается отрицать, что он умерщвлял Менжинского.
Вышинский не находит ничего лучшего, как попросить суд прервать заседание.
В уголовный роман вводятся эпизодические лица: находящийся в заключении свидетель против Бухарина эсер Камков; оглашаются заключения медиков, утверждающих, что Казаков своими «лизатами» мог отравить Менжинского.
Вышинский ни с кем из подсудимых не разговаривал в таком хамско-издевательском тоне, как с Бухариным. Он бросает ему: «…ваш дружок Рыков», Бухарин говорит о реставрации капитализма в России; Вышинский ввертывает: да, да, мол, расскажите, расскажите, это же ваша специальность. Бухарин ссылается на «Логику» Гегеля. Вышинский просит суд разъяснить Бухарину, что он не философ, а преступник.
Вышинский пышет злобой на Бухарина. Это отзвук Сталина, особенно люто ненавидевшего Бухарина, и это злоба самого Вышинского, который, как и Сталин, кусал себе локти оттого, что в 36-м году Бухарин сорвался с крючка, и которому теперь Бухарин нет-нет да и путает карты.
Им обоим нужно втоптать Бухарина в грязь как можно глубже. Многие еще помнят, что Ленин в «Письме к съезду» (1922 год) назвал Бухарина «ценнейшим и крупнейшим теоретиком партии», «любимцем всей партии». Многим еще памятно, что на XIV партсъезде (1925 год) Орджоникидзе, вызвав продолжительные аплодисменты сказал: «Бухарин один из лучших теоретиков, наш дорогой Бухарчик, мы все его любим и будем поддерживать». Многим еще памятно, что не кто иной, как Сталин, на том же съезде в заключительном слове сказал: «Чего, собственно, хотят от Бухарина? Они требуют крови тов. Бухарина. Именно этого требует тов. Зиновьев, заостряя вопрос… на Бухарине. Крови Бухарина требуете? Не дадим вам его крови, так и знайте». (Аплодисменты, крики: «Правильно!») Многим еще памятно, что не кто иной, как Сталин, на XV партконференции (1926 год) крикнул с места во время речи Бухарина, атаковавшего оппозиционеров: «Здорово, Бухарин, здорово. Не говорит» а режет». Вот почему надо во что бы то ни стало изобразить теперь Бухарина и шпионом, и убийцей Горького, и соучастником покушения на убийство Ленина, связанным в свое время с Каплан.
В обвинительной речи Вышинский называет Бухарина «проклятой помесью лисы и свиньи…» Он так зол, что ему бы только обругать. Об остроумии и меткости он не заботится. И он не может отказать себе в удовольствии лишний раз напомнить подсудимым, что их ожидает казнь:
– Могилы ненавистных изменников зарастут бурьяном и чертополохом…
А Бухарин в последнем слове снова отрицает свое участие в шпионаже.
– Какие доказательства? – спрашивает он. – Показания Ша-ранговича, о существовании которого я не слыхал до обвинительного заключения.
И далее:
– Я категорически отрицаю свою причастность к убийству Кирова, Менжинского, Куйбышева, Горького и Максима Пешкова.
И даже гораздо более слабый Рыков находит в себе силы, воспользовавшись предоставленным ему последним словом, не только не отречься от Бухарина, – напротив, подтвердить, что это близкий ему человек.
И еще Рыков сказал не обинуясь:
– …государственным обвинителем выдвинуто против меня обвинение… которое признать не могу. Это обвинение в вынесении решения или в даче директивы убийства Кирова, Менжинского, Горького, Пешкова.
…………………………………………………………………………………..
Я, во всяком случае, отрицаю свою виновность в участии в этих пяти убийствах.
Подсудимые осмелились публично хоть в чем-то не признаться! Мы таких последних слов давненько не слыхивали – с 28-го года, со времен «шахтинского» процесса.
И за всю историю советского суда ни один защитник с такой скорбью не говорил о своих подзащитных, с таким уважением – к их прежней деятельности, так не молил сохранить им жизнь, как Николай Васильевич Коммодов, защищавший Плетнева и Казакова. Сквозь ненависть к Ягода для внимательного взора проступала затаенная ненависть Коммодова к НКВД и к тому строю, который это учреждение породил.
Приговор был вынесен 13 марта в 4 часа утра. 15 марта газеты нас известили, что Президиум Верховного Совета отклонил ходатайство приговоренных к расстрелу о помиловании. В списке почему-то отсутствует фамилия Розенгольца. Почему он не подал прошения? Сознавал его бесполезность? Решил избавить себя от последнего унижения? Или удалось покончить с собой?..
И все-таки Сталин, Ежов и Вышинский на сей раз провалились с уже явственно различимым треском.
Все предыдущие процессы были шиты белыми нитками. Ах, какой ужас! На станции Шумиха троцкистские мерзавцы устроили крушение – погибло двадцать девять красноармейцев, а двадцать девять красноармейцев ранено!.. Да зачем же Пятакову и его однодельцам было устраивать крушения поездов с эшелонами красноармейцев, зачем они прибегали к булавочным уколам, когда первый заместитель Наркомтяжпрома Пятаков, фактический руководитель тяжелой промышленности, и первый заместитель Наркомпути, фактический хозяин на транспорте, имели полную возможность пустить под откос не эшелоны, а всю тяжелую промышленность и весь железнодорожный транспорт? Но люди легковерные, – а таких у нас большинство, – все глотали не разжевывая. Процесс Бухарина и Рыкова заставлял задуматься и легковерных, – тех, у кого головы были еще не окончательно заморочены.
Я привез с собой в Перемышль драгоценность: мне дали почитать парижское издание «Жизни Арсеньева». И мы перемежали чтение газет с чтением бунинского романа. Это было для нас открытие дотоле неведомого Бунина. Это было для нас до боли отрадное отдохновение. И мы задавали друг другу щемивший нам сердце вопрос, оставленный Буниным без ответа: отчего же все-таки погибла Россия в такой волшебно короткий срок?..
…Из Перемышля – в Москву. В Москве – кратковременная остановка.
Зимним солнечным днем я выехал из Москвы к теткам в Новинку. В Малоярославце на перроне меня поджидал дворник Новинской больницы здоровенный малый лет двадцати пяти Вася Якушин.
Тетки прислали мне бурку и полость, да и день стоял теплый, так что ехать на санях, на горке из сена, которого не пожалел для меня Вася, было одно удовольствие. Вася занимал меня рассказами о своих ратных подвигах:
– …и добро бы что важное, а то ведь началось с пустяков. Тут – его дом, насупротив – моего дяди. Встретились в промежности. «Закурить, – вспрашиваю, – есть?» – «Есть, да не про вашу честь». С этого все и пошло. Дальше – больше. Послал он меня к ядрене Матрене – и локтем в грудь. Ну уж тут я размахнулся, – я-то ведь не карандух, а он низменного росточку, от горшка два вершка, – и кэ-эк дам ему по сопатке, да по мусалам! Он – бряк! Пока он за землю держался, я от него за версту убег. Так это у меня удачно получилось, Николай Михайлович!
– …он было на мене, я скорей в сторону, и доску ему прямо под ноги кинул. Он – кувырк! – А я его успитками, успитками! Так это у меня удачно получилось, Николай Михайлович!
Стало по-зимнему быстро темнеть. В открытом поле лицо мне опахнул ветер. Повалил снег – все плотнее, гуще, непрогляднее. По дороге извивались змеи поземки. Зимние сумерки слились с метельною мглой.
Вася уже не повествовал о своих удачах на ратном поприще. Мы оба примолкли.
Ветер то налетит и со свистом хлестнет по лицу белою пылью, колючей и жгучей, то отпрянет и вновь завьет снеговороты, завоет, загикает, заголосит. Еще немного – и бешеный этот крутень заволок даль, заволок близь, заволок высь.
В лесу натиск вихрей ослаб, но справа и слева голые громады деревьев обозначаются смутно и грозно, и реву метели вторит стенящий их гуд.
А как выехали из лесу в поле – опять закурила и понеслась метельная круговерть, и не стало видно зги Божией. Буря ярилась, лютовала, заливалась на сто ладов. И чего-чего только ни различая напряженный слух в пурговом завыванье: и стоны, и вопли, и порсканье, и хохот злорадный, и хохот безумный, и рыданья, и погребальный напев. И казалось мне, что мы все взбираемся на высокую белую стену…
Добрый конь не сбился с дороги. Вот слева блеснули огни – значит, это больничные корпуса. И вот мы на больничном дворе. В окне у теток заметался свет керосиновой лампы и проплыл из столовой в коридор, осветив входную стеклянную дверь: это Аничка бросилась мне отворять. Кое-как отряхнулся на крыльце, в коридоре скинул шапку-ушанку, бурку, пальто. Аничка мне светит, раздеваться помогает Гынга. Повизгивает сдержанный в проявлениях радостных чувств приятель мой Нурка.
Вхожу в столовую.
– Непременно выпей рюмашечку! – настаивает Гынга. – Небось, замерз! Вот и твои любимые маринованные грибочки, вот рыжики солененькие… Что ж ты сала не берешь? А уж мы-то заждались! Думали – заблудились вы с Васей. Ну, слава Тебе, Господи!
И вот уже по щучьему веленью фырчит самовар в три обхвата. Опрокидон, преизобильный закусон, чай с пирогами – и блаженное, непродуваемое тепло постели.
В глазах все еще вихревые извивы, в ушах все еще вьюжные взвывы, но это отраженье минувшего… К завтраму распогодится… А когда же, – думается мне сквозь сон, – когда же стихнет буран, беснующийся над сирой Россией?..
…………………………………………………………………………………..
Утром я узнал об аресте крестьянина из недальней деревни. В 20-х годах он был председателем сельсовета, а в его чистой и просторной избе останавливался любивший поохотиться в здешних лесах Наркомвоенмор Троцкий…
Весной я позвонил Глебу и приехал к нему. Было тепло, он отворил балкон и предложил попить там чайку. Сказал, что недавно был на похоронах Пантелеймона Романова:
– Зря он потом на модные «вопросы пола» перешел. А вообще талантливый был писатель. И даже очень. В его рассказах бьется чеховская жилка. И уже забыт. Обидно забыт… Похороны были грустные. Пришли Владимир Лидин, я, еще два-три человека…
Последнее время не слышно было, чтобы в Москве хватали писателей, критиков, публицистов. И так уже лес засквозил. Сели рабочие поэты Михаил Герасимов и Владимир Кириллов. Сел крестьянский поэт Петр Орешин. Расстреляли Павла Васильева (в «Известиях» от 15 июля 37-го года он был назван террористом). В Ленинграде расстреляли Бориса Корнилова. Сел токарь по профессии Георгий Никифоров, автор нашумевшего романа «У фонаря». Расстрелян, как шпион, бывший генеральный секретарь РАПП Авербах. Арестованы рапповцы Алексей Селивановский, Екатерина Трощенко, Иван Макарьев. Арестованы ленинградские критики Павел Медведев, Иннокентий Оксенов, Добин, Горелов, Бескина, Штейнман. Арестована Елена Михайловна Тагер. Арестован старик Переверзев. Арестован недавно вернувшийся из эмиграции и уже напечатавшийся в «Правде» сменовеховец Устрялов – попал в западню. Арестован редактор «Нового мира» Гронский (этого-то болвана за что?). Арестован поэт-акмеист Владимир Нарбут. Арестован один из фаворитов Горького сибирский писатель Зазубрин. Арестован писатель Тарасов-Родионов, жандармский офицер, член большевистской партии с 1905 года, один из главных участников самосуда над генералом Духониным. (Уже после ежовщины мы с Богословским дали общее название библиографическим справочникам о советских писателях: «Умер – сидит»).
– Что же, Глеб, – сказал я, – надо надеяться, миновала тебя чаша сия?
– Как будто бы да, – ответил он. – Я уже начал спать по ночам. Но аресты идут. Эйхе сел.
– То есть как сел?
– Как сел? Очень просто. Как все садятся, так и он.
– Но ведь Эйхе – это же «сибирский Сталин», как его называли! Муралов признался на суде, что он одобрил план покушения на Эйхе, выработанный томской террористической группировкой на случай приезда Эйхе в Томск. И совсем недавно его назначили Наркомземом[40].
– Ну, а теперь выяснилось, что Эйхе – латвийский шпион.
– Вот тебе и «сибирский Сталин»!.. Что же это?.. «Своя своих не познаша»?.. Или – или «куча мала»?..
И невольно кривила губы усмешка, но то была усмешка безумия…
На Страстной неделе я приехал в Перемышль, чтобы провести с родными Пасху.
Мамы не было дома. В передней меня встретила тетя Саша. Мне она словно бы не обрадовалась. Как-то рассеянно поздоровалась и, не дав мне раздеться или хотя бы скинуть с плеч тяжеленный рюкзак, засыпала меня градом перемышльских событий:
– Ты знаешь, что у нас тут творится? Сначала арестовали Владимира Петровича Попова, потом в одну ночь схватили Соню, Анну Николаевну, отца Ивана Никольского, Владимира Федоровича Большакова, Алексея Ивановича Георгиевского, начальника почты Вишневецкого, Дору Михайловну Паульсон с мужем, Николаева, братьев Прокуратовых, Тарасова, Петра Евдокимовича Меньшова, Аудора, на другой день привезли из деревни Гришу Будилина…
Тогдашний глава правительства Молотов в одной из своих речей. (кажется – предвыборной) велел нам в преддверии возможной войны потуже подтянуть пояса. «Молотов намолотил», – говорили мужички, выходя с пустыми руками из пустых перемышльских лавок. Собираясь в Перемышль, я доверху набивал рюкзак чаем, сахаром и всякой снедью. Сейчас я не чувствовал тяжести моего рюкзака. Я продолжал стоять в передней и пытался найти объяснение происшедшему.
…Ну да, это вторая «предвыборная кампания» – ведь в июне выборы в Верховный Совет РСФСР. Будилина взяли, наверно, за то, что в гражданскую войну служил с Уборевичем, о чем он так некстати год назад развоспоминался. О. Иоанна – просто как священника. Заведующую детским садом Паульсон – вероятно, только за то, что она неосмотрительно сохранила фамилию первого мужа. Ее второй муж, Сергей Иванович Соколов, – ветеринарный врач, сын священника. Ну, значит, «по заданию какой-нибудь иностранной разведки отравлял колхозный скот». Аудора, или, как его называли перемышляне, «Автодора», – за нерусскую фамилию. Анну Николаевну Брейтфус – тоже, вероятно, за фамилию, хотя какая же она немка? Она родилась и выросла в Перемышле. Ее отец, Николай Карлович, письмоводитель при перемышльском уездном предводителе дворянства, был уже не лютеранином, а православным. Вишневецкий – хоть и коммунист, а поляк, даже говорит с акцентом. Ну, а других-то за что? За что арестовали полуслепого учителя-пенсионера Алексея Ивановича Георгиевского?
В 36 – 39-м годах в Испании шла война.
Встретились два советских гражданина.
– Слыхали? Теруэль взят.
– А кто такой Теруэль?
– Город.
– Что? Уже стали целыми городами брать?..
Как выяснилось потом, мои предположительные «обоснования арестов» были правильны.
Перемышльского доктора Николая Николаевича Добромыслова иногда вызывали к заключенным, которых теперь возили с комфортом на грузовиках не в Лихвинскую, а в Калужскую тюрьму, и он делал все от него зависящее, чтобы участь их облегчить. Он горевал, что его не сажают.
– Сколько порядочных лю-удей-то посадили, а я что же, выходит, па-а-длец? – сокрушенно заикался он, поглаживая свои точно йодом намазанные усы.
В шестом, июньском номере «Нового мира» за 37-й год я прочел в стихотворении Павла Антокольского «Родина» такие строчки:
Это ты, Страна моя, краса моя, Яростная праведница века, Самая отважная и самая Крепкая охрана человека!А земные боги и верховные их жрецы все падали и падали, падали простые и непростые смертные, и очередность их низвержения в тюремные бездны уже не откладывалась в памяти.
Я не помню, когда именно я узнал об аресте Чубаря, об аресте Постышева, об аресте первого Секретаря ЦК Украины Станислава Викентьевича Коссиора, об аресте заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК Стецкого, об аресте верхушки ЦК комсомола, в частности Косарева, успевшего произнести речь на первой сессии Верховного Совета РСФСР, куда он был избран, о самоубийстве Предсовнаркома Украины Любченко, об аресте Крыленко, бывшего верховного главнокомандующего, бывшего «прокурора пролетарской революции», как назвала его «Правда», когда шел процесс меньшевиков, обвинявшего в 28-м году, на первом процессе «вредителей», инженеров-«шахтинцев», в 30-м году – на процессе Рамзина, в 31-м году – на процессе меньшевиков, впоследствии Народного Комиссара Юстиции, об аресте директора Художественного театра Аркадьина, об аресте Заболоцкого, которого, как ни странно, посадили вскоре после того, как он напечатал верноподданническую «Горийскую симфонию», об аресте бывшего первого заместителя председателя ОГПУ, бывшего верховного прокурора, бывшего секретаря ЦИК СССР Ивана Алексеевича Акулова (сначала его убрали из ЦИК’а «по болезни» 9 июля 37-го года), об аресте московского адвоката, министра юстиции при Временном правительстве Павла Николаевича Малянтовича, об аресте фельетонистов Зорича и Сосновского, об аресте артиста Художественного театра Юрия Кольцова, об аресте писателя-коммуниста, редактора издательства «Советский писатель», Александра Никаноровича Зуева, в гражданскую войну распропагандировавшего целую белогвардейскую часть и приведшего ее в расположение Красной Армии, отсидевшего после ареста в лагере и в сибирской ссылке двадцать лет, об аресте бывшего московского губернатора Джунковского, которого до той поры не трогали – за него заступался добрая душа-Москвин, об аресте вдовы поэта Лидии Густавовны Багрицкой, об аресте авиаконструктора Туполева, об аресте поэта-футуриста, мемуариста и переводчика Бенедикта Лившица, об аресте директора Ленинской публичной библиотеки Невского, об аресте оруженосца Бориса Савинкова – Дикгофа-Деренталя» в 24-м году вместе с ним нелегально перешедшего границу, вместе с ним судившегося, отсидевшего десять лет, выпущенного, а в ежовщину засаженного вновь, об аресте поэта Наседкина, зятя Есенина, мужа его сестры Кати, о высылке из Москвы сестры Есенина – Екатерины Александровны, об аресте ученика Есенина – поэта Ивана Приблудного, об аресте ответственного редактора «Интернациональной литературы» Сергея Сергеевича Динамова, об аресте председателя ВОКС (Всесоюзного общества культурной связи с заграницей) писателя-коммуниста Аросева, об аресте бывшего и лучшего редактора «Литературной газеты» Болотникова, об аресте начальника политуправления Главсевморпути Бергавинова, об аресте и убийстве в кабинете следователя Тициана Табидзе, о самоубийстве Паоло Яшвили, об аресте Егише Чаренца, об аресте академика Вавилова, об аресте главного режиссера Центрального детского театра Наталии Сац, об аресте крупнейших московских докторов-гомеопатов Постникова и Грузинова, о вторичном аресте сосланных в Томск философа Густава Густавовича Шпета и филолога Михаила Александровича Петровского, о вторичном аресте Иванова-Разумника, после саратовской ссылки проживавшего в Кашире, об аресте «вовремя», к самой ежовщине, как и Устрялов, вернувшегося из эмиграции писателя Анатолия Каменского, об аресте ленинградского пушкиниста Оксмана, об аресте ленинградского испаниста Выгодского.
А трубы и фанфары гремят…
Прочтешь какую-нибудь этакую оду и задумаешься: я ли сошел с ума, одописец ли тронулся и все, что творится вокруг него, рисуется ему в Клод-Лорреновском свете Золотого века? Кто он: льстец, каких испокон веку не было ни у одного султана, ни у одного богдыхана, или же хитрая бестия, издевающаяся над тем, кому она кадит?..
И набегали одна за другой крамольные мысли о «самом родном».
Он дорезал «недорезанных буржуев», вновь закрепостил крестьян, выкосил бывших кадетов, меньшевиков и эсеров, уничтожил «ленинскую гвардию». Но ведь теперь он уж добрался до тех, кто выдвигал его и кого выдвигал он. Это же все «его люди»: Ягода и иже с ним, Коссиор, Постышев, Стецкий, братья Межлауки, Яковлев, Косарев, Эйхе, Владимир Иванов, Птуха, Гринько… Значит, он тоже, как в свое время «Ильич», недобдил? Хорош, нечего оказать, бдила! Так как же он смеет других обвинять в притуплении бдительности? Или это и впрямь любимая его игра – «куча мала», которую он продолжает сейчас на предмет истребления всего, что способно хоть в чем-нибудь ему поперечить, всего мало-мальски заметного, всего, что хоть чуть-чуть возвышается над уровнем посредственности, всего сколько-нибудь своеобразного, своеобразного хотя бы и в подлости, чтобы его лучше было видно среди Молотовых, Андреевых, Ждановых, Ворошиловых и Хрущевых, как виден среди сыпи чирей? И к тому же еще мания преследования, неврасцеп с манией величия час от часу растущая в нем?.. И к тому же страх перед теми, кто слишком много о нем знает и, неровен час, может распустить язык?..
Я позвонил Глебу. Никто не подошел к телефону. Я стал названивать ежедневно. Телефон работал, но никто не брал трубку. Тогда это было недобрым знаком. Если до человека несколько дней не могли дозвониться, то делали соответствующий вывод. Чаще всего предположения оправдывались, но иногда это давало пищу и ложным слухам. Москва уже заговорила об аресте Валентина Катаева только потому, что Катаеву без конца звонили из «Интернациональной литературы», а он в это время находился под сенью переделкинских струй.
У меня не сжималось сердце от предчувствия. Я решил, что все-таки, наверно, у Глеба испорчен телефон, или же Глеб с Надеждой Ивановной куда-нибудь укатили. Поехал на Башиловку. Во дворе меня встретила Надежда Ивановна.
…Глеб арестован. Его кабинет опечатан. Оттого-то и молчал телефон.
Ночью к ним позвонили. Глеб спросил: «Кто там?» Послышался голос управдомши, той самой, что часто бывала у Алексеевых, играла у них в карты, ужинала, пила чай:
– Отворите, пожалуйста, Глеб Васильевич.
Глеб отпер дверь. Управдомша ввела наркомвнудельцев, и те предъявили ордер на обыск и на арест Глеба. На лице у управдомши было написано: «Вы уж меня простите. Я человек подневольный».
Пока производили обыск, Глеб сидел молча и дрожал всем телом. Это был уже не человек» а воплощение отчаянья и страха. Когда ему велели идти во двор, где его ждала машина, он сказал жене:
– Надежда! Похлопочи за меня!
И поцеловал спящего Никиту:
– Ну, прощай, Никита, безотцовщина!
То были последние слова, сказанные им на свободе.
Глеб Васильевич, как и его друг Борис Пильняк, никого за собой не потянул. Это явный признак благородства» с каким оба держали себя на допросах. «Дело» Глеба Алексеева длилось все лето. В конце лета, незадолго до отстранения Ежова, Надежде Ивановне сказали на Лубянке, что ее муж приговорен к заключению на 10 лет без права переписки и с конфискацией ему лично принадлежавшего имущества. На Башиловку явились двое, мужчина и женщина, с «подсобной рабочей силой». Распечатали кабинет, вытащили оттуда все до последней нитки и увезли. Женщина позарилась на лучшие игрушки и» несмотря на плач Никиты» отобрала их. Кабинет заняла по ордеру сотрудница НКВД.
Потом мне говорили, что на Лубянке Глеб Алексеев сошел с ума. Обращаясь к товарищам по камере, он без конца повторял одно и то же:
– Я писатель Глеб Алексеев. Следователь напускает на меня флюиды, чтобы я все забыл. Но я не забыл, Я писатель, Глеб Алексеев. Я могу это доказать, у меня много книг…
И хватался за голову.
…Мы с женой подумывали, где бы провести ее отпуск. Кто-то порекомендовал Тарусу. Щепкина-Куперник дала мне туда письмо к Надежде Александровне Смирновой. Я поехал снимать дачу.
И всюду страсти роковые, И от судеб защиты нет.Лучшего тарусского врача Людмилу Ивановну Добротворскую подкараулили на пристани и, как только она, куда-то на время уезжавшая, сошла с катера, повели в НКВД, откуда она уже домой не вернулась.
Когда я делился с Глебом нашими летними планами, он вызвался дать мне письмо к тарусскому дачевладельцу, московскому писателю, крестьянину по происхождению, рабочему по дореволюционному роду занятий, коммунисту по партийной принадлежности Ивану Михайловичу Касаткину.
– Мы с ним в добрых отношениях, – сказал Глеб. – Он всех там знает, подыщет тебе хорошую дачу, а то и у себя поместит.
Стоявшая над оврагом касаткинская дача пустовала. Хозяин был арестован.
Приятельница Надежды Александровны Софья Владимировна Герье пошла со мной искать дачу. Прежде всего привела меня к некой Кате Дикс. Катя Дикс дачу уже сдала, но из разговора с ней я выяснил, что ее муж сидит. Это был пленный австриец, подобно многим пленным, осевший в России и женившийся на русской. Со времен мировой войны он постоянно жил в Тарусе. По образованию он был агроном. В Тарусе его ценили как «спеца». Арестовали его по обвинению в шпионаже в пользу Германии. Оставалось все же непонятным: что делать шпиону в таком крупном индустриальном центре, как Таруса, которую, по преданию, искал-искал, да так и не нашел Наполеон, где не было ни одного военного объекта, где не было ни одного промышленного предприятия, если не считать вышивальной мастерской, откуда до ближайшей железнодорожной станции – «Тарусская» – насчитывается восемнадцать верст?..
На первомайском торжественном заседании начальник Тарусского отделения НКВД похвалился, что его отделение перевыполнило план.
Перед отпуском жены я съездил в Перемышль. Мои частые поездки к матери и тетке вызывались не только тоскою по ним, но и необходимостью снабжать их продуктами.
…Душная летняя ночь, «и бысть тоя нощи велия теплота и тихость». Все окна в нашей единственной комнате, – и на улицу, и во двор, – распахнуты. Калитка у нас на ночь не запиралась. Мама спит. Под подушкой у нее узелок с вещами на случай, если придут. Мы с тетей Сашей лежа почитываем. Брякает щеколда. Мы с тетей Сашей как по команде поворачиваем головы, смотрим друг на друга и превращаемся в слух. Я вижу помертвевшее ее лицо и чувствую, как мертвеет лицо у меня. В тишине мне слышен частый стук моего сердца… Кажется, еще немного – и оно не вынесет пытки тишиной… И вдруг за окном игривый смешок, шаги, калитка затворяется. Это парочка нашла себе у нас за воротами подходящее место для укромных ласк. Ах, чтоб ее намочило да не высушило!.. И что поймет во всей этой сцене какой-нибудь иностранец?..
Незадолго до моего приезда в Перемышль маму приглашали в НКВД. Допрашивали по делу бывшей ее сослуживицы, учительницы перемышльской средней школы Анны Николаевны Брейтфус, и требовали, чтобы она подписала, что Анна Николаевна вела в ее присутствии антисоветские разговоры, возмущалась казнями врагов народа.
Николай Аркадьевич Болдарев (1826 г. р.) – прадед H. М. Любимова. Сын генерала Аркадия Африкановича Болдарева. Полковник кавалергард, рязанский губернатор, действительный статский советник. Орден св. Владимира II степени и св. Александра Невского, женат (с 1849 г.) на графине Александре Александровне Гендриковой.
Анна Александровна Болдарева (1830 – 29 августа 1886 г.) – прабабушка H. М. Любимова, дочь графа Александра Ивановича Гендрикова, действительного статского советника, шталмейстера и княжны Прасковьи Александровны Хилковой. Свитная фрейлина, пользовавшаяся особой любовью Императрицы Александры Федоровны, заменившей сироте родную мать
Александра Николаевна Болдарева (9 января 1850 г. – 28 августа 1904 г.) – бабушка H. М. Любимова. Крестница императора Александра II
Анна Яковлевна Любимова – бабушка H. М. Любимова – дочь псаломщика и племянница священника. Фото М. М. Любимова, отца H. М. Любимова
A. M. Кормилицына и E. M. Любимова – тетка и мать H. М. Любимова
Александра Михайловна Кормилицына – «тетя Саша»
E. M. и M. M. Любимовы – родители H. M. Любимова
Михаил Михайлович Любимов – отец H. М. Любимова
М. М. Любимов – отец H. М. Любимова
М. М. Любимов – отец H. М. Любимова
Перемышль. Городское кладбище. Могила М. М. Любимова (1880–1914)
Перемышль. Двор квартиры Любимовых на Фроловской улице. Взрослые – мать, бабушка и тетя Дуня. В салазках Коля Любимов
E. M. Любимова с сыном
Е. М. Любимова и няня Коли (т. 1) в столовой. Фото М. М. Любимова
Коля Любимов
Коля Любимов
Коля Любимов
Перемышль. Под окном спальни. Слева первые четверо – «Гынга», Коля, E. М. Любимова и тетя Аня (т. 1)
Митрофорный протоиерей отец Владимир Будилин. Настоятель Перемышльского Успенского собора. Много лет был благочинным, председателем училищного совета, членом совета Калужской Духовной Семинарии. Погребен у Никольской церкви города Перемышль. Могила при взрыве здания Церкви в 1942 г. засыпана щебнем (т. 1)
Члены театрального общества (т. 1). Среди стоящих слева: первый – М. М. Любимов (секретарь); третья – А. М. Любимова; четвертая – E. М. Любимова; двенадцатая и тринадцатая – С. М. Любимова и Евдокия М. Любимова (т. 1). Замыкающий ряд – Сорокин, один из учредителей общества, погиб во время японской войны, на которую пошел добровольцем
Учителя, получившие ордена в Кремле, в Москве. В верхнем ряду четвертая слева – Анна Михайловна Любимова
Елизавета Александровна Орлова (1889–1987) – тетя Лиля, мать «подельника» H. М. Любимова Володи (т. 2). Фото 12 января 1915 г., Москва
Сидят первый слева – П. М. Лебедев, вторая – Евдокия Михайловна Любимова, стоит вторая слева Софья Михайловна Любимова
Слева направо – тетя Аня, тетя Дуня, бабушка, неизвестная женщина, тетя Юня, тетя Соня и собачка Любимка (т. 1)
Тетки H. М. Любимова в августе 1939 г.
Тетки Н. М. Любимова. 1951 г.
Друг детства, отрочества и юности H. М. Любимова Ю. Н. Богданов, «Юра» (т. 1 и 2). На обороте фотографии надпись: «Моим лучшим, искренним друзьям Коле, Маргарите, Лёле и Боре на память. Ю. Богданов. 4 ноября 1955 года»
Н. Любимов и Е. М. Любимова
Н. и E. M. Любимовы. На обороте надпись: «На память о той материнской любви, которую проносила со дня рождения, проношу теперь и пронесу вечно. Какова эта любовь, я думаю, тебе известно… Твоя мама. 19 декабря 1938 года» – день Ангела H. М. Любимова
Н. и E. M. Любимовы. Июль 1930 г.
E. M. Любимова. Калуга, октябрь 1955 г.
Перемышль. Никитская (Сошественская Церковь) и пожарная каланча. В 1961 г. колокольни не было, а на месте часовни – памятник Ленину
Перемышль. Бульвар (т. 1)
Перемышль. Разлив Оки. Апрель 1908 г. Фото М. М. Любимова
Перемышль. 1908 год – год самого большого разлива Оки. Улица, на которой прошло раннее детство H. М. Любимова
Перемышль. Школа, в которой учился H. М. Любимов. Стоят – тетя Аня и тетя Соня. Фото М. М. Любимова
Перемышль. 1906 г. На заднем плане С. М. Любимова. Фото М. М. Любимова
Перемышль. 1908 г. Старый городской бульвар, вырубленный в 1960 г. Фото М. М. Любимова
Будущий «подельник» H. М. Любимова Володя Орлов. 9 мая 1917 г. (1 год и 3 месяца)
Володя Орлов через пять лет после ареста. Лето 1938 г.
На переднем плане тетя Лиля. 1909 г.
Тетя Лиля. 1959 г.
Врач-психиатр Николай Васильевич Зеленин, внук М. Н. Ермоловой, крестный отец H. М. Любимова
Актриса Малого театра Н. А. Смирнова (т. 2)
Старшая дочь H. М. Любимова E. Н. Любимова (12 октября 1941 г. – 29 ноября 2001 г.). Май 1950 г.
– Какие бы меры вы ко мне не применили, вам не удастся заставить меня лгать и оговаривать мою давнюю сослуживицу и хорошую знакомую, – отрезала мама.
– Вы что же, намекаете на то, что мы применяем пытки? – спросил следователь Сак лаков.
– Повторяю: никакими средствами вы не заставите меня лгать, – отчеканила мама.
На этом собеседование закончилось.
В Тарусе лето 38-го года проводили Маргарита Николаевна и Татьяна Львовна. Приехавший к ним из-под Пскова Николай Васильевич привез московскую весть об аресте Михаила Соломоновича Фельдштейна.
Осенью приехала в Москву моя мать.
Калужский поезд прибывал невесть как рано. Я встретил ее под стеклянной крышей перрона Брянского вокзала. Мы пошли с ней пить чай в ресторан. Она всегда просила официантов приносить ей кипятку и в стакан с кипятком сыпала щепотку своего чаю. Ресторанной и буфетной бурды она не выносила.
Я смотрел на нее и думал: «Сейчас она примется расспрашивать меня о московских друзьях и, конечно, спросит о Михаиле Соломоновиче». Я решился, не дожидаясь ее вопроса, нанести ей еще один из тех ударов, какие сыпались на нее в этом году.
У нее мелко задрожала в руке чайная ложка, и слезы закапали в чай.
– Почти всех отняли… – заговорила она. – Дмитрия Михайловича, Петра Михайловича, Анну Николаевну, Глебушку… Теперь и Михаила Соломоновича никогда больше не увижу… Как же жить? Как же жить?
Я смотрел на мать, не в силах утешить ее, а перед мысленным моим взглядом стоял красавец Фельдштейн, похожий на постаревшего Шиллера, с неизменной трубкой в зубах, кокетливо склонявший свою голову направо, улыбавшийся голубыми глазам и встряхивавший шапкой желто-седых волос.
Он был сыном маленькой писательницы Рашели Мироновны Хин, пьесы которой шли, однако, в Малом театре[41]. В комнате у Фельдштейнов висел портрет Тургенева с дарственной надписью Рашели Мироновне.
Друзья говорили о Михаиле Соломоновиче так:
– Господь Бог решил сделать Мише гадость – и создал женщину.
Михаил Соломонович был действительно влюбчив, но и в него нельзя было не влюбиться – так он был красив, а главное – пленителен, благожелателен, остроумен. К иронии он прибегал как к самозащите от сложностей своей личной жизни, от боли за то, во что превратилась Россия, и насмешка зажигала в его глазах мгновенный почти демонический блеск.
Одно из газетных сообщений он в разгар ежовщины комментировал так:
– Я сегодня прочел в газетах, что создана антикоминтерновская ось: Берлин – Рим… Но ведь мы же теперь знаем, что все деятели Коминтерна, включая главных: Зиновьева, Радека – шпионы. Так что организовывать борьбу с Коминтерном – это со стороны Гитлера и Муссолини проявление черной неблагодарности.
Михаил Соломонович оставил жену, Еву Адольфовну, и двух дочерей ради Веры Яковлевны Эфрон, сестры мужа Марины Цветаевой, (Стихотворение Цветаевой «Я сейчас лежу ничком…» обращено к Фельдштейну). Но он каждый вечер бывал у Евы Адольфовны, и, прощаясь с ним, она всегда бросала на него беглый страдальческий взгляд. Он с изящной почтительностью врожденного шармера целовал ей руку и, выпрямившись, встряхивал шевелюрой. Злые языки утверждали, что утренний чай он пьет дома, ужинает у первой жены, обедает у дамы сердца.
Михаил Соломонович хорошо знал иностранные языки» переводил для «Academia» Макиавелли. Служил он в Ленинской библиотеке. Но гораздо больше времени у него отнимала безвозмездная работа юрисконсульта в Обществе помощи политзаключенным.
Ева Адольфовна, еврейка, перешедшая в лютеранство, увлеклась антропософией и на этой почве сблизилась с Андреем Белым. Михаил Соломонович то ли был крещен в детстве, то ли перешел в православие – не помню. Знаю только, что он тоже принадлежал к ближайшему окружению Белого. Антисемит Белый, как большинство русских интеллигентов-антисемитов, делал ряд исключений, в том числе и для Евы Адольфовны, и для Михаила Соломоновича.
– Как-то, вспоминая свою жизнь, Михаил Соломонович с невеселой улыбкой сказал:
– В двадцатом году я сидел в Чека по делу «Тактического центра». Мой следователь Агранов был со мной вежлив. Я мог бы предъявить ему только одну претензию: когда я говорил ему, что не был там-то и не виделся с тем-то, он в протоколе опускал эти незначительные частички. Вот тут между нами возникали споры. Тогда меня выцарапал Винавер – у него были большие связи. Потом меня собирались выслать за границу вместе с Айхенвальдом и Бердяевым. Тут меня отстоял Бухарин… вот только не знаю – на счастье или на беду?..
…Михаила Соломоновича судили после отставки Ежова, в начале 39-го года, и тем не менее он был лишен «права переписки».
…На вокзале моя мать после долгого раздумья вдруг посветлела.
… – Нет, есть путь и в этой жизни, – сказала она, – но только один: ничего не пожалеть, даже жизни, ради страждущих близких. Помнишь, как в Евангелии сказано? «Волыни сея любвё никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя».
…На следующий день мы с матерью поехали навестить дядю Колю.
Перед самым моим отъездом в Тарусу он позвонил мне по телефону и сказал, что непременно приедет к нам на недельку, что ему так хочется «отдохнуть душой…»
Отдохнуть он так и не приехал. Я подумал, что его задержали домашние обстоятельства. Дело объяснялось для той полосы русской жизни гораздо проще: шестидесятилетнего старика схватили. Первый раз его взяли в 21-м году. Тогда моя мать обратилась к Михаилу Ивановичу Калинину. Калинин и сам нажал на Чрезвычайку, и матери моей дал ценные советы, что можно предпринять для скорейшего освобождения брата. Дядя Коля просидел несколько месяцев и был освобожден «в чистую». А что теперь может сделать «всесоюзный староста», вся деятельность которого сведена к бесконечной раздаче блямб и к скреплению своей подписью подкладываемых ему указов?..
Дядя досидел до отставки Ежова. Его выслали в Кустанай. Во время войны он попал в богадельню и там скончался – видимо, от недоедания.
…Осенью 38-го года Сталин сменил одного князя-кесаря на другого:
Верю я Лаврентию Берия, А Ежу Покажу!..Мы узнали из газет об освобождении тов. Ежова Николая Ивановича от обязанностей Народного Комиссара Внутренних Дел и о назначении Народным Комиссаром Внутренних Дел тов. Берия Лаврентия Павловича.
Побежали слухи: массовые аресты прекращены, дела будут пересматриваться, подследственных будут судить в их присутствии, с прениями сторон.
Почти никого из тех, кого успели упрятать в концлагеря, не вернули. Петр Михайлович подал заявление о пересмотре дела – ему отказали. Тех же, кто дотомился до того дня, когда батырь перестал быть любимым сталинским наркомом, когда ежовые рукавицы были сняты (впрочем, только для того, чтобы очень скоро взять страну в рукавицы не менее жесткие), стали выпускать, – разумеется, далеко не всех, – кого по суду, кого без суда.
Первым из перемышлян выпустили священника Ивана Николаевича Никольского.
Он давно жил бобылем, отдельно от жены и дочерей, чтобы не бросать на них тень от своей рясы. Как-то я отвез жившим в Москве дочерям о. Иоанна от него посылку. Дочери говорили мне, как болит у них душа за отца: ведь в любую минуту его могут схватить. Просили меня повлиять на него, чтобы он оставил церковь. Я сказал, что, насколько я знаю батюшку, всякие попытки повлиять на него бесполезны: от церкви его не оторвешь…
О. Иоанн приходился нам дальним-дальним родственником: он был двоюродный брат моей бабушки, матери отца. К нам он изредка заходил, говорили мы с ним по душам, лукавить со мной и моими родными у него причин не было. Более убежденно лояльного по отношению к Советской власти священника я за всю свою жизнь не видал. «Несть бо власть, аще не от Бога», – это была для него не пропись, а живая истина. Я возмущался разгоном монастырей. О. Иоанн возражал мне, что черное духовенство выродилось, что с течением времен былых подвижников, печальников, просветителей, летописцев, ратоборцев, миротворцев сменили толстопузые тунеядцы, которых перед революцией развелось видимо-невидимо, и разгон монастырей – это Божья кара, а большевики в данном случае являются всего лишь орудиями Божьего произволения. Я негодовал на закрытие храмов. О. Иоанн возражал мне, что мирская власть опять-таки тут ни при чем. Если бы русское православное священство было на высоте, то власть бы с церковью не справилась. «Поделом нам, попам», – так рассуждал о. Иоанн в интимнейшем кругу.
И все-таки он имел основания опасаться за свою судьбу только потому, что он – священник. К нему подсылали провокаторов. Один из них, полуидиот, «Онигорячис», проходя летом мимо раскрытого окна, у которого любил сидеть о. Иоанн, пытался завязать с ним беседу всегда одинаково:
– Здравствуйте, батюшка? Который час?
Провокаторы уходили от о. Иоанна ни с чем, но самый их подсыл предсказывал, как барометр – бурю, приближение опасности. И когда о. Иоанна наконец взяли, в тюрьме душа его не выдержала многолетнего напряжения. В камере, по словам сидевшего с ним вместе Владимира Петровича Попова, он все падал на колени и прикрывал затылок – ему казалось, что сейчас его расстреляют. О. Иоанна выпустили без суда на попечение родных. После его ареста в Перемышле не осталось ни одной действующей церкви.
Выпустили Алексея Ивановича Георгиевского. На суде один из «свидетелей» подтвердил показания, данные им на следствии:
– Я что говорил следователю, то и сейчас скажу: я знаю Георгиевского как старого контрреволюционера – его еще в девятьсот пятом году ссылали.
Тут уж судья не выдержал и прервал свидетеля:
– Свидетель! Вы понимаете, что вы говорите? Кого в девятьсот пятом году ссылали?
В аресте Анны Николаевны Брейтфус, как я и думал, роковую роль сыграла немецкая ее фамилия. Явившись к ней с обыском, наркомвнудельские молодчики перерыли у нее весь дом, ничего не обнаружили, но захватили с собой кое-какие драгоценности: брошки» колечки. (Потом, правда, вернули.) Остановил их внимание старый комплект «Нивы» с портретом Николая Второго.
– Небось, все ждала, когда въедет на белом коне! – съехидничал кто-то из них.
Ну, а на немецкую фамилию навертели, что Брейтфус оплакивала казненных бухаринцев и троцкистов. Это было так похоже на несловоохотливую, нелюдимую» от природы недоверчивую Анну Николаевну, последние годы навещавшую только нас!
Когда стало известно, что Анну Николаевну будут судить, и приемная ее дочь нашла защитника, моя мать развила бурную деятельность. Она съездила в Калугу и добилась, чтобы ее вызвали в суд свидетельницей со стороны защиты. Пригласила к себе на дом известных ей «свидетелей» со стороны обвинения, воззвала к их совести и убедила, что теперь отказаться от показаний, данных под давлением следователей, не страшно – хуже будет для них, если откроется, что они – лжесвидетели.
И все-таки мою мать в суд не вызвали. Но она узнала от вызванных свидетелей обвинения» на какое число назначен суд, и помчалась в Калугу без вызова.
Была ранняя весна 39-го года. Началась распутица. По Оке под Перемышлем и под Калугой пускали по гатям пешеходов. Автобусы ходили от берега до берега. У моей матери не было сапог, и она с мокрыми ногами приехала в Калугу и так провела весь день на суде.
Мы с тетей Сашей ждали вестей. Чтобы отвлечь и ее и себя от тревожных дум» я целый день читал вслух смешные рассказы Зощенко.
Ранним вечером – телеграмма: «Пьем чай Коли Бриллиантова (он уже тогда жил и работал в Калуге) целуем приедем завтра».
На другой день я встретил у Оки мать и Анну Николаевну. На суде «свидетели», все как один, отказались от показаний на следствии, прокурор отказался от обвинения.
С чего началось дело моей тетки Софьи Михайловны, учительницы Перемышльекой начальной школы?
После успешно проведенной первой «предвыборной кампании» Калдаева перевели с повышением в Тулу. В Перемышль прибыли уже настоящие заплечных дел мастера; Корнев, Скрипкин.
У моей тетки учился отпрыск нового начальника Перемышльского отделения НКВД Корнева. Она написала палаше записку о тихих успехах и громком поведении отпрыска, попросила воздействовать на него или прийти с ней поговорить. На обороте записки Корнев, не запечатав ее, начертал: «В вас внедривши педпедология» – и послал с сыном учительнице. (После специального постановления ЦК от 36-го года педология, которую изучали во всех педвузах и педучилищах и которая являлась одним из краеугольных камней советской педагогики, была объявлена «реакционной буржуазной лженаукой».)
Так возникла папка от «дела» Софьи Михайловны Любимовой, а потом уже возникло и само дело.
В 18-м году в Перемышле широко распахивали двери две партии: партия коммунистическая (большевиков) и партия революционных коммунистов: записывайся кто куда хочет.
Я вечно торчал среди взрослых, ушки у меня были на макушке, моя память обладала способностью не только складывать в своих кладовых события, складывать аккуратно, во временной последовательности, но и закреплять целые разговоры, закреплять целиком, вплоть до порядка слов.
И вот детская моя память запечатлела разговор тети Сони с ее матерью, моей бабушкой.
Тетя Соня приехала к бабушке зимой 18 – 19-го гг. на каникулы, а я всю эту зиму провел в Новинке.
– Я записалась в партию революционных коммунистов, – объявила тетя Соня. – Председателем у нас Рещиков, заместитель председателя – Володя Попов, а я – секретарь.
– Напрасно ты это, Софа! – сказала бабушка. – И куда тебя демон несет – в омут головой?..
Партия революционных коммунистов существовала до самой ее ликвидации вполне легально; у нее был свой печатный орган, издававшийся в Москве, – газета «Воля труда». Разногласия между революционными коммунистами и большевиками были до того ничтожны, что в 19-м году большевики предложили революционным коммунистам: «Кому угодно – пожалуйте к нам. А кому не угодно – брысь под печку». Местный крестьянин Иосиф Иванович Рещиков, перешедший в конце 18-го года от левых эсеров к революционным коммунистам, тут рассудил за благо перейти от революционных коммунистов к большевикам и быстро вознесся: он был членом ВЦИК’а и ЦИК’а, делегатом XVI съезда партии.
В 37-м году Рещикова, в то время председателя Красноярского крайисполкома, арестовали и расстреляли. Во время следствия нитка потянулась от Красноярска в Перемышль. В Перемышле арестовали его бывшего сподвижника Владимира Петровича Попова. Попову ничего иного не оставалось, как назвать бывших членов легальной партии. Вот почему были арестованы братья Прокуратовы, Тарасов и Николаев, давным-давно отошедшие от политики, служившие в разных перемышльских учреждениях бухгалтерами и канцеляристами и занимавшиеся хозяйством. На том же основании арестовали и мою тетку Софью Михайловну. Как накручивали «преступления» ее однодельцев – мне неизвестно. Ей же пришили, что она в разговоре с женщиной, носившей ей воду, выражала сожаление, что расстреляли Тухачевского, хотя моя тетка, во-первых, отличалась крайней осторожностью и уж, во всяком случае, не стала бы откровенничать с водоноской, а во-вторых, до Тухачевского ей было, как теперь выражаются, «до лампочки». А еще ей припаяли, что она была любовницей не кого-нибудь, а самого Деникина, хотя моя тетка за пределы Калужской губернии после революции ни разу не выезжала; что же касается верховного главнокомандующего вооруженными силами Юга России, то ему, как известно из истории гражданской войны, в пределы Калужской губернии вступить не удалось, – следственно, пути Софьи Михайловны и Антона Ивановича никоим образом сойтись не могли.
Как бы то ни было, перемышлян, просидевших в калужской тюрьме около года, выпустили, за исключением Петра Евдокимовича Меньшова: перед революцией он короткое время был столоначальником Перемышльского уездного полицейского управления, а потом перешел делопроизводителем в податную инспекцию; перемышльский мещанин Иван Николаевич Мареев, сводя с Меньшовым счеты многолетней давности, не отказался от своих наветов, и Меньшова сделали козлом отпущения; надо было показать, что Перемышльское отделение НКВД все-таки потрудилось не совсем уже зря, и хромоногого старика Меньшова по прозвищу «Два с полтиной – три рубля – четвертак – четвертак», препроводили в царство бушлатов, баланды, колючей проволоки, сторожевых вышек, надзирателей, оперуполномоченных, конвоиров, немецких овчарок, шпаны, стукачей…
Кровавый буран не перестал. Кровавый буран приутих.
Москва, 14 октября 1970
Покров Пресвятой Богородицы
Самоубийца
Ведь я с тобой лаской…
А. ОстровскийВ библиотеке моего отца, которую мать постепенно – от дня рождения ко дню рождения, от именин к именинам – дарила мне, находился аккуратно переплетенный местным переплетчиком комплект «Журнала для всех» за 1905 год. Там мне впервые встретилась фамилия – Сергеев-Ценский; в четвертом номере был напечатан рассказ писателя «Бред». Прочел я его, когда мне было лет десять, прочел и, конечно, забыл, – он был мало доступен детскому моему пониманию и не увлек меня сюжетом, а вот фамилия автора – благодаря, очевидно, своей необычности – удержалась в памяти. Затем я прочитал в тоже перешедшем ко мне журнале «Образование» за 1903 год рассказ Сергеева-Ценского «Погост», Его «герои» – унылые, придавленные провинциальной скукой учителя – показались мне придуманными; они нимало не походили на моих учителей, среди которых были и немудрящие обыватели, не тяготившиеся, однако, своим уделом, жизнедеятельные, жизнерадостные, но были и таланты, смотревшие на свою работу не как на службу, а как на служение. Скучать и унывать и тем и другим было некогда.
Некоторое время спустя моя тетка Юния Михайловна Любимова подарила мне «Галерею современных русских писателей», которую тот же самый «Журнал для всех» рассылал подписчикам в виде бесплатного приложения. Это была портретная галерея русских писателей XX века, и больших и малых, и символистов, и «знаньевцев», а равно и тех, кто ни к какому направлению не примыкал. На каждой странице – четыре портрета. Среди писателей, чьи фамилии начинаются на «с», я увидел портрет Сергеева-Ценского. В молодости, как, впрочем, и впоследствии, он был совсем не похож на писателя. Глядя на его портрет, можно было предположить, что это конторщик, почтовый чиновник, в лучшем случае – учитель словесности где-нибудь в высшем начальном училище. Что-то не чисто простонародное» а именно «полуинтеллигентное» было и в его утином носу, и в кокетливо закрученных усах, и во франтовато сдвинутой на бок шляпе. Выделялись на этом лице глаза – строгие, задумчивые, пытливые. Им не шли пошловатые, «галантерейные» завитки усов. Им не шла щеголеватая шляпа, которою ее обладатель, видимо, гордился, иначе бы не стал в ней сниматься и не закрыл бы ею копну волос, не пожертвовал бы ей этою копною, которая должна была бы составлять предмет его истинной гордости, ибо она придавала самобытность всему его облику и своею буйною силою подчеркивала ту душевную несгибаемость, ту душевную мощь, ту внутреннюю целостность, какая читалась в его глазах.
В начале 26-го года Георгий Авксентьевич Траубенберг принес нам почитать еще относительно свежий январский номер «Нового мира» за этот год. То был первый номер реформированного «Нового мира» – первый номер, вышедший под редакцией Вяч. Полонского. Полонский открыл его «Черным человеком» недавно погибшего Есенина, а прозаический отдел – «Морем» Сергеева-Ценского, спустя много лет составившим главу романа «Обреченные на гибель». Георгий Авксентьевич советовал прежде всего прочесть «Море» вещь, по его мнению, радовавшую классической простотой слога, свободного от современных вывертов. И вот это было, в сущности говоря, мое первое знакомство с Сергеевым-Ценским. В советских журналах мне до того дня ни разу не встретилось его имя. Я даже не знал, жив ли он. А если жив, то, подобно многим другим, не уехал ли за границу?.
Я потом еще не скоро увидел море вживе и въяве. Читая Ценского, я представлял себе сильный разлив Оки в бурю. Что же еще мог я вообразить? Ведь это был самый широкий водный простор, который мне приходилось наблюдать. И у меня возникло ощущение бушующей водной равнины, и вместе с братьями Макухиными и Афанасием я напрягал последние усилия в отчаянной схватке с обезумелой, осатанелой стихией.
В 26-м году наша «Центральная» библиотека «Новый мир» не выписывала. Родился он только в 25-м, и первый год его существования не принес ему популярности: это был бледный и хилый недоносок. Его страницы с благословения фактического редактора Федора Гладкова заполнялись топорными изделиями так называемых «кузнецов». Случайно залетевшие туда стихотворения Есенина («Сукин сын», «Метель») весны не сделали. Что Полонский превратит «Новый мир» в лучший из современных журналов – этого, не говоря о провинции, не могли себе представить даже Москва и Ленинград: первый номер «Нового мира» за 26-й год – это был дебют Полонского как редактора литературно-художественного журнала. В 26-м году у нас в Перемышле с запозданием появились кем-либо случайно завезенные разрозненные его номера. Так, ко мне в руки попал и второй его номер с началом повести Сергеева-Ценского «Жестокость». В ней меня поразил мелькающий, движущийся, изменчивый пейзаж, увиденный глазами беглецов-комиссаров, мчащихся на легковом автомобиле, а затем внешние и психологические портреты этих комиссаров с такими не похожими одно на другое лицами, с такими живописными и такими разными в своей живописности жизненными дорогами, которые, однако, неуклонно вели каждого из них в конце концов к революции. Меня пленила при этом тонкость безупречного, толстовски верного психологического анализа. Так, например, отвергнувшая первую любовь тамбовца дочь богатого помещика, беленькая девочка в белом капоре с бантиками из либерти, отвергнувшая с первого взгляда, единственно потому, что гимназист не принадлежал к ее кругу, – это для будущего большевика явилось первым столкновением с социальным неравенством, о котором он получил наглядное, жестоко и навсегда уязвившее его представление. Не только «потомственный русский интеллигент» из Тамбова, но и все комиссары, выведенные в повести, «диалектику учили не по Гегелю»: каждого из них толкнуло в революцию особое стечение обстоятельств, большинство из них еще в раннем детстве убедилось, что жизнь для них мачеха.
В начале 28-го года Петр Михайлович Лебедев посоветовал мне и моей матери прочитать в «Красной нови» за 27-й год роман Сергеева-Ценского «Обреченные на гибель». Его внимание обратил на роман Николай Иванович Чудаков, огородник и владелец маслобойки, в молодости примыкавший к местным социал-демократам, дважды счастливо избежавший большевистской расправы: в начале революции скрывшийся и не появлявшийся в родных краях до самого НЭП’а, а затем бежавший – и уже навсегда – в начале коллективизации, предварительно разведясь с женой, чтобы не губить ее жизнь, а единственного сына отдав на попечение своей одинокой сестре, питомице Петровско-Разумовской академии, много лет преподававшей в Калужском сельско-хозяйственном техникуме. Этот самый Николай Иванович Чудаков в залоснившемся полушубке, до того приторно пахнувшем постным маслом, что когда я стоял рядом с ним, у меня мгновенно пересыхало небо, точно я объелся сладкого, иногда забегал к нам, – благо маслобойка его и огород были от нас через дорогу, – попросить почитать чего-нибудь новенького из советской литературы. Он первый указал нам на «Россию, кровью умытую» Артема Веселого, на эту написанную с малявинским разгулом красок картину ужасов гражданской войны.
– Грубо, но правдиво, – сказал он и добавил: – Я ведь в тех местах жил во время гражданской войны, все своими глазами видел.
Прочитав «Обреченных», я удостоверился, что Ценский – не только огромный художник, художник в цвету, но и художник мой, из всех писателей, проживавших на территории Советской России, наиболее близкий мне по духу, по отношению к революции, по отношению к современности, по отношению к судьбам России. С той поры ни одна вещь Ценского уже не ускользала от моего взгляда…
Почему я так любил Сергеева-Ценского? Да потому, во-первых, что Сергеев-Ценский в течение многих лет, – пока он не свихнулся, пока он не рехнулся, пока не сбился с панталыку, пока не начал жевать полубеззубым ртом подсунутый ему пряник, – бесстрашно писал правду о советской жизни, резал самую что ни на есть правду-матку и кровоточащей подносил ее к глазам читателей; потому, что он никогда не гримировал устроителей новой жизни, а выводил их на сцену «в натуральном виде».
А во-вторых, потому, что это был не только свободный и непримиримый, но и бесподобный художник, кисть которого почти неизменно радовала мой глаз. Много лет спустя, в 40-м году, я узнал, что столь же высоко ставил Ценского не кто иной, как Горький. В предисловии к переводу «Вали» на мадьярский язык он писал в 28-м году: «Сергей Сергеев-Ценский работает в русской литературе более двадцати лет и теперь, вместе с Михаилом Пришвиным, он, по силе своего таланта, стоит, на мой взгляд, во главе ее».
Даже знакомство с искусством Бунина не заслонило от меня Сергеева-Ценского – до того он кряжист и особлив. Начало эпиграммы Маяковского на Лидина («Если даже и Лесков при Толстом не виден») – это «красное словцо». Тень, отбрасываемая исполинами, накрывает лишь подражателей. Лесков до мельчайшей черточки виден и при Льве Толстом, Ценского тоже ни с кем не спутаешь, не смешаешь, тотчас выделишь и отличишь.
Как же мне было не любить Ценского, когда он учуял и углядел, что у колыбели революции стояли обман и насилие? Обман этот он в повести «Львы и солнце» запечатлел в образе коварного петроградского зимнего солнца, в феврале 17-го года выманившего на улицы доверчивый народ, и в образе «львов», на поверку оказавшихся собаками, только особой породы. На этих «львов» польстился маклак Иван Ионыч Полезнов – так было клюнула на февральскую революцию невежественная, дремучая русская буржуазия. Иван Ионыч бессмысленно гибнет: его – правда, нечаянно, метясь в кинувшегося на него пса, – убили «свои» же, вместе с которыми он, вооруженный винтовкой, шел по улицам Петрограда к Государственной думе и которых он по дороге завел отбирать «львов», – ведь богатеи грабили помещечьи усадьбы вкупе и влюбе с бедняками, и большевики до поры до времени пользовались их услугами и лишь в конце 20-х – начале 30-х годов отблагодарили. Когда с главным врагом было покончено, тогда уж начались «разговоры с херсонским лавочником и со всеми лавочниками вообще» – разговоры, обещанные еще перед революцией большевиком Даутовым в романе Сергеева-Ценского «Память сердца», разговоры, обещанные Лениным в его статьях, которые, себе на горе и на счастье большевикам, не потрудились прочесть «лавочники» и не только «лавочники», но и крестьяне-середняки, ибо если б они вовремя прочли их, то еще неизвестно, выгорело бы ли дело Ленина. Гибель Ивана Ионыча Полезнова – случайная гибель, но это прообраз гибели его класса, который, не расчухавшись, пошел было за большевиками, гибель Полезновых, впоследствии ставших с точки зрения большевиков Бесполезновыми (так, не разобрав, записали фамилию умирающего Ивана Ионыча, который произнес ее уже коснеющим языком). Иван Ионыч – одна из первых жертв революции, за которой потянутся нескончаемые вереницы.
Хозяйка собак хочет заявить полиции.
«Но дворник ответил раздельно и уничтожающе:
– Какой это такой полиции?… Где теперь именно эта полиция?… Нет теперь нигде ни-ка-кой полиции… Я теперь полиция!
Он подобрался длиннейшими руками под тело Ивана Ионыча, – прежде сняв с него шапку и сунув в карман, – и понес его перед собою, откачнувшись, как охапку тяжелых дров, к себе в дворницкую.
Там он раздел его, пересчитал и спрятал его деньги, – и, вытянувшись и застыв, тело осталось в темном углу ждать могилы.
А на улицах, осиянных небывалым солнцем, революция сверкала, дыбилась, пенилась, рокотала, гремела и пела».
«…Нахальства у вас много!» – бросает художник Сыромолотов-сын в разговоре с большевиком-подпольщиком Иртышовым. – Это и есть ваша сила?…» – «А как же!» – простодушно подтверждает тот («Обреченные на гибель»).
Мне ли было не любить Сергеева-Ценского? Ведь он глубже, чем кто-либо другой из русских писателей XX века, осмыслил и лучше, то есть точнее, выразил то, что внесла Октябрьская безбожная и бесчеловечная революция в отношение человека к человеку, определил ее нравственный вклад: «…человек от человека отшатнулся… человек человека испугался… человек человека ужаснулся… человек человека проклял!» Это из «Рассказа профессора» – рассказа о начале революции, «…кто теперь друг на дружку не серчает?… Все не только даже серчают, а с лица земли готовы стереть!..» Приведенные слова говорит Пантелеймон Дрок – герой написанного в 33-м году рассказа «Маяк в тумане», начинающегося так: «Это о годе двадцать восьмом…» А в рассказе, написанном в 28-м году, – «Сливы, вишни, черешни», – Алексей сокрушается; «Э-эх, замечать я стал округ себя, до чего же лютой народ пошел-образовался!.. Сущий зверь!.. О мальчишках, девчонках не говоря, а об том народе я, какой в годах и какой в виду… Это ж кто того-другого на мушку не посадил, да мне таких людей, почитай, и видеть не приходилось…» Ему с ухмылкой вторит Матвей в рассказе, помеченном тем же годом, – «Прах Аджи-Османа»: «Теперь таких где ж найтить дураков, у кого сердце-то чистое?» Кровь в первые же дни революции упала в цене. Человек – уже не сосуд божественной благодати, хотя бы и неказистый, хотя бы и давно не мытый, хотя бы и с трещиной, не неповторимая самоценная личность, не малый мир, а ходячая химическая формула. «Кто такой человек знаешь?» – спрашивает мать Савка Дармограй в рассказе «Павлин» и сам же отвечает: «Машинка лектричеекая!.. А то, ты думаешь, убить трудно… Стук – и готово!» Когда Таня из «Памяти сердца» вспоминала станцию «Грязи», ей неизменно представлялись «кишки, намотавшиеся на буфера между двумя вагонами».
«Она запомнила, как мать стояла, безумно вытянув к этим буферам свое небольшое лицо с остановившимися глазами, а какой-то рыжий солдат с заржавленным чайником кричал матери:
– Ну, упал человек с крыши на ходу, – и все!.. Мало их падает?!
И так глядел тогда этот рыжий солдат, такой он был страшный, что Тане показалось, – вот-вот ударит он ее, маму, наотмашь тем заржавленным чайником, который держал он в руке…»
Как же мне было не любить Ценского? Ведь он в нескольких словах сформулировал стратегию и тактику большевизма – сформулировал устами большевика-подпольщика Даутова из «Памяти сердца»: «Да, я фанатик, – говорит он. – И все, кто хочет того же, что я, непримиримые фанатики. Тем-то мы и сильны, что у нас есть фанатизм, а у наших противников только интеллигентская муть в мозгах». «Вы, кажется, просто мечтатели, по-э-ты!» – попадает пальцем в небо его восторженная собеседница. «Нет, мы прозаики, – резонно возражает он. – Но у нас есть не только ясный план действий, но и еще и гениальное руководство». – «А если для этого плана, чтобы его выполнить, моря крови надо пролить?» – «Что же делать! Прольем… И перешагнем».
И как в «Львах и солнце» – Полезнова, так революция в лице Даутова обманула эту самую его слушательницу, Серафиму Петровну. Даутов сошелся с нею, а затем «уехал в Петроград углублять революцию» и исчез с ее горизонта. В годы гражданской войны Серафима Петровна терпела неисчислимые бедствия. После войны хождение, вернее – бегство по мукам прекратилось, но быт ее – нищенский, убогий быт советской учительницы – оказался совсем не похож на то, что сулил ей Даутов. Ее здоровье от всех мытарств, лишений, от всего пережитого надломилось – она кашляет кровью. Все эти годы она ждет Даутова. С горечью оскорбленной в своем внезапно возникшем, но прочно укоренившемся чувстве к нему говорит она о нем, что он снял сливки и исчез, и все-таки ждет. Ее дочери Тане, знавшей Даутова, когда она была совсем еще крошка, и понадеявшейся на память своего сердца, показалось, что она встретила его на улице. Она разыскала этого человека и привела к матери, но это оказался не Даутов, а «какой-то такой самый обыкновенный» Патута.
Как же мне было не любить Ценского, когда он в лице Семена из «Старого полоза» показал «героя Красной Армии», четыре года подряд воевавшего с «белобандитами», во весь его богатырский нравственный рост? На примере Семена и на примере рязанца из «Жестокости» Ценский раскрыл прелюбопытнейшее явление: кадры «деятелей» в начале революции вербовались не только из городского, наполовину – уголовного сброда, из блоковских Ванюх и Петрух (газеты уже в марте 17-го года писали о массовых побегах уголовных из тюрем), но и из деревенских хулиганов. Так, Семену «первое удовольствие было девке юбку задрать да над головой завязать в узел…» – предается он воспоминаниям своего невинного детства. «А то одной девке сонной мы змею за пазуху запустили, – вот с ней было!.. Цельный месяц – не меньше – без задних ног валилась!..» А как-то раз он и его друзья «взяли да ночью по всей деревне трубы позабивали…» Ну, а это ж зачем?» – спрашивает его спутник и собеседник Петр. «Так себе… со зла…» «Никакого добра в вас, никакой совести! – заключает Петр. – Ты, небось, еще скажешь, что человека когда-сь убил… а, Семен?» – «Поди, посчитай, сколько, – буркнул Семен. – …командиру полка свово, полковнику Иванову, дал крест в семнадцатом, будь спокоен!.. Он говорит нам, как мы его вели расстреливать: “За что же, товарищи гусары, мной недовольны? Я вам столько крестов дал!..” А я ему: “Хоть ты нам сто крестов дал, а мне целых три, – ну, а мы тебе только один дадим!..” И дал!..» «У вас там, в Белгороде, чьи мощи-то выкинули? Есофата какого-то?.. В другом конце я в то время был, – жаль, до него не добрался, – ну, а других каких многих, это уж я выкидывал!..» «Продразверстку забыл?.. Помню я бабу одну саратовскую… шерсть мы тогда собирали… “С тебя, тетка, – говорю, – шерсти полагается три фунта… давай!” Так она что же, подлая, а? Подол свой задрала: “На, – говорит, стриги!.. Настригешь три фунта шерсти – твоя будет!..” А? Это что? Стоило ее убить за это или нет, по-твоему?..»
Как же мне было не любить Сергеева-Ценского, когда он показал и отношение новых хозяев к красоте? У Даутова красота Крыма рождает досадливую мысль о ее бесполезности: «Море разлеглось бесполезно, горы торчат бесполезно… Хозяин сюда не пришел настоящий…»
Ну» вот и пришел – и вырубил реликтовые сосны и кипарисы» свел и затопил леса, вырубил фруктовые сады» выкорчевал в парках помещичьих усадеб столетние раскидистые липы, клены, дубы с их чуть колышащимся теневым узором на дорожках, перепахал поемные луга под кукурузу, устроил склады в древних церквах, разбил на мелкие черепки воспетый Левитаном в красках вечерний звон; помещичьи библиотеки, включавшие в себя и заграничные издания XVII, XVIII и XIX веков, и смирдинские «Полные собрания сочинений русских авторов», и произведения авторов иноземных в переводе на русский язык вроде: «Герцогиня Ла Валлер. Сочинения Госпожи Жан-лис. Перевод К. П. Шаликова. Москва. В Типографии Н. С. Всеволожского 1815», отпечатанные на бумаге с голубым отливом, в переплете из телячьей кожи, выделанной под орех, издающие сладимый запах тлена, исходящий от старинных книг, пошли в лучшем случае на завертку порошков в уездных аптеках, преимущественно – на самокрутки.
Даутов по крайней мере собирается извлечь из бесполезной, как ему представляется, красоты пользу для человека, преимущественно – для пролетария. Даутов – командарм революционного войска, а нижние чины, быстро усвоив от своих начальников тезис о бесполезности красоты, пошли крушить и крошить ее, не задаваясь обширными планами. И вот Степка-матрос «дачу брошенную где-то нашел» ночевал в ней, а наутро проснулся, поглядел, – округ его мебели всякой полно, а такого стоющего, не-ма-а!.. Искал-искал, шарил-шарил, – уж до него обобрали… Гардеробы пустые да книги разные толстые… Книг до ужасти много было… Как схватил я, говорит, палку, да как начал направо-налево крестить, да все рвать, да ногами топтать!.. Ну, стоит статуйка какая небольшая, – девка голая, – это же разве мыслимо?.. А чего стоющего не-ма-а!.. Таких там черепков наворочал, – гору!.. Кабы спички были или хоть зажигалка оказалась, я бы, говорит, подпалил все к черту, – ну, не было!..» («Сливы, вишни, черешни»). А Семен, преисполненный свирепого презрения к красивому, но бесполезному полозу, харкает на него, а немного погодя убивает – убивает только за бесполезность и «со зла»: из желания огорчить ничего дурного ему не сделавших чабанов, для которых полоз – «родной брата был».
Как же мне было не любить Ценского, когда он в рассказе «Вождь» (недаром он потом переименовал его в обезвреженного «Верховода»!) вывел мальчишку Геньку, в котором, как бабочка в куколке, сидит большевистский вождь, прущий напролом, в случае неудачи неловко вывертывающийся, а если и извороты не помогают, прибегающий в дискуссиях к излюбленному, спасительному и безотказному: «Хочешь, тресну?»
Как же мне было не любить Ценского? Ведь он таким жутким светом осветил в «Павлине» людоедский идиотизм новой жизни, показав, как злобные самодуры из ревкомов обрекали неприспособленных к новым условиям жизни, непрактичных интеллигентов на голодную смерть: придирались к ничтожнейшим поводам и отбирали продовольственные карточки.
Как же мне было не любить Ценского? Ведь он в «Живой воде» утверждал человечность наперекор и вопреки жестокости, разнуздавшейся, со всех цепей сорвавшейся, разбушевавшейся в годы гражданской войны («Крой, Вася, – Бога нет!..»), а в «Аракуше» – наперекор и вопреки бескрылому практицизму, утилитаризму, интересанству – утверждал право человека на мечту!
Как же мне было не любить Ценского? Ведь он не только шел на приступ идейных и моральных твердынь нового строя, но и вел «бои местного значения» – он метко обстреливал новый быт. Критики огрызались: «Контрреволюционный бытовик!» «Озлобленный обыватель!..» Копеечные юпитеры, вы сердились, значит… Из бытовых мелочей состоит бытие. А бытие, по вашему же, милостивые государи, вероучению, определяет сознание. В мелочах отражается общее, пресловутая сталинская «забота о человеке», отражается отношение к человеку государства. В том-то все и дело, что, как выразился Достоевский, социализм – это не только «верх эгоизма, верх бесчеловечья», «верх уничтожения всякой свободы людей», но и «верх экономической бестолковщины и безурядицы…» Синеоков из «Обреченных на гибель» считает, что диктатура пролетариата – это коммерческое предприятие самого широкого размаха и вместе с тем самое убыточное предприятие.
В гербе советского наинетрудолюбивейшего государства неправомерно красуются серп и молот. Неунывающие россияне, прибегающие к юмору как к обезболивающему средству, с присущей им любовью к солененькому вскрыли всю обманчивость этой рассудочно холодной аллегории в четверостишии, родившемся еще при НЭП’е:
Вот советский герб: Слева молот, справа серп. Хочешь жнешь ты, хочешь куй — Все равно получишь…В герб советского государства просится бурьян, ибо густо разросшийся на месте сначала помещичьих усадеб, потом – хуторов, потом – целых зажиточных деревень лопух и крапива – вот пейзаж, который наиболее тешит, ласкает и веселит взоры наших властей.
Ненависть к достатку, ненависть к рачительным хозяевам с особым, опять-таки бессмысленным» себе же во вред, упорством стали у нас воспитывать после ликвидации НЭП’а – и расплодили лодырей, лежебок, тунеядцев. «Раз ты теперь стал разоренный, – пишет своему брату Пантелеймон Дрок, – то это ж нема чего лучше, – как ты теперь, стало быть, бедняцкого элементу…» («Маяк в тумане»), «Нет, брат, теперь уж свое хозяйство не заводят», – мрачно хрипит Гаврила в рассказе «Устный счет». В том же рассказе Нефед вспоминает, как сытно, привольно жили немцы-колонисты и как хорошо жилось у них и батракам: «…у них я жил – беды-горя не видел… Цельный год колбасы наворачивал…» «Прижали теперь и немцев», – сказала женщина». «…Теперь учеников брать не полагается, а откуда мастера новые возьмутся, как мы, старики, подохнем, этого нам не говорят…» – пророчески замечает Алексей из рассказа «Сливы, вишни, черешни». Умельцы – пекари, повара, портные и портнихи, переплетчики, столяры, садовники – и впрямь выродились на Руси.
Везде и во всем – нестроение, нехватка, изъян, и в нестроении этом проявляется глубоко безразличное отношение к человеку. У Дрока пожар: «Сбежались соседи. Появились даже четверо из пожарной дружины, – у всех четверых оказался один топорик».
Везде и во всем – расхлябанность, бесхозяйственность, полнейшее равнодушие к делу, к плодам своего труда, все напоказ, лишь бы к сроку, а если пристанут, то и досрочно, «ударными темпами», «по-стахановски», но все строится «на соплях», все – как попало, абы как, тяп-ляп – готов корабль. В рассказе «Счастливица» (1931) старуха Уточкина удивляется, почему в доме отдыха строят здание из сырого леса. «Вона!.. – отвечает ей один из строителей, – Ждать его прикажешь, когда у нас догнать-перегнать!.. Небось, в стене досохнет!..» Строителям наплевать с высокого дерева, какой выйдет дом, – строят-то ведь не для себя! «Для кого же это столовая в лесу?» – удивилась старуха. «Да, должно быть, все для вас, для градских, – а то для нас, что ли?» Прежде тоже строили преимущественно не для себя, но хозяева были зоркие и строгие, глаз был, присмотр, догляд, а новым хозяевам тоже начхать, лишь бы план выполнить, – безответственность въелась во все поры «социалистического хозяйства», она точит его и разъедает, как ржа. Когда, в 22-м году, образовался СССР, россияне расшифровали это название не как «Союз советских социалистических республик», а несколько иначе, но значительно ближе к истинному положению вещей в стране: «Сами срали – сами расхлебывайте».
Я разделял взгляд Ценского на устойчивость собственнических инстинктов в человеке. У пятилетнего Кольки отняли одну игрушку за другой, не позволили возиться с кошкой, но когда мать стала трясти его одеяло, чтобы вытрясти блох, он изо всех сил потянул к себе одеяло и завопил; «Мои блохи!.. Мои блохи!.. Мои блохи!..» («Мелкий собственник»). Я согласен был с Ценским, весьма скептически относившимся к идее переделки человеческого сознания, человеческого мироощущения тем способом, каким пыталась это сделать «Коммунистическая» партия: «Какой бы ни придумали строй, домна останется домной и шахта шахтой…» – утверждает инженер Дейнека в «Обреченных на гибель» – «Немножко не так! – подхватил Синеоков. – Не только Домна останется Домной, – Марья останется Марьей, – вот что главное!»
Я разделял неверие Сергеева-Ценского в социалистический рай, в плодотворность «кабинетных потуг осчастливить страждущее от социальных зол человечество…» («Обреченные на гибель»).
Я любил и самих героев Ценского – тех, которых любил он сам, любил и то, как он их изображал. В тех, которые были особенно дороги душе автора и моей читательской душе, на первый план выдвигается общечеловеческое, вечное. Конечно, Дивеев и Худолей из «Преображения» – типичные представители предреволюционной русской интеллигенции, но не этим они значительны, не это в них самое важное. Пристав Дерябин, и капитан Коняев, и Дрок из «Маяка в тумане» обличают в Ценском превосходного «жанриста», но не они – главные его герои. Главных его героев я для простоты условно назову «дивеевцами» – в честь архитектора Алексея Иваныча Дивеева («Преображение»), которого автор наделил наиболее существенными чертами его «рода». Кстати, мне думается, что фамилию своего любимца тамбовец Ценский произвел от Дивеевской женской обители, находившейся в Темниковском уезде Тамбовской губернии, поблизости от Саровской, тем самым чуть заметно подчеркнув (sapienti sat) то женственное, то девически целомудренное, девически застенчивое, что отличает Алексея Иваныча. «Дивеевцы» – это Худолей, Павлик и Наталья Львовна из «Преображения», это доктор Вознесенский из «Счастливицы», это Матиец из «Наклонной Елены», это даже, если хотите, чабаны из «Старого полоза». Им противостоят «краснощекие» (пользуюсь определением, какое дал этому человеческому типу сам Сергеев-Ценский). Это Илья Лепетюк из «Преображения», это все окружение Лермонтова из трилогии, ему посвященной, это Семен из «Старого полоза», это «счастливица» Уточкина, это Иртышов из «Преображения», это горняк из «Стремительного шоссе», это Даутов из «Памяти сердца», это инженер-строитель (подразумевается строитель новой жизни) Мареуточкин, едущий «в поезде с юга». Где-то посредине – Ваня Сыромолотов, атлет, цирковой борец, но и художник, Антон Антоныч, который к концу поэмы ценою утраты своей «краснощекости» становится человеком, удачливый воротила Федор Макухин из «Преображения». И Ваня» и Антон Антоныч, и Федор – «рисковые». Есть в них задор, удаль, азарт. Недаром же говорит Федор» имея в виду срывы, загулы человеческой души, которые, по уверению автора, никогда не понять здравому смыслу: «Разве человек так уж всегда в себе самом волен?.. Не было бы вещей подобных, скучная была бы жизнь!» И он сам способен на такие загулы. Что, как не загул, его «брак незаконный» с Натальей Львовной?
Каждый из «дивеевцев» – выдающаяся, крупная личность. В первую очередь за своеобразие любит автор от «краснощеких» в конце жизни отставшего, но и к «дивеевцам» не приставшего Антона Антоныча. Их антиподы – отродья толпы, черни, никак не плебса, а социального и морального охлоса. «Дивеевцы» – натуры жертвенные; они участливы, добры («талант жалости» у «святого доктора» Худолея» жажда подвига у Павлика). «Краснощекие» Лепетюки раздавят человеческую жизнь и спокойно пойдут дальше. «Дивеевцы» готовы «искать, всегда искать», у каждого из них своя мечта, свой «аракуш». (Есть «аракуш» и у Антона Антоныча, и «аракуш»-то и делает его еще до смертельной болезни менее «краснощеким», то есть менее рассудочным, менее рассудительным, менее благоразумным.) И трагедия «дивеевцев» в том, что в жизни Warheit торжествует над Dichtung. Ценский не отворачивается от Warheit, он знает ее и на вкус и на вес, но он знает также, твердо знает, что папоротник цветет, что камни говорят, что есть облака счастья, и что они не только проходят вдали, но и «спускаются внезапно, и они озаряют, и они осеняют, и шелестят, шелестят…»
Смерть песне, смерть! Пускай не существует!.. Вздор рифмы, вздор стихи! Нелепости оне… А Ярославна все-таки тоскует В урочный час на каменной стене…В отличие от «дивеевцев» «краснощекие» народ трезвый, деловой, оборотистый, практичный: «все, чего им не взвесить, не смеряти, все, кричат они, надо похерити». И в природе Ценский обнаруживает сходные явления: домашний, полезный пес Граф загрызает вольного, прекрасного, но бесполезного грифа. Его так же раздражает гордая в своей красоте бесполезность грифа, как раздражает Семена бесполезность полоза, приводящего в восхищение чабанов, диких, но способных сердцем почувствовать и бескорыстно полюбить красоту. У «дивеевцев» – вечные сомнения, «Краснощекие» разрешили для себя все вопросы; вернее, у них и вопросов-то никогда не было, для них все ясно – вот откуда их тупая самоуверенность, непробиваемая, как стальная броня. У «дивеевцев» многоцветна душевная глубина. С виду они не броски. Они застенчиво стушевываются на людях, в толпе.
Потому-то внимание Дивеева так приковал к себе яркий и, как ему кажется, прочный павлин, «Дивеевцы» хрупки – от выстрела погибает не живучий Илья, в которого стрелял Алексей Иваныч; после выстрела «сломался» сам Дивеев. «Дивеевцы» несчастны, «Краснощекие» счастливы. «Дивеевцы» углублены в себя, они мечтательны и безвольны. ¥ «краснощеких» над всем главенствует воля. В рассказе «Стремительное шоссе» горняк с каменно-твердой головой и мощным затылком, с начальственным тяжелым взглядом, единственный из всех пассажиров автобуса, не только не подавший милостыни нищему дурачку Яше, но и очень отчетливо, хотя и не повышая голоса, бросивший ему: «Пошел к черту!», не задумываясь направляет автобус на глухого старика и давит его. «Дивеевцы» беспомощны в практической жизни. «Краснощекие» ухватисты, цепки. «Дивеевцы» порывисты. Они до последней минуты не знают, как они поступят в том или ином случае, не знают, куда их шатнет, куда их метнет. «Все нужно делать целесообразно и планомерно», – поучает Илья. Он и ему подобные – поборники «краснощекого, задорного, победоносного, здравого смысла» («Обреченные на гибель»). «Дивеевцы» – «идиоты» в том смысле, какой вкладывал в это слово создатель князя Мышкина. Они наделены детской мудростью сердца, мещанам недоступной, непонятной и оттого кажущейся им смешной. Вот за эту мудрость сердца, вот за эту память сердца, которая, конечно, сильней рассудка памяти печальной, Ценский так любит детей, которых он противопоставляет слишком «небезумным» взрослым.
Я не мог не уважать Сергеева-Ценского за то, что он выбрал себе такую трудную судьбу. После революции он почти безвыходно сидел в своей алуштинской «мастерской» – в Москву приехал только в 29-м году, как о том свидетельствует он сам в воспоминаниях о Репине. Алуштинская «мастерская» отнюдь не представляла собой башни из слоновой кости – Ценский наблюдал жизнь как в ее геологических сдвигах и потрясениях, так равно и в повседневном ее течении. Печатали его неохотно. Если не считать «Капитана Коняева», «Чуда» и «Вали», изданных в Крыму, сборника его дореволюционных повестей и рассказов, в 25-м году выпущенного издательством «Недра», и «Рассказа профессора», напечатанного в альманахе «Недра» в 24-м году, Ценский возобновил свою литературную деятельность в 26-м году, когда в «Новый мир» пришел Полонский. В «Красной нови» его печатали Воронский и Всеволод Иванов. Что мог, то делал для него Горький. Но и при наличии таких покровителей и благожелателей произведения Сергеева-Ценского залеживались у него в письменном столе. Роман «Обреченные на гибель», написанный в 23-м году, был не полностью напечатан в журнале «Красная новь» в 27-м. Отдельного – и притом единственного – издания роман дождался только в 29-м году.
Каждое новое произведение Сергеева-Ценского вызывало в печати остервенелый, долго не смолкавший лай. Целые своры критиков накидывались на писателя. Это была травля, растянувшаяся на многие годы. Ни у одного советского писателя не было такой страшной литературной биографии, как у Сергеева-Ценского. Впрочем, не только литературной. Его не посадили, случайно не расстреляли. Его все-таки печатали. Но почти все впоследствии уничтоженные или же затравленные видные писатели – Артем Веселый, Зощенко, Пастернак, Пильняк – знали и триумфы. Иных усиленно замалчивали. Булгакова почти не печатали, но зато, благодаря Художественному театру, он прогремел на всю Россию «Днями Турбиных», снискав себе любовь многочисленных зрителей. Ценского, повторяю, хоть и гомеопатическими дозами, но печатали, зато неизменно выливали на него ушаты брани.
Трагедия его как художника усложнялась еще тем, что он не имел моральной поддержки и со стороны читателей. В 1928 году в предисловии к переводу «Вали» на мадьярский язык Горький совершенно справедливо писал: «Человек оригинального дарования, он (Сергеев-Ценский. – Н. Л.) первыми своими рассказами возбудил недоумение читателей и критики. Было слишком ясно, что он не похож на реалистов Бунина, Горького, Куприна… но ясно было, что он не сроден и “символистам”… Подлинное и глубокое своеобразие его формы, его языка поставило критиков перед вопросом: кто этот новый и, как будто, капризный художник? Куда его поставить?.. Кратко говоря – литературная карьера Сергеева-Ценского была одной из труднейших карьер. В сущности, таковой она остается и до сего дня».
Послереволюционный так называемый «рядовой» читатель зачитывался небесталанными фокусниками из уездного цирка, вроде Пильняка, с его доморощенной коломенской «философией истории», с его шаблонной карикатурой на дореволюционную провинцию, сочиненную им в «Голом годе», с его вариациями то на тему Андрея Белого, то на тему Бунина, которых он разменивал, которых он приспосабливал к пониманию среднеинтеллигентного читателя; писателями, временно исполнявшими обязанности Вольтера и аббата Прево, – такое место в советской литературе по справедливости отвел А. 3. Лежнев Илье Эренбургу; «проблемными» писателями, вроде Вересаева, продолжавшего, не мудрствуя лукаво, работать «по-знаньевски», писавшего языком историй болезней и отчетов земских врачей в земскую управу, выдвигавшего одну философскую проблему за другой, как-то: когда лучше начинать половую жизнь – еще до окончания высшего учебного заведения или после, автора единственно живой из всего его «литературного наследия» и именно потому непереиздающейся книги, в которой сделана серьезная попытка разобраться методом пусть «не великого в перьях», но все-таки художника во взаимоотношениях революции и интеллигенции, – романа «В тупике», где Вересаеву раз в жизни удалось выше собственного пупа прыгнуть, бесхитростными, однако зоркими бытовиками и незатейливыми, однако подлинными юмористами, вроде Пантелеймона Романова.
И, конечно, этот же «рядовой» читатель объедался «клубничкой», которой щедро угощали его при НЭП’е тот же Романов, поддавшийся искушению дешевого успеха и с головой окунувшийся в муть «половой» литературы, автор «Без черемухи», «Свободной любви», «Вопросов пола», «Новой скрижали», Малашкин, автор «Луны с правой стороны», Гумилевский, автор «Собачьего переулка», или Калинников, автор откровенно порнографических «Мощей». Ценский не выкидывал коленец, не отмачивал штучек, но и не укладывался в рамки привычного, традиционного «доброго-старого». Его не читали нарасхват ни до, ни после революции. Я подарил какой-то из своих переводов Николаю Ивановичу Замошкину и, воспользовавшись его домашним шутливым прозвищем, сделал на книге такую надпись: «Преосвященнейшему Пафнутию, епископу Сергиево-Ценекому, от смиренного послушника той же епархии». Храмов в «Сергиево-Ценской» епархии было наперечет. Его ценили и понимали одиночки: Короленко, Маяковский, Репин, Воронский, Вс. Иванов, Вяч. Полонский, Абрам Захарович Лежнев, Горький, писавший в предисловии к английскому и французскому изданию первой части «Преображения» – «Вали»: «…“Преображение” Ценского есть величайшая книга изо всех вышедших в России за последние 24 года. Написав эту книгу, Ценский встал рядом с великими художниками старой русской литературы». Писал добрые слова о Ценском Вяч. Полонский и в письмах к нему и – мимоходом – в «Листах из блокнота» (под таким заглавием он печатал в «Новом мире» свои литературные заметки), появлялись положительные статьи и рецензии А. 3. Лежнева, Горбова, Замошкина, но они бессильны были заглушить стоголосый лай. Бывало» лают, лают на него критики» до надсады, до хрипоты, наконец отстанут. Потом, как это бывает с неугомонными злыми собаками, глядь – снова припустились, и впереди, оскалив клыки, мчится костлявая, тощая, неутомимая в гоне Елена Усиевич, впрочем более похожая на ведьму, нежели на псицу, А Ценский, «спокоен и угрюм», идет и идет однажды избранной им «дорогою свободной».
В 1928 году при обсуждении плана Государственного издательства художественной литературы Горький выразил удивление: «А почему же нет в плане издательства произведений Сергеева-Ценского, замечательного русского писателя, классика?» В ответ один из тогдашних рьяных проводников политики партии в литературе Лебедев-Полянский расхохотался: «Кого? Сергеева-Ценского? – переспросил он. – Антисоветского писателя? Контрреволюционера? Шутник вы, Алексей Максимович!» Горький встал, хватил стулом об пол и вышел.
Чего-чего только ни наслушался Сергеев-Ценский за годы гоненья! Сменивший Полонского на посту ответственного редактора Гронский в третьей книге «Нового мира» за 1932 год незадолго до того, как РАПП испустила последний вздох, преоригинально отпраздновал юбилей Сергеева-Ценского: в отделе художественной прозы поместил его рассказ «Устный счет», а в отделе «Литература и искусство» – статью впоследствии репрессированного Александра Владимировича Ефремина (Фреймана) «С. Сергеев-Ценский» с подзаголовком: «К 30-летию литературной деятельности». У Ефремина за малым дело стало: русского языка он не знал и не чувствовал и, однако, бесстрашно щеголял «образностью» речи, неукоснительно садясь при этом в лужу (достаточно полюбоваться хотя бы на один его перл: «Все вместе запечатляет весьма неблагоприятные складки на творческом лице Ценского»). Ефремин утверждал, что дарование Ценского «явно на ущербе». В каких только смертных грехах ни обвинял он Ценского: и скептик-то Ценский, и пессимист, и агностик, и релятивист, «отравленный ядами мистицизма, квиетизма»! «…Пессимизм Ценского, – строчит во все лопатки Ефремин, – щедро льет воду на мельницу меньшевиков и троцкистов». Заканчивал свой рапорт один из младших командиров сформированной у нас уже в 20-х годах армии явных и тайных литературных стукачей и наводчиков выводом: «реакционные тенденции пера» Сергеева-Ценского «достаточно проявлены, чтобы отнести его в инвентарь враждебных сил СССР…» Словом, с какой стороны ни посмотришь на лицо Сергеева-Ценского – везде «неблагоприятные складки». Стукач договорился до того, что Ценский-де, мол, со злобной радостью великодержавного шовиниста копирует русскую речь украинцев, евреев, а равно и представителей всех прочих «малых народностей». Проницательному критику было невдомек, что Ценский слушал речь любого из своих действующих лиц как музыку, с упоением истинного художника слова, пользующегося и народными этимологиями и фонетическими особенностями как колористическим средством.
В 1935 году журнал «Литературный критик» в книге третьей напечатал статью Е. Усиевич «Творческий путь Сергеева-Ценского». Усиевич не только назвала творчество Сергеева-Ценского «грязной пеной культуры прошлого» (а может ли быть у культуры грязная пена?), не только изобразила его контрреволюционным мещанином в литературе, но и тщилась доказать, что это лишенный всякого своеобразия третьесортный подражатель, осмелилась сравнить его с бульварной пошлячкой Нагродской. У нее поднялась рука написать: «легенда о мастерстве Сергеева-Ценского». Это у нее-то, изящной стилистки» которую высмеял пародист Архангельский и которая расцветила статью о Ценском такого рода красотами слога: «...одна сторона раннего творчества Сергеева-Ценского, играющая чрезвычайно существенную роль во всем его дальнейшем развитии». Смысл всей усиевичевой философий был таков: заставить Сергеева-Ценского замолчать.
В 63-м году, спустя пять лет после кончины Сергеева-Ценского, я жил в ялтинском Доме творчества в одно время с Семеном Родовым, одним из первых лихих наездников в советской критике, так называемом «напостовцем», то есть рапповцем до раппства, предшественником и предтечей Авербахов и Ермиловых, баловавшимся и стишками, которым он дал особое название – «коммунары» и за которые его Маяковский отличил, ибо по части скуки, да не простой, а «казенного образца», Семен Абрамович и впрямь мог заткнуть за пояс почти любого из своих современников и по праву занимает самую последнюю ступеньку той лестницы бездарностей, какую в «Юбилейном» выстроил Маяковский:
От зевоты скулы разворачивает аж! Дорогойченко, Герасимов, Кириллов, Родов — какой однаробразный пейзаж!«Однаробразный» Родов, предаваясь простодушным литературным воспоминаниям, поведал мне, что он уже в 44-м году, то есть после того как Ценский получил за «Севастопольскую страду» Сталинскую премию первой степени, сказал тогдашнему руководителю Союза писателей Поликарпову, идя с партсобрания домой:
– Что вы носитесь, Дмитрий Алексеевич, с этим антисоветским писателем – Сергеевым-Ценским?
Родов только упрекал, но никаких конкретных предложений не делал, – по крайней мере так он мне рассказывал, – а Лев Субоцкий после войны дважды предлагал Симферопольскому обкому «покончить с Ценским». Инерция ненависти к Ценскому действовала и тогда, когда Ценский был уже «вельможей в случае».
А, с позволения сказать, «старые товарищи» пользовались положением Ценского – положением «гадкого утенка». В 1933 году я прочел вывешенное на стене Дома Герцена, где в те годы, как сказано в шуточной поэме Багрицкого, «за пушкинской задницей пышно цвела советская литература», постановление Всероскомдрама[42], разбиравшего жалобу Денского на то, что Тренев, украв у него тему и сюжет пьесы» поставил ее в Театре под руководством Завадского и напечатал в «Новом мире» под названием «Опыт». Плагиат был, надо думать, настолько очевиден, что драматурги, стоявшие на задних лапах перед автором «Любови Яровой», находившимся в большой чести у власть имущих, и смотревшие свысока на отверженного Ценского, все же вынесли половинчатое решение: хотя, мол, это и не плагиат, но все-таки Тренев обязан выплатить Ценскому такую-то долю гонорара. А на самом-то деле Тренев оказался махровым жуликом» Об этом мне спустя семь лет подробно рассказал Сергей Николаевич. С Ценским Тренев был в приятельских отношениях. Оба с давних пор жили по соседству (один – в Ялте, другой – в Алуште), вместе переживали гражданскую войну, разруху, голод. Однажды Ценский обратился к доброму соседу с просьбой прочесть только что написанную им пьесу и, буде она покажется ему в делом приемлемой, внести в нее изменения, какие он найдет нужным, и протолкнуть в какой-нибудь театр, ты, мол, Андреич, гораздо лучше меня знаешь театр, требования сцены, – тут я тебе даю carte blanche[43] – и в театре у тебя большие связи, а у меня никаких; на пьесе будут стоять и твоя и моя фамилии, гонорар – пополам. Приятель не замедлил с ответом: пьесу прочел, она ему очень нравится, но только местами она не сценична, – это он берется поправить. Проходит много времени. Приятель – ни гу-гу. Ценский справляется, в каком состоянии работа над пьесой. Тренев ответил, что когда он стал вчитываться в пьесу, то убедился, что из нее ничего сделать нельзя: она и не сценична и по идеологии не подходит. Ценский забрал пьесу и успокоился – получать подобные афронты ему было не впервой. В один прекрасный день он узнает, что какая-то новая пьеса Тренева идет в Москве у Завадского. Ему показалось странным, что «Андреич» ничего ему про свою новую пьесу не говорил, и вдруг она уже идет на сцене!.. Мелькнуло минутное подозрение и тут же исчезло. Каково же было его изумление, когда он увидел эту «новую пьесу» Тренева в «Новом мире» и убедился, что в основном это его пьеса, та самая, которую Тренев забраковал как несценичную и идеологически невыдержанную!
Помимо всего прочего, такие явно неудачные вещи Сергеева-Ценского, как «Мишель Лермонтов», «Гоголь уходит в ночь», «Невеста Пушкина», сужали и без того немноголюдный круг его поклонников. Они привлекали к себе своими названиями, потому что нас хлебом не корми – дай почитать про великих людей, и тут же отталкивали мало-мальски взыскательного читателя. Клио – не муза Ценского: все жертвы, которые он сперва добровольно, а потом уже вынужденно приносил ей, она с негодованием отвергала.
На эти его неудачи я глаз не закрывал: я любил Ценского по-настоящему, а значит, не слепо. Но зато Сергеев-Ценский писатель, ищущий вечное в современном, был мне близок всеми своими особенностями и свойствами, всеми своими средствами и приемами, всей сноровкой своей и повадкой[44].
26 октября 1940 года московские писатели собрались в своем клубе, чтобы отметить 65 лет со дня рождения С. Н. Сергеева-Ценского и 40-летие его литературной деятельности. Председательствовал на юбилейном вечере А. Н. Толстой. Запомнились мне гости – В. В. Вересаев, И. А. Новиков, М. М. Пришвин, К. И. Чуковский, А. С. Новиков-Прибой, В. Б. Шкловский, Н. И. Замошкин. Краткую, но мудрую и поэтичную речь произнес М. М. Пришвин. Он сказал, что далекий суд будущих читателей рисуется ему в виде костра. На этом костре сгорит все обветшавшее, все мишурное. От иных писателей он ничего не оставит, их наследие сгорит дотла, у иных что-нибудь да пощадит, у кого больше, у кого меньше.
«И вот я твердо верю, – заключил Пришвин, – что Сергееву-Ценскому выпало на долю редкое для писателя счастье – ему удалось написать несгораемые слова».
Из крупных вещей Сергеева-Ценского я больше всего любил и люблю роман «Обреченные на гибель», действие которого происходит в Симферополе, в канун первой мировой войны. «Кто обречен?» – под таким заглавием в «Красной нови» была напечатана статья об этом романе критика Лопашева. Я уж не помню, как отвечал на этот вопрос Лопашев. Попытаюсь ответить по моему собственному крайнему разумению. В первую очередь обречен Худо лей, «святой доктор», как звали его в городе. Разве большевики потерпят людей, наделенных «талантом жалости»? Инженера Дейнеку, если только он не сойдет окончательно с ума, «в начале славных дней» Ленина ждут арест, обвинение во вредительстве по статье 58, пункту 7 Уголовного кодекса, процесс – и Ухто-Печорский концлагерь. Отец Леонид предощущает надвигающуюся на него и на его детей беду; в апокалипсическом видении он прозревает гоненье, которое новая власть воздвигнет на все русское, белое и черное духовенство: «Вот, лечусь… Лечусь… Но почему же так страшно?.. Почему же тоска смертная?.. Слабым умом своим постичь не могу, – путаюсь… «но сердцем чую… чую!.. Двое деток у меня… Они здоровенькие пока, слава Богу, – отчего же это, когда глажу их по головкам беленьким, рука у меня дрожит?.. Глажу их, ласкаю, а на душе все одно почему-то: “Ах, на беду какую-то растут!.. Хлебнут, хлебну-ут горя!.. Ах, свидетели будут страшнейшего ужаса!”… Почему это со мной?.. Откуда это? Не знаю… Не могу постигнуть! За что, Господи, посетил видением страшным?.. Стою в церкви своей приходской, и кажется мне: качается!.. Явственно кажется: ка-ча-ет-ся!.. Вот упадет сейчас!.. Не раз крикнуть хотел: – Православные, спасайтесь!.. Но куда же бежать-то, куда же?.. Где спасенье?..»
Ждет гибель и представителя русской буржуазии Федора Макухина, сметливого, удалого, «рискового», фартового, но только-только еще оперившегося, только еще развернувшего крылья для полета, не способного оказать длительное, упорное сопротивление. Обречено на гибель русское офицерство, в огромном большинстве своем расхлябанное, развинченное, опустошенное, погрязшее в семейных дрязгах, подточенное развратом, не готовое, как и буржуазия, к борьбе с напористым и нахрапистым внутренним врагом, как и буржуазия, не боеспособное. Ненадежна и молодежь. Огарочные настроения коснулись дочери «святого доктора» Ели. Ваня, сын художника Сыромолотова, страдает расплывчатым, недальновидным либерализмом. Недаром на него ставит ставку большевик Иртышов. Но, как живописец, он – родной сын своего отца, знаменитого художника Алексея Фомича Сыромолотова. И только кряжистый Сыромолотов-отец еще поборется с Иртышовыми. «…Я бы себя за-щи-тил!..» – говорит он. И он себя защищает: средствами искусства.
Сыромолотов-отец безусловно автобиографичен. Даже внешне он похож на своего ваятеля: та же густая шевелюра и такой же он силач. Такой же страстный и проницательный жизнелюб. И так же прочно засел он в провинции, такой же домосед:
«Очень трудна бывает раскачка для привычных домоседов.
Поди-ка, брось то, что налажено и устроено в течение долгих лет, и кинься куда-то в неизвестное! И мастерской твоей, с которой ты сросся, у тебя нет, и время твое все отнято чем-то совершенно посторонним, и люди вокруг тебя все насквозь чужие, и чтобы даже съесть что-нибудь, нужно тебе куда-то итти, с кем-то об этом говорить, выслушивать, сколько что стоит, вынимать из портмоне и считать деньги – целая куча хлопот, очень досадных, как комариные укусы, и таких же ничтожных, подменяющих своей бестолочью настоящую! привычную жизнь.
Когда Сыромолотов представлял себе., поездку по железной дороге от Симферополя до Петербурга, он чувствовал нечто похожее на зубную боль…» («Пушки заговорили» – роман, служащий продолжением «Вали» и «Обреченных»).
Ценский отмечает, что Сыромолотов в своей новой картине справился со своей задачей, «не прибегая к тем сомнительным приемам, которыми художники, явно слабые, прикрывают именно эту слабость, выдавая их за новое слово в искусстве. Он был прежний по приемам своего письма, сразу чувствовалось, что все, данное на картине, происходит, – именно происходит, – на прежней, прочной, истинно сыромолотовской, дышащей, осязаемой земле». Если Сыромолотов когда-нибудь и хлебнул «декадентской отравы» (Георгий Иванов), то тут же ее и выплюнул; то же, что о Сыромолотове, Сергеев-Ценский мог бы сказать и о себе: «Обреченных на гибель» писал автор не декадентского «Бабаева» и «Берегового»; их писал автор «Движений», «Недр», «Вали», меж тем как, – скажу, забегая вперед, – в последующих частях эпопеи «Преображение России» и в «Севастопольской страде» почерк Сергеева-Ценского можно узнать лишь на отдельных страницах.
А еще Сергеев-Ценский писал своего Сыромолотова с Ильи Ефимовича Репина, Сыромолотовское «Заседание Святейшего синода» – это, конечно, репинский «Государственный совет». Эпизод с Иртышовым, режущим сыромолотовский триптих, навеян происшествием с картиной Репина «Иван Грозный и сын его Иван».
Основной конфликт романа – это конфликт между Сыромолотовым-отцом и революционером-подпольщиком Иртышовым.
Сыромолотову достаточно искоса понаблюдать за ним, чтобы понять, с кем он имеет дело. Он говорит о нем сыну: «Рыж!.. Очень огненный!.. Борода, – как сера, сера с фосфором… В пожарном отношении опасен!.. Очень опасен!» Но Иртышовы могли так раскинуться в России потому, что для них уже взрыхлена почва: «Этот человек, – говорит о нем Эмма, – он, ну, нах фабрик, нах конюшня, ну, а не здесь!.. Он имеет – ну, плохой запах!» – «Ах, как же иначе, когда такая мода нынче: мода на грубость и скверные запахи!..» – откликается Синеоков. Моду эту ввели еще Марки Волоховы.
Инженер Дейнека вспоминает погибшую в шахте лошадь. «Вы вспоминаете почему-то одну только лошадь!.. – возмущается Иртышов. – Лошадь, конечно, тоже народное хозяйство, но у вас там погибла порядочная горсть людей…» По существу, у Иртышова отношение к людям такое же «хорошее», как и к лошадям. Тут он негодует, потому что погибла как-никак «порядочная горсть», а горсть людей, да еще порядочная, это для него народное достояние, хотя и не более того. Когда же речь заходит об его единственном сыне, из которого, по его же словам, вышел вымогатель, вор, хулиган, он огрызается: «Нет у меня времени заниматься такими мелочами, как какой-то гнусный мальчишка…» А свое отношение к искусству он выражает в таких словах: «Живопись мы допускаем.». Живопись мы будем поощрять… Но чтобы она пускала всякие там эстетические слюни, не-ет уж!.. Мы ее приберем к рукам… и пришпорим!» Да ведь это же экстракт из всех грядущих постановлений ЦК о литературе и искусстве!.. Будущее русского искусства предугадывает не только Сыромолотов-отец, но и Сыромолотов-сын. Он изобразил это светлое будущее на своей картине «Фазанник», понравившейся отцу: «Кок в белом, вошедший ночью в фазаний садок, был дан безголовым: верхний край картины оставлял ему только нижнюю часть шеи. Очень дюжая спина смотрела на зрителя, и отчетлив был длинный кухонный нож в черной кожаной ножне, прицепленный к фартуку сбоку.
Освещенные снопом света, испуганно глядели фазаны» золотистые и серебристые, сидевшие рядком на нашесте… Разбуженные от сна, одни подняли головы, другие протянули шеи вперед, и к одной из этих птиц, самой красивой и важной, тянется широкая рука повара».
Возмездие Иртышову приходит в лице сына. Как Иван Карамазов своей теорией «все дозволено» толкнул Смердякова на убийство Федора Павловича, так пока еще только идейный бандит Иртышов породил бандита уголовного, бандита чистой воды.
И вот столкнулись Сыромолотов-отец с Иртышовым. Сыромолотов показал и ему в числе прочих посетителей новую свою картину.
«Вот что происходило на ней:
На переднем плане первой части триптиха, в естественную величину, новенький, блестящий, окрашенный в серое, прямо на зрителя мчался торпедо небольшой, на четыре места, с бритым шофером в консервах спереди. Две женщины и двое мужчин в торпедо – одеты по-летнему, и сзади за ними летний русский вид… Горизонт высокий. На самом горизонте в белесоватой полосе деревенская церковка, но очень зловещий вид у этой белесоватой полоски над горизонтом, над которой взмахивает проливным дождем насыщенная туча. И женщины и мужчины в торпедо красивы, – очень красивы, особенно женщины, – но показана была какая-то напряженность на всех этих четырех лицах. Дана она была как-то неуловимо: слишком ли широки были глаза» слишком ли подняты головы и брови, слишком ли прикованы были эти лица с полуоткрытыми ртами к тому, что делалось впереди их, – но явная была тревога…
Ваня наклонился к отцу и спросил:
– Как же ты назвал картину, папа?
– Картину?.. Да… назвал этто…
Сыромолотов оглядел всех остальных шестерых очень почему-то строго, исподлобья и докончил, откачнув голову:
– Назвал – “Золотой век”».
Иртышов «стал как раз против группы странных существ, осиянных трехдветной радугой, и перочинный ножик, бывший в его кармане, всадил, неуклюже размахнувшись, в волосатую гориллову грудь того, на котором висела судейская золотая цепь…
Он успел и еще в одном месте проткнуть толстый неподатливый, туго натянутый холст, попавши в икру женщины, чесавшей вывернутую ногу».
В разговоре с сыном, происшедшем вслед за этой сценой, отец пояснил ему идею своей картины: «Это – моя правда художника!.. Понял?.. Ты только до “Фазанника” дошел, а я… пе-ре-шагнул через твой “Фазанник”!., Дальше пошел я, чем твой “Фазанник”, и увидел я – “Золотой век”!.. За “Фазанником” твоим!.. Тут же!.. Сразу!.. Способен понять?.. Ты думал, что “Фазанник” – это – там, где-то?.. Здесь “Фазанник” – махнул он кругом себя. – И повар твой – рыжий… Понял?.. Он длиннорукий, как обезьяна, и рыжий… И с ножом!.. С ножом!.. Ты – тоже художник, и ты тоже угадал: с ножом!.. Так в кармане и носит свой нож!.. Пока я жив еще, я должен уметь и… сметь себя защитить… Сметь! – вот слово. А ты не смеешь. Ты сидишь в своем фазаннике и ждешь, когда тебя зарежут!.. Меня не зарежут, конечно!.. Я до такого позора не доживу и жить не согласен, но тебя, – тебя именно зарежут!., раз он у меня, – у меня в доме, на глазах моих готов разорвать мою картину, то что же он сделает с ней в галерее, этот рыжий, когда захватит галереи?.. Он идет к своему золотому веку и придет, – придет!.. И те мужики, – мои мужики с кольями – они ему, конечно, помогут…».
Если бы Сергеев-Ценский продолжил эпопею «Преображение» в тех тонах, в каких он ее начал, он показал бы «бесов» Достоевского, пришедших к власти, он показал бы царство бесов.
Но вот в 44-м году я развернул номер «Нового мира», в котором было напечатано начало романа Сергеева-Ценского под неуклюжим, двусмысленным заглавием (мастерство уже изменяло ему и тут) «Пушки выдвигают», с наслаждением прочел вступление: «Улицы пели», такое «ценское» и по мелодике, и по ритму, и по красочной характерности деталей, с интересом прочел описание «большого гнезда» Невредимовых, опять-таки напомнившее мне моего любимого Ценского, одного из лучших писателей о детях, и вдруг… Сыромолотов-отец, с его-то воззрениями, да еще после случая с Иртышовым, мало того, что, встретив на улице курсистку Невредимову, которую он первый раз в жизни видит и которая просит у него дать рисунок для лотереи в помощь политическим ссыльным, то есть Иртышовым, приглашает ее в мастерскую, но и верит ей на слово, что Иртышов – не революционер, а провокатор, охранник, и тут же решает написать эту девчонку с красным флагом!..
Дальше я читать не стал… «Новый мир» просвистел через всю комнату и, ударившись о шкаф, распался на отдельные листы.
А несколько лет спустя я прочел созданную автором через год после написания «Пушек» новую редакцию «Обреченных», где, помимо многочисленных выбросок и вставок, я обнаружил грандиозную фальсификацию текста. Чтобы подкрепить версию о том, что Иртышов – охранник, нужно было переписать и сыромолотовский триптих, ибо зачем же охраннику резать ножом антисоциалистические произведения искусства? И вот в новой редакции романа третья часть триптиха превращена в апофеоз урбанистической пошлятины во вкусе пролетарских поэтов – Гастева или Самобытника-Маширова.
План этого преступления вынашивался Ценским долго. В опубликованной в 40-м году «Моей переписке с А. М. Горьким» Ценский сообщает, что при свидании с Горьким он ему будто бы сказал, что Иртышов – провокатор. А как он объяснил ему картину Сыромолотова – об этом история умалчивает. Но одно дело замыслить преступление, другое дело – пойти на него. В том же 40-м году Ценский говорил мне: «Я думаю Иртышова провокатором сделать». Значит, все еще посягнуть не решался. И, значит, первоначально Иртышов был задуман иначе. Испохабил «Хождение по мукам» Толстой, но в «идейные писатели» он никогда и не лез; его Рощин и Телегин Сыромолотову не ровни. Об Алексее Толстом ходил анекдот: будто бы в Москву въезжает белый генерал на белом коне, а «первый рабоче-крестьянский граф» в приливе верноподданических чувств бросается к нему: «Ваше высокопревосходительство! Что тут без вас было!..» Словом, с Толстого спрос невелик. Однако невозможно себе представить, например, чтобы Багрицкий создал вторую редакцию «Думы», где бы заставил Опанаса перейти на сторону красных и сделал его краскомом. Даже Шолохов не сдался на уговоры Сталина привести Григория Мелехова в Красную Армию. Советский подхалимаж многолик. Писатели у нас находились и находятся в таких тисках, подвергались и подвергаются таким разнообразным пыткам – пытке непечатания, пытке унижениями и оскорблениями, пытке отречениями ближайших друзей, пытке страхом за себя и родных, пытке голодом, что не всякое проявление подхалимства подлежит строгому суду потомков. Булгаков написал прескверную пьесу о Сталине «Батум»: видимо, ему хотелось поблагодарить властелина, – впрочем, он сделал это весьма неуклюже: язык у него, к счастью, оказался слитком шершавым для вылизывания сталинских ягодиц и уберег его от позора, пьеса не была ни напечатана, ни поставлена, – поблагодарить за то» что главный ее герой не скушал его с потрохами, поблагодарить и задобрить, – авось, еще что-нибудь разрешит поставить; им, вероятно, владело желание, вполне для драматурга естественное: хоть какую-нибудь из своих пьес, хотя бы ценой раболепства, увидеть на сцене!.. Но ведь не сделал же он Мышлаевского контрразведчиком и не привел же он Алексея Турбина в ряды «Коммунистической» партии!
В те годы нужда не стояла у порога дома Ценского. Он выбился из нужды благодаря «Севастопольской страде», был окружен почетом. Его никто не заставлял уродовать свои прежние вещи. Ему никто не мешал претворять в жизнь его замысел – еще раз вступить в соревнование со Львом Толстым и написать эпопею о восемьсот двенадцатом годе. («Я напишу ее по-иному, чем Толстой, – я напишу ее как поэму!» – в 40-м году делился он со мной своим замыслом.) Наверно, это было бы так же нужно, как «Севастопольская страда», но по крайней мере не подло.
А дальше Ценский пустился во все тяжкие, покатился по наклонной плоскости. Он распродавал свое творчество оптом и в розницу. Во время войны из Крыма выслали татар. В послевоенном издании «Вали» Ценский смазал татарский колорит: городской староста Умеров превратился у него в городского старосту Ивана Гаврилыча. В довоенном издании «Вали» было: «Проволокли мимо татарчата на ручных тележках сушняк и что-то пролопотали по-своему громко и весело». В послевоенном издании татарчата заменены ребятишками, и слово «по-своему» выброшено. И становится непонятно, почему Павлику приходится догадываться, о чем говорят ребятишки, раз они говорят по-русски.
В послевоенном издании написанной в 1909 году «Печали полей» (собр. соч., том первый, 1955) Сергеев-Ценский выбросил несколькс абзацев, которые еще сохранялись даже в издании 41-го года, когда религию гнали несравненно яростнее и неутомимее:
«Это была заутреня в старой сельской церкви, непременно деревянной, такой же, как в Сухотинке. Если вслушаться, – слышно бы было, – и Ознобишин слушал и слышал, – как пелась где-то здесь вблизи глубочайшая и красивейшая песня из всех, когда-либо сложенных Богу:
“Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение”.
Издалека, ласково и робко, вступали в русло песни тонкие, как кристаллы снежинок, детские голоса, оплаканные и чистые, – вились и рыдали, и густой синей волной, – вон тою, что была ближе к горизонту, – захлестывали их пожилые, в морщинах:
“Хвалим Тя, благословим Тя, кланяемтися, славословим Тя, благодарим Тя, великия ради славы Твоея“.
Это было нестройно, если вслушаться лучше, и плохо спелись, и слишком туго разгибались голоса, и свечи казались тусклы, а сторож Михей, затопивший печь в притворе, поставил туда подогреть миску вчерашних щей, и деловито пахло ими, ладаном и овчиной, но отчего-то не было для Ознобишина вот теперь, когда он смотрел и думал, ничего святее и выше. И было ясно еще, что Михей, тот же самый, хлопотливый низенький старичок с мощной красной лысиной во все темя, стоит теперь на колокольне и звонит, а звуки плывут вниз и по стенам уходят в землю, и земля гудит под ногами, – вся земля, вместе с озимыми, селами, дорогами, гудит, как огромный колокол навстречу солнцу:
“Во свете Твоем узрим свет”»,В этой же самой повести Ценский сократил цитаты из Псалтири, которую Маша читает над Анной, а то, дескать, количество перейдет в качество, вредно подействует на читательские умы, и число верующих в Советском Союзе, неровен час, возрастет[45].
На юбилейном вечере Ценского, о котором я упоминал, тогдашний директор Гослитиздата Петр Иванович Чагин мимоходом, без дальнего прицела, скаламбурил и нечаянно оказался пророком.
Пришвин произнес на этом вечере две речи. Конец второй я в своем месте привел, а в первой он сравнил Ценского с поющей птицей.
Чагин подхватил:
– Ну, значит, он не Ценский, а Птиценский!.. Впрочем, по-французски-то это выходит не совсем лестно для юбиляра, а, Сергей Николаевич? Petit-Ценский!
Ценский выдержал голод и разруху. Ценский в течение ряда лет выдерживал хулу и глумленье. Он не выдержал богатства и почестей. Но верноподданническими романами он еще утяжелил свою писательскую судьбу: старых читателей отпугнул, а новых если и приобрел, то очень немного, преимущественно таких, которые читают его «Севастопольскую страду», потому что их интересует Севастопольская оборона, и которым безразличен автор и его почерк. Большинство, понюхав «Синопский бой», «Флот и крепость», «Пушки выдвигают», «Пушки заговорили», «Утренний взрыв», идут прочь, ибо это несъедобно, как бариевая каша, как мел. Сергеев-Ценский сам себя превратил не в советского Данилевского, не в советского Всеволода Соловьева, не в советского Салиаса, – всем трем нельзя отказать в остроте сюжетной выдумки, в уменье плести интригу, Данилевскому – в богатстве изобразительных средств, в картинности описаний, – а в советского Шеллера-Михайлова, столь же плодовитого, пухлого, тягучего, пресного, но только пишущего на исторические темы.
Речь, какую произнес о Ценском в 40-м году Пришвин, можно было произнести на официальном банкете не прежде, чем получила официальное признание «Севастопольская страда», – иначе не было бы никакого юбилейного банкета. Обладавший журналистским верхним чутьем, Евгений Петров унюхал в тогдашней международной обстановке своевременность появления такой вещи, как «Страда». Отношения СССР с Англией, Францией и Турцией час от часу портились. Эпопея, доказывавшая, что в войне с коалицией помянутых держав мы в минувшем столетии по существу, в конечном счете одержали над ней победу, и не только моральную, но и военную, неожиданно приобретала актуальность. В 1938 году статью на эту тему влиятельный журналист Евгений Петров поместил в «Литературной газете». В той же статье он сказал гневные и решительные слова о недопустимости травли большого писателя. Некоторое время спустя «Страда» была выдвинута на Сталинскую премию, а в 1941 году Сталинская премия наряду с «Тихим Доном» Шолохова и «Петром Первым» Ал. Толстого была ей присуждена.
Но и после «Страды» Сергеев-Ценский, несмотря на выказываемые им усилия и старания, не всегда умел потрафить. Роман «Пушки выдвигают» (1944) был встречен написанной со знанием дела, на удивление вежливой, однако справедливо вскрывавшей неорганичность этой вещи для Ценского и мягко указывавшей ему на политические ошибки статьей Сучкова в «Большевике». Роман «Пушки заговорили» журнал «Новый мир» отклонил. С ортодоксальной точки зрения, Ценский преувеличил патриотические чувства русского общества в начале первой мировой войны, – он «ревизовал» в этом вопросе Ленина, который из заграничного «далека» судил об этих настроениях с апломбом человека, находящегося в эпицентре событий. Снова заскрипела обмакиваемым в навозную жижу пером Усиевич. И только после войны шайка Пермитиных и Шевцовых, втянув старика Ценского в свою литературно-политическую игру, принялась водить вокруг него хороводы, петь ему величальные песни, и Ценский сподобился получения «высшей награды» – ему был вручен орден Ленина.
Почему же все-таки Ценский так удручающе низко пал? Тут действовала совокупность причин. Нельзя не принять в соображение возраст писателя: его дар начал осыпаться, вянуть и опадать еще до работы над «Страдой». В 1935 году я ахнул, прочитав в «Октябре» новую вещь Ценского «Загадка кокса». Для первой ее главы он взял старый прекрасный, восхитивший в свое время Короленко, рассказ «Небо» – и загубил его.
Маленький мальчик Леня» увидев в цирке» как одного из клоунов били по щекам, воскликнул: «Не надо!» – и своим протестом раскрыл глаза на унизительность варварского этого зрелища «взрослой» публике, которая вслед за ребенком начала громко выражать свое негодование.
На другой день гостивший у Лениных родителей художник «дядя Черный», возвращаясь домой, думал о Лене под шум поезда:
«Было душно и мутно, но дядя Черный не замечал этого так остро, как бывало всегда. Вез с собою что-то радостное» как пасхальный звон, и чем больше всматривался в него, уйдя вглубь глазами, тем больше видел, что это – Леня.
Дядя Черный вышел на площадку вагона, где сгустилась отсырелая ночь и падал равнодушный, жиденький, но спорый, как все осенью» дождь, – и здесь, на свободе, в какую-то молитву к Лене складывались мысли:
– Леня! Пройдет двадцать лет. Дядя Черный станет седым и старым. Что если услышит он вдруг, что ты стал среди жизни испуганный, оглянулся кругом и крикнул – громко, на всю жизнь, – как тогда на весь цирк: «Не надо!..» Да ведь это слово пророков, проклинаемых и распинаемых на крестах, это слово безумцев, – но это святое слово. И разве земля придумала его? – Нет, оно упало когда-то с неба и живет – в загоне, в отрепьях, но живет, скорбя, и глядит всевидящими глазами. Леня! Что если ты сохранишь его в себе и вырастешь с ним вместе? Не бойся, что, услышавши тебя, над тобой рассмеются! Знай, что ты носишь небо, – самое лучшее, что есть на земле… И разве не навсегда оледенеет земля, если отнять от нее небо?..»
Рассказ «Небо» Ценский написал в 1908 году, а в 35-м попытался из этого «семечка» вырастить целое «дерево». Но из такого Лени не мог вырасти скучный сухарь, «советский специалист» Леня Слесарев. И хотя, как свидетельствует Ценский, подобную метаморфозу подсказала ему сама жизнь, хотя он знал именно такого мальчика, тоже Леню, но только Сапожникова, сына своего друга, и этот Леня впоследствии действительно стал специалистом по коксу, читатель не верит, что это одно и то же лицо, даром что Ценский, чтобы читателю способнее было перекинуть мостик, сильно сократил в романе мысли дяди Черного о Лене. Я тогда же с болью в сердце подумал, что это начало конца Сергеева-Ценского, но я не мог предполагать, что конец этот будет столь постыден. Когда писатель начинает надстраивать старые дома, вместо того чтобы строить новые, это значит, что его созидательный порыв выдохся.
«Севастопольская страда» принесла писателю славу, горечь которой он на первых порах ощущал, но все-таки это была слава, тем сильнее пьянящая, что до той поры он ни разу не испил из ее кубка. Хмель не мог не ударить ему, трезвеннику, в его уже старую голову, и она у него закружилась. Постепенно ощущение горечи проходило, постепенно он уверовал в подлинность снизошедшей на него славы.
К этой вере примешивалось торжество победителя: что, мол, господа Субоцкие? Попрятались за подворотнями? Ваша же власть, именем которой вы подписывали мне как художнику смертный приговор, меня возвеличила. Теперь вы – цыц!
Мало-помалу Ценский, смотревший в лицо голодной смерти на заре революции и потом еще долго нуждавшийся и бедствовавший, вошел во вкус довольства, во вкус положения «лауреата», когда деньги сами отовсюду плывут.
А маразм между тем крепчал, сопротивляемость и тела, и ума, и духа с каждым днем падала.
И, конечно, как во многих случаях жизни, тут надо еще ehercher la femme. Жена Сергеева-Ценского, Христина Михайловна, была мать-командирша, баба-жох. Она вошла во вкус мужниной известности и богатства еще раньше, чем он. Он впадал в детство – она начала им вертеть.
Продолжать и портить старые вещи – это превратилось у Ценского в манию. Герой его дореволюционного романа «Наклонная Елена» (1913) – горный инженер Матиец – воплощенное русско-интеллигентское, бесхребетное, подточенное рефлексией прекраснодушие. Но вот в 1954 году Ценский «пришивает кобыле хвост» – пишет вторую часть романа, где по щучьему велению, по авторскому хотению теперь уже почему-то не Матиец, а Матийцев превращается в бунтаря, а в последующих частях эпопеи «Преображение России», опять-таки точно в сказке, обертывается железобетонным, бежавшим с каторги большевиком Даутовым. Условно деля героев Ценского на «дивеевцев» и «краснощеких», я не по ошибке, а совершенно сознательно зачислил Матийца и Даутова по разным «ведомствам», ибо это два разных человека, ничего общего между собой не имеющих. Прочтите «Наклонную Елену», а затем «Память сердца», которые Ценский лишь в предсмертном симферопольском издании сшил гнилыми нитками, – даже под микроскопом вы не уловите у Матийца и у Даутова ни одной общей черты. В новой редакции «Пристава Дерябина» автор неправомерно выдвинул ничем не примечательного Кашяева и задвинул как из бронзы вылитого им в свое время (1910) пристава.
В «Преображении России» Сергеев-Ценский напрасно изменил своему первоначальному принципу, отчетливо проведенному в первых двух частях эпопеи: главные герои предыдущей части (Дивеев, Наталья Львовна, Илья, Павлик) отходят на задний план» уступая место новым (отцу и сыну Сыромолотовым, Иртышову, Худолею, Еле). Этого принципа ему и надлежало придерживаться. О Сыромолотове-отце все уже сказано в «Обреченных», Эту тему автор исчерпал, Дальше ему сказать о нем нечего. Если не считать неправдоподобной до абсурда «идейной перестройки» Сыромолотова» в которой ловкости авторских рук мы не наблюдаем» а зато выступает неумелый, незадачливый, оскандалившийся фокусник» художник предстает перед читателями в дальнейших частях точь в точь таким же, каким он вошел в эпопею, – с теми же привычками, с его особым пошибом, с его особою статью. Ни одной черты к его портрету не в силах прибавить Ценский и лишь назойливо, надоедливо бормочет: «Зоркие глаза художника», «Сыромолотов зоркими глазами художника…»
Сергеев-Ценский пишет теперь романы ни о чем, вроде «Утреннего взрыва», перед которым ни с того, ни с сего распластался Шолохов. Кроме взрыва корабля, которому посвящено несколько и впрямь сильных страниц, в романе почти ничего не происходит, в нем все и вся топчутся на месте. Это не кажущаяся, обманчивая неподвижность «Печали полей», неподвижность «Вали» – это самый настоящий застой. Это не тихая только по виду река с омутами, с воронками, с ключами, бьющими на дне» – это мелкое» стоячее болото. Если раньше отсутствие сюжетного движения восполнялось у Ценского глубиной мысли, быстриной чувств» стремительной сменой настроений, живостью описаний, то теперь застылость, безжизненность, манекенность одних героев, декларированность превращений, которые происходят с другими персонажами, омертвелость всех тканей произведения восполняют нескончаемые словоизвержения автора и бездействующих лиц.
Большая душа художника-человеколюбца, автора «Живой воды», выродилась в душонку автора «Свидания» – незаконченного эпилога незаконченной эпопеи «Преображение России». «Свидание» написано не художником, а плакатчиком из РОСТА времен гражданской войны, не писателем, а сотрудником журнала «Безбожник».
Искусство мстит за себя Сергееву-Ценскому планомерно и беспощадно. Его месть настигает изменника на всех путях. Ценский утрачивает ощущение исторической колоритности слова. В «Весне в Крыму», действие которого протекает летом 17-го года, Ценский употребляет слова, появившиеся после Октябрьской революции, да и то далеко не сразу: «партиец», «горсовет».
Оскудение таланта выражается и в утомительно-раздражающем однообразии интонаций.
Худосочная и небрежная скоропись появилась у Ценского впервые в «Загадке кокса» – Ценский впервые тогда брался за тему не близкую его душе, и эта чуждость материала не замедлила сказаться на языке, между тем, даже в его романах о Пушкине и Лермонтове, в целом не состоявшихся, автора неизменно выручает язык – самое сильное из средств, имевшихся в распоряжении Ценского. Разгул скорописи являет собой знаменитая «Севастопольская страда», которую Ценский начал писать «не от хорошей жизни»: «…не было уж свадебных карет, да они и не нужны были: расстояние было небольшое, и удобнее было его пройти, чем проехать, – так искалечены уже были воронками улицы.
Вечер же был прозрачен…»
Пропало чутье, омертвели руки, померкло зрение, изменил слух, заглохла совесть…
Уже народилась «Загадка кокса», уже окончилась «Севастопольская страда», а моя любовь к Сергееву-Ценскому все еще бурлила во мне и так настойчиво искала выхода для своего проявления, что я задумал писать о нем книгу. Я начал работать над книгой без договора, даже без устного соглашения с каким-либо издательством: перечитал самого Ценского с карандашиком; начал понемногу перечитывать наиболее характерных его ровесников, старших и младших его современников: Короленко, Чехова, Горького, Бунина, Куприна, Вересаева, Чирикова, Серафимовича, Леонида Андреева, Арцыбашева, Бориса Зайцева, Сологуба, Андрея Белого, с тем чтобы на этом фоне четче и ярче проступили контуры и краски прозы Ценского; составил подробный – на несколько страниц – конспект своей книги. Конспект я решил вынести на суд самого Сергеева-Ценского. Мне казалось правильным заручиться его принципиальным согласием на то, чтобы я писал книгу о нем.
Разговоры о будущей книге и положили осенью 40-го года начало нашему, в силу обстоятельств непродолжительному, знакомству. И в ходе этих разговоров резко обозначилась, выявилась сила нашего взаимного духовного тяготения.
Мое влечение к Ценскому подробных объяснений не требует. Наконец-то передо мной был любимый писатель. Каков-то он не в книгах, а в быту, на диване, за чайным столом? Каковы его вкусы? Что он ненавидит? Что любит до страсти?.. Для Сергеева-Ценского это была встреча с читателем, относительно молодым и, что было ему особенно важно, безвестным – как литератор я тогда еще являл «вещь в себе». Быть может, никому так редко не удавалось услышать отклик на свое слово, как Сергееву-Ценскому. Читательское сочувствие давалось ему воистину как благодать. Недоверчивое внимание, вслушивание в незнакомца длилось недолго. Лед тронулся в середине первой же встречи. А во время второй беседы Сергей Николаевич смотрел на меня с такой любовью, с какой ни до, ни после него не смотрел на меня почти никто из моих знакомых. И потом в продолжение наших встреч я все время ощущал на своем лице греющую ласку его цепкого взгляда. Я глубоко убежден» что пресловутая нелюдимость Ценского была «благоприобретенной». Поневоле замкнешься после того, как прожил несколько лет в одичалом краю, среди людоедов в переносном и буквальном смысле слова (вспомним «В грозу»); когда каждую ночь надо было быть готовым к тому, что тебя могут ограбить, убить; когда дневной грабеж, то бишь реквизиции, стал бытовым явлением (вспомним «Рассказ профессора»). Поневоле Сергеев-Ценский замкнулся после того, как алуштинский Горсовет, в 18-м году готовивший Варфоломеевскую ночь для местной интеллигенции, едва не поставил его к стенке, ибо имя его в проскрипционном списке, состоявшем из 26 имен, стояло первым, и он спасся бегством (об этом он сам рассказал в неопубликованной автобиографии, написанной 11 февраля 1945 года). Поневоле Сергеев-Ценский замкнулся после того, как имущество у него алуштинскими властями было конфисковано. Поневоле Сергеев-Ценский замкнулся после того, как его еще два раза едва не «отправили к Аврааму», «…то, что я уцелел тогда, я приписываю необыкновенному счастью, выпавшему мне на долю», – пишет в той же автобиографии Сергеев-Ценский. Поневоле Сергеев-Ценский замкнулся после многократных обысков у него в доме, когда изымались даже карманные часы и серебряные ложки, после того, как к нему явился предгорисполкома с целью отобрать у него дом[46]. Поневоле замкнешься, если уж после того, как страна сменила френч и галифе военного коммунизма на нэповскую «прозодежду», тебя в продолжение десятилетия изничтожали как писателя. Поневоле замкнешься, если даже один из «старинных друзей» обошелся с тобой так, как не поступил бы ни один благородный вор-домушник, своих не трогающий. Будь Сергеев-Ценский от роду необщительным, как мог бы он приобрести такое совершенное знание жизни, людей? От природы он был не нелюдимым, а сдержанным. За послереволюционные годы он привык одиночествовать. В сущности говоря, одиноким остался он и по вступлении в «брак законный». Вот почему такой режущей душевной болью отозвалась в нем гибель падчерицы, о которой он рассказал в повести «В грозу», – по-видимому, это было одно из немногих встретившихся на его пути созданий, ничего, кроме радости, ему не доставивших.
Недоверчивость одинокого и затравленного человека в нем угадывалась с первого взгляда. Тем отраднее было мне, когда эта его угрюмая сдержанность прорвалась так же внезапно, как в летний день на небе прорывается хмарь.
Разумеется, мы оба осторожничали, политических акцентов старались не ставить. Знакомы мы были без году неделю. Ценский мог лишь смутно догадываться о моем мировоззрении – по одному тому, что любить его как писателя способны были тогда лишь те, кто советской действительности не принимал. И все-таки он видел перед собой питомца революционной эпохи. Он был не Свят Дух, чтобы постигнуть всю глубину и силу моего отрицания. Я же воздерживался от политических высказываний из боязни, как бы он не подумал, что я к нему подослан. Ежовщина отсатанела. Кровавый карлик с головой кретина канул в безвестность. В Наркомвнуделе произошел очередной перетряс. Кое-кого из наиболее видных ежовщиков расстреляли, посадили, – во-первых, за то, что они слишком много знали, а во-вторых потому, что новый нарком – Берия – почел за нужное окружить себя без лести преданными ему людьми. Кое-кого перевели на другую работу, – перебросили в армию, назначили директорами театров, директорами бань. В районных городишках начальников НКВД перетасовали. Их деятельность уж слишком была на виду. Неудобно было держать их на том же месте, когда те, кого они арестовывали, над кем они измывались, кого они избивали на допросах, гуляли теперь под их окнами на свободе. Их будто бы снимали, а на самом деле переводили на ту же самую должность в другие города. Мы истосковались по тишине, и потому иные из нас уверовали в ее прочность. На ее фоне отрезвляюще и предостерегающе прозвучали раз за разом два громовых удара – вести о том, что арестованы Бабель и Мейерхольд (1939 год). Вильям-Вильмонт подвел эти события под рубрику: «Серия Берия». Распускание языков продолжало оставаться не самым благоразумным из приватных занятий советского человека.
Впрочем, однажды Сергей Николаевич вышел за рамки чисто литературных разговоров. Речь шла о Горьком. Ценский сказал, что если б не Алексей Максимович, его бы, по всей вероятности, вовсе перестали печатать, и тут же вспомнил об одной из последних с ним встреч:
– Приехал я из Алушты в Москву, сейчас же позвонил Горькому. Мне ответили, что его нет в Москве. Я назвал себя. Тогда мне сказали, что Алексей Максимович – в Горках, будет рад меня видеть, и сообщили, как туда проехать. Я поехал в Горки, Алексея Максимовича дома не застал. Оказалось, что он с целой компанией пошел разжигать костер. Это было неподалеку от дома. Мне указали, как туда пройти. Я нашел Алексея Максимовича в таком окружении: его невестка, поодаль корчует сушняк Авербах, – я сразу узнал эту летучую мышь по фотографиям, – и еще какой-то незнакомый мне человек в полувоенной форме; он сидел на земле» поджав под себя ноги, и до неприличия, до жути неотрывно смотрел на «Тимошу», Я позволил себе плоскую, но, как мне показалось, невинную шутку: «Авербаху и тут неймется. Ему непременно нужно что-то выкорчевывать. Он все выкорчевывал контрреволюцию в литературе, ну, а теперь, когда РАПП ликвидирована, довольствуется сушняком», И вдруг я заметил» что Горький смотрит на меня испуганно и, показывая глазами на человека в полувоенной форме, прикладывает палец к губам. Я ничего понять не мог – что я такого сказал? И кто этот человек, при котором нельзя даже так невинно шутить? Я улучил минуту, когда человек в полувоенной форме увлекся костром, и шепнул Горькому: «Алексей Максимович! Кто это?» – «Неужели вы не знаете, Сергей Николаевич? Да ведь это же Ягода!» И так мне тогда стало жалко Алексея Максимовича! Кто его окружал! И до чего же он был, значит, запуган!
Я не припомню, чтобы Сергей Николаевич еще раз ступил при мне на более или менее склизкий камешек. И все же наши беседы были содержательны и задушевны.
Когда я собрался уходить от Ценского после второй, сильно затянувшейся беседы, он попросил меня подождать, вышел в соседнюю комнату и, очень скоро вернувшись, с какой-то сконфуженной улыбкой протянул мне книгу: это было первое, симферопольское издание «Вали» 23-го года.
– Простите мне нечаянный каламбур, но повинны в нем вы, а не я, – сказал он.
Я не удержался – развернул книгу и прочел: «Горячо мною любимому Николаю Михайловичу Любимову – С. Сергеев-Ценский».
Одна из наших первых бесед, целиком посвященная творчеству Сергеева-Ценского, подходила к концу, когда вошла Христина Михайловна, чтобы позвать нас в столовую пить чай с только что собственноручно испеченными ею пирожками. Сергей Николаевич показал ей глазами на меня.
– Он всего меня читал! Всего меня знает! – в восторженном изумлении воскликнул он.
Как-то я прочел ему подробный конспект задуманной мною книги о нем. Ценский, тогда уже с изрядной глушиной, слушал, склонив голову набок и наставив более слухменое ухо. Мы с ним только успели обсудить мой конспект, как вошел Николай Иванович Замошкин. Сообщив гостю, чем мы тут только что занимались, Ценский с радостью ребенка, которому подарили давно желанную игрушку, сказал:
– А Николай Михайлович меня и как художника разбирает!
Я задал ему однажды вопрос, чье влияние он на себе испытывал. Ценский ответил, что он больше всех других писателей любит Лермонтова, Гоголя (он произносил почти – Хохоля) и Пушкина, – особенно первых двух, но что влиять на него никто никогда не влиял, даже на первых порах, что он вполне самобытен. Спорить с ним я, конечно» не стал, но уже тогда мне было ясно, что он заблуждается. На пустом, голом месте цветы искусства не произрастают. Даже гениев первое время подпирают одаренные предшественники. Что же касается самого Ценского, то как он ни умалял Чехова («У Чехова все интеллигенты говорят одним и тем же, и притом книжным языком – возьмите хотя бы “Дуэль”», – уверял меня он), именно в этом настойчивом умалении проскальзывала зависть ученика, который не стяжал славы учителя. В таких рассказах Сергеева-Ценского, как «Погост», «Дифтерит», «Бред», – чеховская атмосфера, чеховская обстановка, чеховские герои; и в авторской и в прямой речи звучат чеховские нотки. Гораздо существеннее то, что в своем импрессионизме Сергеев-Ценский шел по стопам Чехова. Пейзаж Ценского при всем его новаторстве стал возможен только после «Степи», «Ведьмы», «Волка», «Счастья», «Святою ночью», «Архиерея», «В овраге». Дорога Ценскому была проторена Чеховым.
Гоголевское влияние на Сергеева-Ценского неоспоримо. Влияние это осуществлялось не только потайно, но и явно. Откроем «Медвежонка»: «Сибирь – большая; – едешь-едешь по ней – день, два, неделю, полмесяца, без передышки, без остановки, – фу, ты, пропасть! такая уйма земли и вся пустая. Вылезет откуда-то из лесу десяток баб с жареными поросятами в деревянных мисках, посмотрит на поезд спокойный обросший человек в красной фуражке, просвистит, как везде, кондуктор, соберет третий звонок пассажиров, разбежавшихся за кипятком, – и тронулись дальше, и опять пустые леса с обгорелым желтым ельником около линии, потом опять станции, бабы с поросятами, человек в красной фуражке, кипяток, – и никак нельзя запомнить архитектуры этих маленьких станций на пустырях, – так они какие-то неуловимые: постройка, и только».
Когда человеку беспрерывно кадят, у него кружится голова от запаха ладана, и он перестает разбирать, что у него и впрямь хорошо, а что худосочно, незрело. Так случилось с Горьким. Когда же вокруг человека не утихают глумленье и брань, нужно обладать очень трезвым умом, чтобы наперекор глумящим и поносящим не впасть в самовосхваление (люди не хвалят, так дай же я сам себя похвалю), не заболеть гипертрофией собственного «я». Действие равно противодействию. Если человека недооценивают, принижают, умаляют, бранят незаслуженно, у него вырабатывается самозащитный рефлекс – самоутверждение, с годами переходящее в самоупоение. Человека, которого за все подряд ругают, в конце концов ожидает та же участь, что и человека, которого за все подряд превозносят: он перестает отличать сильные свои стороны от слабых, перестает отдавать Себе отчет, что ему удалось и что не в его средствах. Ценским именно этот недуг и овладел. В пору моего с ним знакомства названный недуг проявлялся у него обычно в форме обезоруживающе наивной.
Однажды я забежал к нему в середине дня. Ценский вышел ко мне какой-то особенно жизнерадостный и бодрыйю
– Сегодня утром я доставил себе огромное удовольствие» – заговорил он. – Я готовлю для переиздания в «Советском писателе» сборник своих старых произведений и с этой целью перечитал «Печаль полей»… Какая конштрукчия ижумительная! – растроганно прошамкал он.
Гораздо менее умилительными были, по правде сказать, те параллели, которые он проводил между собою и такими писателями, как Лев Толстой. Ценский не любил Толстого. Тут он был в своем праве. Но когда он говорил мне, что «у Толштого в “Щеваштопольшких рашкажах” и в “Войне и мире” вще шражения на одно лицо, а у меня в “Щеваштопольшкой штраде” их гораждо больше, и вше они – ражные», то – признаюсь – я ерзал на стуле. «Щеваштопольшкую штраду» автор перегрузил батальными сценами, похожими одна на другую до того, что они сливаются в воображении читателя. Этого Ценский не видел, как не понимал он, в отличие от нелюбимого им Льва Толстого, что нельзя писать объемное, как он называл «Страду», произведение только о войне. Только о войне Лев Толстой написал «Севастопольские рассказы». В эпопее война 1812 года оттенена у него миром (и каким миром!), а мир оттенен войной. У Ценского в «Севастопольской страде» тыловых сцен очень немного, и они расплывчаты, водянисты, либо прослоены непроваренной публицистикой; пружина любовной интриги слаба. Между тем «Война и мир» поражает не только своей портретной, психологической, батальной и пейзажной живописью, но и своей мудрой архитектоникой. Да и не только автор «Войны и мира», но и автор «Тихого Дона», и автор «Хождения по мукам» принимали в соображение, что одними батальными сценами читатель не может быть сыт, что одни батальные сцены ему приедятся и опротивеют.
Вообще, говоря о каком-нибудь писателе, Ценский любил проводить между ними с собой параллель – в свою пользу. Как-то раз нелегкая дернула меня упомянуть статью Усиевич «Творческий путь Сергеева-Ценского».
– Не говорите мне об Усиевич! – сжав кулаки, вскричал Ценский. – Не говорите мне об этой мерзавке! Не говорите мне об этой стерве!
Я уж не рад был, что назвал ненавистную ему фамилию.
– Сергей Николаевич! Поверьте, что я о ней не лучшего мнения. Ее статья – это растянутый печатный донос. Но я, ведь, собственно, не о ней… Как вы сами считаете: в ваших ранних вещах действительно были какие-то следы влияния Леонида Андреева, которые она вслед за Воровским пытается у вас обнаружить?
Ценский негодующе развел руками:
– Что у меня общего с Леонидом Андреевым? Андреев выступает в своих сочинениях то как прокурор» то как адвокат. А я не навязываю читателям своего отношения ни к героям, ни к событиям. Пусть судят без моей подсказки. Я – объективен, хотя далеко не бесстрастен. Леонид Андреев – риторичен, я – поэтичен. Леонид Андреев – схематичен, а я – весь из плоти и крови. Похожи мы с ним, как гвоздь на панихиду.
Даже когда я заговорил с Ценским о Горьком, он не замедлил отметить несходство. Горького он любил, хотя в этой любви было, по-моему, нечто от любви кукушки к петуху, но только «кукушки», хвалящей «петуха» искренне, не подозревающей истинной причины восторгов, которые она расточает «петуху», хвалящему «кукушку» уже совершенно бескорыстно. Горький нимало не кривил душой, когда писал Ценскому из Германии в Алушту в июне 23-го года по прочтении «Вали»:
«Хвалить Вас я могу долго, но боюсь надоесть. В искренность же моих похвал – верьте, ведь мне от вас ничего не надо, надо мне одно: поделиться с Вами радостью. Вами же и данной мне. “Твоим же добром да тебе же челом” или “Твоя от Твоих Тебе приносяще”».
Как бы то ни было, Ценский неоднократно говорил мне о своей любви к Горькому-писателю, о своей благодарной любви к Горькому-человеку. И все-таки когда я сказал Ценскому о том, что поэзия стоит уже у порога его произведений, и начал перечислять его заглавия, он не преминул заметить:
– Да, у меня заглавия поэтичные… А вот у Горького заглавия намеренно прозаичные, в сущности, ничего не говорящие: «Фома Гордеев», «Букоемов, Карп Иванович», «Васса Железнова», «Жизнь Клима Самгина», «Егор Булычев и другие», «Достигаев и другие»… Он даже шмелевское оригинальное, поэтичное заглавие – «Под музыку» – заменил на «Человек из ресторана»: ему важно было уже в заглавии подчеркнуть социальное положение героя.
Когда я спросил Ценского, не ошибочен ли мой вывод, что в послереволюционном его творчестве музыкальный лиризм уступает место юмористически и сатирически окрашенной бытописи, описания и отступления вытесняет характерологический и сюжетный диалог, сказ, он подтвердил правильность моего заключения и добавил:
– В основе моих послереволюционных произведений лежат наблюдения над социальными процессами.
Касались мы в разговорах и отдельных его произведений.
Вот что говорил мне о них автор:
– В «Жестокости» я нарочно дал тщательно и подробно выписанные картины детства героев – я хотел быть беспристрастным.
– «В грозу» – повесть чисто автобиографическая: Максим Николаич – это я, Ольга Михайловна – Христина Михайловна» Мушка – это ее дочь от первого брака Маруся, моя падчерица. Я описал все, как было.
– В «Блистательной жизни» мне было важно раскрыть живучесть мещанского уклада, живучесть собственнических, скопидомских инстинктов. Это – тема нескольких моих послереволюционных произведений: «Слив, вишен, черешен», «Кости в голове», «Маяка в тумане», «Мелкого собственника». Я думал написать об этом целый цикл повестей и рассказов, выпустить отдельной книгой и назвать ее – «Мелкие собственники».
В рассказе «Сказочное имя» мне хотелось показать читателю, как сильна в человеке, в ребенке вера в сказку: для ребенка, – да и не только для ребенка, – сказка часто реальнее были.
В 1928 году ленинградское частное издательство «Мысль» начало выпускать собрание сочинений Сергеева-Ценского – начало, но так и не окончило, вместе с НЭП’ом ликвидировали и частные издательства. Один из обещанных «Мыслью», но не вышедших томов собрания сочинений Ценского носил название «Звездный суд», Я такого произведения не читал и спросил о нем у Ценского. Он ответил:
– А это я так сначала думал назвать свою трилогию о Лермонтове: суд над ним совершается где-то там, в горних обителях, – только там имеют право его судить.
Несколько лет спустя я перечитал рассказ Ценского «Недра» (1912), и внимание мое остановил образ, тогда еще найденный Ценским и, видимо, полюбившийся ему: «…они же сидели и слушали, как двигалась ночь и когда говорили, то все о чем-нибудь маленьком, полудетском, согласном с этой близкой землей, все дела которой равны перед звездным судом».
Увы! Сергеев-Ценский правильно поступил, что дал своей трилогии пошловатое заглавие – «Мишель Лермонтов»: оно ей больше подходит. Герой трилогии именно армеец Мишель, а не великий поэт Лермонтов, – с армейскими повадками, с армейскими ухватками, с армейскими остротами. Он не намного выше своего окружения не только когда Аполлон не требует его к священной жертве, но даже и когда требует. Для такого Лермонтова звездный суд – это слишком много чести. Тонкий критик Сергеева-Ценского, Горький и на сей раз оказался прав. Прочитав пьесу Ценского о Лермонтове «Поэт и чернь», он отозвался о ней в письме к автору от 28 марта 1927 года следующим образом: «Пьеса показалась мне слишком “бытовой”, Лермонтов засорен, запылен в ней, и явление “Демона” недостаточно освежает его. А впрочем, я плохо понимаю пьесы, хотя и писал их». Горький прочитал третью часть трилогии – «Поэт и чернь», которую Ценский написал прежде первых двух, вернее всего, тогда еще и не помышляя о трилогии, и первоначально – в форме пьесы. Впоследствии Ценский переделал ее в повесть, но читателю сразу видно, что это – перестроенное здание: повесть состоит из диалогов и монологов, перебиваемых беглыми описаниями-ремарками. В этих ремарочных описаниях утомляет своим назойливым однообразием настоящее время, в котором обычно даются ремарки. Ценский, однако, пристрастился к этой форме – так построены и первые две части трилогии: «Поэт и поэт», «Поэт и поэтесса», так построены и «Гоголь уходит в ночь», и «Невеста Пушкина», «Гоголь уходит в ночь» делится даже не на главы, а на картины. Сергеев-Ценский говорил мне, что этот прием «драматургизации» повествовательной прозы приближает прошлое к настоящему, вплотную придвигает его к глазам читателя. Но, как всякий дешевый прием, он желаемого эффекта не достигает.
Тщательно выбирая выражения, стараясь не касаться гвоздиных язв на душе писателя, я сказал, что отношусь с уважением к «Севастопольской страде», но что мне лично дороже всей этой грандиозной эпопеи «Живая вода» – шедевр на нескольких страницах.
Ценский довольно улыбнулся.
Он возразил мне на это: читатели, мол, берут от писателя – что кому на потребу, сослался при этом на каких-то моряков, оказавшихся восторженными почитателями «Страды», ответил, что Замошкин справедливо назвал его Протеем, что критик правильно пишет о «протеизме Ценского», но по сиянию его глаз я понял, что ему роднее те, кто предпочитает подлинного Ценского Ценскому загримированному. Повторяю: тогда еще Ценский ощущал горький привкус своей нежданной-негаданной славы, и ведь то была не горечь полынная, духмяная, здоровая, отрадная, но отравная, одуряющая, химическая горечь наркотика. Искусственность этой славы подтверждается множеством фактов. Ценским восхищались люди, его не читавшие, восхищались по заказу. Так, в 3-м томе «Энциклопедического словаря» (1955) в краткой анонимной заметке о нем, сплошь утыканной штампами: «широкая картина», «яркие образы», сказано, что его «дореволюционные произведения изображают русскую интеллигенцию в годы реакции после революции 1905 – 07 (“Бабаев”, “Лесная топь” и др.)». В «Бабаеве» Ценский вывел невежественное, запьянцовское, забубенное офицерство, а не интеллигенцию, в «Лесной топи» разве лишь Фрола можно назвать интеллигентом» да и то с превеликой натяжкой.
Продолжая разговор о «Севастопольской страде», я» набравшись храбрости, признался, что в эпопее я не чувствую, не слышу столь дорогой» близкой и понятной мне души писателя Сергеева-Ценского; что, как ни парадоксально это звучит, «Севастопольская страда» – такой колоссальный труд, настоящая страда для писателя – представляется мне творческим отдыхом Сергеева-Ценского.
В ответ я ждал бури. Дело, однако, обошлось не только тихо, но даже лестно для меня; самое же главное – этой фразой я побудил Ценского раскрыть одну из самых скорбных страниц его литературной биографии. Кто не знает этой страницы, тот до конца не поймет, как дошел он до жизни такой.
– Это делает честь вашей проницательности, – заметил Ценский и рассказал мне, почему он вынужден был приняться за «Севастопольскую страду».
– Помните, как меня в тридцать четвертом году ударили в «Правде» за рассказ «В поезде с юга», в отделе «Из последней почты»?..
Я, разумеется помнил, как помнил тогда все, что касалось Ценского.
– Заметка была без подписи, – продолжал Сергей Николаевич, – но мне удалось выяснить, что ее написал Лев Субоцкий. Я пришел в «Правду», разыскал Субоцкого и бросился на него с кулаками. А ведь он – мозгляк. Куда ему со мной? Он – юрк под стол…». Тут ко мне подлетели, стали успокаивать и повели сначала к редактору Мехлису, потом – к члену редколлегии Ровинскому. В ответ на мой протест он сказал: «Но сознайтесь, товарищ Сергеев-Ценский, что такой пошляк, как ваш Мареуточкин, если у нас еще и встречается, то как редчайшее исключение, а вы его выдаете на явление типичное». Я как гаркну: «Что? Исключение?..» А в кабинете у Ровинского окно выходило на улицу. Я – к окну и показал рукой вниз, на тротуар: «Да вон они, вон они идут, – в шляпах и при галстучках, – все сплошь Мареуточкины». Тогда Ровинский все так же вежливо, но внушительно и веско сказал: «Ну, раз вы так смотрите на нашу действительность, то я вам советую не писать о ней до тех пор, пока ваш взгляд на нее не переменится». Я воспринял эти учтивым тоном произнесенные слова как приказ – не писать на современные темы… Вышел я из «Правды» и думаю: «Что же мне делать?.. Не писать я не могу». В годы гражданской войны бумаги у меня не было, так я обои отдирал от стен своей дачи и писал на изнанке… И тут мне пришло в голову написать о севастопольской обороне «повесть для детей и юношества». Эта мысль во мне окончательно созрела, когда умер Горький. Я откликнулся на его кончину в «Известиях» маленькой заметкой, в которой писал, если вы помните, что без него мы все осиротели. Осиротел прежде всего я. Ведь это же был мой единственный заступник. Я понял, что меня заклюют. И – ушел от современности в историю. Замысел повести перерос в замысел эпопеи.
В 1946 году Жданов, говоря о Зощенко, не счел нужным прибегать к околичностям. «Пусть убирается к черту из советской литературы», – достаточно определенно и не двусмысленно заявил он (в газетах эта фраза была подвергнута легкой ретуши: «к черту» было опущено). В 34-м году нравы в советском городе были еще не так жестоки. Сталинские псы, бывало, нет-нет да и покосятся испуганно на Горького: не взбеленится ли старик?.. Ценскому вежливо намекнули на желательность его ухода, и притом ухода только из советской тематики. Мало того: в 35-м году «Октябрь» все-таки напечатал вторую часть его романа «Искать, всегда искать!» – «Загадку кокса». Критика ее обругала, но Гослитиздат тем не менее в том же году выпустил весь роман отдельным изданием. В 35-м и 36-м годах вышли два романа Сергеева-Ценского из эпохи первой мировой войны: «Зауряд-полк» и «Массы, машины, стихии» («Лютая зима»). А в 1937 году все в том же «Октябре» начала печататься «Севастопольская страда». Впрочем, «после долгих мытарств», – подчеркнул Сергеев-Ценский в своей «Автобиографии». И это несмотря на неизменно благожелательное отношение к нему редактора журнала Панферова, не убоявшегося ни прокурорского окрика Субоцкого, ни разноса, который учинил Ценскому за «В поезде с юга» в 35-м году на втором пленуме правления Союза писателей его тогдашний оргсекретарь Щербаков, и продолжал печатать преследуемого автора.
Что разумеет Сергеев-Ценский под «долгими мытарствами», которые ему пришлось претерпеть со «Севастопольской страдой»? На этот вопрос он ответил в автобиографии неопубликованной (1945 год):
«…эту эпопею не хотели печатать, как “патриотическую вещь”: именно такую рецензию и дали в издательство “Советский писатель” Чечановский и Гус.
Семь месяцев рукопись “Севастопольской страды” лежала в редакции журнала “Октябрь”, так как из членов редакции за напечатание эпопеи стоял только один Ф. И. Панферов.
В конце концов ему пришлось обратиться за разрешением на печатание “Севастопольской страды” к И. В. Сталину, и разрешение было получено».
…Вскоре после постановления о Сталинских премиях от 15-го марта 41-го года Ценский уехал к себе в Алушту. А в июне загрохотала война.
Я часто звонил и забегал на квартиру Ценского в Лаврушинском переулке, чтобы узнать от живших в ней постоянно его свояченицы Марии Михайловны и племянницы Нины, как-то там Сергей Николаевич. В сентябре пришло известие, что Сергей Николаевич и Христина Михайловна собираются в Москву. Позвонил еще через несколько дней – приехали, просят прийти.
Выяснилось, что оба они – и Сергей Николаевич и Христина Михайловна хотели бы перезимовать под Москвой, но не знают – где. Я вызвался подыскать им уютную дачу» Возле станции «Влахернская» по Савеловской железной дороге намеревались зимовать Маргарита Николаевна и Татьяна Львовна. Я сказал Ценским, что я к ним съезжу и попрошу найти что-нибудь подходящее по соседству.
– Иметь такого соседа, как Татьяна Львовна, – на что же лучше! Свой брат – литератор… – Тут в глазах у Ценского загорелись лукавые искорки. – В начале века кто-то о ней сказал;
У Пушкина теперь один соперник: Татьяна Львовна Щешшна-Куперник.Я съездил к моим друзьям. Они тоже обрадовались, что зимой будут не одиноки, и при мне сговорились с хозяевами соседней дачи. Выполнив добровольно взятую на себя миссию, я на другой же день без звонка отправился к Ценским.
У Христины Михайловны был вид хлопотливо-озабоченный. Когда я сообщил, что дача их ждет, она, замявшись, призналась, что они передумали – вернее всего, поедут куда-нибудь дальше, чтобы там спокойнее было Сергею Николаевичу работать.
Русский человек крепок задним умом. Я только потом сообразил, что за это время они из авторитетных, по всей вероятности – официальных источников получили худые вести о положении на фронте: враг-де рвется к Москве, так что им лучше отсюда за погодку убраться. И, по всей вероятности, их предупредили, чтобы они никому не открывали истинной причины своего внезапного отъезда, дабы «не сеять панику», – вначале войны это был один из расхожих штампов казенного языка.
Христина Михайлович оставила нас с Сергеем Николаевичем вдвоем. И мы с ним несмотря на то, что все вокруг нас было взвихрено, по обыкновению предались мирной беседе о литературе.
Внезапно течение нашей беседы было прервано – и, как оказалось, навсегда: вместе с этой беседой прервалось и наше знакомство.
Христина Михайловна, несмотря на все ее гостеприимство, несмотря на всю ее доброжелательность ко мне, не производила на меня приятного впечатления. Я с удивлением узнал, что она окончила два высших учебных заведения, – такой неинтеллигентный был у нее голос и выговор. В ней чувствовалась мелкотравчатая предпринимательница, стяжательница, кулачиха, куркулиха. С горделивым торжеством передавала она мне незадолго до постановления правительства о Сталинских премиях слова, будто бы сказанные Ворошиловым; «Вот у Сергеева-Ценского язык так язык! Куда Шолохову до него!» В течение долгого времени ей приходилось умерять аппетиты. После того, как на Ценского свалилась Сталинская премия, вызвав у него сотрясение мозга, она развернулась вовсю. Не знаю, как она вела себя до успеха «Севастопольской страды», пыталась или не пыталась столкнуть мужа с избранного им кремнистого и тернистого пути. Если и пыталась, то более или менее безуспешно. С годами он обмяк. Кроме того, старики любят сладенькое. Чтобы сладенькое в виде почета и денег не переводилось, нужно было «по силе-возможности» угождать начальству. Ценский в этом искусстве не наторел: «хрен» хоть и «пошел вывертывать ногами», но, как у деда в «Заколдованном месте», все у него не вытанцовывалось: ноги дрожали, подгибались в коленях; надлежало направлять первые его шаги на этом непривычном для него поприще. Тут-то жене и удалось забрать над мужем силу, волю и власть.
Женитьба Ценского на ней – это одна из тех случайностей, которыми так богаты смутные времена. Ее вместе с дочкой прибило к нему в страшном 19-м году. Для обоих совместная жизнь имела свои выгоды: Христина Михайловна, у которой расстреляли первого мужа, нашла кров и приют. Сергей Николаевич – пожилой холостяк – нуждался в женском уходе и за собой и за домом. Во-вторых (вернее, во-первых), Ценский привязался к Марусе, к «Мушке», полюбив ее всей своей чаявшей утоления, поздней отцовской любовью. С гибелью Маруси рухнула их единственная духовная связь. Чуждость друг другу этих людей бросалась в глаза. Это был симбиоз, узаконенное сожительство, товарищество на паях, все, что угодно, только не брак по любви. Как бы ни были муж и жена целомудренны в изъявлении своих чувств, как бы ни боялись они показаться смешными или слащавыми, особенно – в преклонных годах, но если они любят друг друга, хотя бы как человек человека, это не укроется от постороннего: это промелькнет в полуулыбке, в брошенном вскользь взгляде. Как и герои «В грозу» (Ценский сохранил в повести и этот биографический штрих), они говорили друг другу «вы». Но это не было ласково-заботливое, почтительное: «Вы, Афанасий Иванович», «Вы, Пульхерия Ивановна». «Вы» Сергея Николаевича и Христины Михайловны звучало отчужденно, сухо-официально. Сергей Николаевич и Христина Михайловна немилосердно «хакали» – на этом и кончалось их сродство. Сергей Николаевич был в силу описанных обстоятельств недоверчив, мог вспылить, разъяриться – аж, аж, аж!.. – но он излучал и дружелюбие, и ласку, и доброту. На лице у Христины Михайловны складки от крыльев носа расходились широким полукругом, что всегда придает лицу льстиво-угодливое выражение, а взгляд между тем показывал великую и недобрую сушь. Сквозь неглубоко залегавшее радушие проступали черствость и жестокость.
…Итак, вошла Христина Михаловна. Обычно она умела держать себя в руках, а тут я прочел на ее лице нескрываемое раздражение» граничащее со злобой.
– Ну, Серхей Николаевич, – обратилась она к мужу, – довольно блаадушестовать! Пора принимать решение.
Сергей Николаевич с растерянной виноватостью поглядел на меня, что-то хотел возразить спутнице жизни, но тут же осекся и как-то беспомощно засуетился. Я понял, что я здесь лишний» и поспешил откланяться.
Ценские уехали сперва в Куйбышев, потом – в Алма-Ата.
В начале 42-го года Замошкин показал мне приписку в письме Сергеева-Ценского к нему: «Прошу передать глубокоуважаемому Николаю Михайловичу Любимову мой сердечный привет».
Я попросил Замошкина передать Сергееву-Ценскому привет от меня.
В 44-м году я прочел в «Новом мире» первые главы романа «Пушки выдвигают», и когда Сергеев-Ценский вернулся из эвакуации, я не сделал ни единого шага для того, чтобы наше знакомство возобновилось.
Переделкино – Моста
Июнь – август 1967
Тянет гарью
1
Нас мало уцелело. На перекличке дружбы многих нет. Я вновь вернулся в край осиротелый… ЕсенинЯ по-прежнему часто наезжал в Перемышль. Радовался, что встречаю на улице и в домашней обстановке тех, с кем уже не чаял встретиться, – во всяком случае, скоро. И все-таки, когда я теперь гостил у матери, на душе у меня было невесело. Перемышль ссутулился, пригнулся – церкви его были уже обезглавлены. Пригнулся и затих – благовест смолк. Обнимавшая городок природа пока не менялась. Но дышалось мне перемышльским воздухом не по-прежнему легко и отрадно. Чего-то в нем словно бы недоставало.
Вспоминая Юрия Михайловича Юрьева, я привел слова его друга Державина, что вместе с его душой отлетела душа Петербурга. Когда Петра Михайловича Лебедева упрятали в концлагерь, от Перемышля отлетела его совесть.
Перемышль духовно оскудевал год от года. Но отъезд о. Владимира Будилина прежде всего не был так трагичен: он, в 30-м году на закате дней выгнанный из своего дома, лишившийся почти всего своего имущества, переехал не далее, как за двадцать семь верст, в Калугу, и поселился на частной квартире. Круг влияния о. Владимира в Перемышле был по необходимости ограничен: его отрешили от участия в общественной жизни города, оторвали от школы, где он до революции преподавал Закон Божий. С переездом в Москву Софьи Иосифовны Меньшовой (1931 год) умерла – и так и не возродилась – культурная жизнь города: без нее театр уже не являл собой источника света, ученики потеряли в ее лице преподавательницу литературы, для которой мир вымышленный был так же прекрасен и так же веществен, как и мир осязаемый, которая жила полной жизнью не дома, а в театре и в школе. Но действовала Меньшова не на столь обширном участке фронта, как Лебедев. Петр Михайлович ни на один день не отлучался с передовых позиций и по временам бросался в атаку. Пожалеть человека значило для Петра Михайловича заступиться за него или дать ему дельный совет. Подлецы всех рангов его побаивались. Конечно, подличали и при нем, подличали его коллеги и сограждане, не говоря уже о власть имущих, но подличали с некоей нравственной опаской, и не только с нравственной, – кое-когда опытный стратег и тактик добивался правды в Москве и даже в Калуге.
Да и любил же я его!.. Любил его внешний облик – облик интеллигента из рабочей среды, любил его за то, что он, как водолаз, исследовал глубь житейского моря, любил его прятавшуюся за жестковатой корой сердечность, проявлявшуюся в стремительной отзывчивости на людские невзгоды и в той неистощимой ласке, какою он оделял бессловесную тварь.
Жизнь – чащоба с переплетеньем корней, со сцепленьем ветвей. Придя в сознательный возраст, я невзлюбил все русские «левые» партии, начиная с кадетов. Я отдал себе отчет, что Россия погибла не в октябре, а в феврале семнадцатого года – нет, даже еще раньше: год ее гибели – год убийства Столыпина (1911), Петра Аркадьевича Столыпина, который своей аграрной реформой, – успей он довести ее до конца» – предотвратил бы революцию; который сумел найти общий язык с Третьей Государственной Думой; который был известен словами, обращенными к революционерам: «Не запугаете!» и который в самом деле не убоялся взрыва у него в доме, в Петербурге, в Аптекарском переулке, взрыва, от которого пострадали его дочь и сын; который сказал, имея в виду революционеров: «Им нужны великие потрясения – нам нужна великая Россия» и которого убил Богров.
Да, так вот поди ж ты: после ближайших мне родных по крови одним из самых-самых милых моему сердцу и уму людей был социал-демократ Лебедев.
2
Москва – это город, которому придется еще много страдать…
ЧеховВ Москве – туга и печаль многая. Дом-сирота на Старой Башиловке: «без права переписки» исчез в наркомвнудельских недрах Глеб Алексеев. Дом-сирота в Староконюшенном переулке: «без права переписки» исчез Михаил Соломонович Фельдштейн. Сослан в Кустанай мой дядя.
Но на протяжении всей моей жизни незримая чья-то рука подводила меня к людям, которые хотя и не могли заменить мне ушедших» – всякое живое существо на земле незаменимо, – а все же украшали и наполняли мою жизнь. Благодаря людям» с которыми я сблизился в предвоенные годы, мне на время удавалось забывать о том, что я бездомник, что права мои на жительство в Москве еще более призрачны, чем у любого представителя пернатого царства, что заживаться мне здесь подолгу небезопасно, ибо милицейский чин, дознавшийся о моем беспрописочном проживании в столице, может сказать мне: «Позвольте вам выйти вон».
В Москве у меня оставалась еще квартира на Тверском бульваре, куда я волен был врываться в любое время, без предварительного уведомления по телефону. Одно сознание, что в Москве у меня есть такое прибежище, такой уголок духовной культуры, придавало мне бодрости. И из этой именно квартиры протянулась нить к одной драгоценной и незабвенной встрече.
Новые встречи вознаграждали меня за почти полное отсутствие интересных явлений в литературе и искусстве. В литературе – мерзость запустения, отрусение, холопство. На премьерах Художественного театра – на «Горе от ума» без Качалова, на «Тартюфе», на «Трудовом хлебе» – я скучал, иные его премьеры» вроде «Любови Яровой» Тренева, «Земли» Вирты, «Достигаева и других», «Полов-чанских садов» Леонова, я воспринимал как еще одно предательство, как еще одну измену в прошлом бесконечно дорогого мне человека» и они вызывали у меня приступы ярости, которую мне хотелось излить на первого попавшегося, ни в чем не повинного капельдинера. Театр Мейерхольда прихлопнули. Театр Охлопкова слили с Камерным. И как это тогдашний председатель Комитета по делам искусств, или, как его называли, «Комитета поделом искусству», Платон Керженцев, с которого, к слову молвить, Ильинский слепил своего лазоревого полковника из «Сна Попова» (оловянные глаза, потирание рук), не догадался слить Большой театр с цирком? Логики в этом было бы почти столько же… А в другие театры меня не шибко тянуло. Чаще всего отдыхал я душой на литературных концертах Ильинского и Яхонтова и на старых спектаклях Художественного театра. Впрочем, теперь и в некоторых старых его спектаклях отдельные исполнители портили мне впечатление, и я жалел, что вывелся славный обычай свистеть и шикать в театре. Невольно думалось: куда же смотрит художественное руководство театра? Где его былая требовательность? Или оно рассуждает: «Нынче все слопают», «Пропадай все пропадом»?
Зато, когда я смотрел «Нору» в Театре Ленинского комсомола, мне казалось, что это «выездной» спектакль Художественного театра еще до его омертвения. Вопреки ожиданиям некоторых зрителей, «Нора» не явилась «бенефисом» игравшей главную роль Гиацинтовой.
Напротив. Гиацинтова в этой роли была чуть-чуть искусственна и не так обаятельна» как другие участники спектакля. Берсенев, игравший адвоката Хельмера, был до того очарователен даже в своем эгоизме, что симпатии зрителя были на его стороне. (Впрочем, об этом, сам того не подозревая, позаботился Ибсен, по большей части не предвидевший последствий, к каким приводила игра его абстрактного ума.) Проясняющееся лицо озлобленного Крогстада – Плятта, лучи, вдруг брызнувшие из по-скандинавски пасмурных его глаз, все еще недоверчивый, нервный, прерывистый его смех, его медвежьи лапы, которыми он судорожно хватается за притолоку, чтобы не рухнуть от внезапно налетевшего счастья, – это я вижу и слышу не менее явственно, чем обреченность, проступавшую в чертах лица Ранка – Соловьева, и слова, которые Соловьев произносил с предсмертной благодарной грустью:
– Спасибо… за огонек!
И – одно-единственное потрясающее из новых театральных впечатлений тех лет – «Кармен» в Оперном театре имени Станиславского (потом, к сожалению, слившемся с Музыкальным театром имени Немировича-Данченко), последний – но какой головокружительной высоты! – взлет режиссерского гения того, кто основал этот театр и в чью честь он был назван!..
Перед нами была Испания не козьмапрутковская («Дайте мне мантилью; дайте мне гитару; дайте Инезилью, кастаньетов пару»), а самая что ни на есть подлинная, вихревая, грозовая и захолустно сонная, возвышенная и низменная, романтичная и прозаическая, коварная и наивная, пышная и убогая, бескорыстная и торгашеская, – такая, какою написал ее Мериме и какою изобразил ее в звуках Бизе. Исполнительница главной партии Гольдина показала, что у нее не только прелестный голос, но и большой драматический талант. Лучших Кармен, чем Гольдина, слышать мне доводилось, а вот видеть – нет.
Вечера прозаиков и поэтов вызывали у меня гадливое чувство.
Кто из нас в самом нежном возрасте не мочил штанишек и не прудил в постель? Но я не знаю никого, кто бы этим во взрослом состоянии хвастался. Ну, а Николай Асеев, читая в Политехническом музее отрывки из своей длиннющей «Маяковскиады» («Маяковский начинается»), по сравнению с которой херасковская «Россиада» и даже тредиаковская «Телемахида» представляются образцами злободневной и лапидарной занимательности, хвалился тем, как он в молодости пускал струю на Художественный театр, на Нестерова и Чехова. Он рассказывал об этом не как о грехах молодости, а как о подвигах. Он не стыдился их, он ими гордился и давал понять, что не прочь и на старости лет обдать что-либо дохлебниковское и домаяковское.
Своей зарифмованной тягомотиной Асеев доказал, что он так всю жизнь и проходил в коротких штанишках, из которых теперь вылезали волосатые, уже плохо сгибавшиеся в коленях, ноги с вздутыми синими жилами и бугорками солевых отложений, и не избавился от недержания мочи. Своего героя Асеев поставил на высоченные ходули» но от этого Маяковский ни как человек, ни как поэт выше не стал.
После того, как правительство, желая показать, что хотя среди писателей у него были недруги, которых оно в 37–38 годах истребило, но есть и друзья и верные слуги, в январе 39-го года осыпало блямбами тех, кого оно пока что считало благонадежными, – осыпало не в соответствии с дарованиями, а по степени верноподданности, так что Орден Ленина получил Перец Маркиш и тогда еще совсем сосунки – Твардовский, Вирта; Пришвин же и Сергеев-Ценский – «Знак Почета» (Пастернаку и Бабелю в знак монаршьей немилости показали фигу), – вскоре после этого постановления в Клубе МГУ был устроен вечер писателей-орденоносцев.
На этом вечере резко выделялся – не талантливостью, а демократичной интеллигентностью – похожий лицом на старую ласку, у которой атрофировались хищнические инстинкты, Вересаев в наглухо застегнутой куртке со стоячим воротничком, в пенсне на длинном шнурке. Ему аплодировали – и при встрече, и на прощанье – громче и дольше, чем кому бы то ни было, хотя читал он отрывки из своих водянистых, скучноватых воспоминаний детства. Это была вызывающая овация одному из горсточки современных писателей, редко-редко когда взмахивавших кадилом.
Противно картавил из молодых, да ранний Константин Симонов с чуть косящими маслянистыми глазами духанщика, разбавляющего вино водой и не доливающего вина в кружки. Сельвинский на мотив цыганского романса провозглашал тост «за партию нашу…» Похожий на чучело льва Луговской с присвистом читал стихи на осточертевшую тему – оду какому-то комиссару времен гражданской войны. На всех предвоенных литературных вечерах (Пастернак не принимал в них участия – он только читал во Всероссийском театральном обществе свой перевод «Гамлета») наибольший успех имел Антокольский. Как на чей вкус, но Антокольский все-таки поэт, и нужно только промахивать те – увы! многочисленные – страницы его сборников, где он показывает свое искусство ползать на брюхе. Он по преимуществу поэт-ритор, но в лучших его стихах это риторика первого сорта. Его темперамент – это темперамент трагика из столичного театра, но не на шекспировские роли, а на роли Шиллера и Гюго XX века. Ведь, правда же, хороши эти строки из цикла «Лирика»:
Так, как только и возможна Речь от первого лица» — То есть путанно, тревожно, Без начала» без конца… …………………………………… Я тебя не забуду за то, что Есть на свете театры, дожди, Память, музыка, дальняя почта… И за все. Что еще. Впереди[47].Или из стихотворения «Тициан Табидзе»:
Шла раскачка речи полусонной» Но смолкали разом остряки От почти навзрыд произнесенной Пушкинской таинственной строки[48].Или из стихотворения «1837–1937»:
И когда, за снегами, полями, Ликованья и нежности полн, Женский голос, как синее пламя, Возникает из радиоволн, И все выше и самозабвенней Он несется, томя ж моля, И как будто о Чудном Мгновеньи В первый раз услыхала земля…[49]Или снова о Пушкине из стихотворения «Работа»:
…будто бы глина, ………………………………………………. Рухнут мокрыми комьями на черновик, Ликованье и горе, сменяя друг друга. Он рассудит их спор, он измлада привык Мять, ломать и давить у гончарного круга[50].Читал он стихи, самовозгораясь, к концу чтения, точно трясун или хлыст, доходя до экстаза – внутри ледяного, и этот его экстаз передавался слушателям.
Лакейство уживалось в Антокольском с тщеславием. Он искал популярности среди литературной молодежи. Он корчил из себя мэтра. По-видимому, он был убежден, что мантия Брюсова, рукоположившего его в поэты, перешла к нему. Но Антокольскому недоставало ни широты брюсовского кругозора, ни брюсовской педагогической взыскательности и прямоты.
В сезон 40–41 гг. в Клубе МГУ состоялся именной вечер Антокольского с ответами на записки. Ему задали вопрос, как он относится к стихам Симонова и Маргариты Алигер (это были его ученики по Литературному институту имени Горького). Антокольский ответил безудержными восхвалениями. По окончании вечера в фойе его притиснула к стене молодежь. Это была хорошая молодежь – наверное, почти вся выбитая градом войны. Такие одухотворенные лица я видел в очереди за билетами в Художественный театр. Стоишь, бывало, с десяти утра до двух-трех часов дня – поневоле разговоришься с соседями. И я ни разу не пожалел, что вступил в разговор с этими старшими школьниками и студентами. Я сразу находил с ними общий язык. Они, как и я, стояли в хвосте, загибавшемся на Тверскую, не для того, чтобы еще раз посмотреть «Анну Каренину», – об этом спектакле они говорили даже не с возмущением, а со спокойной брезгливостью. Чтобы достать билеты на «Анну Каренину», нужно было выстоять ночь накануне первого дня новой продажи билетов, а я шел на другой день, когда народу бывало значительно меньше, – все билеты на «Анну Каренину» расхватывались в первый же день. Мне и моим соочередникам хотелось попасть на «Дни Турбиных», на «У врат царства» (ради Качалова), на «Горячее сердце», на «Вишневый сад», на «Воскресение» (тоже, главным образом, ради Качалова), на «Женитьбу Фигаро», на «Дядюшкин сон» (авось будет играть Книппер!), на «Мертвые души», на «Смерть Пазухина», на «На дне». Как выяснялось из разговоров, те, с кем я проводил несколько часов кряду, зачитывались символистами и акмеистами. Они, как и я, остыли к Тихонову и к Сельвинскому и не остыли к Багрицкому. Стоя в очереди, они утыкались носом в книги стихов Пастернака и уж, конечно, не считали не только за поэтов, но даже и за рифмосплетателей Жуткиных (так называли Жарова и Уткина), Безыменских, Алтаузенов и Кумачей. Уж и задала эта молодежь Антокольскому перцу за то, что он не видит (или притворяется, что не видит) мелкотравчатости своих учеников:
– Ведь вы же так бы не написали!
– Ведь вы же себе этого бы не позволили!
– Ведь вы же никогда бы до этого не опустились!
– В моих молодых стихах тоже можно найти огрехи, – отляги-вался мэтр.
– Да, но не такие!
– Огрехи огрехам рознь!
– У них количество переходит в качество!
– Как вам, настоящему поэту, не стыдно защищать такую бездарь, да еще не одолевшую школьной грамматики?
Угрожающе росло поголовье ашугов, акынов и сказительниц. Играла под былинницу продувная бестия северянка Марфа Крюкова, именовавшая Отто Шмидта «Лыцарь По-колен-борода». Конечно, она, как и Сулейман Стальский, как и Джамбул, способна была с грехом даже не пополам, а на девять десятых, изготовить канву, а уж по ней вышивали в большинстве своем не ахти какие мастеровитые узорщики, вроде Алтайского. Вокруг Марфы Крюковой увивалась подозрительная окололитературная личность – верста коломенская с никогда прямо на вас не глядевшими глазами шулера и с холеной каштановой бородкой на чуть одутловатом бледном лице – Викторин Попов. В прошлом сотрудник нашего торгпредства в Японии, он натворил там каких-то темных делишек, угодил в концлагерь, потом необъяснимо быстро, подобно Эльсбергу, оттуда выплыл и присоседился к Пильняку, Глебу Алексееву и Клычкову. Он и жил на том же дворе, что и Глеб Алексеев, по простодушию своему хлопотавший за него у Агранова и втащивший его в литературу. Фамилия Попова стоит рядом с фамилией Алексеева на книге очерков «Иссык-куль», рядом с фамилией Клычкова – на очерке «Зажиток». Гибель Пильняка, Клычкова и Алексеева никак не отразилась на благополучии Викторина Попова. Напротив, Глеб Алексеев еще до ежовщины проторил Попову дорожку в Северный край, и ему потом дали на откуп Марфу Крюкову. В газетах под ее «сказаниями» так часто мелькало: «Записал Викторин Попов», что его прозвали: «Знатная доярка».
Перед ежовщиной искусство в России окончательно подпало под иго «социалистического реализма» – его вынудили потрафлять вкусу Сталина. После сообщений о приведенных в исполнение смертных приговорах в газете обычно появлялись трогательные фотографии: Сталин с девочкой на руках, деточки преподносят Сталину цветы. В искусстве и литературе барабанная дробь соседствовала с треньканьем балалайки, возбуждение людоедских инстинктов уживалось с сентиментальным сюсюканьем. Это две ипостаси «социалистическо-реалистической» сути. В кино – батальная трескотня («Мы из Кронштадта» Вс. Вишневского и Дзигана) или пошло-развлекательный «Цирк» Александрова.
Если завтра война, если завтра в поход… —орал хор Радиокомитета.
Эх, тачанка-ростовчанка, Наша гордость и краса —ржали стоялые жеребцы из Александровского краснознаменного конного завода. Лирико-патриотическая «Широка страна моя родная…» Лебедева-Кумача стала почти официальным гимном. «Mein lieber Augustin» вытеснял «Марсельезу». По радио все это прослаивалось фатовато-пошловатыми голосами дикторов и приторно-сладкими голосами дикторш. И те и другие были слабы по части русской орфоэпии. В начале войны любимец Сталина диктор Левитан прочел по радио заглавие передовой «Правды»: «Против благодушия и самоуспокоённости». Из всех дикторов меня особенно сильно бил по нервам Левитан. Я не выносил его жирного, самовлюбленного голоса. Мне казалось кощунством, что он – однофамилец великого художника.
В Камерном театре апофеоз гепеушный – пьеса «Очная ставка» писателя-гепеушника Шейнина на тему: «Лови, держи шпионов и диверсантов!»
Спектаклем, совмещавшим обе тенденции, осчастливил зрителей опять-таки Художественный театр. То была «Земля» Вирты, поставленная Леонидовым и Горчаковым. В «Земле» обе тенденции были густо подчеркнуты режиссурой и художником Рынд иным. Мужицкая темнота, брожение мужицких умов и разгул антоновщины символизировала туча, раскинувшаяся над селом, – предвестница воробьиной ночи. А последняя картина – сгусток оперной пошлости: антоновцы разгромлены, в головах у мужичков посветлело, и вот перед зрителем солнечное утро, море хлебов под безоблачной синевой небес, а совпейзане с песней идут на полевые работы. И это злосмрадное драмоделие поставил, – да еще так поставил, – создатель Дмитрия Карамазова! «Что делалось с людьми? Что делалось с людьми, я вас спрашиваю?» Разложение не эмигрировавшей и не сидевшей за решеткой и колючей проволокой интеллигенции началось давно, – ужас ежовщины стократ ускорил его.
3
Вы вновь слагаетесь, разбитые скрижали Полузабывшихся, но не пропавших дней. Случевский Не знали мы, что скоро В тоске предельной поглядим назад. АхматоваКакой-то звериный инстинкт подсказывал мне, что оседлость опасна, что надо вести кочевой образ жизни и время от времени менять место постоянной прописки.
Весной 38-го года кто-то заговорил при мне о Тарусе. Об этом уездном городе Калужской губернии я слыхал еще в детстве. Заговоривший о ней расписывал ее красоты, И у меня мелькнула мысль: не провести ли там по крайней мере лето? Понравится – перезимую. Я поделился своими планами с Маргаритой Николаевной и Татьяной Львовной.
– Там живет на покое в своем собственном доме моя сводная сестра, бывшая актриса Малого театра, вдова театрального критика Николая Ефимовича Эфроса, которого ты так любишь, Надежда Александровна Смирнова, – сказала Татьяна Львовна. – Я пошлю ей с тобой письмецо, и она тебе поможет устроиться… А знаешь что: мы в этом году ничего подходящего в смысле дачного жития себе не нашли, а про Тарусу я от многих слышала, что это чудесный городок. Попроси Надю, чтобы она и нам подыскала – только большую дачу: для Маргариты и для нас с Николаем Борисовичем. Вероятно, и Коля проведет с нами отпуск. И вот еще что: надо, чтобы была комната для Nirvana stervusendis. И лучше поближе к Наде, а не chez le diable аих petits koulikis[51].
Татьяна Львовна, нимало не медля, отстукала на машинке два письма и одно вручила мне:
– Вот тебе, душе своей погубитель, рекомендательное письмо Наде. Я его нарочно не запечатываю. Так раньше полагалось – чтобы рекомендуемый знал, что письмо действительно рекомендательное, а не ругательное. А вот это письмо я пошлю Наде по почте. На, прочти… Так тоже полагалось. А то, бывало, в руки дадут письмо с просьбой обласкать, а по почте – предостережение: я, мол, вынуждена была дать этой скотине рекомендательное письмо, только чтобы отделаться, но это такой подлец, такой мерзавец – ты его на порог не пускай… Вот деньги – это задаток за нашу дачу. Ну, поезжай с Богом. Ни пуха, ни пера!
У меня отлегло от сердца. Итак, еду я не совсем на авось; лето, может быть, проведу с дорогими людьми; я познакомлюсь с известной мне по рассказам матери талантливой артисткой (вот только жаль, что не Художественного театра!), да еще с вдовой Эфроса.
…Я поднимаюсь от Оки в гору и всхожу на террасу большого нескладного кривобокого дома, спрашиваю облепивших террасу людей, можно ли видеть Надежду Александровну. За ней пошли. Ко мне вышла полная, среднего роста, дама с крупными чертами лица. Ее седые волосы были расчесаны на прямой пробор, а сзади собраны в пучок. Глаза смотрели на меня сквозь пенсне с пытливой строгостью, но я почему-то не испугался. Я всеми порами своего тела почувствовал, что эта дама, которая так величественно себя держит и так строго на меня смотрит, – хороший, очень хороший человек.
Она предложила мне сесть, прочитала письмо Татьяны Львовны, распорядилась, не слушая моих отнекиваний, чтобы мне дали чего-нибудь перекусить, и у нас с ней мгновенно завязался разговор, до того непринужденный, словно она знала меня с малолетства.
Надежда Александровна познакомила меня со своим другом, дочерью известного в Москве общественного деятеля, основателя Высших женских курсов («Курсов Герье»), профессора Владимира Ивановича Герье, Софьей Владимировной, – с ней вдвоем она постоянно жила в Тарусе. После обеда Софья Владимировна пошла со мной искать дачу для меня и для Татьяны Львовны с Маргаритой Николаевной. Повезло нам всем. Маргарите Николаевне и Полыновым Софья Владимировна сняла большую дачу с террасой на берегу пруда. На дачу надо было проходить через фруктовый сад и цветник. У меня запросы были куда скромнее. Софья Владимировна, потерпев неудачу в одном месте, повела меня к некоей бабушке Наталье. Бабушка Наталья, крестьянка Тарусского уезда, на старости лет переехала с мужем в Тарусу. Муж ее скончался, и она осталась доживать свой век бобылихой в двухкомнатном, с кухонкой, домике. Домик был маленький, – три окошка на тихую, заросшую травой улицу Шмидта, два на двор, – но уютный, чистенький: чистоту поддерживала сама бабушка. Садик при доме тоже был небольшой, но тенистый; в урожайный год яблок девать было некуда. Бабушка жила на небольшую пенсию за мужа и на то, что получала с дачников. Мне ее хижинка сразу приглянулась, а главное – понравилась хозяйка, понравилось крестьянское благородство ее обличья, понравились бесхитростные, ясные, голубые ее глаза, понравилось, как она себя держит, – с приветливым достоинством, без угодливости. Я вручил ей задаток и с облегченным сердцем вернулся к Надежде Александровне. Обе снятые дачи находились неподалеку от ее дома, на окраине Тарусы, в том же районе, именовавшемся и в речевом обиходе, и на языке официальном «Порт-Артурским». Таким образом, одному требованию Татьяны Львовны выбор Софьи Владимировны удовлетворял. Вот только обе дачи находились aux petits koulikis, зато эти petite koulikis – живописнейшее место в Тарусе.
В Москве меня ждали срочные дела, и я намеревался уехать с вечерним катером до Серпухова, а оттуда поездом в Москву. Надежда Александровна настояла на том, чтобы я у них переночевал. Она обещала разбудить меня перед отходом первого катера. Но будить меня ей не пришлось.
В первый же день мои отношения с Надеждой Александровной и Софьей Владимировной приобрели особую окраску. С Софьей Владимировной у меня установились отношения отличные, но душевно не близкие, – незримая, но явственно ощутимая грань отделяла ее от меня. С Надеждой Александровной я подружился. Обе скоро стали называть меня «Коля, ты», но звучало это обращение в устах у каждой по-разному…
Они были очень непохожи друг на друга, начиная с внешности. В отличие от расплывшейся Надежды Александровны, Софья Владимировна была сухенькая, подтянутая, с пергаментно-сухим, изжелта-бледным лицом. Обе носили пенсне. Синие глаза Софьи Владимировны казались круглыми от круглых стекол, в них изредка вспыхивал недобрый огонек, и недобро, даже при улыбке, обнажавшей запломбированные зубы, круглилась у нее верхняя губа. Карие глаза Надежды Александровны с удлиненным разрезом смотрели иной раз сердито, даже грозно, но гнев этот был милосердный, а по временам ее глаза застилала влажная, усталая, страдальческая поволока.
С Надеждой Александровной у меня было гораздо больше общего: театр, литература. Софья Владимировна к театру была равнодушна, в литературе ее привлекало преимущественно то, что, с ее точки зрения, лило воду на теософическую мельницу, к примеру – творчество Гете, к которому я так и остался холоден. Наконец» Надежде Александровне не могло не быть отрадно, что я на пятерку знаю Эфроса.
Как-то она меня спросила:
– Что ты льнешь к старикам, к старухам?.. К Маргарите, к Тане, ко мне? Тебе, правда, с нами интересно?
– Еще бы не интересно! От «стариков» и «старух» я все что-нибудь да почерпну, а от ровесников по большей части ухожу ни сыт, ни голоден. Да ведь и льну-то я не ко всем без разбора. На кой мне пес Евдокия Дмитриевна Турчанинова? Тоска зеленая!
– Ну, это, положим, верно.
С Софьей Владимировной я любил беседовать, любил слушать ее рассказы об Италии, где она подолгу живала и которую знала лучше России. К Софье Владимировне Герье, как и ко многим русским дореволюционным интеллигентам, приложимы слова Достоевского из его записной книжки 1875–1876 гг.; «В России мы чувства местности не имеем. Ну, что такое, например, Владимир? И зачем его знать… Но только что русский переедет в Европу, так тотчас же он и местен, и гнездлив…»
Глаза у Достоевского были как-то особенно устроены: от них почти ничто не укрывалось ни вдали, ни вблизи, перед ними разверзались и земля, и небо, и преисподняя. Подмеченная им черта русской интеллигенции облегчила победу бесам.
Отпугивала меня от Софьи Владимировны ее властность, хотя по отношению ко мне она ее никак не проявляла. Властность проскальзывала в ее взгляде, в повелительно быстрых при всем их изяществе движениях. То была властность сектантки. Кажется, Софья Владимировна и была водительницей русского теософского корабля. За глаза я называл ее «Теософия Владимировна». Властность Софьи Владимировны была властность тщеславная и неумолимая. Она терпеть не могла Андрея Белого и его немецкого учителя Штейнера, называла антропософов, отколовшихся от теософов, «антропками». У Надежды Александровны тоже был властный нрав, но ее властность приносила пользу ближним. То была властность горячая и благожелательная, сочетавшаяся с уважением ко всем верованиям в области мысли и духа, если они не лицемеры. Софья Владимировна была сдержанна, не способна на резкость, на окрик, но и почти не способна на ласку. Надежда Александровна могла и прикрикнуть и выругать, но я ни разу не заметил, чтобы это кого-нибудь обидело.
При мне Надежда Александровна распекала своего соседа Федю, славного, работящего, но запьянцовского парня, которого Надежда Александровна и Софья Владимировна приглашали для всяких домашних поделок. И вот однажды Федя пришел просить у Надежды Александровны аванс. Некоторое время он молча подпирал притолоку. Смерив его уничтожающим взглядом. Надежда Александровна первая нарушила молчание:
– Федька! Ведь я же знаю, зачем ты явился. Небось, пятерку просить?
– Я вам отработаю, Надежда Александровна.
– Знаю, что отработаешь. Вчера все до копейки пропил, а мать голодная сидит?.. Экая ты стерва!
Последнее слово Надежда Александровна произнесла с особым смаком.
Федька жалко усмехнулся.
– На тебе пятерку, иди сейчас же в город, опохмелись, купи чего-нибудь и накорми мать. Но это в последний раз! Больше я тебе гроша медного в руки не дам – все буду матери отдавать.
Федька, уж верно, бражничать не перестал, но что сейчас он рад был сквозь землю провалиться, что проборция, не оскорбив, устыдила его, – это читалось в его виноватой улыбке, в том, как он вжался в дверной косяк.
Надежда Александровна не любила, когда люди, как выразился Ал. Конст. Толстой, «рыдают с такою силой по пустякам», во всяком случае – из-за того, что ей казалось пустяком.
Старшая сестра Софьи Владимировны, Елена Владимировна, каждую осень расставаясь с Тарусой до весны, накануне и в самый день отъезда обливалась слезами: боялась, что больше не увидит ее красоты.
– Жаль Елену Владимировну, – сказал я Надежде Александровне. – Как она плачет!
– Ничего, – слегка нахмурившись, ответила Надежда Александровна. – Меньше пи́сать будет.
Переход от этой жизни в другую не пугал Надежду Александровну. В мудрой благости вышней воли она была уверена так же твердо, как в том, что она живет на земле, в России, в Тарусе, и сочувствовать Елене Владимировне она не могла.
В трудных случаях Надежда Александровна не терялась, быстро угадывала, на кого как лучше действовать.
У нее иногда гостила ее сестра Варвара Александровна, седая коротко остриженная, незаметная, боязливая, «действующее лицо без речей». Я помнив ее хлопочущей у печки или тихо покуривающей где-нибудь в уголке. Она была душевно больная. Буйствовала она с годами все реже и реже, но когда на нее накатывало, держать ее дома было опасно. В 39-м году она осталась зимовать у Надежды Александровны. Грозы как-будто ничто не предвещало: Варвара Александровна была тише воды. Гроза разразилась внезапно, в отсутствие Софьи Владимировны, уехавшей в Москву. Утром Варвара Александровна, с нечесанными волосами, в одной рубашке, выскочила со шваброй в руке на террасу. В отдалении шли в центр города бабы.
– Эй, бабы! – крикнула Варвара Александровна. – Долго над нами грузинский ишак измываться будет?
При этих словах Варвара Александровна воинственно взмахнула шваброй.
– Бабы! Пойдем бить грузинского ишака!
К счастью, бабы не поняли этого боевого клича и, оглянувшись в сторону Варвары Александровны, пошли дальше.
Надежда Александровна, вышедшая вслед за Варварой Александровной на террасу тоже в одной рубашке, сумела успокоить ее, увести в комнату, потом, заперев ее в доме, пошла нанимать подводу и провожатых (кажется, одним из них оказался вышеупомянутый Федька) и отвезла ее верст за тридцать в психиатрическую лечебницу.
Однажды я имел счастье вызвать гнев Надежды Александровны.
Я приехал в Тарусу весной 41-го года в скверном расположении духа. Вода подошла мне к горлу. Тюрьма, ссылка, ежовщина, пятилетнее скитальчество, проживание в Москве с постоянной мыслью, что тебя в любой момент застукает управдом, с постоянной мыслью, что я уже зажился в Москве, пора и честь знать, надо куда-то выметаться, глухое молчание НКВД в ответ на мое прошение о снятии судимости – молчание, в котором мне чудился отказ, – все это меня измотало. И тут еще, как назло, Таруеский Районный военный комиссариат (Райвоенкомат) вызвал меня, как всегда, по какому-то дурацкому поводу: ведь я же был нестроевик, да еще с клеймом бывшего ссыльного, следовательно, военкомату я был нужен как собаке пятая нога, – вызвал на первый день Пасхи. А я хоть и не читал тогда «Уединенного» Василия Васильевича Розанова, однако чувствовал так же, как он: «60 раз только, в самом счастливом случае, я мог простоять Великий Четверток “со свечечками” всенощную: как же я мог хоть один четверг пропустить?!! Боже: да и Пасох 60!!! Так мало. Только 60 Рождеств!! Как же можно из этого пропустить хоть одно?!!» И вот в этом году ради бюрократической прихоти тупоголового военкома пропускаю… И, к умножению всех несчастий, автобусы от Серпухова до Тарусы, конечно, не ходят, и я пропер от станции Тарусская 17 километров по колено в грязи.
Обсушившись и перекусив у бабушки Натальи, я побежал к Надежде Александровне. Сел в столовой на диванчик и стал жаловаться на свою горькую долю. Надежда Александровна слушала меня внимательно, но с каждой минутой мрачнела.
Когда же я, с моей точки зрения – убедительно, доказав, что у меня «кругом шестнадцать», излился, воцарилось молчание. Затем, глядя на меня в упор. Надежда Александровна спросила с гневной иронией:
– Ты в Бога веришь?
– Верю, – испуганно и недоуменно пролепетал я.
– Врешь! – Тут Надежда Александровна стукнула кулаком по столу так, что запрыгали чашки. – Какая это вера?
Долго отделывала меня на все корки Надежда Александровна. Наконец я заплакал – заплакал слезами благодарной радости. Внутри у меня посветлело. И с этого вечера дела мои пошли на лад.
Надежда Александровна была искренне возмущена моим маловерием. Но она поддала пару. Она поняла, что рюмить сейчас вместе со мной – значит оказать мне медвежью услугу, что меня надо пристыдить, как Федьку, – пристыдить и взбодрить.
Надежда Александровна была самообразована, начитана ж умна – умна своим собственным, природным умом. Софья Владимировна свои глубокие знания (главным образом – в области философии и романской филологии) приобретала систематически, кем-либо направляемая, и этим тоже отличалась от Надежды Александровны, но она была – в чем я разобрался далеко не сразу – не столько умная, сколько умствующая женщина.
Еще сильнее, чем властность, отталкивали меня от Софьи Владимировны ее советские высказывания. Я догадывался, что это – маска, что это – «страха ради иудейская: она уже во времена послереволюционные дважды ездила в Италию; прежде у нее были связи с иностранными теософами, и уцелела она случайно, по всей вероятности, оттого, что вовремя скрылась с московского горизонта. Надежда Александровна, Заслуженная Артистка Республики, получала персональную пенсию. Софья Владимировна, кажется, получала крошечную пенсию за отца пополам с Еленой Владимировной, и «социальное положение» у нее было неопределенное. Узнав от Грифцова, что ему поручено составить новый итало-русский словарь, я напомнил ему о существовании Софьи Владимировны. У Софьи Владимировны появился почти постоянный заработок и справка от издательства словарей, что она является постоянной его сотрудницей. После войны работа в издательстве помогла ей вновь прописаться в Москве. Хотя Софья Владимировна начала заниматься словарем уже в послеежовские времена и хотя она в штате не состояла, ей все-таки предложили заполнить подробную анкету. Заполняющим предлагали вопрос: бывали ли за границей? Софья Владимировна советовалась со мной, надо ли ей писать об ее – само собой разумеется, легальных – поездках за границу после революции. Проверив на опыте слова моего дяди: «Ничего мерзавцы не знают, кроме того, что мы сами на себя и друг на друга наговорим», я отсоветовал Софье Владимировне отвечать на вопрос утвердительно: кто там, дескать, станет проверять, а вот ежели Софья Владимировна сообщит о своих вояжах, то, подобно герою рассказа Вс, Иванова, сама на себя донесет, и ей могут под каким-нибудь предлогом отказать в работе.
Словом, Софья Владимировна соблюдала осторожность сугубую. Надежда Александровна посидела за теософию на Лубянке, но это ее не устрашило. О своих взглядах она не кричала на площадях, но в обществе друзей высказывалась откровенно. И я был горд тем, что она скоро причислила меня к друзьям и в прятки со мной не играла. Разлад Надежды Александровны с эпохой коренился не в бытовой бестолочи, не в материальных лишениях. Она не разменивалась на антисоветские мелочи. Она предъявляла революции большой счет, философский, нравственный и эстетический.
Почему она так рано ушла из театра «на покой»? Не только – вернее – не столько – по болезни, сколько по нежеланию кривить своей артистической душой. Она репетировала в малом театре Гудуяу в инсценировке «Собора Парижской Богоматери», выполненной Н. А, Крашенинниковым. (Спектакль был поставлен в 1926 году.) Роль эпизодическая, и Надежда Александровна приходила на репетиции только ради своих сцен. Но на прогонной репетиции она не взвидела света от омерзения: из романа Гюго театр вкупе с инсценировщиком сляпал антирелигиозную агитку. В перерыве Надежда Александровна вылетела на сцену и закатила скандал. На другой день ее вызвали в дирекцию, к Владимирову. Надежда Александровна сказала, что она извиняется за резкость выражений, но остается при своем мнении. Потом она отказалась от нескольких ролей в плохих советских пьесах и в 1928-м году оставила сцену. Театральная Москва устроила ей торжественные проводы. Для прощального спектакля Надежда Александровна выбрала «На всякого мудреца» и сыграла Турусину. Спектакль был поставлен объединенными усилиями режиссера Малого театра Платона и режиссера Художественного театра Лужского. В спектакле были заняты могучие силы обоих театров: Москвин, Качалов, Массалитинова, Рыжова, Климов.
…Ну так вот, с Софьей Владимировной мне было интересно и приятно, к Надежде Александровне меня сразу потянуло.
После вечернего чая все разошлись по своим углам, а у нас с Надеждой Александровной вновь завязался разговор. Точнее, это был ее монолог-рассказ, рассказ о русском предреволюционном и послереволюционном театре, об актерах и режиссерах, об Эфросе, о ее дружбе с Брюсовым, с Леонидом Андреевым, чей творческий путь и чье дарование она позднее в своей книге воспоминаний[52] точно определила в двух словах: «смятенный талант»[53].
Когда восток побелел, Надежда Александровна велела мне хоть немного поспать перед отходом катера. Но оставшиеся три часа я пролежал с открытыми глазами, переполненный впечатлениями, переполненный радостью от сознания, что мне на лето обеспечено житье в городе-красавце, а главное – преисполненный уверенности, что здесь мне будет с кем отвести душу.
Когда Надежда Александровна тихонько постучала ко мне в дверь» я был уже одет. Она напоила меня чаем, и я зашагал на пристань. Тяжести в голове от бессонной ночи я не ощущал.
Разгоралось погожее утро, лицо освежал бодрящий холодок, и так же ясно и свежо было у меня на душе» и вперед я смотрел бодро.
В следующий мой приезд в Тарусу я прописался у бабушки Натальи постоянно, стал на учет в Райвоенкомате.
Я провел в Тарусе лето 38-го, лето 39-го и лето 40-го года, захватывал и раннюю осень, приезжал несколько раз зимой и ранней весной. С Надеждой Александровной виделся часто, особенно – осенью, когда, бывало, схлынет волна ее родных и знакомых, когда разлетится стайка порхавшей вокруг нее молодежи, и в зимнюю пору, когда жизнь в Тарусе булькала под сугробами, когда в городе оставались тарусяне, а так называемые «тарусоиды» в Москве, а кое-кто и ö Петербурге, жили мечтою о весенней встрече с Тарусой.
Сила воздействия Надежды Александровны на слушателей заключалась не только в мыслях, темах и сюжетах ее устных повестей и рассказов, но и в том, как она рассказывала, в сопровождающих рассказ мимике и жестах. Иногда она вспоминала случай, сам по себе не очень забавный, но художественность отделки была такова, что слушатели хохотали навзрыд. Все дело было здесь в подражании голосам и ужимкам участников эпизода, в таких подробностях, которые сверкают в разговорной речи и гаснут на бумаге. В рассказах Надежды Александровны не чувствовалось ничего разученного, заранее подготовленного. Она ничего не подчеркивала, ничего не подносила слушателям «на блюде», не «играла на публику». Художественные подробности, смешные черточки – все это воскресало в ее творческой памяти «по ходу действия» и производило впечатление на слушателей столько же меткостью и смехотворностью, сколько нечаянностью своего возрождения.
Шутила Надежда Александровна без улыбки. Только когда слушатели валились со стульев, она вдруг тоже принималась смеяться – как будто пошутил кто-то другой.
Юмор был ее родной стихией. Она вплетала юмор даже в воспоминания о событиях страшных. Вскоре после падения очередного временщика Николая Ивановича Ежова у нее в доме зашел разговор о нем. В ежовщину Надежда Александровна потеряла любимого брата, друзей, за многих боялась. Боялась, наверное, и за Софью Владимировну, и за себя. Ее собеседники говорили о Ежове в тонах мелодраматических. Надежда Александровна наедине с самой собой разрывала обволакивавший ее мрак обращением к высшим силам, на людях – шуткой. Я никогда не видел ее тоскующей, мрачной, угрюмой. И тут она обратилась к спасительной шутке.
– Да уж! – сказала она и с игривой кокетливостью опереточной дивы пропела:
Тебя, мой друг Коко, Я долго не забуду!..Природа наделила Надежду Александровну многими дарами, среди них – даром перевоплощения: не только на сцене, но и в устных рассказах.
Надежда Александровна пересказывает то, что слышала от кого-то из художественников… Немировичу-Данченко доложили, что две актрисы отказываются играть в такой-то пьесе: роли у них эпизодические, появляются они в первом и последнем действиях; извольте ради этого торчать целый вечер в театре. Надежда Александровна, пощипывая воображаемые бакенбарды, характерным для Немировича горловым голосом с юго-западным произношением шипящих, невозмутимо цедит сквозь зубы:
– Скажите им, что я отшень сердился, топал ногами… (Пауза; непринужденно откинувшись на спинку кресла) и критшал.
Надежда Александровна изображает Яблочкину, произносящую монолог в классической трагедии… Губки бантиком, скрипучий дрожемент в голосе;
Вще рюхнуло…Разговор Нины Николаевны Литовцевой с шофером;
– Нина Николаевна! Мне Василий Иванович Есенина давал почитать. Вот здорово стихи сочинял! А потом Василий Иванович мне Пушкина дал. Ну, этот хуже. Непонятных слов много… Василий Иванович ведь был знаком с Есениным, правда?
– Да, был знаком.
– И с Пушкиным тоже?
– Да что ж, по-вашему, Василию Ивановичу сто лет, что ли?
Раздраженные нотки в голосе Нины Николаевны воспроизведены до того верно, что мне кажется, будто это говорит она. Шофера Качаловых я не знаю, но верю Надежде Александровне безусловно, что он так именно и говорит, а за его словами и интонациями вырисовываются черты его внешнего и внутреннего облика.
Я не помню, чтобы Надежда Александровна кому-нибудь со сладострастием перемывала косточки, но подмечала она все и говорила о недостатках человека спокойно – тоном не моралиста, а наблюдательного художника слова.
О Варваре Николаевне Рыжовой:
– У Вари даже нос подхалимский.
Я издавна собираю коллекцию актерских оговорок и накладок. Маргарита Николаевна сообщила мне оговорку артиста Малого театра Самарина в роли Фамусова:
Покойница сходила восемь раз…
Тут Самарин заметил» что он что-то пропустил, и, решив восполнить пробел, добавил от себя:
И умерла…
От Турчаниновой я слышал, что артист Малого театра Решимов, любивший пустить публике пыль в глаза разнообразием своего гардероба» в одной пьесе переусердствовал: прошел в комнату к невесте в одних брюках» а вернулся на сцену в других.
Надежда Александровна пополнила мою коллекцию.
Из ее вклада мне запомнилась оговорка какого-то провинциального актера в трагедии Кукольника «Князь Михаил Васильевич Шуйский». Вместо:
Пей под ножом Прокопа Ляпунова!
он вскричал:
Пей под проком Нажопа Ляпунова!
Славившийся своими оговорками Станиславский, игравший в «Трех сестрах» Вершинина, прощаясь с Машей» вместо «Пиши мне», сказал «Пипи мне».
Мало знавшие Надежду Александровну могли бы сказать, что она экстравагантна в своих суждениях и поступках. Но эта ее экстравагантность была не экстравагантна. У Надежды Александровны не было ничего нарочитого. Все у нее возникало стихийно. Актриса в ней не угасала, но в жизни, если она и играла, то без репетиций.
Надежда Александровна свела знакомство с пожилым священником, по отбытии ссылки поселившемся в Тарусе и зарабатывавшим себе на кусок хлеба физическим трудом. (Впоследствии она порекомендовала его Качаловым, и те взяли его к себе сторожем на дачу на Николиной горе.) Как-то в гололедицу она встретила на горке этого самого заштатного батюшку с пустыми салазками.
– Батюшка! – обратилась к нему Надежда Александровна. – Я боюсь спускаться, – я ведь близорука и ноги у меня больные, – того и гляди ухну. Давайте съедем на салазках!
– И вот» – рассказывает Надежда Александровна» – к изумлению тарусян» «артиска», как меня тут называют, Смирнова летит с горы на санках со ссыльным попом.
Летом я рано ложился спать. В самую глухую полночь стук ко мне в окно. Хотя ежовщине тогда уже пришел конец, россияне по-прежнему не любили ночных стуков и звонков. Просыпаюсь и, как был» в майке и трусах, – к окну. Вглядываюсь в темноту – Надежда Александровна. Распахиваю окно.
– Ты что же это, спишь?.. И тебе не стыдно дрыхнуть в такую ночь? Посмотри, какая луна.
Выйдем с тобой побродить В лунном сиянии!Живо одевайся – и идем гулять!
И долго мы с Надеждой Александровной кружим по крепко спящим улочкам и закоулочкам «Порт-Артура».
В воспоминаниях Маргариты Николаевны, относящихся к 22-му году» я обнаружил такую запись:
Мы иногда ходили с Татьяной Львовной и Николаем Борисовичем к Надежде Александровне Смирновой. У нее собирались интересные люди, и сама она была тогда как фейерверк… Она самоуверенно, находчиво, остроумно, интересно говорила… болтала… смотря по тому, кто был в комнате. Если мы были одни, она тихо, глядя вдаль, задумчиво и таким тоном, как будто она знала то, чего не знали и не могли знать мы, говорила о теософии… Для нее очевидно в этом была ее реальность, которая помогала ей жить. Она так рассказывала о своем посвящении:
– Я была тогда ужасно несчастна… было в жизни одно событие, которое я пережить никак не могла… я много вообще пережила всего, умела владеть собой… преодолевать… а тут – чувствую, что не могу справиться, и вот-вот сойду с ума… Как-то пришлось мне быть в симфоническом концерте… я стою в антракте у колонны и чувствую такое отчаяние, что даже не сознаю, где я и что со мной… Вдруг подходит ко мне женщина с прекрасным лицом и говорит тихо: «Простите, но у вас такие глаза, что я не могу пройти мимо… я чувствую, что вы несчастны, и должна вам помочь»… С тех пор мы с ней стали самые близкие друзья… она теософка…
Другой раз в конце ужина, сидя боком к столу, прислонясь спиной к Эфросу и положив нога на ногу, она, слегка возбужденная вином, красивая, почти совсем поседевшая, говорила:
– Я сказала Эфросу: «Ты можешь что хочешь делать и всегда будь спокоен, потому что нет такого положения, из-за чего бы я бросила тебя… Что бы ты ни сделал, я ни-ког-да… и ни при каких условиях не уйду от тебя…
– А как же художница? – спросил кто-то смеясь, намекая на недавний эпизод: какая-то художница писала портрет Эфроса, питая к нему нежные чувства, которые достаточно ярко выражала… Н. А. ликвидировала ее в конце концов.
– Художница? – засмеялась она. – А-а-а, это, знаете., как бы вам сказать: я не люблю, чтобы трогали мои вещи… Вы, например, не дадите другому вашу зубную щетку… Ну вот и я не дам…
Конечно, здесь все достоверно, – лгать Маргарита Николаевна не умела. Я не согласен лишь с одним определением, какое Маргарита Николаевна, описывая Надежду Александровну, дает ее манере говорить: «самоуверенно». Нет, Надежда Александровна говорила не самоуверенно, а убежденно – и без навязывания своих убеждений. Она знала, что я обеими ногами стою на родной почве, вполне это одобряла и не предприняла ни одной попытки перевести меня на стезю теософическую. У нее была драгоценная черта: она всех внимательно дослушивала до конца, никогда не перебивала, как бы ни были ей чужды и неожиданны для нее высказываемые кем-либо суждения, а в некоторых случаях, подумав, соглашалась.
Веротерпимость Надежда Александровна проявляла и в мировоззрении и в искусстве. Может быть» здесь сказывалось влияние Эфроса. И Эфрос и Надежда Александровна в целом принимали искания Мейерхольда.
В ту пору, когда я познакомился с Надеждой Александровной, я, не закрывая глаз на обмеление Художественного театра, в теории был воинствующим «художественником». Да таковым я и остался. Я и теперь отдал бы театр Мейерхольда с Камерным и Вахтанговским впридачу за один удар леонидовского грома, за один качаловский клейкий, распускающийся весной листочек, за молитву Луки – Москвина о новопреставленной Анне, за несколько туров вальса, который танцевала Книппер-Чехова в третьем действии «Вишневого сада», за ту сцену из «Дней Турбиных», где гибнет Алексей – Хмелев, и за следующую сцену, где весть об его гибели доходит до Елены – Соколовой, за то, как философствовал за коньячком Федор Павлович – Лужский. Но теперь я на огромном расстоянии смутно различаю красоту искусства Малого театра былых времен, ощущаю, как мне ее недостает, как безгранично много я потерял, оттого что не видел его корифеев. А тогда я вызывающе щеголял афоризмом собственного изделия: «Русский театр открылся в октябре девяносто восьмого года». До этого, мол, были гастрольные выступления гениальных артистов Малого и Александринского театров. Бухнул я это и Надежде Александровне и вот что услышал в ответ:
– Ты знаешь» как я люблю Станиславского: Станиславского-актера, Станиславского-режиссера, Станиславского-человека. Мы были с ним очень близки, и с ним, и с Марьей Петровной. Два лета провели вместе за границей, и Станиславский первые мысли о своей системе диктовал Эфросу. И все-таки я вот что тебе скажу: когда в спектакле Малого театра принимали участие Мария Николаевна, Ольга Осиповна Садовская, Лешковская, Ленский, Южин, Михаил Провыч Садовский, то ни-ка-кой Станиславский им был не нужен. Они несколько раз сойдутся, пошепчутся, и у них рождаются такие дивные спектакли, как «Таланты и поклонники», «Волки и овцы». Это уж, милый мой, не гастрольные выступления, как ты выражаешься, Ермоловой в «Орлеанской деве», это был самый настоящий ансамбль.
В те годы пластинок Шаляпина, ни до-, ни послереволюционных, мне слышать не доводилось. Ахматова, Пастернак еще не набрали ту высоту, какой они достигли после войны. Живопись Нестерова упрятали в запасники Третьяковской галереи, и я открыл ее для себя тоже в послевоенные годы. Хора Гайдая в Киевском Владимирском соборе тогда не существовало, да и собор-то был закрыт. Ради этого хора я стал ежегодно ездить в Киев уже в 50-х годах. Тогда я гордился только тем, что я – современник Бунина (Сергеев-Ценский к этому времени увял), автора «Дней Турбиных», Качалова и Леонидова. Но окно в Европу советская власть замуровала, вести о Бунине-человеке до меня почти не доходили, а Качалов и Леонидов притягивали меня к себе и как великие артисты, и как личности, меня занимало ближайшее их окружение, и я расспрашивал о них наших общих знакомых.
Дочь Леонидова Ася – моя младшая подруга по Институту – внешне представляла собой девичий смягченный вариант отцовского лица. Глаза у нее были отцовские по цвету, но без их бездонной жути. Об отце в домашней обстановке она почти ничего не сумела мне рассказать. Запомнилось лишь, что он – нелюдим, почти ни у кого не бывает и к себе почти никого не зовет; что он репетирует роль, запершись у себя в кабинете; что она с риском получить нагоняй подглядывает в щелочку, как он репетирует Егора Булычева; что он волнуется, когда ее нет дома, и частенько заходит за ней к подругам, чем приводит ее в немалое смущение; что ему хотелось бы держать ее под стеклянным колпаком и что он скрепя сердце позволил ей поступить сначала на подготовительные курсы в наш институт, а потом и в самый институт; то, что она теперь студентка, его не радует, а огорчает. Недавно он сделал ей за столом замечание: «С тех пор, как ты поступила в институт, у тебя появились дурные манеры». О том, что Леонидов собирает часы, о том, что он – пушкинист, что он – обладатель богатой пушкинианы, что он постоянный посетитель собеседований пушкинистов, – об этом я узнал позднее и не от Аси. О себе Ася говорила, что больше всего на свете любит отца, кошек и церковное пение, Я любил многое другое, но все три Асины любви принимал и разделял.
С Леонидовым-человеком Надежда Александровна была далека, О Леонидове-актере она писала в своих воспоминаниях» пожалуй, лучше, чем кто-либо: «Я не могу представить себе Митю Карамазова иначе, чем его играл Л. М. Леонидов. Он до предела совершенства воплотил образ Достоевского. Не могу себе представить, что можно еще лучше передать переживания мятежной, больной, прекрасной души Мити. Точно вчера только лились на меня из его безумных горящих глаз пронзающие сердце лучи. Необыкновенное лицо и голос Леонидова выражали взрывы страсти, мученья совести, вспышки гнева и возмущения. Он потрясал. Это была настоящая трагедия, при воспоминании о которой через тридцать лет бьется сердце и рвутся из души слова глубокой благодарности театру и актеру…»
О Качалове-человеке я слышал много и одно лишь хорошее. Больше, чем от кого-либо, – от Маргариты Николаевны. Ее рассказы о Качалове, которого она называла «слезой народной», я приводил в своем месте. Гейрот с почти собакевичевской мизантропией говорил мне, что после смерти Станиславского Художественный театр исподхалимничался вдрызг перед Немировичем, Немирович исподхалимничался вдрызг перед начальством, и театр с головокружительной быстротой летит к чертовой матери, что среди актеров осталось только два прекрасных человека: Качалов и Книппер.
– Но Василий Иванович устал от всяких мерзостей и часто закрывает глаза, – добавил Гейрот, – а Книппер все еще с молодой горячностью бросается в бой.
Впечатления Гейрота подтверждаются словами самого Василия Ивановича из его письма к С. Н. Зарудному, написанного в 40-м году (журнал «Театр» № 2 за 1975 год): «…вообще я к театру совсем охладел».
Замечу в скобках, что у нехудожественников взгляд оказался еще шире.
22 июня 74-го года я был у Ильинского. Признался, что разлюбил театр.
– Я тоже, – подхватил Ильинский. – В начале века Станиславский создал великий театр. А когда он умер, не стало Художественного театра, не стало театра во всей России. Я время от времени спрашиваю по телефону Кторова: «Ну как у вас в театре?» Обычно он отвечал: «Бардак». А в этом году: «Бардачище».
– Ну, а Театр на Таганке, «Современник»? – спросил я.
– Кое-что интересно, но вот что стало для меня теперь критерием: даже и это интересное не тянет пересмотреть, А сколько раз я мог бы смотреть Грибунина, Варламова или Чехова!..
Расспрашивал я о Качалове, о Литовцевой и Надежду Александровну.
– С Васей я дружнее, чем с Ниной, – сказала она. – Но заботится-обо мне больше Нина. Когда бы я ни приехала в Москву, она всякий раз меня спрашивает, не нужно ли мне денег. Нина умна, талантлива, отзывчива. У нее один-единственный недостаток: несчастный характер, и характер портит жизнь прежде всего ей самой, а потом – Васе, которого она обожает.
Мысль написать книгу родилась у Надежды Александровны в начале нашей дружбы. Когда я приезжал в Тарусу, она обычно читала мне новую главу. Главу о Качалове она дала ему прочесть в Москве. Качалов, как рассказывала мне Надежда Александровна, поморщившись, попросил ее выбросить все, что она пишет об его общественной деятельности. «Пусть об этом пишут другие, если хотят, а тебя я прошу не писать», – с мягкой настойчивостью заключил Василий Иванович. В машинописном тексте он сам вычеркнул все это карандашом.
Я выразил изумление. Некоторые выступления Качалова в печати я принимал за чистую монету. Я объяснил их чисто актерской близорукостью. Мне припоминался рассказ Теппера. В годы гражданской войны на Украине он играл в бродячей труппе. Однажды труппа пошла играть пешком в соседний городишко. Город, который являлся их базой, был в руках красных. Пока они лицедействовали, город этот перешел в руки белых. Возвращаются они восвояси. Их останавливает патруль:
– Вы за красных или за белых?
– Мы? Мы – актеры.
– Ну, актеры, – тогда проходите.
Я задал Надежде Александровне вопрос:
– А как же мне Коля Зеленин в двадцать шестом году говорил, что Качалов еще до революции тяготел к социал-демократии и что в общем он сейчас настроен советски?
– Милый мой! Да ведь когда это было! Двадцать шестой год – пожалуй, самый тихий год НЭП’а. Тогда шла внутрипартийная склока – нас она не касалась. Тогда еще можно было надеяться на лучшее, что возврата к террору не будет. Не один Вася – большинство из нас в дураках осталось… Вася – контрик… вот такой же, как ты, – добавила Надежда Александровна, очевидно, для того, чтобы я яснее представил себе размах качаловской «контровости». Вася – гуманист. Ежовщина его доконала.
Многое из того, что Надежда Александровна рассказывала мне о театральной провинции, о Театре Корша, о Малом, о Художественном, о студии Малого театра, об Эфросе, вошло в ее книгу. К сожалению, книга получилась неровная. Порой автор сбивается на трафарет, картинные описания игры актеров перемежаются общими местами. Иным Смирнова подбавляет краснины – это беда почти всех наших мемуаристов, рассчитывающих на скорый выход книги. Надежда Александровна революционизирует Эфроса. Она умалчивает о том, что Эфрос был видный кадет, и по одному этому, не говоря уже о мягкости его душевного склада, о его человеколюбии, которое отмечают все, о нем писавшие, он не мог принять военный коммунизм как предверие Золотого века. Работал он гораздо больше, чем до революции, чтобы не умереть с голоду: тогда в чем большем количестве новоиспеченных учреждений человек числился, тем больше получал пайков; работал увлеченно, но не потому, чтобы вдруг заобожал большевиков, а потому, что театром жил и дышал всю свою жизнь, а также в силу своей интеллигентской добросовестности: взялся за гуж – не говори, что не дюж.
Совсем слаба в книге глава о Качалове. Глава о студии Малого театра попросту скучна. Студия Малого театра (или Новый театр) – это один из сверкнувших после революции мыльных пузырей, отличавшийся от других тем, что он долго держался в воздухе.
Кое-что вычеркнули у Надежды Александровны редактора. Я помню ясно, что Надежда Александровна писала о том, как хорошо играли артисты Художественного театра (Качалов, Лилина, Массалитинов) в пьесе Мережковского «Будет радость». Но книга Надежды Александровны вышла вскоре после речи Жданова, где Мережковский был упомянут в далеко не лестном для него контексте, и все о «Будет радость» из книги вылетело.
Обеднила книгу Надежда Александровны и другая беда, подстерегающая мемуаристов, пишущих не в стол, а для печати: боязнь обидеть живых.
Надежда Александровна так и не выполнила наказа Массалитиновой «всыпать Саньке Яблочкиной». А впрочем, попробовала бы она всыпать! Это только при царе Боборыкин мог, сколько его душе угодно, ругать Ермолову, а Кугель – Художественный театр. Какая советская газета или журнал пропустят выдержанную в самом учтивом тоне, но не хвалебную статью о ком-либо из бывших или настоящих фаворитов? Вот и пришлось Надежде Александровне, – чтобы не обидеть, с оглядкой на цензоров и редакторов, – гримировать своих современников, и некоторых из них я в ее книге не узнал: до того они вышли не похожими на тех, какими она их изображала в устных рассказах.
Словом, книга воспоминаний Надежды Александровны меня разочаровала. Когда она читала мне ее вслух, ее интонации, мимика, жесты дорисовывали то, чего я потом не обнаружил в книге. Надежда Александровна не была наделена писательским даром в той мере, в какой, неожиданно для них самих, он проявился у Станиславского, у Юрьева, у Шверубовича. Надежда Александровна была наделена великолепным даром рассказчика. По сравнению с ее рассказами, поражавшими безысходной драматичностью или комической остротой положений, рассказами, в которых портретная живопись не уступала в яркости речевым характеристикам персонажей, ее книга – выцветшая фотография, притом сделанная фотографом-любителем.
И все-таки мое первое впечатление от книги воспоминаний Смирновой нуждается в поправке. Тогда еще слишком свежи были мои впечатления от ее рассказов. При первом чтении штампы и полуправда заслонили от меня иные ее мысли, которые и не снились нашим мудрецам-театроведам. Вот с какой исчерпывающей краткостью пишет Смирнова о том, что давала зрителям игра Ермоловой: в тот вечер, когда играла Ермолова, «зритель становился выше, добрее и умнее».
Не одна Смирнова писала о том, что Ермолова перед выходом на сцену крестилась. Но никто так верно не истолковал этого ермоловского обычая: «В ту минуту, когда она (Ермолова. – Н. Л.) слышит произнесенные на сцене слова, после которых ей надо выходить, она быстро крестится и отворяет дверь. Мария Николаевна была человеком глубоко верующим, и, крестясь, она как бы призывала благословение Бога на то великое дело, которое Он поручил ей на земле».
Всплывают в моей памяти не вошедшие в книгу Надежды Александровны существенные «мелочи театральной жизни», о которых я узнал от нее. Во время одного из наших разговоров о театре я спросил Надежду Александровну, согласна ли она с формулой Эфроса из его монографии о Художественном театре: Станиславский – фантазия Художественного театра, Немирович-Данченко – его мысль.
– В общем это верно, – ответила Надежда Александровна. – А ты знаешь, Немирович-Данченко обиделся за это на Николая Ефимовича!.. Немирович-Данченко – блестящий организатор, большой режиссер (ведь это он поставил «Братьев Карамазовых», один, без помощи Станиславского, Станиславский был тогда серьезно болен), в прошлом – с тонким литературным вкусом, но это маленький человек, физически и нравственно! Ты читал его книгу «Из прошлого»? Как плохо! Вот-те и писатель! И все он, все он. Станиславский – так, между прочим. А какого он себе поклонения требует теперь, после смерти Станиславского! Марья Петровна Лилина беспристрастна. Она мне как-то сказала (Надежда Александровна произнесла слова Лилиной медленно и чуть-чуть в нос): «Если бы не Владимир Иванович, мы с Костей так бы до сих пор и репетировали “Царя Федора”», И сколько раз бывало так, – продолжала Надежда Александровна, – это уж я от Эфроса и от Качалова знаю: актеры вложили в свои роли на репетициях все, что могли, – дать перестоять траве так же плохо, как скосить ее раньше времени, – а у Станиславского фантазия только-только разыгрывается. Приходит на репетицию Немирович. Смотрит. Спрашивает: «Ну как, Константин Сергеевич?» – «Налазывается». (В жизни Станиславский слегка пришепетывал, на сцене это у него исчезало.) Через несколько дней Немирович – бац афишу! Премьера тогда-то. У Константина Сергеевича температура под сорок, но ничего не поделаешь, выпускать спектакль надо. Марья Петровна не отрицает заслуг и достоинств Немировича. Но каково ей слушать его речи!.. Осенний сбор всей труппы. Год тому назад умер Константин Сергеевич. Немирович не находит ничего тактичнее, деликатнее и умнее, как сказать: «В прошлом году Художественный театр понес две тяжелые утраты: во-первых, умерла моя жена, которую недаром называли Маскоттой Художественного театра, а во-вторых, умер Константин Сергеевич». Он просто одурел от старости и от зависти к уже усопшему Станиславскому. Знаешь, какую фамилию ему дали? Неумерович. Москвин, старик, гениальный артист, трясся на сборе труппы, как собачонка под дождем: не произнести несколько слов о Станиславском старейшему артисту труппы стыдно, произнести – как бы не впасть в немилость у Немировича. Я сказала Лилиной: «Марья Петровна, дорогая, не расстраивайтесь! Константин Сергеевич смотрит оттуда, улыбается и говорит: “Дураки вы, идиоты! Вы думаете, мне обидно? Да нисколько! Если б вы знали, как это все неважно по сравнению с тем, как я здесь счастлив!”»
Наезжая время от времени в Москву, Надежда Александровна смотрела интересовавшие ее премьеры. Очень хвалила Бендину за Дорину из «Тартюфа»:
– Наконец-то дали актрисе настоящую роль – вот она себя и показала! А сколько сезонов такая чудная актриса не получала новой роли!
Ругательски ругала Надежда Александровна «Последнюю жертву» в Художественном театре:
– Москвин – злая горилла, а не Флор Федулыч. Тарасова – истеричная кухарка, которой изменил кум пожарный. Хорош один только Топорков в роли Дергачева. А вообще бознатыпто!
Надежда Александровна опекала тарусских любителей. Почти все постановки тарусского драмкружка были осуществлены ею или с ее помощью. Она предъявляла любителям требования, как профессионалам, боролась с безответственностью, с халтурой.
На другой день после какого-то спектакля Надежда Александровна со свойственным ей беззлобным гневом отчитывала пришедших к ней молодоженов, игравших главные роли и вообще занимавших в труппе первое положение.
– Если так будет у вас идти дальше, если кто-нибудь хоть раз посмеет не явиться или хотя бы опоздать на репетицию, дуть под суфлера, то я вам больше не режиссер. В уборных у вас бознатьшто: окурки, бумажки, кровавая вата, как у женщин во время месячных. Фу, гадость какая! Это называется театр! Нужник это, а не театр! Общественный нужник! Вот вроде того, который на станции Тарусская.
Жившая летом в Тарусе на своей даче писательница Софья Захаровна Федорченко давным-давно видела Надежду Александровну в нескольких ролях, когда Надежда Александровна играла еще в Киеве, в бывшем театре Соловцова. Софья Захаровна утверждала, что весь театральный Киев, в том числе и она, был влюблен в Смирнову.
Летом 39-го года я попросил Надежду Александровну устроить домашний концерт. Он состоялся на даче у Маргариты Николаевны и Татьяны Львовны. Надежда Александровна готовилась к нему как к публичному выступлению, хотя публики было – «ты да я да мы с тобой». Играла она без грима. Костюмы только отдаленно намекали на эпоху и на положение действующих лиц. В первом отделении мы увидели Надежду Александровну в сцене Марии Стюарт с Елизаветой – обе роли она играла в театре. Эта сцена мне почему-то видится тускло. Во втором отделении она сыграла сцену царицы Марфы из хроники Островского «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский», – эту роль она тоже играла в театре.
И тут я в первый и в последний раз увидел актрису-героиню, актрису с трагическим темпераментом.
Через порог шагнула старуха в полумонашеском одеянии. В выражении ее лица, во взгляде, ушедшем внутрь, в полупотухших глазах, в полуопущенной голове, в скрещенных на груди руках угадывалась монашеская отрешенность от мира, монашеское смирение. Но сквозь отрешенность и смирение проступала все еще не выплаканная скорбь. И вдруг при воспоминании об Угличе голос у этой монахини, как будто бы все уже простившей, со всеми мысленно примирившейся, зазвенел местью, а стоило Басманову ей пригрозить – и в ней проснулась царица, да какая, подстать Ивану Грозному:
Пугать меня! – жену царя Ивана, Того Ивана, перед кем вы прежде, Как листья на осине, трепетали! Я не боялась и царя Бориса, Не побоюсь тебя, холоп!Но вот Марфа наедине с Самозванцем – и вихрь страстей, поднявшийся в ее душе, утихает. Не почести ей нужны – ей нужен кто-то, кого она могла бы по-матерински прижать к груди. И ради этого счастья она обманывает себя и других. На все жертвы готовую материнскую любовь выражали не только и даже не столько глаза артистки, сколько ее руки, с неутолявшейся много-много лет нежностью обнимавшие воображаемого сына.
…В 47-м году я навестил Надежду Александровну в Измайлове, в доме для престарелых актеров. Тарусский свой дом Надежда Александровна и Софья Владимировна после войны продали. Но почему Надежда Александровна не переехала к Софье Владимировне? Ведь у Софьи Владимировны был собственный домик в Гагаринском переулке, который ей и Елене Владимировне «подарили» за заслуги отца. Это так и осталось для меня загадкой.
Больше я Надежду Александровну не видел.
В первые годы после войны я с семьей бедствовал. Мы покупали самый дешевый хлеб, ходил я зимой и летом в таких нарядах, что, стань я где-нибудь на углу или на паперти, мне могли бы протянуть мелочишку. Я стеснялся ехать к Надежде Александровне с пустыми руками. Причина, конечно, глупая. Если б я рассказал Надежде Александровне о своем положении, она накричала бы на меня: как я смею думать о каких-то подарках? И тем не менее это удерживало меня от поездок к ней. Главным образом, однако, не безденежье. Уж очень больно было мне видеть Надежду Александровну в комфортабельной богадельне. Но это объяснение, а не оправдание.
Стихотворение Случевского «Воспоминанья вы убить хотите?», строки из которого я уже приводил, кончается так:
Целые банкеты Воспоминанья могут задавать. Беда, беда, когда средь них найдется Стыд иль пятно в свершившемся былом! Оно к банкету скрытно проберется И тенью Банко сядет за столом!Мысль, что я не навещал Надежду Александровну в ее неуютном приюте и не проводил ее в последний путь (телефона у меня не было, и никто из ее родных не дал мне знать о ее кончине), – это одна из теней, не выходящих из-за моего стола.
Летом в Тарусе собирались милые и занятные люди. На все лето приезжала к сестре Елена Владимировна Герье. Общение с ней давалось нелегко из-за ее старости и глухоты. В 40-м году я получил письмо от Маргариты Николаевны, Татьяны Львовны и Николая Васильевича Зеленина, проводивших то лето на Николиной горе. Николай Васильевич шутил:
«Привет Надежде Александровне, Софье Владимировне и даже Елене Владимировне (если она в Тарусе и если у нее не отшибло память, а то еще решит, что это ей привет шлет с того света Николай Васильевич Давыдов, бывший председатель Московского окружного суда, или Николай Васильевич Гоголь)».
У Елены Владимировны по-старушечьи, предсмертно выдавался подбородок, рот ввалился из-за почти полного отсутствия зубов, нос заострился. И лицо у нее было не пергаментно-желтое, как у сестры, а белое с отливом в желтизну восковую. Она страдала «Миньеровой болезнью» и, идя по саду или по комнате, вдруг как будто начинала вальсировать.
И все же нелегкий труд общения с ней окупался. Она не утратила интереса к тому, что творилось на свете. Единственно, что еще жило у нее в лице, это большие ее глаза. Она смотрела на человека взглядом любопытным и доброжелательным. Чего не улавливал ее слух, то впитывали глаза. Глазами она и смотрела и слушала. Она была гораздо мягче Софьи Владимировны. Мягче и душевнее. Софья Владимировна была безусловно участлива, но в этой ее участливости было много и от ума: помогать людям ей повелевала доктрина. Елена Владимировна не слушалась поучений Блаватской, она прислушивалась к велениям своего сердца.
Одна из ее приятельниц угодила в далекую ссылку, писала ей оттуда, присылала свои переводы французских стихов, Елена Владимировна посылала ей деньги и посылки и все зондировала почву для приискания ей в Москве более или менее постоянного литературного заработка. Читала она мне ее переводы. Это были не то идиллии, не то эклоги. Мне запомнилась одна строка в чтении Елены Владимировны:
А вон в лещу’ шачи’р жа нимфой погнальша’…Содействовать продвижению в печать этих переводов я не взялся. Перед войной иностранную классику почти не издавали, а главное, нравы становились все жестче и в издательствах. Когда я пребывал в ссылке, мои комментарии и переводы печатались в Москве под моей фамилией, а потом и тут закрутили гайки. Переводы тех, кого закатали в ссылку или в концлагерь, предпочитали совсем не печатать, в редких случаях (ранее издававшиеся) печатали под псевдонимом или вовсе без подписи.
В 42-м году Елена Владимировна навестила нас в Москве. Вскоре получилась от нее открытка, начинавшаяся так: «Милые мои Любимчики!» Елена Владимировна писала о том, что теперь, увидев воочию, как трудно нам живется» она очень страдает от того, что не в силах быть нам хоть чем-нибудь полезной.
Только я собрался к ней, как пришла весть о ее гибели: она лопала под грузовик, В больнице, умирая, она все просила не судить шофера; уверяла, что во всем виновата она, ее глухота и головокружения, а шофер не повинен, и у него жена и дети. Собрав последние силы, она подписала бумагу, обелявшую шофера.
Два лета подряд (38-го и 39-го года) я часто встречался в Тарусе и ходил на далекие прогулки с шекспироведом Михаилом Михайловичем Морозовым.
Лето 38-го года он провел в Тарусе со своей второй женой и с матерью, знаменитой Маргаритой Кирилловной Морозовой, славившейся своей красотой (в Москве перед революцией соперничали две красавицы-богачки Морозова и Фирсанова) и меценатством. В особняке Морозовой сходились представители едва ли не всех партий, течений и направлений, заседали члены московского Религиозно-философского общества. Это была первая любовь Андрея Белого. Он воспел Морозову в поэме «Первое свидание» под именем Надежды Львовны Зариной.
Когда я смотрел на Маргариту Кирилловну, старуху, много вынесшую и претерпевшую за годы революции, потерявшую все свое состояние, ютившуюся вместе с сестрой в полуподвальном этаже своего бывшего дома, привыкшую всегда кого-нибудь принимать у себя, а теперь обреченную на почти полное одиночество, так как к ней всем, кроме сына, путь был заказан – в ее доме помещалось какое-то посольство, я понимал Андрея Белого: она и в старости сохранила одухотворенную свою красоту.
Андрей Белый пишет в «Начале века», что она была «огромного роста». Старость согнула и пригнула ее. Но «ослепительные глаза», о которых в той же книге пишет Андрей Белый, почти не потускнели. И были в ее взгляде и чувство собственного достоинства, без малейшего оттенка чванливости, сохранившейся, несмотря ни на что, у многих «бывших», и та благорасположенность к людям, над которой почему-то насмехается Андрей Белый, как – тоже непонятно, почему – издевается он над ее похвальным человеколюбивым и дальнозорким намерением примирить и объединить враждовавших интеллигентов, враждовавших, по сравнению с тем, что могло бы их сблизить, из-за сущей чепухи. Ох уж эти декаденты, аргонавты, мистические анархисты, теософы, антропософы, октябристы, кадеты! Какая это все суета сует! И нашли время, когда поднимать мышиную возню! А между тем Васьки не только слушали, но и точили когти. «Ах, Мережковские, мать вашу!» – вспоминаются слова Бунина из его дневника за 17-й год.
Михаил Михайлович не прощал Белому его отношения к Маргарите Кирилловне. Помилуйте! Что же это такое? В поэме фимиам» а спустя несколько лет» в течение которых Маргарита Кирилловна ничего дурного никому не сделала, в книге воспоминаний «Начало века» – издевочки? Во что превратилась «Мадонна Рафаэля»? В «намордник» на «тигре» – религиозном философе Льве Михайловиче Лопатине, в попугая» за всеми повторяющего модные словечки и со всеми соглашающегося?., И зачем было ворошить ее связи с кадетами, с меньшевиками, зачем упоминать, что ее посещали первый председатель совета министров во Временном правительстве, князь Георгий Евгеньевич Львов» и Милюков? Как хотите, а это пахнет доносом. И за что про что? Только чтобы показать» каким он, Андрей Белый, стал теперь советски настроенным, каким он стал марксистом» подпускающим для шику марксистские термины, – впрочем, в большинстве случаев невпопад? Ведь все равно не помогло. За первую книгу воспоминаний – «На рубеже двух столетий» – его разделал в специальной статье Корнелий Зелинский, за «Начало века» в предисловии отщелкал Каменев, за «Маски» – Горький, за «Мастерство Гоголя» – опять-таки в предисловии – опять-таки Каменев. Оправдания Белого, что у него-де вычеркнули о Маргарите Кирилловне все хорошее, – это одни разговорчики. Тогда возьми и вычеркни Маргариту Кирилловну вовсе. Так же оправдывался Белый, когда знакомые выражали ему свое возмущение за то, что он обгадил Бальмонта. И вообще, что это за свинство: писать черт знает что о Бальмонте, о Мережковских, своих бывших друзьях, которые не имеют возможности ответить тебе в советской печати? Он и Блока не пощадил. А что писал о нем совсем недавно, уже после революции? Не воспоминание – житие! А какую речь произнес о нем в Вольфиле? Не речь – акафист! Прав Достоевский: широк человек!
Мне было «нечем крыть»…
Злость на Андрея Белого не мешала Морозову с воодушевлением читать те его стихи, которые он особенно любил:
Золотому блеску верил, А умер от солнечных стрел. Думой века измерил, А жизнь прожить не сумел.Морозов обладал особого рода памятью – памятью на стихи разного сорта. В ней откладывались не только перлы, но и курьезы. В глазах его не сверкнуло ни искорки смеха, – на меня смотрел с младенческим недоумением серовский «Мика Морозов», пока он читал мне отрывки из либретто оперы «Гамлет», сочиненного Сусанной Мар. Мне запомнилось две строки из «хора солдат Фортинбраса»:
Горят, горят, синея, Зеленые дрова.И еще запомнилась ария Полония, поющего письмо, которое он получил из Парижа:
Донесенье вам Пишем налету: Ваш сынок весь день Дуется в лапту. Как наступит мрак, Он идет в кабак, А потом с мамзель Прямиком в постель.Выражение младенческого изумления появлялось у Морозова всякий раз, когда он сталкивался с чем-нибудь бездарным, безобразным» нелепым. Он не возмущался – он весело удивлялся. Это самое «Микино» выражение не сходило у него с лица, пока Софья Захаровна Федорченко угощала нас чтением отрывков из последней, так и оставшейся ненапечатанной части своей эпопеи «Народ на войне». Когда мы от нее вышли, я ругался, как извозчик, а он, по своей привычке прихахатывая, точно всхлипывая или обжигаясь горячим чаем» сказал:
– У меня такое чувство, как будто нас пригласили слушать сонату Бетховена, а вместо этого долго играли собачий вальс.
Морозов тогда еще представлялся, что восхищен переводами трагедий Шекспира, выполненными Анной Радловой, но не сердился на меня, когда я поносил их. Я чувствовал, что в глубине души он со мной согласен. Человек с поэтическим вкусом не мог искренне поклоняться Радловой. Мне казалось, что Морозов разводит дипломатию из страха перед этой «леди Макбет», как ее называли. А в иных случаях, припертый к стене цитатами из ее чудовищных переводов, он сдавался.
В 40-м году Корней Чуковский сделал в ВТО доклад о переводах Радловой – и не оставил от них камня на камне. Когда перед Радловой расшаркивался Карл Радек, Чуковский как воды в рот набрал. Теперь Карл Радек был не опасен, и Корней Чуковский смело ринулся в бой. На обсуждении его доклада от Радловой отрекся Морозов. Затем он поднял на щит, как переводчика Шекспира, Пастернака (в 41-м году Пастернак дебютировал переводом «Гамлета») и, хотя и спорил с ним по поводу отдельных мест, уже до конца дней оставался его помощником, почитателем и пропагандистом. Не убоявшись звания лауреата Сталинской премии, полученной Лозинским за перевод «Божественной комедии», Морозов, в качестве заведующего шекспировским кабинетом ВТО, раздраконил осуществленный Лозинским перевод «Отелло».
Михаил Михайлович читал у меня на даче свои работы о Шекспире. После чтения и обмена мнениями мы пили чай с вкусными ржаными лепешками, которые пекла бабушка Наталья. Как вспомню, так слюнки текут.
Знакомство мое с Морозовым было типично курортно-дачное знакомство. Зимой нас друг к другу не потянуло. После войны мы встречались на улицах или в издательствах.
В Тарусе я познакомился с Вильгельмом Вениаминовичем Левиком. Он читал у меня первые свои переводы из Гейне (особенно твердо закрепился в памяти «Невольничий корабль») и переводы озорных стихотворных новелл Лафонтена. Впечатление было такое, как будто Гейне, которому сжимали горло переводчики Тынянов и Пеньковский, вновь заговорил своим, не сдавленным и не придушенным, голосом. Вообще от переводов Левика потянуло свежестью, И стало ясно, что контора Шервинского лопнула.
В Тарусе я познакомился с Ниной Леонидовной Дарузёс, которую я считаю одним из лучших русских переводчиков прозы. Несколько лет спустя я заказал ей новый перевод «Плутней Скалена» Мольера. Потом этот перевод много раз переиздавался, и я по обязанности редактора держал корректуру ее перевода. И всякий раз хохотал.
В Тарусе я встречался и с Иваном Александровичем Кашкиным, которого знал еще в мою студенческую пору. Его привлек к ведению семинара по художественному переводу на английском отделении Грифцов. Когда я был на последнем курсе, Грифцов предложил мне, как тогда говорили – «в порядке общественной работы» и как говорят теперь – «на общественных началах», быть секретарем кафедры перевода. На одном из заседаний кафедры я познакомился с Кашкиным. Как педагог, он пользовался особой симпатией Грифцова.
Наши отношения с Кашкиным сложились не так, как бы мне хотелось, не так, как, вероятно, в последние годы его жизни хотелось бы ему и как они могли бы сложиться, если бы не так называемые «кашкинки». (Я исключаю из их числа Холмскую, Дарузес, Топер и Богословскую: с первыми тремя у меня сохранилась крепкая личная и литературная дружба, с Богословской – просто хорошие отношения.)
Рыжеволосый, высокий, худой, ухватками и ужимками отчасти напоминавший Урию Хипа из «Дэвида Копперфилда», и не только ужимками, но и некоторыми чертами характера, Кашкин нуждался в нравственной узде. Кашкин был человек психически больной, неуравновешенный, мнительный, подозрительный. Вместо того, чтобы беречь силы Кашкина, вместо того, чтобы охлаждать пыл этого сбивчивого и далеко не всегда чистоплотного полемиста, некоторые его оруженосицы, как показало время, мнимые, подзуживали и навинчивали его то против Шенгели, то против Ланна. Талантливый человек, Кашкин растрачивал себя на недостойные выпады против тех, кого он избрал постоянной своей мишенью. На любом сборище переводчиков Кашкин с маниакальной привязчивостью бубнил одно и то же, одно и то же… У меня в зубах навязли эти фамилии. Как будто не было других тем, не было новых переводов, плохих и хороших!.. Идя на сборище, я уже представлял себе нелепую фигуру Кашкина в серой или синей толстовке, размахивающую руками не в лад речам, которые, кстати сказать, его противникам в послесталинские времена были уже что об стену горох. Если бы еще Кашкин просто доказывал (да и то на критику перевода «Дон Жуана» с избытком хватило бы одного заседания или одной статьи), что Шенгели плохо перевел поэмы и драмы Байрона, то это могло бы вызвать возражения только у присных Шенгели. Но Кашкин на одной из переводческих «посиделок» в Союзе писателей бросил обвинение Шенгели в том, что в «Дон Жуане» он принизил и исказил образ Суворова. Это уже было обвинение политическое, в послевоенные годы грозившее переводчику большими неприятностями и, как выяснилось, необоснованное: у Байрона Суворов выглядит тоже неказисто. Да и вообще, я был против сбрасывания со счетов такого выдающегося переводчика, как Шенгели. Он не справился с Байроном, это верно. А некоторые стихотворения Верхарна перевел лучше Брюсова. А попробуйте с таким изощренным мастерством, как Шенгели, перевести «Джиннов» Гюго! Наскакивал Кашкин и на переводы Диккенса, выполненные Ланном и Кривцовой. Кашкин и его клевретки почти не упоминали фамилии Кривцовой. Тогда выгоднее было стрелять по Ланну, «безродному космополиту», что в переводе с официально-советского языка второй половины 40-х годов означало «пархатый жид». Я взял Кривцову и Ланна под защиту. Я и теперь склонен думать, что Кривцова и Ланн не подобрали ключа к Диккенсу. Подобрал его Иринарх Введенский, и, если бы не разгул отсебятины, не смысловые ошибки и не недопустимые русизмы, надо было бы перепечатывать его переводы. Почти все переводы из Диккенса, принадлежащие Кривцовой и Ланну, выросли в эпоху буквализма, и это наложило на них печать тяжеловесности. Но Кривцова и Ланн точны в реалиях, у Кривцовой такой богатый русский язык, какой и не снился большинству «кашкинок». Над своим последним переводом из Диккенса – над «Дэвидом Копперфилдом» – они работали, когда буквализм был разгромлен, и этот перевод почти свободен от недостатков, которыми страдали прежние их переводы. Там есть и юмор, и лиризм, четко выписаны портреты и пейзажи. На обсуждении этого перевода в Гослитиздате я сцепился с Кашкиным. Потом отстоял кривцовско-ланновский перевод «Пиквикского клуба». Я понимал, что в этом переводе диккенсовский юмор поблек. Я понимал, что единственный достойный соперник Иринарха Введенского – не Кривцова и Ланн, а Дарузес. Это она доказала прекрасным переводом «Мартина Чезлвита». Но перевод «Пиквикекого клуба» она не вытянула бы по болезни. «Нашего общего друга» она перевела вместе с Волжиной, и вышло – тех же щей, да пожиже влей. Холмская с ее медлительностью закончила бы перевод не ранее 1999 года. Богословская и Бобров превратили бы Диккенса в слабосильного подражателя Андрею Белому, в какового он ими отчасти и превращен в переводе «Повести о двух городах». У Кривцовой и Ланна были неоспоримые преимущества перед прочими «кашкинками»: общая и языковая культура. Всем «кашкинкам», вместе взятым, самому Кашкину, да и никому у нас в отрадном сне не снилось так знать Диккенса, его жизнь и творчество, его эпоху, как знал Ланн.
Кашкин долго мстил мне за то, что я не дал ему и ведьмам с его горы съесть Кривцову и Ланна, – мстил усердным замалчиванием моих работ. Иные же из его приспешниц пользовались приемчиками и похуже.
Кашкину не хватало разборчивости. Так называемый «кашкинский коллектив» переводчиц был далеко не однороден и в смысле талантливости, и в смысле самой простой порядочности. Кашкин-человек дурно влиял на своих учениц, когда дело шло о борьбе с инакомыслящими и конкурентами; они еще хуже влияли на него. Что он посеял, то и пожал. После смерти Кашкина они продали его ни за грош: ради того, чтобы укрепить свое положение в Совете по художественному переводу при СП СССР и в редколлегии сборника «Мастерство перевода», этого прекрасного снотворного средства, они снюхались с противниками Кашкина – с Эткиндом, Федоровым, Шервинским.
А ценить меня Кашкин ценил. На вышедшей в 1954 году книге избранных стихотворений Уитмена переводчики Кашкин и Зенкевич сделали мне такую надпись:
Переводчику раблезианской мощи Николаю Михайловичу Любимову от И. Кашкина и М. Зенкевича.
20 апреля 1954И в конце концов Кашкина все-таки потянуло ко мне. Верно, понял он, что самое главное – это наше единство взглядов на искусство перевода. Из наших с ним разговоров выяснилось, что мы оба в ужасе от нахлынувших в перевод «рвачей и выжиг». Даже кое в ком из «кашкинок» он разочаровался. Ему-то «и рубля не накопили строчки», и погоня их за «потиражными» вызывала у него отвращение. Он уже начинал мешать Калашниковой, о которой замечательная переводчица с немецкого, злоречивая Наталья Семеновна Ман сказала, что она «свою местечковость пронесла через всю жизнь, как знамя». Он уже начинал мешать способной в кого угодно впиться зубами, кому угодно порвать штаны и платье, лишь бы урвать лакомый кусок, интриганке и завистнице Лорие. И вот эти две «кашкинки» пытались выжить Ивана Александровича: одна – из Совета, другая – из «Мастерства».
Зная, что Иван Александрович прихварывает, что он вырывает у болезни время для работы, я звонил ему редко, только по делу. Но он звонил мне все чаще и чаще, и все дольше и дольше, так что у меня в руке нагревалась телефонная трубка, пока длился пророческий его монолог о судьбах художественного перевода в России и о мрачности ближайшего его будущего.
Кашкин был неприятен, когда он полемизировал, бессвязен и скучен, когда он «с трибуны докладал».
С Кашкиным было интересно на прогулке. Я любил встречаться с ним на улице, на лестницах и в коридорах издательств. «Уриехиповское» в нем тогда исчезало. В чертах лица, в улыбке проскальзывало незащищенное, детское. Вдруг обронит какую-нибудь свою, кашкинскую, словно только сию минуту пришедшую ему в голову мысль, поможет тебе сдвинуться с мертвой точки в работе. Советуя, Кашкин, как и Грифцов, никогда не заводил переводчика в дебри отвлеченностей, не взбирался с ним на умозрительные выси. Он шел от наблюдений за живой жизнью, он опирался на творческий опыт художников слова. В этом было огромное преимущество Кашкина перед учеными и псевдоучеными педантами и схоластами, воображающими, что можно переводить по их «учебным пособиям».
В Тарусе я мучился над переводом одного романа. Я пасовал перед образностью его языка. Мне казалось, что автор сопрягает слишком уж далековатые идеи, что русский язык такого сопряжения не выдерживает. Мне хотелось поубавить огня в метафорах, развернуть их в сравнения.
Я поделился своими сомнениями с Кашкиным.
– Русский язык ничего не боится и в разжевывании не нуждается, – сказал Кашкин. – Дерзость выражения оправдана, если она создает нужное впечатление, нужное настроение. Помните – у Блока – в «Диком ветре»?
Ночь полна шагов и хруста…Попробуйте, разверните эту строку, расчлените ее, отделите зрительное впечатление от слухового – пропадет вся ее энергия» пропадет сила ее воздействия на читателя.
Когда Иван Александрович скончался, я, ненавистник гражданских панихид» все-таки поехал в Союз писателей, где стоял гроб с его телом, и сказал несколько слов о том, что в его лице мы потеряли борца за истинно художественный перевод.
В почетный караул у его гроба первыми поспешили стать два стукача Тамара Аксель и Шапсель Гатов…
О бабушке Наталье Татьяна Львовна говорила мне:
– Береги свою бабку – теперь таких не делают.
Почему бабушка Наталья привязалась ко мне? Она сама потом об этом рассказывала.
Когда я приехал в Тарусу во второй раз, то нашел бабушку лежащей на печке. В мое отсутствие она пыталась что-то починить на крыше и упала. Чай и варево ей приносили соседи, а она отлеживалась на печке. Она поведала мне свое злоключение и протянула задаток: она, дескать, боится, что ничего не сможет делать, а мы сняли дачу с услугами. Я задатка не взял и успокоил бабушку: я» мол, приеду, в следующий раз не раньше, чем через месяц, теперь приехал всего на один день – прописаться, никаких услуг мне не нужно, еда у меня есть, а к моему приезду она, Бог даст, непременно поправится. Вот этим доверием я и купил бабушку. А между тем я видел, с кем имею дело, ничем не рисковал, был убежден, что в случае чего она задаток вернет, расставаться же с ней и приискивать жилье где-нибудь еще мне не хотелось: от добра добра не ищут.
Осенью 39-го года какая-то умная голова надумала устроить в Тарусе военный городок. «Слушать, запоминать, запомнив, исполнять…» Таруса застонала стоном. Горсовет принял решение: забрать частные дома в одном из приокских кварталов Тарусы за грошовые выкупные под военный городок, а бывших хозяев вселить в частные же дома Порт-Артурского района. В бабушкину лачужку предполагалось вселить целое семейство, а меня – навылет. У бабушки две комнаты: одна – совсем маленькая, об одно оконце – отделена переборкой от той, что побольше, и кухонька. Уплотнение – как при военном коммунизме.
Тарусяне взвыли не только потому, что их уплотняли, – их лишали источников доходов: возможности сдавать комнаты на лето дачникам, а коренные тарусяне, за исключением служащих, ремесленников, водников, рыбаков, кормились тем, что давали сады и огороды, главное же – тем, что они получали с дачников. Я, как на службу, ходил в Горсовет и пробивал бюрократическую стену. В конце концов пробил. Помогли магическое слово «писатель» и справка из Гослитиздата о том, что я работаю в издательстве на договорных началах. Думаю, что патлатая, конопатая горсоветчица рассудила, примерно, так; «Ну их, этих писателей, с ими свяжешься – не обрадуешься, еще в газету попадешь». Я привел тот довод, что моя жена своей площади не имеет, прописана на площади у сестры, живет в двенадцатиметровой комнатушке, работать мне негде – вот почему я нуждаюсь не только в летней, но и в зимней даче. Все это была сущая правда. Я только благоразумно умолчал о том, что мне нельзя жить в Москве, – иначе мои резоны не подействовали бы, со мной и разговаривать бы не стали, паспорта же у меня в Горсовете не потребовали, а паспорт мой был с отметкой, что он выдан не на основании прежнего, срок которого истек, а на основании справки из Архангельского НКВД, в чем мало-мальски опытное советско-чиновничье око могло бы усмотреть, что я отбыл некое наказание.
Наша власть до того безалаберна, что безалаберщина просачивается даже в ее устои. Даже бдительность, о которой столько тогда долдонили письменно и устно, нередко оказывалась бдительностью лишь провозглашаемой, бумажной, показной, чисто формальной. Не только тарусский Горсовет и тарусская милиция являли собой плохо сообщающиеся сосуды. В ежовщину иные спаслись только тем, что вовремя унесли ноги. Иным достаточно было переехать ну хотя бы в соседний район, не говоря уже о республике или области, В этом районе ты – человек новый, к тебе еще не пригляделись, своих поднадзорных довольно. Что же касается бывших твоих опекунов, то охота им утруждать себя, сноситься со своими коллегами по поводу человека, выпавшего из их поля зрения! Ежели коллеги по их наущению его сграбастают, то ведь слава-то будет коллегам, а не им!.. Я знал одного перемышлянина, который жил в Тарусе, и здесь его не трогали, а в Перемышле замели бы с «премоим-моим», вне очереди.
Словом, я добился отмены распоряжения о вселении к бабушке Наталье многодетного семейства. Но в самый момент моего торжества раздалась команда: «Отставить!» Передумали. Идея устройства в Тарусе военного городка так и не осуществилась. Но если бы даже отстоял бабушку я, мне и это нельзя было бы поставить в заслугу: я и тут действовал столько же в интересах бабушки, сколько и в своих собственных. Нет уж, такая у бабушки Натальи была благодарная натура. Это драгоценное свойство – благодарность – чаще всего я встречал у простых русских людей.
Бабушка Наталья заботилась обо мне не как о постояльце, хотя бы и пользовавшемся особым ее расположением, а как о родном человеке.
Она терпеть не могла Морозова.
– Опять он тебя заводил до ночи! – ворчала она, когда я часов в десять вечера возвращался с прогулки. – Ему-то что! Ишь какое брюхо отрастил! Ему хорошо промяться, а ты худенький, и на голову ничего не надел – как бы не простыл.
А я был очень признателен Михаилу Михайловичу за прогулки в Поленово, в Истомино, к «пещерам Улая», по долине Таруски. Михаил Михайлович знал Тарусу, как свое поместье, и показывал мне самые красивые места.
Без всякой моей просьбы бабушка Наталья покупала мне теплые чулки: а то ну-ка промочу ноги, когда в распутицу буду шлепать от Тарусской.
Мы с ней сразу же уговорились, что она будет нам готовить, и готовила она превкусно, как заправская повариха, но решительно потребовала одного – чтобы моя жена раз в неделю ходила с ней на базар и проверяла, что почем:
– А то мне все будет метиться: ну-ка вы подумаете, будто бабка Наталья присчитывает.
Многие из причисляемых по формальным признакам к интеллигенции и мнящих себя интеллигентами могли бы призанять у бабушки Натальи такта. Она ни о чем меня не расспрашивала, не лезла в мои семейные дела, не допытывалась, почему я прописался постоянно у нее, а не у жены. Первое время, когда я у нее работал, она, сидя у себя на кухоньке, заводила со мной разговор. Я ни разу не оборвал ее. Я был только несловоохотлив и немногословен в репликах и ответах, отделывался преимущественно междометиями. Немного погодя бабушка перестала отвлекать меня от работы. Но она мне призналась:
– По первости мне было невдомек, что я своими разговорами тебе мешаю. А ты постеснялся сказать. Потом уж я сама поняла…
Когда я прощался с Тарусой, долгожданную радость переселения в Москву омрачало мне расставание с бабушкой Натальей. Я надеялся, что с Надеждой Александровной и Софьей Владимировной буду встречаться в Москве – они часто туда наезжали. Но что тарусский период моей жизни ушел безвозвратно и что я, по всей вероятности, больше не увижу бабушку Наталью, это я предощущал. И, шагая по улице Шмидта к пристани, я все оглядывался на бабушку, пригорюнившуюся у калитки, и махал ей рукой…
Из Тарусы протянулась у меня ниточка к еще одной встрече. Судьба не пожелала завязать на ней узел. Но упомянуть о ниточке, пожалуй, все-таки стоит.
Летом 39-го года Надежда Александровна дала мне почитать тогда еще не опубликованные воспоминания писательницы Натальи Васильевны Крандиевской, бывшей жены Алексея Николаевича Толстого. Воспоминания мне понравились. Они были написаны не дилетантским, а профессиональным почерком. Настоящий писатель, хотя бы и не большой, виден сразу: в одном каком-нибудь эпитете, который уже не отлепишь от определяемого, в необычной и оттого приобретающей особую выразительность расстановке слов.
Я отдал рукопись Надежде Александровне и высказал свое мнение. Вскоре Надежда Александровна передала мне просьбу сестры Натальи Васильевны, скульптора Надежды Васильевны Крандиевской-Файдыш, у которой в Тарусе была своя дача: не могу ли я написать несколько слов Наталье Васильевне? Ей живется одиноко и горестно – ее разрыв с мужем произошел незадолго до моего знакомства с ее воспоминаниями, доброе слово ее поддержит. Я охотно согласился и отнес письмо Надежде Васильевне.
Летом 40-го года Надежда Александровна дала мне почитать новые главы воспоминаний Крандиевской и сказала, что у ее сестры та же просьба ко мне, что и в прошлом году. От чтения новых глав я вынес точно такое же впечатление, как и от предыдущих, и написал автору еще одно письмо.
В тех главах, какие я читал в Тарусе, Крандиевская вспоминает о своей встрече с Буниным, которому она приносила на суд ранние свои стихотворения, о лете, проведенном с Алексеем Толстым в эмиграции, в Камб, где Толстой заканчивал «Сестер», о встрече в Берлине с Горьким, Есениным и Айседорой Дункан.
Черты из берлинской жизни Есенина и Дункан, сжато, с печальным юмором воссозданные Крандиевской, подтверждают верность наблюдений Горького, которыми он поделился с читателем в своих воспоминаниях «Сергей Есенин» – самых проницательных из всего, что создал Горький-мемуарист: «Эта знаменитая женщина… являлась олицетворением всего, что ему (Есенину. – Я. Л.) было не нужно», «…можно было подумать, что он смотрит на свою подругу как на кошмар, который уже привычен, не пугает, но все-таки давит». После того, как Есенин прочел стихи, Горькому еще яснее стала ненужность «Дункан с ее пляской, ненужность скучнейшего бранденбургского города Берлина, ненужность всего, что окружало… законченно русского поэта».
В 40-м году я получил в Тарусе письмо от Крандиевской:
Спасибо Вам, многоуважаемый Николай Михайлович, за письма. Для меня они полны такого значения, о каком Вы вряд ли догадываетесь. Я пишу в одиночестве и часто мне не хватает радости собеседования, необходимой в работе, ибо без нее, в пустом пространстве теряешь ориентацию.
И вот Ваши письма. Они приходят удивительно вовремя, как раз в периоды сомнений и неуверенности (всегда в канун Натальиного дня) и всегда наполняют меня бодростью и желанием работать дальше. Спасибо.
Книга – будет. Не знаю – когда, вероятно не скоро. Впереди – главное и самое трудное: история 2-х романов моей жизни, история поучительная. Нужно большое беспристрастие, нужен «взгляд сверху», а для этого нужно время.
Пока что я задумала издать сборник стихов (ведь я лишу их давно), а книга Ахматовой, вышедшая вновь после многолетнего перерыва, побуждает меня собрать стихи из трех старых книг в новые, еще ненапечатанные – в одну книгу.
Я хотела бы показать Вам свои стихи и вообще хотела бы повидаться и поговорить с Вами. Многое из высказанного Вами мне родственно и созвучно, это редко бывает.
Возможно, что мне удастся побывать в Москве, у сестры, – я надеюсь встретиться с Вами.
Сердечный привет.
Наталья Толстая.
8 сентября 1940 г.
Ленинград
Наша встреча с Натальей Васильевной произошла в начале июня 41-го года в Москве, в квартире у ее сестры. Продолжалась она часов шесть. Наталья Васильевна рассказывала о своих впечатлениях от Федора Сологуба, от Есенина, которого она любила и как поэта и как человека, читала главу о своем детстве.
Вскоре после нашей встречи грянула война и отшибла мне память почти на все, что совершалось со мной, что я видел и слышал в пору предгрозья.
Сюжеты устных новелл Крандиевской исчезли из моей памяти. Удержалось в ней уменье рассказчицы подмечать в человеке что-нибудь очень существенное, рассмотреть его под таким углом, под каким до нее никто не рассматривал. И еще осталось у меня от рассказов Крандиевской ощущение спертого воздуха роскошных пиров перед чумой, того самого воздуха, каким на меня несколько лет спустя повеяло от «Поэмы без героя», где почти каждая строка пропитана запахом тлетворного цветенья и где схвачено все характерное для допировывавших последние пиры и предугаданное Достоевским в образе Lise из «Братьев Карамазовых»: попрание дедовских и отцовских святынь и заветов, отречение от своего рода-племени, похвальба тем, что они не помнят родства, и боязнь взглянуть на себя со стороны.
Когда я читал поэму Ахматовой, ощущение от нее сливалось с давним ощущением от повествования Крандиевской:
Были святки кострами согреты. И валились с мостов кареты, И весь траурный город плыл По неведомому назначенью» По Неве или против теченья, — Только прочь от своих могил. На Галерной чернела арка, В Летнем тонко пела флюгарка, И серебряный месяц ярко Над серебряным веком стыл. Оттого, что по всем дорогам, Оттого, что ко всем порогам Приближалась медленно тень» Ветер рвал со стены афиши. Дым плясал вприсядку на крыше И кладбищем пахла сирень. И всегда в духоте морозной, Предвоенной, блудной и грозной, Жил какой-то будущий гул, Но тогда он был слышен глуше, Он почти не тревожил души И в сугробах невских тонул. Словно в зеркале страшной ночи, И беснуется и не хочет Узнавать себя человек» А по набережной легендарной Приближался не календарный, Настоящий Двадцатый Век.Столько вложить в такой короткий строй строк, столько изобразить в них, столько навеять ими мог только гениальный поэт, в какого и выросла в многолетнем своем затворе Ахматова.
Зимой 43–44 гг. Крандиевская, выдержав ленинградскую блокаду, приехала надолго в Москву. Бывала у меня, читала свои новые стихи. В них не было одического патриотизма. Они брали за сердце интимной непосредственностью. Это был дневник самой обыкновенной женщины, пережившей голод, холод, бомбежку, артиллерийский обстрел, смерть друзей и знакомых, и все перенесшей с нерассуждающей покорностью: значит» так надо…
Устные ее рассказы, как и стихи, не били на эффект. Она добавила сочный мазок к портрету Веры Инбер. Супруг Инбер, врач, ведал военным госпиталем. Вера Инбер, с которой Крандиевская была в милых отношениях еще до революции, вовсю спекулировала продуктами, предназначавшимися для лежавших в госпитале. У Крандиевской она выменяла драгоценность на кус очен сливочного масла, пропахший бензином.
Я был в Союзе писателей на творческом вечере Крандиевской. Читала она с большим успехом свои «блокадные» стихи. Какие-то ее знакомые крикнули:
– Прочтите «Духов день»!
Это было тоже одно из ненапечатанных ее стихотворений» в котором она возвращалась воображением к поре своей молодости. Она прочла его, а перед чтением как бы жирным шрифтом выделила слова:
– Ивану Алексеевичу Бунину посвящаю.
После революции никто у нас ни стихов, ни прозы Бунину не посвящал. И заглавие стихотворения и посвящение прозвучали неожиданно.
Спустя много лет я имел случай лишний раз подивиться зоркости Бунина. Вот что пишет он о Наталье Васильевне Крандиевской в «Третьем Толстом»:
Наташу Толстую я узнал еще в декабре 1903 года в Москве. Она пришла ко мне однажды в морозные сумерки, вся в инее, – иней опушил всю ее беличью шапочку, беличий воротник шубки, ресницы, уголки губ, – и я просто поражен был ее юной прелестью, ее девичьей красотой и восхищен талантливостью ее стихов, которые она принесла мне на просмотр, которые она продолжала писать и впоследствии, будучи замужем за своим первым мужем, а потом за Толстым, но все-таки почему-то совсем бросила еще в Париже. Она тоже не любила скудной жизни, говорила:
– Что ж, в эмиграции, конечно, не дадут умереть с голоду, а вот ходить оборванной и в разбитых башмаках дадут…
Думаю, что она немало способствовала Толстому в его конечном решении возвратиться в Россию.
А не возвратись она, может, и не произошло бы у нее разрыва с Толстым. А не возвратись она, Алексей Толстой не докатился бы до «Хлеба» и до «Заговора императрицы».
Вообще встречала эмигрантов мнимая родина неласково.
Генерала Слащева убили.
Глеба Алексеева посадили.
Устрялова посадили.
Святополк-Мирского посадили.
Анатолия Каменского посадили.
Горького и его сына тихо отправили на тот свет.
Вдова Куприна, которая привезла сюда мужа умирать, привезла ради того, чтобы получать после его смерти пенсию, пережила все ужасы ленинградской блокады, но не выдержала издевательств и побоев своего соквартиранта, хулигана монтера, – и повесилась.
Цветаеву здесь ждала Елабуга.
О «репатриантах», вернувшихся после второй мировой войны, я уж и не говорю; почти все они, за редким исключением, угодили в концлагеря.
Жаль, что возвращавшиеся якобы в Россию, не знали слов Студзинского из «Дней Турбиных»:
Какое же отечество, когда большевики?В начале мая 39-го года я впервые приехал на несколько дней в Киев. Приезд мой совпал с пленумом Союза писателей СССР, посвященным Тарасу Шевченко. По Крещатику (Крещатик тогда почему-то назывался улицей Воровского) косяком шли московские писатели.
В Софийском соборе я увидел одинокую фигуру Сергея Городецкого. Он зарисовывал в альбом фрески. Мы столкнулись с ним на узкой лестнице. До этого дня мы были с ним знакомы шапочно. А тут, как это часто бывает при неожиданных встречах в неродном краю, разговорились.
При взгляде на лицо Городецкого казалось, что он – помесь кота с хищной птицей. У него был не один, как у Добчинского, а все зубы со свистом. О его голосе верно сказал в книге воспоминаний «Встречи» Пяст: «Шаманский голос-бубен». Язык у него во рту болтался как неприкаянный. Городецкий был высокого роста. Если он и его собеседник стояли, то разобрать все, что говорил Городецкий, мог только человек, чья голова находилась примерно на уровне головы Городецкого.
Он дал мне свой московский телефон, просил зайти.
После встречи в Софийском соборе я во время моих более или менее продолжительных наездов в Москву довольно часто бывал у Городецкого в Историческом проезде, в его сводчатых палатах, где когда-то жил боярин Борис Феодорович Годунов.
Я и раньше знал двух Городецких. Один – автор «Яри» и «Перуна». Блок в записной книжке назвал его первую книгу стихов – «Ярь» – «большой книгой». Брюсов писал о ней: «Своею “Ярью” Сергей Городецкий дал нам большие обещания и приобрел опасное право быть судимым в своей дальнейшей деятельности по законам для немногих»[54]. У Пяста я прочел описание того, как Городецкий читал стихи из своей будущей книги «Ярь» на сборище у Вячеслава Иванова: «Все померкло перед этим “рождением Ярили”, Все поэты… вынуждены были признать выступление Городецкого из ряда вон выходящим… Все следующие среды были средами триумфов юного Ярилы. Его почти буквально носили на руках»[55]. Блок посвятил Городецкому стихотворение «Сольвейг». Есенин подарил ему книгу стихов с надписью: «Наставнику моему и рачителю». Одну из своих «литературных частушек» Есенин посвятил Городецкому:
Сделала свистулечку Из ореха грецкого. Нету яре и звончей Песен Городецкого,В главе «Ветер с юга»[56] я вспоминал о том» что приохотил меня к «Яри» и «Перуну» Эдуард Багрицкий. Еще в Иеремышле мне попалась антология современной русской поэзии. В нее был включен Городецкий, и я часто вслушивался в колокольный звон его «Весны». Сперва – в оглушительный «бом» больших колоколов:
Звоны-стоны» перезвоны, Звоны-вздохи, звоны-сны, Высоки крутые склоны, Крутосклоны зелены.В «бом» вплетался «дилинь» маленьких колоколов:
Стены выбелены бело. Мать игуменья велела…А завершался трезвон короткими обрывистыми ударами:
У ворот монастыря Не болтаться-зря!Знал я и другого, послереволюционного Городецкого, перекрасившегося, выдохшегося, исписавшегося, вечно выскакивавшего, вылезавшего и неукоснительно получавшего щелчки по носу. В 34-м году, на предсъездовском поэтическом совещании» он выступил с политическими обвинениями Пастернаку. Участники совещания кричали Городецкому: «Долой с трибуны!» О православно-монархических настроениях Городецкого в начале первой мировой войны я знал еще с детства: у нас был полный комплект «Нивы» за 14-й год, и в одном из номеров я прочел два стихотворения Городецкого – «Подвиг войны» и «Сретенье царя», вошедшие потом в его книгу стихов «Четырнадцатый год». И едва ли не сразу после этих двух стихотворений я про чем уже не в «Ниве», а в первых номерах новорожденной «Красной нивы», начавшей выходить в 23-м году, поэму Городецкого «Красный Питер». Мне тогда не так резал слух козлетон, каким Городецкий возглашал многолетие новой власти, как его потуга на сатирическое изображение русских эмигрантов:
Но-с ……………………………………….. Милюков напудрил нос. ……………………………………….. Мережковский там картавил… ……………………………………….. И, ее печалью ранен, Избалованный нахал, Не однажды Северянин Ей поэзы лопотал.Со времени публикации «Красного Питера» мне хотелось, чтобы кто-нибудь Городецкого выпорол и кое о чем ему напомнил. Желание мое исполнилось в 29-м году. Третья книга «Нового мира» за этот год доставила мне особое удовольствие той экзекуцией, какую учинил Городецкому ответственный редактор журнала Вяч. Полонский в первой главе своего «Дневника журналиста». Глава носит название «О подделках». Вот она – с незначительными сокращениями.
Искусство – это такая область, в которой даже искуснейшая подделка, в конце концов, обнаружит себя. Как бы художник ни научился прикидываться, приспособляться, – ложь проявится в самом качестве художественной ткани.
Приведу один из бесчисленных примеров.
В февральской книге «Красной нови» напечатано стихотворение С. Городецкого – «Памяти Чернышевского»… Оно заканчивается такими строками:
Глаза лазурные зажмурив, Он (Чернышевский) там мечтал издалека О вас, творцы Октябрьской бури, О вас, советские века!Как видим, заключительный аккорд «выдержан» вполне. Можно было бы, впрочем, и здесь заметить, что Чернышевский если и мечтал, то не о «творцах бури», а о самой буре. Он не мог также мечтать о «советских веках», потому что советский период есть переходный период от капитализма к коммунизму, который не может длиться веками… Но не будем придирчивы: наш поэт написал поэтическое[57] произведение. А в поэзии допускаются «вольности». Но ведь и поэтические вольности надо поставить в какие-то границы.
………………………………………………………………………………….
…«волны с Волги бились в дали»… Волны реки не могут биться в «дали», даже если «дали» рифмуются с «мечтали»… Нельзя затем «вонзить гневный мозг» – даже если «мозг» рифмуется с «розг»… Не меньшее недоумение испытывает читатель, когда читает:
Орел двуглавый крылья штопал, Спасая шкуру от крестьян.Во-первых, крылья нельзя штопать даже тогда, когда «штопал» рифмуется с «Севастополь». Кроме того, орел, даже двуглавый, не может спасать «шкуру», ибо у орла, даже у двуглавого, шкуры не бывает.
………………………………………………………………………………….
Почуяв правду, разночинец, Как озверевший в клетке лев…Это – набор пустых слов… лев – озверел. Ему и звереть не надо – на то он и лев.
………………………………………………………………………………….
А доктор Маркс, насупив брови, Впивал в усатые уста Цепной России говор вдовий, Чтоб Чернышевского читать.…Почему уста доктора Маркса усатые? Почему он этими «усатыми устами» «впивал» «говор» и именно «вдовий» – это тайна за семью печатями. Все это напоминает капитана Лебядкина, который тоже писал стихи…
Жил на свете таракан, Таракан от детства, И потом попал в стакан, Полный мухоедства…Капитан Лебядкин чувствовал здесь некоторую неслаженность. Он поэтому объяснял, что мухоедство – это «когда летом в стакан налезут мухи, то происходит мухоедство». Но Сергей Городецкий никакой неслаженности в своем стихотворении не чувствует и никаких объяснений, естественно, не дает.
Я вспоминаю другое стихотворение того же Лебядкина:
Любви пылающей граната Лопнула в груди Игната, И вновь заплакал с горькой мукой По Севастополю безрукий.И это стихотворение вызывает меньше недоумений… чем приведенные вирши Городецкого. Но стихи Лебядкина – пародия. Достоевский издевался над стихомелей… И, однако, капитан Лебядкин, оказывается, умел писать стихи не хуже, чем наш прославленный поэт.
Но ведь Городецкий, книгу которого когда-то ценил Хлебников, Городецкий, некогда гремевший как автор «Яри» и «Перуна», Городецкий был в самом деле настоящим поэтом. Для примера напомню его знаменитое стихотворение «Сретенье царя».
Как безукоризненно, с технической точки зрения, оно было сделано! Какой в нем был пафос, какая плавность стиха, какая точность эпитета! Я не говорю об «идеологии» этого стихотворения – монархической и реакционной; с точки зрения теории «социального заказа» в этом нет ничего зазорного; таков ведь был «социальный заказ» той эпохи. Изменилась эпоха – изменился заказ. Городецкий из монархиста сделался попутчиком – очень хорошо! Пожмем руку Городецкому! Он вместе с нами идет к коммунизму – что ж! – . Тем лучше для Городецкого! И упрекать его в том, что, как поэт, он когда-то выполнял «заказ» царя, – я не буду. Но я хочу сказать, что если из поэта монархии Городецкий сделался поэтом революции, он должен каждой строкой своей показывать, что этот переворот не поверхностен, что «социальный заказ» выполняется им не за страх, а за совесть, что смена точки зрения у него произошла не механически, а органически…
Сравнивая же «Сретенье царя» со стихотворением «Памяти Чернышевского», мы видим, что «заказ» царя Городецкий выполнял хорошо, а «заказ» пролетариата выполняет из рук вон плохо… Он как будто разучился писать. Потерял поэтическую форму. Но мы форму не отделяем от содержания. Мы ставим эту форму в теснейшую связь с содержанием. И если поэт Городецкий, умевший находить и эпитет, и рифму, и образ, и соответственный размер для стихотворения, когда выражал монархические чувства, потерял это уменье, как только ему пришлось выражать чувства революционные, – мы говорим: революционное содержание чуждо его сознанию… он неискренен, и, каковы бы ни были идеологические мотивы его стихов, и сколько бы славословий они ни содержали по адресу «творцов» Октябрьской бури, «советских веков» и т. д. – перед нами не литература» а макулатура.
……………………………………………………….
Дело не в том, что Городецкий когда-то был не с нами. Суть в том, что сейчас его поэзия – не наша, не революционная, лживая, натянутая, ходульная.
Полонский совершенно прав, когда называет Городецкого – автора «Яри» и «Перуна» – настоящим поэтом. Он совершенно прав, когда обвиняет его в махровом приспособленчестве. Он не прав лишь, когда утверждает, что Городецкий утратил чувство поэтической формы после революции, Городецкий утратил ее после первых же двух книг. И современники это заметили и отметили. По прочтении его книги «Ива» Блок записал в дневнике: «…вчера я читал: “Иву” Городецкого, увы, она совсем не то, что с первого взгляда: нет работы, все расплывчато, голос фальшивый, все могло бы быть в десять раз короче, сжатей, отдельные строки и образы блестят самоценно – большая же часть оставляет равнодушие и скуку».
Городецкий-поэт неуклонно рос книзу. Безвкусица, словесное недержание, недоработанность, неточность и необязательность словоупотребления – все это трупными пятнами кое-где проступает уже в «Яри» и в «Перуне». А в последующих дореволюционных книгах Городецкий радует читателя отдельными словосочетаниями, реже – отдельными строфами и еще реже – отдельными стихотворениями. И что уж так превознес Полонский «Сретенье царя»? Разве чтоб побольнее уязвить Городецкого? Оно написано более или менее гладко, в нем почти нет бессмыслиц – вот и все его преимущества перед стихами «Совгородецкого». Но в нем полным-полно штампов:
Из церкви доносилось пенье… Перед началом битв, как встарь, Свершив великое моленье, К народу тихо вышел Царь, Что думал он в тот миг великий, Что чувствовал, Державный, Он, Когда восторженные клики Неслись к Нему со всех сторон? Какая сказочная сила Была в благих Его руках, Которым меч судьба вручила[58] На славу нам, врагам на страх! Как море в мощный час прилива, Народный хор не умолкал, И Царь, внимая терпеливо, Главу ответно наклонял. К нему невидимые нити Из всех сердец неслись, горя[59]… Так в незабвенный час событий[60] Свершилось сретенье Царя.Будем же справедливы: «социальный заказ» царя Городецкий выполнил не выше, чем на тройку с минусом.
Графоманией он заболел давно. Разница между предреволюционным и послереволюционным Городецким та, что до революции Городецкий все-таки был, а после революции сплыл.
И он прислушался лучисто[61] —такая пошлая абракадабра стала для «перестроившегося» Городецкого не отклонением, а нормой.
Вот концовка стихотворения «Сергею Есенину»:
Сломались брови на ветру.«Любопытен я знать», каким это образом брови могут ломаться, да еще от ветра.
А вот две строфы из стихотворения «Валерию Брюсову»:
Когда как мертвых листьев шорох Был слог, был звук, был лепет слов, Запушенных в шаманьих шорах[62], Свое он начал ремесло. Да. Помним. Заласкать мещане Хотели бронзу, сталь и медь, Чтобы от их проржавых тщаний Гортани гневной онеметь. ………………………………. Кликуши плакали и выли» Освистывали пьедестал И злобой харкали – не вы ли, Кто нынче в гроб ему рыдал?Я приводил примеры из лирики. Не угодно ли, на закуску, пример «космически – любовной» патетики из поэмы «Шофер Владо»:
Благословен громовый час, Когда любовь грохочет в нас, Достигнув огневых высот, Где солнце сладострастья жжет…Клавдия Николаевна Бутаева вспоминала, что когда Андрей Белый возвращался домой радостно возбужденный, то на ее вопрос: «Что произошло?» – ответ был почти всегда один и тот же:
– Городецкого отругал!
При этом Андрей Белый взмахивал тросточкой.
…Молодость не требовательна, молодость не щепетильна, молодость не брезглива. Моего современника Городецкого я старался не замечать. После того как на раннюю его поэзию обратил мое внимание Багрицкий, автора «Сретенья царя» и «Красного Питера» заслонил для меня творец «Яри» и «Перуна», проложивший в русской поэзии свою тропу. Но вот что удивительно: Городецкий почти ничего любопытного не мог мне сообщить о племени великанов, среди которых он жил перед революцией!
Что держится у меня в памяти из бесед с Городецким? Хорошая его черта – полное отсутствие кастово-акмеистского духа, коим пропитались даже Ахматова и Гумилев. В отличие от Ахматовой Городецкий высоко ценил поэзию Брюсова. Особенно высоко, если говорить о символистах, поэзию Блока и Сологуба. Он ставил в заслугу символистам то, что они довели до возможной степени совершенства певучесть стиха, то, что они прививали стиховую культуру молодежи.
– Даже маленькие поэты писали тогда с профессиональным уменьем, не то, что нынешние, и малые и даже некоторые почитающиеся большими, – говорил Сергей Митрофанович. – Вам не попадались в антологиях или в «чтецах-декламаторах» стихи Якова Година? Попадались? А что? Ведь недурно? Безыменскому и Жарову так не написать. Дудки!
Городецкий не из прихоти перешел от символистов к акмеистам. Буйная красота Земли – лейтмотив его лучших стихов. От них пахнет деревней, древней, языческой, но деревней. Вот почему его внимание привлекали деревенские поэты. Вот почему он до революции издал собрание стихотворений Никитина. И с восхищением читал мне его:
Лысый, с белой бородою, Дедушка сидит, Чашка с хлебом и водою Перед ним стоит. Бел, как лунь, на лбу морщины, С испитым лицом.– Как будто бы проще простого, – комментировал Городецкий. – А перед вами целая картина.
Поэзия раннего Городецкого – поэзия сказочная и певучая («Нету яре и звончей песен Городецкого»). Корнями она уходит в народный эпос. Древнерусская словесная и звуковая стихия пленяла его в Хлебникове. Народность и песенность он превыше всего ценил в таких поэтах, как Никитин, народностью и песенностью его радовало творчество молодых крестьянских поэтов – творчество Ширяевца, Клычкова, Клюева, особенно – творчество Есенина. С ними он в свое время носился, их в свое время пестовал и нянчил. И он имел право сказать о себе в стихотворении «Мой сад» как об их учителе:
Мой заповедный сад, мой потаенный! Ты весь, мой сад, пошел на семена…[63]В первые годы революции, когда Советская власть рада была всякому, хотя бы и с многочисленными оговорками «признавшему» ее интеллигенту, Городецкий преуспевал. Он чуть ли даже не заведовал литературным отделом в «Известиях», во всяком случае играл там какую-то роль. Но постепенно его оттерли. Его печатали из милости.
Еще до знакомства с ним я слышал, что после того как в 14-м году «Нива» напечатала стихотворения Городецкого «Подвиг войны» и «Сретенье царя», Николай Второй прислал ему в подарок золотое перо. Городецкий сам заговорил со мной об этом событии в его жизни, но, конечно, приврал, изобразив из себя фрондера:
– Ко мне приехал с царским подарком свитский генерал, во я его не пустил и подарка не взял. Весть о золотом пере быстро разнеслась по Петрограду. О награде говорили все, а что я ее не принял – об этом двор молчал. Ну, а потом мне это золотое перо боком вышло. Из-за него меня поначалу в Союз писателей не приняли. Я поехал к Горькому, ждал его несколько часов – так меня до него разные Крючковы и не допустили. Тогда я ему написал письмо. Горький прочитал и сказал: «Кто Богу не грешен, царю не виноват!» И меня все-таки приняли. А как я нуждался! Если бы вы знали, как я нуждался! В иные дни буквально на кусок хлеба денег не было. Ложишься спать и просыпаешься с мыслью, где бы достать, где бы перехватить.
В конце концов ему позволили переводить, и он скучно и нудно, «без божества, без вдохновенья» (это вам не переводы Пастернака с грузинского), переводил Купалу и Коласа. Позволили редактировать переводы. Незадолго до юбилея Руставели ему поручили срочно отредактировать трухлявый перевод «Витязя в тигровой шкуре». В сущности, Городецкий переписал этот перевод за Нуцубидзе.
Взбираться на кручу «Витязя» может только первоклассный альпинист. И как же намучился с Нуцубидзе Городецкий!
– Нуцубидзе знает русский язык, как я – язык австралийских людоедов, – жаловался он. – Вот вам пример: «Собралися на погосте…» Собрались на погосте, а пируют. Что-то, – думаю, – не то. Спрашиваю: «Как вы понимаете слово “погост”?» «А это, – говорит, – они пришли в гости». Недурно? И все в таком роде.
Позволили Городецкому и сочинять либретто опер. Он написал новое либретто для оперы Глинки «Жизнь за царя» (новое название – «Иван Сусанин»), для оперы Чайковского «Чародейка». Но к нему, пользуясь властью художественных руководителей, пристраивались Самосуды, их фамилии, как фамилии соавторов либретто, значились на афишах рядом с фамилией Городецкого, и часть поспектакльных шла Самосудам. Кстати, в Москве, в Большом театре, Самосуд так дирижировал «Сусанина», что его дирижерское искусство москвичи называли «самосудом над Глинкой».
Осенью 39-го года я перечитал в Тарусе «Ярь» и «Перуна» и пришел в дикий восторг. Ярилы, Перуны, Стрибоги, Чертяки, Колдунки, Светозоры, Купалокалы – все это для меня родным-родное!
Под непосредственным впечатлением от «перечтения» ранних стихов Городецкого я написал ему письмо.
Он мне ответил:
17. IX.39 г.
Дорогой Николай Михайлович!
Спасибо за ласку. Поменьше б меду, и было б правда. 33 года тому назад ничто не могло меня больше взбесить, чем установка в ряд с Ремизовым. Хоть он и вышколил Толстого, Пришвина и Чапыгина, но школы не создал, п(отому) ч(то) не творил язык органически, а составлял его из слов, да и слова (новотворки) составлял, а не творил, как Брюсов.
Вот вы все медовствуете, а Союз писателей все дегтем мою телегу мажет; думает, так лучше поеду. Расскажите Фаддееву[64], что Вы мне рассказывали о моих учениках и питомцах. А то провели совещание о работе с молодежью, а я даже не знал. Заорганизовали это дело так, что ничего живого в нем не осталось, и опять будут расти не писатели, а двадцатилетние старички-гелертеры, «одевающие» очки и «использовывающие» Даля.
Мало этого. Создали юбилейную комиссию по Лермонтову. А того, через кого лермонтовская тоска по счастью и скованное бешенство бунта перешли в русскую поэзию XX в. – забыли. И опять будет безотносительное к нуждам нашей поэзии юбилействование, как с Пушкиным.
И этого мало. Вот сейчас смотрю на свою фотографию у двери Мгера и вспоминаю своя беседы с Ов. Туманяном о Давиде Сасунском, свою кровную дружбу с армянским народом. И вот в Эреван-то не я поеду! Кто да кто?!
Вам может показаться, что мне стало сто лет, и я разбрюзжался. Нет! Просто меня бесит, когда мне не дают делать настоящее мое дело, и когда вижу, что не так делается, как надо. Советовали мне «умные» люди потоптаться в передней президиума Союза писателей, за петличку знатных людей подержаться, – не умею.
Ко всем этим удовольствиям еще расхворался. 18-го на авиапразднике промок и высох на ветру, и раскупорились легкие, – только начинаю бродить, и надо еще смотреться.
Стихов не пишу, пока не пожелтеют листья. Тогда будут – ландышевые. Комедию пишу потихоньку. Занят статьей о либретто (20 штук!).
С нетерпеньем жду, что Вы отобрали, уважаемый редактор. И как разложите? «Ярь» и «Перун», по-моему, надо отдельно. Приехал бы к Вам, но ведь транспорта-то нет! Серпуховские извощики[65] Вам приснились, а на автобус стоят всю ночь, чтоб влезть. Я два раза был в 20 километрах от Вас, и один раз даже выехал в Таруссу[66], но «лошадь» стала на первом взгорье. (Это была пожарная лошадь!)
Всего Вам доброго и жене вашей!
ГородецкийГородецкий прибедняется, когда пишет мне, что не умеет толкаться в прихожих. На первых советских порах что-что, а толкаться-то он толкался лихо и успешно, но вот потом его самого из всех прихожих вытурили взашей. Вытурили не за несуразности и несообразности, не за нелепые сравнения и уподобления, не за невнятицу и безвкусицу. Это могло коробить только двух – трех настоящих ценителей поэзии с «носами эстета», как сказал про Вяч. Полонского Багрицкий. Вообще же в число советских фаворитов» за редким исключением, попадали и попадают как раз из рук вон плохие стихокропатели. Вспомним хотя бы Безыменского, Жарова, Симонова, Софронова, Недогонова, Грибачева, Лебедева-Кумача. Вспомним хоти бы одну толь-ко песню Демьяна Бедного (Ефима Алексеевича Прндворова, или Ефима Лакеевича, как назвал его в послании к нему безвестный поэт Горбачев, за что в 20-х годах и угодил в Соловки), – песню, написанную в связи с конфликтом между СССР и Китаем (1929) и долго распевавшуюся на всех демонстрациях: «Нас побить, побить хотели…»:
У китайцев генералы Всё вояки смелые, На рабочие кварталы Прут, как очумелые, Большевицкую заразу Уничтожить начисто, Но их дело вышло сразу Очень раскорячисто.Такого рода рифмачам все прощается за «идейное содержание», за уменье мгновенно «откликаться» именно так, как в данный момент нужно партии. Простили бы и Городецкому «раскорячистость» его стихов. Уж он ли не лез из кожи, чтобы угодить начальству? Думаю, что пресловутое золотое перо было главной причиной его ссылки на скотный двор.
На меня Городецкий производил впечатление раз и навсегда напуганного человека. Он как бы вывесил над собой флаг: «Я ура-советский гражданин». Даже у себя дома он прибегал к аргументации Крыленко и Вышинского.
Я в высшей степени неделикатно напомнил однажды Городецкому о статье Полонского, Городецкий развил «теорию»: Полонский-де троцкист, а литераторы-троцкисты тем только и занимались, что изничтожали честных советских писателей. Я позволил себе возразить Сергею Митрофановичу, что Полонский ни одного дня троцкистом не был, что на Новодевичьем кладбище стоит памятник Полонскому, на котором начертано: «Член ВКП(б)», а потом задал вопрос: почему же Сергей Митрофанович все-таки счел нужным переработать стихотворение по замечаниям Полонского и убрать почти все «усатые уста»? Ответа не последовало.
Когда речь у нас с ним зашла о том, что станция метро «Площадь Революции» построена неудобно – один людской поток врезается в другой, Городецкий отделался словом «вредительство», которое все еще не выходило тогда из моды и которым выгодно было объяснять любое тяпляпство и головотяпство – у нас, мол, дураков к лодырей почти не бывает, у нас сплошь герои или вредители. Откровенно говоря, это было в Городецком противновато, но зато внушало уверенность, что перед вами не провокатор и не доносчик. А по тем временам без такой твердой уверенности нельзя было заводить новые знакомства.
Часть кабинета Городецкого представляла собой портретную галерею: на стене висели портреты писателей, художников, музыкантов, артистов с дарственными надписями. За годы ежовщняы, – в чем мне признался сам хозяин галереи, – она сильно поредела. При мне Городецкий снял со стены портрет Мейерхольда и разорвал.
Как-то я с разрешения хозяина стал рыться при нем в его библиотеке и напал на роман Сергея Клычкова «Князь мира». (Видимо, Городецкий забыл про него, иначе не миновать бы ему ауто да фе.) Я попросил Городецкого подарить мне «Князя мира» – из прозы Клычкова мне его только и недоставало, а в библиотеке Городецкого Клычков был представлен только «Князем».
– Вам он не нужен, вы же его все равно сожжете, – уговаривал я человека, воплощавшего в одном лице сервантовского священника, цирюльника, племянницу и ключницу. – Ну, вырвите надпись…
Городецкий залопотал, что ему хочется перечитать книгу, что он мне ее подарит в следующий раз, но, конечно, так и не подарил. Получил я ее в подарок спустя, примерно, год, от одного моего приятеля.
В семейной жизни Сергей Митрофанович был страстотерпцем. Его полупомешанную жену время от времени приходилось устраивать в психиатрическую лечебницу. Но и в относительно здоровом состоянии она озадачивала визитеров.
Впервые я пришел к Городецкому днем. Хозяина не оказалось дома: его задержали не то в редакции, не то в театре, и он позвонил, что скоро придет и просит меня подождать.
Хозяйка спросила:
– Хотите чаю?
Я отказался.
– Отрадно слышать, отрадно слышать, – сказала хозяйка.
Очень скоро я удостоверился в ее радушии, много раз потом слышал от нее, что доставляю ей удовольствие отказом от обеда или чая, что, впрочем, всегда являлось прелюдией к угощению, но тут я подумал, что для первого знакомства все-таки, пожалуй, следовало бы соблюдать апарансы.
Потом хозяйка вышла в другую комнату и сейчас же вернулась с пачкой писем.
– Видели? – сказала она, потрясая пачкой. – Это письма мне от Блока. Он был в меня влюблен. В меня и Лядов был влюблен. Все были в меня влюблены. Вы думаете, я вам дам почитать письма Блока? Держите карман шире. Это я только чтобы похвастаться.
Помешалась Анна Алексеевна Городецкая на том, что женщины всего мира стремятся отбить у нее Сергея Митрофановича. Однажды при мне у нее ни с того, ни с сего разыгрался нервный припадок. Меня удивило, что Сергей Митрофанович не разуверял ее, а поддакивал.
Когда ему удалось успокоить ее и увести в другую комнату, он, вернувшись, объяснил мне, что действует так по совету известного психиатра, профессора Ганнушкина: ни в коем случае не перечить ей, сознаваться во всех несуществующих изменах – тогда она скорее утихомирится. До этого печального случая я не представлял себе, что Городецкий может быть так ласков.
К слову о его семейном быте: безвкусица, нет-нет да и просачивавшаяся даже в «Ярь» и в «Перуна», пышным цветом расцвела у него в доме. Его жену за особенную, какую-то сказочную, русалочью красоту то ли он, то ли кто-то еще прозвал Нимфой. Это бы еще куда ни шло. Но она требовала, чтобы ее называли не «Анна Алексеевна», а «Нимфа Алексеевна», и муж поощрял это и называл ее «Нимфик». Дочь свою, тоже красавицу, и тоже из сказки, он вычурно назвал Рогнедой, но в обиходе она звалась «Наяда», «Наечка», «Ная».
Одно место в письме Городецкого ко мне требует пояснения: «С нетерпением жду, что вы отобрали…»
В одну из первых моих встреч с Городецким я сказал, что его «изборник» 36-го года ни к черту не годится, что он не сумел сам себя отобрать, Городецкий согласился. Оказалось, что он задумал новое собрание своих стихотворений.
– Теперь в Гослитиздат, как вы знаете, пришел Чагин. Это мой старый приятель, еще по Закавказью. С ним мне легко иметь дело. Предисловие напишете вы и составление возьмете на себя.
От предисловия я отказался – ведь я мог бы написать только обидное для автора: повесть о том, как он катился вниз, а за составление взялся с превеликой охотой. Все сборники стихов Городецкого я летом 39-го года увез с собой в Тарусу и там начал и закончил отбор.
Как составитель, я пошел по пути, прямо противоположному тому, какой избрал составитель вышедшего в 74-м году в Большой серии «Библиотеки поэта» однотомника стихов и поэм Городецкого Семен Иосифович Машинский. Машинский обкарнал «Ярь» и «Перуна» и завалил их хламом из последующих сборников. Я представил «Ярь» и «Перуна» почти целиком, сильно урезав лишь разделы «Зачало» и «Темь», как наиболее слабые, с основной темой сборников связанные не прочно, а из других сборников брал по несколько стихотворений, если и не с искрой, то хоть с искоркой. По моему замыслу, у читателя должно было сложиться представление о самобытном поэте, авторе «Яри» и «Перуна», затем почему-то сломавшемся и ничего примечательного не создавшем. По молодости лет я в иных случаях проявлял снисходительность. Теперь я был бы жестче. И все же почти ничего компрометирующего Городецкого как поэта, во всяком случае – «Шофера Владо», я в сборник не включил.
Городецкий мой выбор одобрил. Его возражения касались непринципиальных частностей – мне легко было идти ему на уступки.
Помню, я забраковал в «Теми# стихотворение «Городские дети»# Мне не нравилось двустишие с неправильным ударением в слове «роды» и с псевдонародным «во»:
Ваша мать-царица во плену нужды, Чьи дворцы – подвалы, празднество – роды.Городецкий выбросил это двустишие и переделал все стихотворение.
Забраковал я и «Шарманку» из того же раздела.
Городецкий удивлял меня тем, что прислушивался к моим мнениям и считался с ними. Может быть, он рассуждал так: «Глас молодости – глас Божий». А тут он по-детски жалобно стал просить:
– Оставьте «Шарманку»! Ну пожалуйста! Она Блоку нравилась.
Я, разумеется, уступил.
Приятель Есенина, большой любитель настоящей поэзии, знавший наизусть лучшую лирику Тютчева (другого такого издателя мне встречать не доводилось), Петр Иванович Чагин недаром заслужил прозвища: «Молодчагин» и «Выручагин». Первое от него впечатление было у меня скорее неприятное: пучеглазый, одутловатый, «рот до ушей – хоть завязочки пришей», нижняя губа чапельником. Вот только улыбался добро. Выручал он писателей в многоразличных бедах. Особенно кипучую благотворительную деятельность развил он во время войны 1941 – 45 гг. – по вызволению литераторов и их семей из эвакуации и по прописке их в Москве. Вызволял он их правдами и неправдами и сам же эти неправды выдумывал, дабы обвести вокруг пальца бюрократов. Теще Богословского, простой старой армянке, жене бывшего купца, он послал вызов из Пензы в Москву как специалистке по древнеармянской литературе.
Нет, не зря из писательских уст в уста ходил чей-то экспромт:
Все мы молодчаги, но Не перемолодчагить нам Чагина.Однако «Молодчагин» и «Выручагин» имел еще одно, опасное прозвище: «Обещагин». Он никому ни в чем не отказывал, он всем что-то обещал. Про него сложили побасенку – литератор ему звонит:
– Петр Иванович! Как с моей книгой? Аванс можно получить?
– Твердо в плане! Твердо в плане! Звоните через три дня!
Через три дня:
– Твердо в плане! Твердо в плане! Звоните через неделю!
Через неделю:
– Твердо в плане! Твердо в плане! Звоните через месяц!
И наконец:
– Твердо в плане! Твердо в плане! Звоните на будущий год!
Я пересказал эту побасенку Петру Ивановичу. Он вывернулся:
– Это мне тридцать первого декабря звонили.
«Обещагин» проводил меня и Городецкого за носы до самой войны, придумывая все новые и новые предлоги. То ли ему самому не хотелось издавать Городецкого, то ли он получил «руководящее указание».
Война разлучила меня с Городецким. Он со своими Нимфой и Наядой отбыл в Среднюю Азию. А после войны по многим причинам я сузил круг знакомств. На издание сборника стихотворений Городецкого я уже не очень надеялся. Осенью 45-го года из Гослитиздата ушел Чагин: ведь он все-таки был хоть и не очень верным, но единственным благоприятелем Городецкого в издательстве. После доклада Жданова (1946) нечего было и думать о переиздании хотя бы урезанной «Яри» и урезанного «Перуна», а без них какой же это Городецкий?.. Между тем последнее время только хлопоты по изданию книги Городецкого и связывали меня с ним. Интерес к нему самому я утратил – и перестал бывать в годуновских палатах.
4
За нами много, много слез, Туман, безвестность впереди!.. ТютчевЖить бы мне да радоваться в Тарусе!
Куда ни пойдешь – красота.
Любил я Оку – и с красными бакенами, издали напоминавшими огненные языки, и с белыми, напоминавшими белых птиц.
Любил постоять на пристани, поглядеть, как отчаливают лодки и как идет по воде рябь: серые эллипсисы наплывают на лиловь.
Идешь перед закатом лесною дорогой – сбоку, меж деревьев, все катится и катится гладенькое солнышко. Идешь лесом навстречу закату – меж рядами стволов золотистые столбики света, а в самом конце просеки – наклоненный световой конус.
Любил я свечение зорь над зимней Тарусой: над самым окоемом, справа, желтая полоса, над нею оранжевая, еще выше сиреневая с синими прогалинами, слева розовая, сизая по краям, над ней голубая.
Пойдешь до грибы – навстречу» из деревни Бортники, несет в Тарусу продавать на базар целую корзину подберезовиков и подосиновиков девушка с медовыми зрачками, оттененными голубизною белков.
Как-то» на другой день после сильной метели, я шел от станции Тарусская в город, и в быстро густевших зимних сумерках мне показалось, что я заблудился. Снегу намело много, а ездили крестьяне тогда уже редко – своих лошадей у них не было, автобусы от станции до города не ходили. Я проваливался в снег» выкарабкивался, ветер дул в лицо, силы начали мне изменять. «Если дал большого крюку, то не дойду», – подумалось мне. Еще немного, и вдруг справа – церковь, выстроенная по плану Поленова… Ну, значит, до Тарусы – рукой подать…
И так со мной бывало всегда – и в случаях мелких, и в обстоятельствах, от которых зависит дальнейшая судьба: когда кажется, что выхода нет, тут кто-то и протягивает тебе руку.
Жить бы да радоваться…
Но радость отравлялась событиями мировой историй и тем, как складывалось мое житье-бытье.
…А события мировой истории мчались словно наперегонки.
Летом 39-го года я перед сном ежевечерне слушал по радио о переговорах между Англией и Францией, с одной стороны, и СССР – с другой. Перечень ведших переговоры неизменно заканчивался четко, отграниченно выговаривавшимися диктором словами, почему-то застрявшими у меня в памяти: «…и – господин – Стрэнг».
В «Известиях» от 21 августа – сообщение о торгово-кредитном соглашении между СССР и гитлеровской Германией.
В «Известиях» от 24 августа сообщение о том, что 23 августа в Москву прибыл министр иностранных дел Германии фон Риббентроп, и о заключении советско-германского договора о ненападении:
«23 августа в 3 часа 30 минут состоялась первая беседа Председателя Совнаркома и Наркомин дела тов. Молотова с министром иностранных дел Германии г. фон Риббентропом по вопросу о ненападении. Беседа происходила в присутствии тов. Сталина и германского посла г. Шуленбурга и продолжалась около 3-х часов. После перерыва в 10 часов вечера беседа была возобновлена и закончилась подписанием договора о ненападении, текст которого приводится ниже».
Договор подписали Молотов и Риббентроп.
Над этими сообщениями фото: Молотов, Сталин, Риббентроп и статссекретарь Гауе.
Договор был заключен сроком на десять лет.
В передовой «Известий» подчеркивалось, что договор «кладет конец враждебности в отношениях между Германией и Советским Союзом, которую старались раздувать и поддерживать враги обоих государств.
Идеологические различия, как и различия в политической системе обеих стран, не могут и не должны стоять на пути к установлению и поддержанию добрососедских отношений между Советским Союзом и Германией».
В «Известиях» от 2 сентября сообщалось, что 1 сентября утром германские войска перешли германо-польскую границу.
В «Известиях» от 4 сентября мы прочли, что Англия и Франция объявили войну Германии.
В «Известиях» от 18 сентября опубликована нота правительства СССР польскому послу, врученная ему утром 17 сентября 1939 года:
Советское правительство не может… безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белоруссы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, оставались беззащитными.
Ввиду такой обстановки Советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу…
Подписал ноту Молотов.
И в этом же номере – первая оперативная сводка Генштаба РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии).
Советские писатели всегда тут как тут, всегда рады стараться. И ведь во многих случаях никто их за язык не тянул. Считавшийся порядочным человеком, небезостроумный пародист и эпиграмматист Арго (Абрам Маркович Гольдберг) написал для радио передававшуюся потом издевательскую сценку, в которой будто бы ликующие западноукраинские крестьяне с гоготом кричат вслед удирающим польскому министру иностранных дел Беку и главнокомандующему польской армией Рыдз-Смиглы:
Рыдз-Смиглы! Куды ж вы побиглы? Пан Бек! Куды ж ты убег?А чего же бы вы хотели, господин Арго? С одной стороны на Польшу напала фашистская Германия, с другой – по команде Сталина и Молотова – Красная Армия. Что же бы ожидало Бека и Рыдз– Смиглы? Петля или пуля?
Сообщения о договоре с Германией и о том, что мы всадили нож в спину Польше, были до того ошеломляющи, что я забыл, когда же произошло еще одно немаловажное событие между этими двумя: какого числа началась вторая мировая война. Чтобы установить число, мне теперь пришлось рыться в старых газетах.
«Далеко лежало – мало болело»…
Большевики прославились на весь мир своей беспринципностью и неразборчивостью в средствах. Вагон, в котором Ленин и его приближенные на кайзеровские денежки в 17-м году прикатили в Россию, Брестский мир, который сам же Ленин цинично назвал «похабным», НЭП… Но союза с гитлеровской Германией даже стрелянные советские воробьи не ожидали. Опомнившись, люди мыслящие пришли к выводу, что тут есть свой закономерность. Ведь сошлись не противоположности. Сошлись рыбаки, завидевшие один другого издалека.
Нам в головы издавна вколачивали: СССР не хочет ни пяди чужой земли, и до сих пор советские правители ограничивались тем, что сеяли смуту в Германии (до прихода к власти Гитлера), оказывали военную помощь – через час по столовой ложке – республиканской Испании, но до 39-го года они «в общем и целом» не меняли ленинского курса. В день перехода Красной Армии через польскую границу началась новая эпоха – эпоха вооруженных интервенций Советского Союза.
18 сентября за мной зашел, как и я, зажившийся в Тарусе Кашкин, чтобы идти гулять, благо день стоял ясный, но не жаркий.
– Что же это, Иван Александрович? Оккупация? – спросил я.
– Самая настоящая, – ответил он.
С этого дня и по 22 июня 41-го года я и мои близкие жили в тревожном ожидании.
Террор в Советской России – в той или иной форме – не прекращался с октября 17-го года. Но в 39–41 гг. это был не ураганный огонь. Красный террор перекинулся изнутри вовне. И нам больно и страшно было за тех, кто привык к свободе и кого теперь придавил красный сапог.
В «Известиях» от 29 сентября сообщение:
В течение 27–28 сентября в Москве происходили переговоры между Председателем Совнаркома и Наркоминделом т. Молотовым и Министром иностранных дел Германии[67] фон Риббентропом по вопросу о заключении германо-советского договора о дружбе и границе между СССР и Германией.
В переговорах принимали участие тов. Сталин и советский полпред в Германии т. Шкварцев[68]» а со стороны Германии – германский посол в СССР г. Шуленбург.
Переговоры завершились подписанием договора.
Текст его приводится в этом же номере.
Над сообщением фото: Риббентроп, Молотов, Сталин и другие.
В «Известиях» от 30 сентября заявление Риббентропа сотруднику ТАСС: если в Англии и Франции «возьмут верх поджигатели войны, то Германия и СССР будут знать, как ответить на это… Переговоры происходили в особенно дружественной и великолепной атмосфере. Однако прежде всего я хотел бы отметить исключительно сердечный прием, оказанный мне Советским Правительством и в особенности гг. Сталиным и Молотовым».
Пакт о дружбе с гитлеровской Германией повлек за собой перестройку всей «идеологической работы».
Отсветы этой дружбы падали и на художественный перевод. В одном моем переводе редактор превратил краснощекого немца в румяного. Дураки на нашем «идеологическом фронте» преобладали и преобладают, а ведь известно, что если дураков заставить молиться какому угодно богу, то они непременно расшибут себе лоб.
Пакт о дружбе с нацистской Германией ударил меня по карману, как, впрочем, и многих других переводчиков. Осенью 39-го года я перевел в Тарусе без договора пьесу Рафаэля Альберти «De un momento а otro» («На переломе»). Когда я приехал в Москву, мне сказали, что пьеса напечатана быть не может. И еще меня ждали два приятных сюрприза: в издательстве «Искусство» зарезали переведенный мною сборник одноактных испанских антифашистских пьес. Гослитиздат рассыпал набор моего перевода романа-памфлета испанского писателя-антифашиста Мануэля Д. Бенавидеса «Преступление Европы».
После заключения пакта с гитлеровской Германией заправилы советского государства почувствовали, что руки у них развязаны, и вот тут-то с особенной силой их обуяла страсть, коей они одержимы по сей день: в мутной воде рыбку ловить.
В «Известиях» от 26 сентября два сообщения: о том, что прибыл в Москву министр Иностранных Дел Эстонии г. Селтер, и о том, что прибыл в Москву министр иностранных дел Турции г. Шюкрю Сараджоглу. Пост Сельтера почему-то напечатан с больших букв (в виде аванса, что ли?), а пост Сараджоглу – с маленьких (быть может, в предвидении неуспеха переговоров с ним?).
В «Известиях» от 29 сентября – сообщение о заключении пакта о взаимопомощи и торгового соглашения между СССР и Эстонской Республикой. Пакт был подписан 28 сентября. Вот выдержка из его текста:
Статья III
Эстонская Республика обеспечивает за Советским Союзом право иметь на эстонских островах Саарема (Эзель), Хийумаа (Даго) и в городе Палдиски (Балтийский Порт) базы военно-морского Флота и несколько аэродромов для авиации, на правах аренды по сходной цене…
В целях охраны морских баз и аэродромов, СССР имеет право держать в участках, отведенных под базы и аэродромы, за свой счет строго ограниченное количество советских наземных и воздушных вооруженных сил…
Пакт подписали Молотов и Сельтер.
В переговорах участвовали Сталин и Микоян, со стороны Эстонии – Председатель Государственной Думы профессор Ю. Улуотс.
К этому договору, а равно и к договорам, вскорости заключенным СССР с другими прибалтийскими государствами, просится эпиграф из «Шинели» Гоголя: «А вот только крикни!»
«Известия» от 6 октября опубликовали пакт о взаимопомощи между СССР и Латвией, заключенный 5 октября.
Статья III
Латвийская Республика, в целях обеспечения безопасности СССР и укрепления своей собственной независимости (?), предоставляет Союзу право иметь в городах Лиепая (Либава) и Вентспилс (Виндава) базы военно-морского флота и несколько аэродромов для авиации…
В целях охраны Ирбенского пролива Советскому Союзу предоставляется право… соорудить базу береговой артиллерии на побережье между Венспилас и Питрагс.
В целях охраны морских баз, аэродромов и базы береговой артиллерии Советский Союз имеет право держать в участках, отведенных под базы и аэродромы, за свой счет строго ограниченное количество советских наземных и воздушных вооруженных сил…
«Известия» от 11 октября сообщали, что 10 октября был заключен договор о передаче Литовской республике городов Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой.
Статья IV пакта о взаимопомощи гласила:
Советский Союз и Литовская Республика совместно обязуются осуществлять защиту государственных границ Литвы, для чего Советскому Союзу предоставляется право держать в установленных по взаимному соглашению пунктах Литовской Республики за свой счет строго ограниченное количество советских наземных и воздушных вооруженных сил,
К договорам, заключенным СССР с Латвией и с Литвой, просятся еще два эпиграфа: «Разлакомились» и – «Аппетит разыгрывается во время еды».
В «Известиях» от 2 октября сообщалось, что министра иностранных дел Турции Шюкрю Сараджоглу принимал Молотов. В беседе участвовали Сталин, Потемкин, Деканозов (Деканозова, впоследствии перешедшего из Наркоминдела в органы государственной безопасности, расстреляли при Хрущеве) и другие.
Из газет от 18 октября мы узнали, что Сараджоглу изволил отбыть восвояси. Не солоно хлебал не гость, а хозяева. Гость показал хозяевам шиш.
Вскоре газеты довели до нашего сведения, что Турция предпочла заключить договор с Англией и Францией.
В «Известиях» от 12 октября сообщение: 11 октября приехал в Москву Уполномоченный Финляндского Правительства Паасикиви.
В «Известиях» от 24 октября сообщение, что 23 октября «после кратковременной поездки в Финляндию вновь прибыл в Москву Уполномоченный Финляндского Правительства г. И. К. Паасикиви»,
В «Известиях» от 27 ноября:
Наглая провокация финляндской военщины
По сообщению штаба Ленинградского округа, 26 ноября в 15 часов 45 минут наши войска, расположенные в километре северо-западнее Майнила, были неожиданно обстреляны с финской территории артогнем. Всего финнами произведено семь орудийных выстрелов. Убиты три красноармейца, один младший командир и один младший лейтенант.
В этом же номере нота Молотова с требованием к Финляндии – «незамедлительно отвести свои войска подальше от границы на Карельском перешейке на 20–25 километров…»
В «Известиях» от 29 ноября заметка: «Новые провокации финляндской военщины».
В этом же номере нота Финляндского правительства за подписью посланника Ирие-Коскинела. Он утверждает, что, как показало расследование, стреляли с советской стороны.
В ответной ноте, напечатанной в том же номере и подписанной Молотовым, Советское правительство заявляет, что оно считает себя свободным от обязательств, которые возлагал на него пакт о ненападении между СССР и Финляндией.
«Известия» от 30 ноября сообщили о разрыве отношений СССР с Финляндией.
1 декабря мы прочли в «Известиях» о «столкновениях советских войск с финскими войсками» и заявление президента Финляндии Каллио:
В целях поддержания обороны Финляндия объявляет состояние войны.
2 декабря сообщение в «Известиях» об образовании Народного Правительства Финляндии под председательством Куусинена.
Не хвались, идучи на рать…
Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь!
Тон всей советской печати, особенно «Правды»; «Шапками закидаем!»
В «Правде» от 5 декабря корреспонденция Николая Вирты с театра военных действий «Боевые столкновения на Карельском перешейке. В Териоках» кончалась так;
По дороге мы встречаем министра обороны Финляндской Демократической Республики г. Анттила.
Я попросил министра рассказать нам о первом корпусе Финской Народной армии.
Министр ответил, что солдаты и командный состав корпуса рвутся в бой.
– Настроение замечательное, уверенность в победе полная. Мы победим. Вы слышали, что правительство бело-финов бежало из Хельсинки? Они оттуда, мы туда. До скорого свидания в Хельсинки!
Третий человек за один день приглашает меня в Хельсинки.
Черт возьми, придется поехать.
«Скорое свидание», как известно, не состоялось.
Валерий Брюсов в стихотворении «К финскому народу» (1910) оказался пророком:
Стой твердо, народ непреклонный! Недаром меж скал ты возрос: Ты мало ли грудью стесненной Метелей неистовых снес! Стой твердо! Кто с гневом природы Веками бороться умел, — Тот выживет в трудные годы» Тот выйдет из всякой невзгоды, Как прежде, и силен и цел!14 декабря Совет Лиги Наций исключил СССР из Лиги.
В советских газетах жиденькие оперативные сводки Ленинградского Военного Округа. Все больше: «…на фронте не произошло ничего существенного». Только по окончании этой войны (а длилась она позорно долго для СССР: до 13 марта 1940 года), войны, едва ли не самой срамной за всю историю России, почти никаких плодов нам не принесшей, показавшей слабость Красной Армии, мы поняли, сколько в эту лютую, погубившую у нас много фруктовых садов, «финскую», как прозвал ее народ, зиму замерзших и убитых русских солдат и командиров скрывала эта завеса: «ничего существенного».
Тургенев в письме к Ю. П. Вревской от 18 января 1877 года пишет:
…сверху донизу мы не умеем ничего крепко желать – и нет на свете правительства, которому было бы легче руководить своей страной. Прикажут – на стену полезем; скомандуют – отставить! – мы с полстены опять долой на землю.
Тургенев углядел одну из самых страшных язв, разъедающих русский народ. Увы! Это наша русская, национальная черта. «На Финляндию шагом марш! Аж до Хельсинки!» Для чего? Из-за чего? Ради чего? Рассуждать – не наше дело. Начальству видней. «Стой!» Не надо идти в Хельсинки!» Почему не надо? Опять-таки не наше дело. Начальство лучше знает.
В 42-м году я познакомился с пушкинистом Сергеем Михайловичем Бонди.
Он так изобразил политику «Коммунистической» партии:
Но, пошел! Но, пошел! – Кнут все хлещет и хлещет. Лошадь тянет из последних сил. Повозка вот-вот перевернется. – Но, пошел!.. Тпру, стой!.. Куда прешь?
Нажглись на Финляндии – нажмем, напрем на тех, кто послабей!..
Лишь бы успеть наловить рыбки, пока мутна вода… И черт связался с младенцами.
«Известия» от 30 мая 1940 года уведомили нас:
За последнее время имел место ряд случаев исчезновения военнослужащих из советских гарнизонов, расположенных… на территории Литовской Республики,
Дальше начинается плохой детектив. Будто бы красноармейца Шмавгонеца увезли (кто?), морили голодом, грозили расстрелом с целью выпытать у него сведения о его танковой бригаде. «…Щмавгонец с завязанными глазами был вывезен за город и там выпущен». После случая со Шмавгонецом приводится еще несколько столь же правдоподобных происшествий.
Молотов от имени Советского правительства потребовал от правительства Литвы «немедленных мер к прекращению провокационных действий и к розыску исчезнувших советских военнослужащих». Советское правительство выразило надежду, что «литовское правительство пойдет навстречу его предложениям и не вынудит его к другим мероприятиям».
В «Известиях» от 16 июня ультиматум Литве от 14 июня. Опять будто бы кого-то похитили, кого-то убили. 15 июня Литва приняла ультиматум. В тот же день советские войска заняли Литву. Литовское правительство ушло в отставку.
В «Известиях» от 17 июня сообщение о том, что бывший литовский президент Сметона и несколько членов литовского правительства в ночь на 16 июня бежали в Германию.
С Литвой советские захватчики еще повозились для прилику, А потом решили: для чего церемонии-то разводить? 16 июня – бац ультиматум сразу Латвии и Эстонии!
16 июня Молотов заявил посланникам Латвии и Эстонии, что существующий военный союз между Латвией, Литвой и Эстонией «Советское правительство считает не только недопустимым и нетерпимым, но и глубоко опасным, угрожающим безопасности границ СССР».
А почему же допускало и терпело, – если таковой союз действительно существовал, – когда заключало с ними договор о взаимопомощи? Почему тогда же не поставило условием заключения договора расторжение военного союза? И почему терпело и допускало его с сентября 39-го года по июнь 40-го?
Э, да что там искать логики во внешней политике Гитлера и Сталина! Если и была у них логика, то это логика крыловского Волка из басни «Волк и Ягненок»:
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать.
Латвия и Эстония, разумеется, приняли советский ультиматум.
В «Известиях» от 18 июня сообщение:
Вступление советских войск в пределы Эстонии и Латвии.
Латвийское и эстонское правительства ушли в отставку.
В конце июня СССР оккупировал Молдавию.
В «Правде» от 30 ноября 1939 года были помещены ответы Сталина на вопросы редактора этой газеты.
Вот один из ответов Сталина:
…не Германия напала на Францию и Англию, а Франция и Англия напали на Германию, взяв на себя ответственность за нынешнюю войну.
При всей своей неискушенности в вопросах внешней политики, я держался мнения противоположного. Все мои симпатии были на стороне антигерманского блока, особенно на стороне Англии после того, как Гитлер в два счета разгромил Францию, и Англия, в сущности, осталась на некоторое время одна. Я верил, что в конце концов победит Англия. Верил, может быть, потому, что желал ей победы. Вера моя не дрогнула даже в ту пору, когда казалось, что гитлеровская авиация сотрет Англию с лица земли…
Кто живет без печали и гнева, Тот не любит отчизны своей…У русских есть еще одно свойство, не менее гнусное, чем нерассуждающая исполнительность: легковерие. Должно думать, что это свойство проявлялось и прежде, но на моих глазах оно росло и продолжает расти, как раковая опухоль, а властям это на руку.
Верили в то, что «шахтинцы», Рамзин и его однодельцы – вредители. Верили в то, что ленинские гвардейцы полжизни провели в тюрьме и ссылке только для того, чтобы, дорвавшись до власти и едва успев вкусить от ее плодов, передать ее главам других государств, а самим остаться при пиковом интересе. Теперь так же легко поверили в то, что маленькие, маломощные, беззащитные, – их покровителям было не до них, – Литва, Латвия, Эстония, Финляндия станут задирать верзилу, колоть его булавками, прекрасно зная, что булавочные уколы обойдутся им дорогонько. И от скольких мне теперь приходилось слышать, что Англия идет ко дну!..
Интервью и речи Сталина и Молотова тех времен явление в своем роде исключительное. Как ни отвратны злобным своим кликушеством речи Гитлера, у него есть перед ними одно преимущество: откровенность. Гитлер, как медведь из сказки, никогда не укрывался под псевдонимами. Он так прямо и отрекомендовывался: «Я-Вас-Всех-Давишь». И еще он походил на былинного царя, говорившего о себе: «Ай да я собака Калин-царь!» Сталин и Молотов к грубости и хвастовству для вкуса подбавляли лицемерия. Послушать или почитать их, так они первые борцы за справедливость, защитники беспомощных.
Мы воюем за спасение Братьев страждущих – славян, —как сказано в стихотворении Городецкого «У Казанской Божьей матери» (вошло в его книгу «Четырнадцатый год»). Гитлер и Риббентроп, по крайней мере, балов-маскарадов не устраивали.
Мировую войну, вторжение Красной Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию, сталинско-молотовскую дипломатию, сводившуюся, главным образом, к провоцированию пограничных и других конфликтов для того, чтобы потом заглатывать области ж целые государства, войну с Финляндией я, конечно, переживал тяжело, но не так остро, как ежовщину. Что ни говори – далеко лежало, мало болело. Узнавать о событиях из газет и радиопередач – это все-таки не то, что в течение двух лет смотреть, как в двух шагах от тебя НКВД вырывает с корнем целые семьи, и ждать своей очереди и очереди ближайших родных. Террор стократ страшнее войны. Ночные звонки страшнее ночных бомбежек. Об этом верно сказал Пастернак в романе «Доктор Живаго», О том же, что вытворяет НКВД в оккупированных краях, я мог только догадываться, и кое-что слышал я от очевидцев. За годы ягодовщины, за годы ежовщины с ее еженощными страхами душа изболелась, перенасытилась скорбью. В годы, когда с разных сторон тянуло гарью, но самый пожар был мне не виден, ужас и отчаяние владели мною не с прежнею силой.
Что нам первый ряд подкошенной травы? Только лишь до нас не добрались бы, Только нам бы, Только б нашей Не скосили, как ромашке, головы.Внятный голос предчувствия шептал мне: «Будет еще горше. Побереги душевные силы». Когда я гостил у матери, я все пытался убедить ее, что надо брать от жизни те немногие радости, какие она пока еще нам дает.
Отвлекали меня от мыслей о мировых событиях заботы, тяготы и докуки.
Донимали заботы о хлебе насущном. Какая-то часть моего заработка уходила на жизнь в Москве. Моя жена работала в редакции журнала «Интернациональная литература»; на себя она не брала у меня ни копейки, но на мое содержание ей бы ее жалованья не хватило. Я платил бабушке Наталье за июнь – сентябрь по «дачным» расценкам, за остальные восемь месяцев – вдвое меньше, а жил у нее только четыре «дачных» месяца, поздней же осенью, зимой и весной наезжал на несколько дней, чтобы не ползли по Тарусе слухи, что я у бабушки Натальи совсем не живу, и не доползли до ушей милиции. Собственно, с октября по июнь я платил бабушке не за житье, а только за прописку. Мать после ареста Лебедева и изгнания из перемышльской школы Траубенберга, Большакова и Будилина ушла на пенсию. Двух пенсий, ее и тетки, – притом, что они снимали комнату у частного владельца, – им на прожитие не хватало. До осени 40-го года, когда мама опять начала преподавать немецкий язык в пригородной сельской школе-семилетке (предложение Районо вернуться на прежнее место она отвергла), я содержал и ее и тетку почти целиком. Приходилось поворачиваться, как вору на ярмарке.
К заботам о хлебе насущном примешивалось ощущение бездомничества: ощущение, в котором можно было различить страх, – как бы не накрыла в Москве милиция, как бы не подвести родных жены, – и гнетущее сознание своей ущемленности, своей изгойности. Осенью дачники тянутся в Москву домой. Я тоже еду в Москву, но не домой.
Положение мое усложнилось еще тем, что в связи с нехваткой продуктов в стране (в провинции продукты первой необходимости выдавались не по карточкам, а по спискам, но это один черт) доступ в Москву с 39-го года был ограничен. Железнодорожные билеты выдавали только тем, у кого был московский паспорт или московская прописка, по вызовам или командировкам. Голь на выдумки хитра., Транзитные билеты продавались без ограничений. Нужно тебе доехать до Москвы из Калуги, – а прав у тебя на это нет, – бери билет из Калуги через Москву, к примеру, до Можайска. Переплатишь – зато билет в кармане. Хитрость эту власти разгадали довольно быстро. На транзитный билет потом тоже надо было иметь особое право. Пришлось исхитряться по-другому. Чаще всего, уезжая из Москвы, я запасался вызовами из московских редакций и издательств. Вызовы мне давали охотно, тем более, что это была не «липа»: вызывали, чтобы я поработал с редакторами, прочел корректуру. Но для меня в этом было что-то мелко-унизительное, точно я просил пособие на бедность. Иной раз мой калужский приятель доставал себе фальшивую командировку и по ней получал для меня билет. Иной раз моя мать брала в перемышльской амбулатории направление к московским врачам, доезжала со мной до Калуги, и по направлению ей выдавали билет.
Вероятно, выражение лица у меня было измученное, загнанное – об этом я все чаще догадывался по внимательным, удивленно-сочувствующим взглядам встречных, когда шел по московским или калужским улицам.
Весной 39-го года я надумал подать в НКВД просьбу о снятии с меня судимости, что дало бы мне право жительства в Москве, и приложить несколько книг в моем переводе. Письмо в НКВД написал мне Николай Васильевич Коммодов, к которому, сговорившись с ним по телефону, направила меня Маргарита Николаевна.
Коммодов принял меня в своей квартире на Большой Молчановке (он жил в том же доме, что и терапевт Кончаловский и окулист Одинцов и где много лет спустя жил и скончался Виктор Яльмарович Армфельт), выслушал, сказал:
– Снимут с тебя судимость. «Дело»-то твое, брат, – дермантин.
И тут же написал прошение.
Прошение и книги я отнес в здание на углу Лубянской площади и Мясницкой и сдал какой-то хамоватой девице.
Пробежали летние месяцы – ни ответа, ни привета.
Осенью 39-го года по дороге из Перемышля в Москву я на несколько часов остановился в Калуге, Мы с моим приятелем зашли пообедать в столовую «полуоткрытого типа». Это была столовая для служащих какого-то учреждения, но пропусков при входе почему-то не спрашивали, кормили же там гораздо лучше, чем в «открытых» столовых.
Среди обедающих я сейчас узнал бывшего нашего институтского декана Владимира Ефимовича Грановского. Он тоже меня узнал. Его арестовали на несколько месяцев раньше меня, когда он уже не был деканом переводческого факультета. О моей судьбе ему, конечно, ничего не было известно. Мы рассказали друг другу о себе. Он лет пять отсидел в лагере, а теперь жил в Калуге, наезжал, как и я, в Москву, к жене, в свою бывшую комнату в Гранатном переулке, куда я прежде изредка заходил за французскими книгами (главным образом, по истории Франции), которые Грановский давал мне почитать.
Грановский научил меня, как нужно действовать. Оказалось, весной вышел Указ Верховного Совета СССР, о существовании которого я не знал и согласно коему с лиц, до какого-то года, – кажется, до 36-го или 37-го, – приговоренных к административной высылке или не долее, чем к пяти годам концлагеря, судимость снимается, но не автоматически: нужно подать заявление в НКВД вместе с характеристикой от учреждения, где ты работаешь в настоящее время, и со справками о том, где ты проживал и проживаешь со дня отбытия наказания. Подавать заявление надлежит по месту жительства, в районное или областное отделение НКВД.
Тьфу ты пропасть! Начинай все сначала…
Мне дал характеристику как переводчику и редактору Гослитиздат. Отзыв о моей работе написал также испанист Кельин, Но мое скакание с места на место затормозило подачу заявления. Пока «суд да дело», пока я дождался справки из Архангельска от Варвары Сергеевны Дворниковой (после отбытия ссылки я прожил у нее месяц), пока я дождался справки из Новосельского сельсовета Малоярославецкого района от моих теток» пока я ездил за справкой в Перемышль, прошла зима.
Наконец, запасшись ворохом бумажек, я в мае 40-го года отправился к начальнику Тарусского отделения НКВД Бушуеву, назначенному на эту должность после падения Ежова и сменившему того ретивого службиста, который в ежовщину хвалился с трибуны «перевыполнением плана» арестов.
С первого взгляда на Бушуева я понял, что передо мной отнюдь не интеллигент, не принц крови и не аристократ духа, но и не изверг естества, энкаведешник не по призванию, а по приказу.
Выслушав меня, Бушуев разбушевался.
– Я вас звал, звал, а вы не являетесь! Когда ни пошлешь за вами, вас нет. Вы не живете в Тарусе, вы живете в Москве. Я не приму от вас документов.
Я вытаращил глаза.
Зимой я в самом деле в Тарусу заглядывал раза два, денька на три, а все остальное время жил в Москве или в Перемышле, где прописываться мне было не нужно, где работалось мне вольготней, чем в Москве, и где меня осеняла материнская любовь и забота.
Но когда же Бушуев меня вызывал?
– Позвольте! – возразил я. – Я пришел к вам без вашего зова по собственной инициативе…
Только потом, возвращаясь от Бушуева к бабушке Наталье, я сообразил, в чем дело.
Зимой, по словам бабушки, к ней несколько раз приходили какие-то парни, спрашивали меня, а узнав, что я в отъезде, говорили, что они из Военкомата. Повесток они не оставляли, поэтому бабушка не считала нужным вызывать меня в Тарусу. Это и были гонцы Бушуева, которым он, должно полагать, наказывал отводить глаза хозяйке дома; отводил же он их – о чем я догадался год спустя – только чтобы не бросать на меня тень: мол, им интересуется НКВД – значит, он на подозрении.
Post factum я вошел в положение Бушуева: он имел право на меня гневаться. Прошению, которое я подал в Москве, дали ход. Москва снеслась с Тулой (Таруса была тогда отнесена к Тульской области), Тула стала нажимать и наседать на Бушуева, а Бушуев поневоле бездействует. Он вызывает меня, чтобы проинструктировать, какие документы я обязан представить, – он же не Свят Дух, чтобы знать, что Грановский меня просветил и что я пока не иду к нему, так как не собрал еще всех справок, – вызывает, а меня ищи-свищи.
Пока Бушуев изливал свой гнев и угрожал, что напишет, чтобы мне отказали за несоблюдение паспортного режима, я чувствовал себя в его кабинете не очень уютно. Но я вспомнил, что говорили мне товарищи по тюремной камере: следователь, который начинает с крикливых угроз, лучше того, который начинает с вкрадчивой любезности и угощения дорогими папиросами и коньячком. Притом, я не улавливал в голосе Бушуева, кроме раздражения, ни злобы, ни издевательства.
Отшумев, он сказал уже наигранно сердито:
– Ну давайте! Показывайте, что у вас там.
Характеристика из Гослитиздата и отзыв Кельина, видимо, вполне удовлетворили его. Он не придрался ни к одному документу (при желании хоть и к пустякам, а мог бы) и расстался со мной дружелюбно.
Потянулись дни, недели, месяцы томительного ожидания, мучительной неизвестности. Ответа нет как нет.
Я наведывался к Бушуеву. Он смотрел на меня, как мне казалось, соболезнующе и разводил руками:
– Пока еще ничего не получено. Если б что было, я бы вас известил. Пошлю в Тулу запрос… Да ведь вы не живете в Тарусе! – добавлял он с лукавой усмешкой, но я почему-то был уверен, что это только наркомвнудельский «фасон де парле», что Бушуев мне не напакостил.
А сердце все-таки екало…
Мне посоветовали навести справки в Москве. Я поехал на Кузнецкий мост, в приемную НКВД.
Две очень небольшие очереди: «за вопросом» и «за ответом».
Тот, кто записывал вопросы, живо напомнил мне Лубянку времен Ягода… Злые буравчики глаз, злые ниточки губ… Впрочем, тон безукоризненно вежливый…
У меня тогда же мелькнула мысль: опять покрасили дом снаружи.
Наркомвнуделец записал мой вопрос, нет ли решения по моему делу, и сказал, чтобы я пришел через несколько дней за ответом.
«Ответчик» был совсем не похож на «вопросника». Пожилой, с прожелтью в усах, обращавший на себя внимание выправкой, не характерной для гепеушников, ходивших и стоявших раскоряками, державшийся с необидной фамильярностью старшего, он скорее напоминал дореволюционную армейщину, чем питомца ЧЕКА-ОГПУ-НКВД. Он даже, я бы сказал, с сокрушенным видом покачал головой и сказал, как мог бы сказать «ундер» рядовому, которого ему отчего-то жаль:
– Пока еще решения по твоему делу нет.
– Ведь я же год назад подал заявление!
– Да, что-то задержалось… Ты зайди ко мне недельки через две – должно решиться…
Потом выяснилось, что ответ «ундера» я получил после того, как дело мое «решилось». Под этим не крылось желание высшего начальства, а тем более «ундера», еще немножко потомить меня. Просто, как теперь говорят, «не сработала» бюрократическая машина канцелярии НКВД, в которой, как во всякой советской бюрократической машине, вечно что-то «заедает».
Я молил Бога о том, чтобы весть о снятии или неснятии судимости дошла до меня сразу, без дополнительной проволочки.
Тринадцатого мая 41-го года, придя из издательства в московскую квартиру, где жили моя жена и ее родные, я увидел, что на нашей двери висит замок (квартира была коммунальная), а в общей передней на подзеркальнике обнаружил телеграмму из Тарусы. Распечатываю: «Приезжай хорошие вести». Без труда соображаю, что телеграмма – от Софьи Владимировны (Надежда Александровна жила этот месяц в Москве), – бабушка Наталья со всеми моими делами шла к «артиске».
На другой день я в Тарусе. Поднялся в гору. На террасе стоит Софья Владимировна и машет мне какой-то бумагой. Это было письмо из НКВД, которое, когда бабушка его принесла, она распечатала:
Гор. Таруса, улица Шмидта дом 31 гр-ну ЛЮБИМОВУ
Николаю Михайловичу
Тарусское Районное отделение НКВД просит Вас явиться в
Райотделение за получением справки о снятии Вашей судимости.
Секретарь Тарусского РО[69] УНКВД ТО[70]
ЛАЗАРЕВ
Я подивился чуткости Бушуева.
На другое утро он вручил мне документ:
СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
1-Й СПЕЦОТДЕЛ
26 апреля 1941 г.
№ 9 – 10
Москва, площадь Дзержинского, 2
Телефон: коммутатор НКВД
СПРАВКА
Выдана гр-ну ЛЮБИМОВУ Николаю Михайловичу года рожд. 1912, урож. гор. Москвы, судимому Особ. Совещ. при Колл. ОГПУ от 22 XII 33 г. по ст, 17-58-8 УК РСФСР сроком на 3 года высылки, в том, что он отбыл наказание 20 октября 1936 г, т указанная судимость, вместе со всеми связанными с ней ограничениями, с него снята но постановлению Особого совещания при Народном Комиссариате Внутренних Дел СССР от 12 апреля 1941 года.
Основание: Указ Президиума Верховного Совета
Союза СССР от б апреля 1939 года.
Зам. начальника 1 спецотдела НКВД СССР[71]
Зам. начальника 4 отделения[72]
Треугольная печать
НКВД СССР, Первый специальный отдел.
Когда Бушуев поздравлял меня и на прощанье жал руку» взгляд его выражал непритворное сорадование.
– Теперь можете жить где угодно, хоть в Кремле! – глядя на меня веселыми глазами, пошутил он.
«О русский народ!.. Зверь-то ты зверь… Но самый добрый из зверей…» – восклицает в «Двадцатом годе» Шульгин.
Во всяком случае, был добрый.
Крупицы добра я получал то у лубянского коменданта» то у бутырского тюремщика» то у архангельских следователей, то в приемной НКВД.
До моего приезда в Архангельск в тамошнем ПП ОГПУ работал Константин Иванович Коничев. Его, бездомного мальчика-сироту, подобрали чекисты. Он воспитывался в Чека, прошел чекистскую школу, первое время во все слепо верил, сына своего назвал в честь «Железного» – Феликсом. Но по натуре он был человек хороший. Может быть, потому, что он уже тогда пописывал, он особенно покровительствовал ссыльным писателям. В 32-м году из Москвы в Северный край выслали писателя Сергея Маркова. Коничев, видевший его первый раз в жизни, поделился с ним своим хлебным пайком и обнадежил его: пока, мол, поезжай в Мезень, раз тебя туда наладили, но я тебя вызволю. Коничев сдержал свое слово: вскоре Марков перебрался в Архангельск. Вообще Коничев пользовался невыгодной для него репутацией либерала. Наконец он переступил границы дозволенного, и его из Архангельска турнули в столицу Коми-области Сыктывкар (Усть-Сыеольск). В конце концов ему стало невмочь, он вырвался из лап НКВД и с той поры, за исключением военных лет» которые он провел на «холодном», то есть на Северо-Западном фронте[73], занимался литературной деятельностью. После войны переехал в Ленинград, одно время был директором Лениздата.
Пока он жил в Сыктывкаре, мы с ним изредка переписывались (я был редактором его первой повести «Лесная быль»). Очень редко встречались во время его кратких наездов в Архангельск (я продолжал быть его редактором). Когда же он, в 1936 году отряхнув наркомвнудельский прах от ног своих, перебрался из Сыктывкара в Архангельск, мы виделись с ним почти ежедневно в Северном отделении Союза писателей. Он относился ко мне участливо, давал понять, что верит в мою невиновность, подбадривал меня перед окончанием ссылки.
– Я очень волнуюсь, – говорил я ему.
– Ну что ж, поволнуйся, – с напускной суровостью отвечал он. – Это волнение не вредное. Все перед получением документа об освобождении волнуются: не ты первый, не ты последний.
– Да выдадут ли мне его в срок? Не задержат ли?
– Можешь быть уверен, что не задержат.
Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
Нашел я чуткость и под грубым обличьем начальника Тарусского районного отделения НКВД.
После войны мне говорили, что Бушуев погиб на фронте.
Если слух этот был ложен и Бушуев еще жив, то да будет безболезненной и мирной жизнь его и кончина, если же убит, то да будет ему земля легка…
Воспоминания о промельках человечности, о прозорах, голубевших в земном аду, – одни из самых плодотворных и живительных моих воспоминаний…
В Москве меня без всякой волокиты прописали постоянно.
Маргарита Николаевна и Татьяна Львовна закатили по сему случаю пир горой.
Пировал на том пиру и Николай Васильевич Зеленин. Виделись мы с ним тогда в последний раз.
Мать и тетку я известил о моей радости телеграммой, а потом поехал к ним.
В Перемышле только и разговору, что о войне… Война с Германией на носу.
Сыновья кое-кого из перемышлян и иногородних крестьян – в армии, на советско-германской границе. Им виднее. Они пишут родителям, что немцы открыто готовятся к войне. Далеко не все письма с подобными сообщениями доходят до адресатов, но достаточно проскочить хотя бы нескольким, чтобы тревожным слухом наполнилась «перемыцкая» земля.
Возвращаюсь в столицу.
Тишина и спокойствие. Никаких тревожных разговоров ни в издательствах, ни в редакции «Интернациональной литературы», ни в Иностранной комиссии Союза писателей, помещавшейся бок о бок с редакцией, ни у Маргариты Николаевны, где бывали люди осведомленные… Откуда, мол, у тебя такие сведения? Провинция – пуганая ворона: куста боится. У страха глаза велики…
В четверг 19 июня ко мне вечером зашел приезжавший в командировку из Харькова друг моего отца Владимир Николаевич Панов, тот самый, который в 18-м году прятал у нас в доме от восставших крестьян большевика Васильева. Владимир Николаевич служил с 19-го года в Красной Армии, почти всю гражданскую войну провел на фронте, потом окончил Академию генерального штаба, года через два после этой нашей с ним встречи получил звание генерал-майора.
Я задал Владимиру Николаевичу вопрос: как там насчет войны, не слыхать ли?
– Пока что войной не пахнет, – ответил он. – Конечно, ручаться головой в таких случаях нельзя. Война может вспыхнуть и через два года и через два дня. Но есть добрые предзнаменования: немцы по нашему требованию вывели войска из Финляндии, стало быть, они нас побаиваются. Мне два года не давали отпуска, а в этом году дают.
Уже в передней, прощаясь, Владимир Николаевич сказал:
– Ну так я тебя летом непременно жду к себе в Харьков!
Москва, 1974
Сухая гроза
Что значат немцы, ляхи и татары В сравненья с ним? ………………………………………….. Иль есть из вас единый, у кого бы Не умертвил он брата, иль отца, Иль матери, иль ближнего, иль друга? Ал. Конст. ТолстойУ нас теперь другое, более страшное, чем война, чем немцы, чем вообще все на свете; у нас большевики.
Михаил Булгаков Как тяжело ходить среди людей И притворяться непогибшим… Александр БлокМатушка! пожалей своего несчастного сына.
Гоголь …кто тут нам помог? Остервенение народа, Барклай, зима иль русский Бог? Пушкин1
22 июня 1941 года. Воскресенье.
День как день.
Ни малейшей тяжести на сердце при пробуждении.
Даже легкое предчувствие не коготнуло сердца.
День как день. Утренний чай. Работа.
В соседней комнате включают радио… Что это? Голос Молотова… Не к добру… Прислушиваюсь… На нас напал Гитлер.
– Наше дело пра-во-е! Враг будет разбит! Победа будет… за нами! – заикаясь, натужливо, как будто надувая слабые легкие, выхрипывает в заключение Народный Комиссар Иностранных Дел.
…Итак, война добралась до России.
Мыслью этого не обымешь. И как-то сразу притупились чувства. Все словно в тумане или во сне.
Вечером пошел побродить по уже затемненным московским улицам, полнившимся тревожной и жуткой суетой.
Я отдавал себе отчет только в том, что вся наша жизнь вздыблена, разворошена, взвихрена. Мы – песчинки, взметенные ураганом. Куда он нас понесет?.. Мы – щепки, которые гонит разъярившийся вал. Выбросит ли он нас на берег? И на какой?.. Душевного подъема пока еще не было. Но и совсем не было страха. Было ощущение своей беспомощности перед неотвратимым, своей крохотности рядом с безмерностью наступившего и свершающегося. Был душевный столбняк.
А потом – до конца войны – то ослабевавшая, то усиливавшаяся внутренняя борьба.
Подливали масла в огонь внешние впечатления. Подливали с первого же дня, с тех мгновений, в какие до меня донеслась весть о войне.
Речь Молотова. Слова как будто правильные, а однозвучный, заведенный, нудный, зудящий голос – как у докладчика на торжественном заседании перед седьмым ноября или перед первым мая в каком-нибудь районном центре. Да и кто эти слова произносит? Смеет ли произносить их от имени народа убийца Молотов? Дело народа – правое, дело Молотова – черное дело. «Победа будет за нами…» За кем – за нами? За моим народом? Дай-то Бог! За Сталиным и Молотовым? Упаси, Господь!..
Вскоре в радиорупора хлынули звуки музыки Александрова:
Идет война народная, Священная война!И вот опять: музыка, налитая трагической мощью, будит, встряхивает, всколыхивает, ведет за собой, каждым своим переливом взывая к мужеству трезвому, предупреждая, что поведет она до дебристым кручам. За ней видится не грациозное гарцевание и не лихой наскок. За ней видится длительное кровопролитие. За ней беснуется огонь. За ней валит косматый дым. За нею – без вести пропавшие, за нею – бездомные, за нею – раненые, за нею – изувеченные, искалеченные, за нею – убитые, за нею – вдовы, сироты, несть им числа…
А в лебедево-кумачевское стенгазетное стихоплетство лучше не вслушиваться. Слова, за исключением первой строфы и припева, курам на смех:
Дадим отпор душителям Всех пламенных идей, Насильникам, грабителям, Мучителям людей!Что хотел сказать последней строчкой песнопевец? Что специальность фашистов – мучить только людей, а, к примеру, кошек они не мучают?
Гнилой фашистской нечисти Загоним пулю в лоб…Ни в одной народной сказке не действует хилая, недужная нечисть. В представлении народов нечисть здоровуща, нечисть бессмертна. Нечисть – кудесница, и никакая пуля ее не возьмет.
И тут же – неотвязные вопросы: а сколько пламенных идей передушено в России после Октябрьского переворота? И скольких переворотилы, а потом их выкормыши и последыши замучили «в тюрьмах и шахтах сырых»? Ну, конечно, фашистская орда – «орда проклятая», но почему же Сталин и Молотов еще так недавно целовались и миловались с ее ханами?..
Сводки Советского Информбюро не радовали. Несмотря на все его извороты, несмотря на зашифровку для детей младшего возраста, вроде «Город К. на реке Д.», мы читали даже не между строк, а в самих строках, что Советская Армия показывает немцам тыл.
По московским улицам проходили воинские части – без оркестров, без песен. Лица у римских гладиаторов, направлявшихся в цирк, были» наверное, веселее» чем у советских бойцов и командиров, уходивших в бой.
Писатели, вступившие в ряды московского ополчения, после рассказывали мне о беседе» которую проводил с ними политрук.
– С чем можно сравнить нападение Гитлера на нашу страну? – поставил риторический вопрос политрук. – Это все равно как если бы вооруженный до зубов противник напал на спящего инвалида третьей группы.
Незадачливого пропагандиста после этой беседы сменили, но… глас народа – глас Божий.
«Велику власть принимающему велик подобаеть ум имети», – сказано в древнерусской «Пчеле».
А у товарища Сталина с избытком хватало ума на внутрипартийные интриги, на то, чтобы умерщвлять безоружных и беззащитных, на то, чтобы гноить людей в тюрьмах и на каторге, на то, чтобы наносить удары из-за угла и всаживать нож в спину маломощным республикам; на любые подлости, на любой обман. Но ведь на это большого ума и не надо. А вот на подготовку к войне с врагом сильным ума товарищу Сталину уже не хватило. Да и вообще на раздачу мозгов, потребных для государственного ума, он пришел с большим запозданием. Ему случалось спохватываться, открывать Америки, возвращаться на верную дорогу, протоптанную нашими прадедами, как в случае с разгромом исторической «школы Покровского», но чтобы самому придумать что-нибудь благое и полезное – это уж «атанде, мадам». И вот теперь за доверчивую беспечность Сталина, совсем для него не характерную, проявленную им, быть может, единожды, за его слепоту, от которой его не излечили ни предупреждения Черчилля, ни факты, расплачивался наш народ, главным образом – как во все времена русской истории – русский мужик.
23 июля Председатель Государственного Комитета Обороны Сталин выступил по радио. Его речь бодрости в нас не влила.
«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойды нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!»
Ишь, как, точно проповедь в церкви говорит: «Братья и сестры, друзья мои!» Значит, припекло… Не от хорошей жизни…
Было слышно, как булькает льющаяся вода, как жадно он ее глотает и как его зубы выбивают трусливую дробь о край стакана.
…А москвичи подобрели. Ни квартирных склок, ни перебранок в автобусах, троллейбусах, трамваях. Между дежурившими ночью на крышах незнакомыми людьми сами собой рождались братские союзы.
Москвичи подтянулись. Занавесили окна светонепроницаемой бумагой. Дежурные жильцы строго следили за соблюдением правил маскировки и – чуть что заметят – звонили в квартиру и говорили:
– У вас одно окно просвещает.
Женщины и девушки ходили с противогазными сумками через плечо. Сумки придавали им воинственно-важный вид, но так им и не пригодились.
С первых же дней войны, еще до налета на Москву гитлеровской авиации, я начал еженощно дежурить то на крыше дома, где тогда помещались Иностранная комиссия Союза писателей и редакция журнала «Интернациональная литература», в которой я сотрудничал постоянно (Кузнецкий мост, 12), то на крыше дома, где я жил, и очень редко – в Гослитиздате (Большой Черкасский переулок).
В свободные от дежурств вечера я в бомбоубежища не ходил. Но как-то ночная тревога застала меня в Нащокинском переулке между Пречистенкой и Арбатом, и мне волей-неволей вместе с друзьями, к которым я заглянул, пришлось спуститься в подвал одного из домов.
Ночь выдалась тяжкая. Фугаски падали неподалеку. Разбойничий свист и – вслед за тем – гром. Свист скоро сменился визгом. Это значило, что вражеские самолеты кружатся над этим районом. И вдруг – режущий визг, грохот, двери бомбоубежища настежь. Стоявшего у дверей единственного среди нас, штафирок, военного вытолкнуло на середину подвала, и он, мертвенно-бледный, с расширенными от страха глазами, выкрикнул:
– Спокойно, товарищи, спокойно!
Потом выяснилось, что фугаска упала за домом напротив, за домом писателей, где жили мои друзья, повредила один балкон, но не взорвалась. Сыпались и зажигалки.
Немного погодя в бомбоубежище вошел паренек и сказал:
– Дежурные устали. Большая просьба: не пойдет ли кто их сменить?
Вызвались поэт Григорий Александрович Санников, тоже проживавший в том доме, возле которого упала бомба, я и кто-то еще.
Я направился к выходу.
Парень остановил меня:
– Товарищ! Сейчас прохладно, а вы легко одеты. Надо застегнуться.
И сам застегнул мне пуговицы на воротнике моей косоворотки.
Я подумал: а ведь накануне войны этот заботливый паренек при посадке в трамвай за милую душу двинул бы мне локтем в грудь, пропихиваясь, а то столкнул бы с подножки.
Сначала дежурить во время налетов было страшно. В первую ночь долго дрожали колени. Потом притерпелся. Нельзя было не залюбоваться светившимся в небе пунктиром трассирующих пуль. Успокоительно бабахали наши зенитки. И только нестерпимы и ненавистны были зловещий гул немецких бомбардировщиков и свист и визг фугасок. Все же я ловил себя на мысли, что ожидание смерти от взрыва бомбы намного легче, чем ночное ожидание прихода за тобой и увода в узилище. Я тогда еще не знал, что в СССР уже началась тройная война: война с врагом, война наркомвнудельцев со своими в армии и война наркомвнудельцев со своими в тылу. В Москве в первые же дни войны были произведены аресты. В частности, по оговору Эльсберга, который, очевидно, решил, что два щедриниста – это для Москвы слишком большая роскошь, был схвачен известный щедринист, один из редакторов «Литературного наследства» Сергей Александрович Макашин.
До 16 октября 41-го года, вычеркнутого из советских календарей (точь в точь, как у Поприщина из гоголевских «Записок сумасшедшего»: этого числа не было, впрочем, в этот день и впрямь, как записал Поприщин, было черт знает что такое), до этого памятного, однако же, многим москвичам дня я все твердил себе:
«После войны мы сочтемся со Сталиным и с его окружением – сочтемся не только за террор во всех областях жизни, не только за наших погубленных отцов и матерей, сестер и братьев, учителей, друзей и знакомых, не только за вырубку русской культуры, но и за дружбу с Гитлером, но и за нефть, которую Сталин поставлял Гитлеру для заправки самолетов, бомбивших Лондон, Ковентри, Бирмингем, но и за блистательную подготовку к войне, но и за исполнение обещаний: “Мы-де не уступим врагу ни пяди родной земли, мы будем бить врага на его территории – и не числом, а уменьем”. Сведение счетов отложим на “после войны", а пока не время, до дня победы у нас общий враг».
Конечно, это было наивно. Но ведь так рассуждали не только далекие от политики русские интеллигенты, но и не кто иной, как Черчилль, заявивший, что за доверие к гитлеровской Германии и за дружбу с ней Сталин предстанет перед судом общественного мнения послевоенной Европы. Как же, Уинни, предстал, черта с два!..
И вот что до сих пор для меня непостижимо: я закрывал глаза на поражения Советской Армии, на то, что она сдавала один город за другим. Чем сильнее били нас немцы, чем быстрее отступали наши войска, тем глубже внутри меня вкоренялась уверенность в конечной победе России.
У иных я улавливал в тоне злопыхательские нотки. Эти люди не желали победы немцам, – они были отнюдь не германофилы и уж, во всяком случае, не профашисты. У них сердце кровью обливалось от одной мысли, что исконно русские города – Новгород, Псков – захватили немцы, что русскую землю топчут немецкие сапоги, и вместе с тем они упивались позором Сталина. Подтекст их речей был таков: «Ну что, “наша слава боевая”? Это тебе не интеллигенты и не мужики».
Иные интеллигенты ждали прихода немцев, но опять-таки не потому, чтобы они ждали именно немцев. Они мечтали только о том, чтобы немецкими руками был свергнут ленинско-сталинский строй. Мысль их шла вот в каком направлении: ради того, чтобы раз навсегда освободить Россию от сталинской тирании, можно вытерпеть временное сидение под немцем. Ведь отдаешь же любимого ребенка на мучительную операцию ради его спасения. Иноземный враг не способен убить душу народа. Вот почему он не так опасен, как внутренний. Если же немцы не разобьют Сталина, то его строй утвердится на десятилетия. Гитлеровский хрен сталинской редьки не слаще. Но немцы придут, нагрохают, как слоны в посудной лавке, и уйдут. Уйдут, потому что им поставят припарки англичане и американцы, а самое главное, потому что, победив власть Сталина, народ они победить не смогут. Народ выдвинет новые силы и на развалинах застенка, растянувшегося от Мурманска до Закавказья и от Балтийского моря до Тихого океана, возродится Россия.
Европейцам и даже многим русским белоэмигрантам пораженческих настроений, охвативших часть русской интеллигенции в СССР, не понять. Своя рубашка ближе к телу. Из двух зол всякий выбирает то, которое получше. Для европейцев и белоэмигрантов, знавших, почем фунт гитлеровского лиха, оно, естественно, было страшнее, потому что они не знали, почем фунт лиха сталинского. Иностранцы не отчетливо представляли себе, что есть так называемый «коммунизм», и потом еще долго не могли раскусить его, хотя Сталин, изменив слову, данному им во время войны – не вмешиваться после войны в европейские дела, заглотал Польшу, Румынию, Болгарию, Албанию, Чехословакию и насадил там свои обкомы; хотя Сталин попытался захватить всю Корею, да еще изобразил дело так, будто начали войну в Корее американцы (впрочем, уличить его во вранье мог бы ученик седьмого класса – Сталин, когда врал, недорого брал, но враль он был неискусный); хотя в так называвшихся «странах народной демократии» вешали, расстреливали, сажали; хотя Хрущев залил кровью Венгрию; хотя уже при «Бровеносце в потомках», как народ окрестил Брежнева, советские войска, яко тати в нощи, обманом вторглись в Чехословакию; хотя и после войны советские наемные убийцы продолжали ухлопывать проживавших за рубежом лиц, которых советские власти считали для себя опасными; хотя уже при «Бровеносце» в основе своей все осталось «по-брежнему»: чего стоит, к примеру, упрятыванье нормальных людей в психиатрические лечебницы для того, чтобы медленно сводить их с ума!..
В «Окаянных днях» Бунина есть запись, помеченная девятым февраля 1918 года:
Немцы, слава Богу, продвигаются.
Вряд ли можно упрекнуть Бунина в обожании кайзера Вильгельма. Бунин выбирал наименьшее для России зло.
Тяжела участь русского человека. Положение между молотом и наковальней – не из самых удобных и уютных.
Натерпевшийся от немецких и французских фашистов Бунин в течение второй мировой войны страстно желал победы русскому оружию. Кончилась война, в России генералиссимусу Сталину оставалось только короноваться – мы бы и это ему позволили, да еще и руками восплескали бы, и патриотическое настроение с Бунина сдунуло. 29 марта 1950 года в дарственной надписи Зинаиде Алексеевне Шаховской на «Темных аллеях» Бунин уже иным взглядом окидывает недавнее прошлое:
«Декамерон» написан был во время чумы. «Темные аллеи» в годы Гитлера и Сталина, когда они старались пожрать один другого.
В Москве с продуктами становилось все хуже. Нетрудно было себе представить, что провинция, оскудевшая еще перед войной, начинает пощелкивать зубами.
Девятнадцатого сентября я повез кое-что матери и тетке.
Когда я приехал в Калугу, уже стемнело и я заночевал у знакомых.
Разговоры с соседями в поезде и калужские впечатления убедили меня, что если москвичи еще не совсем пали духом, то у провинциалов руки опустились. Обыватели, по крайней мере, выполняли предписанные им правила, но кто размагнитился совершенно, так это большую и малую власть имевшие.
На другое утро еду в автобусе по перемышльскому шоссе. Примерно на полпути нас останавливает патруль. Отворяется дверца. Кто-то в военной форме заглядывает и задает общий вопрос:
– Граждане! У вас тут у всех документы есть?
– У всех! – хором отвечают пассажиры.
– Ну ладно, поезжайте.
Автобус трогается.
В Перемышле уныние, прослоенное равнодушием: будь» что будет. По слухам, немцы где-то совсем близко, чуть ли не в соседнем Козельском районе. Немецкие радиостанции не без успеха пытаются заглушить наши передачи. Над городом ежевечерне пролетают немецкие самолеты. Летят бомбить аэродром в Грабцеве под Калугой, летят бомбить Москву. Противовоздушной обороны в Перемышле нет. Окна во многих домах освещены, как в мирное время. А ведь город почти прифронтовой.
Я навестил Георгия Авксентьевича. Он был близок к отчаянию. Полный развал. Большинство махнуло рукой, все равно придут немцы. В окнах по вечерам свет. Ночью, несмотря на осадное положение, ходьба по улицам. Никто не останавливает, не проверяет.
– А что же ваше отделение НКВД смотрит? – спросил я. Георгий Авксентьевич ответил со свойственным ему мрачным юмором;
– НКВД только и смотрит: не осталось ли в Перемышле еще какого-нибудь попа ста пятидесяти лет, чтобы его посадить? А до нарушителей правил осадного положения, до шпионов и диверсантов ему никакого дела нет.
Это было наше с ним последнее свидание. В 43-м году в Перемышле стояли наши войска. На город налетели немецкие самолеты. Сердце у Георгия Авксентьевича не выдержало.
Я, сколько мог, старался приободрить родных и знакомых. Я не играл роли «утешителя». Рассудок у меня как будто выключился в первый же день войны. Рассудку вопреки, наперекор сообщению, которое я услышал по радио в Перемышле, что советские войска оставили Киев, я продолжал верить в победу Америки, Англии и России.
В доводах разума я не нуждался: мною владело чувство, которому я сейчас не могу подыскать определение. Но чтобы подвести под мои воздушные замки фундамент, я приводил изверившимся довод, который представлялся мне наиболее веским: американцы и англичане – народы расчетливые, вкладывать капитал в заведомо проигрышное дело они бы не стали.
Нелегко мне было расставаться с родными. Угнетающе действовало мрачное безразличие моих земляков, а кое у кого даже не слишком глубоко запрятанная радость ожидания новых хозяев. Бесило бездействие властей, еще так недавно проявлявших неутомимость и неустрашимость в войне со своим мирным населением.
Мать поехала проводить меня до Калуги. Зашли к знакомым. Только собрались на вокзал – «Граждане! Воздушная тревога!» После отбоя пошли пешком через всю Калугу. Посадка на московский поезд производилась тогда не в Калуге, а на узловой станции Тихонова Пустынь. Надо было добраться до нее на «кукушке». Пока мы дошли до вокзала, передаточный поезд ушел. Значит, дуй по шпалам до Муратовки – оттуда еще должен идти последний поезд до Тихоновой Пустыни. Железная дорога никем не охранялась. В Муратовке мы сели в неосвещенный вагон. Проверки никакой. В поезде беспрепятственно мог расположиться вражеский десант.
В Тихоновой Пустыни билет мне выдали. Но тут выяснилось одно обстоятельство: Моссовет только что специальным распоряжением воспретил въезд в Москву всем оттуда выехавшим; при посадке документы проверяет милиция. Вот тебе и фунт с походом!.. Подведут меня под категорию эвакуантов, и тогда путь в Москву мне снова заказан.
Правда, я на всякий случай запасся командировочным удостоверением из редакции «Интернациональная литература». Но как бы милиция не сочла ее «липой»: нет, дескать, брат, шалишь, ты эвакуировался не с учреждением, а самочинно, теперь почему-то решил вернуться в Москву, а командировку тебе привезли, прислали, или ты взял ее уезжая, а потом проставил дату. Нашим блюстителям порядка всегда было свойственно привязываться к честным гражданам и прохлопывать мошенников. Поэтому основания для беспокойства у меня были.
Как сквозь мглу дремоты видится мне вокзальчик Тихоновой Пустыни, когда-то уютный, с чистеньким ресторанчиком. От мысли о разлуке с матерью отвлекала гвоздем сидевшая в голове мысль: пропустят ли? И, как и перед началом войны, предощущения долговременного горя я не испытывал.
Простились мы с матерью второпях. У вагонов стояли милиционеры. На меня снизошло вдохновение. Протянув милиционеру паспорт и командировочное удостоверение, я для пущего эффекта храбро прилгнул в конце фразы;
– Я – постоянный сотрудник журнала «Интернациональная литература» при Советском Информбюро.
Название журнала милиционеру ничего не говорило. А вот название учреждения «Советское Информбюро» он слышал несколько раз на дню. От Совинформбюро исходили вести с фронтов, и оно в глазах обывателей приобрело значение, во всяком случае, не менее важное, чем ЦК или Совнарком. Мой расчет на милицейскую психологию оказался верен. Возвратив мне документы, человек, от которого зависела в этот миг моя судьба, не без почтительности проговорил;
– Пожалуйста!
…В Москве все то же; всенощное бдение на крыше или около дома, отсыпание по утрам в уже холодной комнате, где здорово дуло от окна без одного стекла, вылетевшего во время бомбежки, спешный перевод какого-нибудь антифашистского документа, статьи или рассказа для журнала.
Гитлеровские войска даже не шли, а мчались к Москве.
Мне редко когда удавалось предугадать ход политических событий. По большей части, как всякий русский человек, я бывал «крепок задним умом». Но в начале октября 1941 года я оказался провидцем. Я ничего не анализировал, ничего не взвешивал. Под моей прозорливостью была зыбкая почва все того же не поддающегося определению чувства.
Учреждения одно за другим эвакуируются. Мальчишки на улицах громко пародируют сводки;
– От Советского Информбюро; наши войска оставили все города!
Попы – свое, а дьячок – свое.
– Нет, Гитлеру Москвы не взять, – точно молотком отстукивал я. – Здесь-то, под Москвой, и «таится погибель его».
Еще живы люди, которые помнят эти мои слова.
По возвращении из Перемышля я вместе с другими членами Группкома литераторов при Гослитиздкте, куда меня приняли после снятия судимости, стал ранними вечерами и в воскресные дни ходить на занятия Всевобуча (Всеобщего военного обучения). Нас заставляли маршировать по переулкам, обучали шагистике, в какой-то школе, недалеко от Чистых Прудов, объясняли, как надо обращаться с винтовкой. Это напоминало этюды на экзаменах в театральную школу, ибо даже плохенькой, снятой с вооружения винтовки у нашего преподавателя не было, и он нам показывал жестами, мы должны были повторять его жесты, а устройство винтовки он демонстрировал на чертежах.
Итак, иногда – вместе с директором Гослитиздата Чагиным, мы ходим церемониальным маршем, делаем «Пиф-паф!», а слухи-то все страшнее!..
Из окружения под Вязьмой насилу вырвался ополченец Николай Николаевич Вильям-Вильмонт и появился в редакции «Интернациональной литературы». Я спросил его, как на фронте. Он ответил уклончиво:
– На моем участке мне не понравилось.
15 октября ответственный редактор журнала Тимофей Адольфович Рокотов собрал штатных сотрудников журнала и так называемый «актив» и сообщил, что редакция вместе с Гослитиздатом, который выпускал этот журнал, семнадцатого или восемнадцатого эвакуируется в Красноуфимск. Завтра к девяти часам утра все мужчины обязаны явиться сюда для упаковки редакционного имущества.
Мое положение усложнялось тем, что 12 октября у меня родилась дочь. (Родилась она вечером, и ее вместе с матерью тут же спустили в бомбоубежище, устроенное в подвале родильного дома.) Я позвонил жене. Мы сошлись на том, что эвакуироваться необходимо, как ни велик риск – девочку можем и не довезти. Ждать больше нечего. Москва накануне сдачи – теперь это уже яснее ясного. Моя жена была штатным сотрудником редакции. Значит, эвакуироваться она могла только с ней. Я не был членом Союза писателей, и никаких эвакуационных возможностей мне не представлялось.
Немного погодя я еще раз позвонил ей. Она сказала, что из родильного дома ее выпишут, только если я дам подписку, что ответственность за жизнь матери и ребенка беру на себя.
Я согласился.
15-го вечером я наскоро, как попало, упаковал то, что считал необходимым взять с собой, среди прочего – несколько особенно любимых книг.
16-го проснулся рано.
Голос диктора сорвал меня с кровати. В сознании, в памяти осталось только вот это: положение на фронте ухудшилось.
Диктор делает особенно сильное ударение на последнем слове.
…Я все-таки пошел в редакцию.
От вида московских улиц у меня перед глазами завертелись багровые круги.
По Садовой со стороны Кудринской площади и по Тверской к центру движется толпа с узлами и рюкзаками. Идут люди разного возраста. Среди них ни одного простолюдина. Идут две довольно нарядно одетые девочки. Взрослых около них не видно. У старшей, подростка, в одной руке электрический чайник, другой рукой она ведет свою, по-видимому, младшую сестренку, у которой в другой руке кукла не намного меньше ее ростом. Вал накатывается на вал этого безмолвного прибоя. Во всех глазах ужас, переполняющий человека, которого настигает погоня.
А по тротуарам гуляющей походкой идет простонародье, весело переговаривающееся и поглядывающее на безмолвную толпу.
Я толкнулся на станцию метро «Маяковская» – заперто. Попер пешком до Кузнецкого моста.
Прихожу в редакцию. Кроме буфетчицы, поперек себя толще, Матрены Денисовны и сторожа – ни одной души. На столах – папки, вороха бумаг… Ничего не понимаю… Пробую дозвониться до Гослитиздата – ни один телефон не отвечает. Зато часто звонят по разным телефонам в редакцию: не сегодня ли эвакуация, а если сегодня, то где и когда сбор. Я – в положении камер-лакея Федора из «Дней Турбиных».
Снова – звонок:
– Коля?
– Лена? Какими судьбами?
Это моя приятельница – корректор Гослитиздата. Вчера мы с ней расставались, думая, что навсегда. Ее посылали рыть окопы под Москвой. Только от отчаяния можно было отправлять таких кисейных барышень, как она, отроду не державших лопаты в руках, на рытье окопов. Она знала, что сегодня я должен упаковывать редакционные вещи, и позвонила в редакцию.
– Нас распустили по домам.
Входят с растерянными лицами внештатные переводчицы на французский язык, сотрудничавшие в журнале «Litterature Internationale» Макотинская и Амром, которых обещала взять с собой в эшелон ответственный редактор этого журнала Стасова. Поняв, что их бросили, они сейчас же ушли, расцеловавшись со мной, хотя мы были едва знакомы.
Неожиданно появился с рюкзаком за плечами заместитель председателя Иностранной комиссии Союза писателей Михаил Яковлевич Аплетин, по долгу службы, а равно и по склонности своей натуры связанный с НКВД.
Я спросил его:
– Михаил Яковлевич! Что же это значит?
– Дела плохи…
– А как же с нашей эвакуацией?
– Эшелон с Гослитиздатом ушел ночью.
Он порылся у себя в столе, что-то сунул в карман, двинулся к выходу, вдруг обернулся к подошедшему позднее меня одному внештатному сотруднику журнала, к Матрене Денисовне, к сторожу и ко мне, стал в позитуру и, помахав рукой, голосом провинциального трагика произнес:
– До свидания, товарищи! Мы еще вернемся!..
Никто ему не ответил.
…Реэвакуировавшись» Аплетин при уличных встречах не смотрел в мою сторону.
…Я позвонил жене, постарался в юмористических тонах изобразить происшедшее. Значит, мол, эвакуироваться нам не судьба. Я пообещал завтра как можно раньше зайти за ней и новорожденной дочерью.
Итак, руководители учреждений, коммунисты бежали ночью. А нас предали. Редакции журналов «Интернациональная литература» на русском, французском, немецком и английском языках, равно как и Иностранная комиссия Союза писателей, засекречивали чуть что не вчерашний номер «Правды». Все наши «личные дела» были спрятаны за семью замками. А теперь эти «личные дела» с нашими адресами и телефонами валяются на столах. Пожалуйста, господа гестаповцы, читайте и идите по указанным адресам. Это сильно облегчит вам поиски людей, так или иначе подвизавшихся на антифашистском фронте. Старая большевичка, Ильичева соратница, бывший секретарь ЦК Елена Дмитриевна Стасова, бросив на произвол судьбы двух евреек, бежала ночью. У одной из них – Амром – муж сидит в гитлеровском лагере, а может быть, уже умерщвлен. Кстати сказать, дочь Макотинской сидела в советском лагере. Что будет с этими женщинами, когда немцы придут в Москву?..
Мы сожгли все наши личные дела, книжку с адресами и телефонами и разошлись.
Улицы не изменились.
На Неглинной я встретил Левика. Только мы с ним перемолвились двумя словами, громкоговоритель несколько раз прорычал о том, что, – если память мне не изменяет, – в четыре часа дня выступит по радио товарищ Пронин (тогдашний председатель Моссовета).
– Ну, это конец, – решили мы с Левиком. В тот день я, не ощущая усталости, бродил по Москве, заглядывал в магазины. Всюду шли толки о том, что директора таких-то фабрик и заводов, не рассчитавшись с рабочими, хапнули денежки, набили чемоданы барахлом и на казенных машинах драпанули. Рабочие перехватывали их на Ярославском шоссе, по которому они катили, и реквизировали свою зарплату. И теперь я уже слышал другие слова, произносившиеся московским простонародьем; «Будь что будет!» сменилось словосочетанием: «Хуже не будет!»
Я думал иначе:
«Кто знает? Может быть, и хуже. Но советского кошмара уже нет. И потому так легко дышится. Так вольно, как я не дышал ни одного часа с той поры моего детства, когда я стал задыхаться в газовой камере, куда заключили всю Россию предшественники и учителя германских “национал-социалистов”».
…Через год мне признался Сергей Михайлович Бонди, что он тоже 16 октября 1941 года ходил весь день по Москве и с точно такими же мыслями.
…На Большой Садовой, по правую руку, если идти по направлению к Кудринской площади, стоят однотипные, предвоенной стройки дома, в те времена населенные лицами более или менее высокопоставленными, преимущественно наркомвнудельцами. Возвращаясь домой, – я жил в доме за нынешней гостиницей «Пекин», – я увидел, что у одного из «наркомвнудельских» домов, ближе к Владимиро-Долгоруковской улице (она же «Живодерка», она же улица Красина), теснясь, вскарабкиваются с вещами на грузовик наркомвнудельцы в форме. Пыталась влезть и женщина, вернее всего – жена одного из их сослуживцев, находившегося почему-либо в отлучке. Ее не пускали – она проявляла отчаянную настойчивость. Один из наркомвнудельцев пнул ее ногой. Грузовик тронулся…
Пронин выступил по радио, но, сколько помню, не в указанный час и не на всеми ожидавшуюся тему. Кажется, он молол что-то о поддержании порядка и о снабжении.
На следующее утро я поспешил на Большую Молчановку за женой и ребенком – боялся, что могут нас отрезать уличные бои.
На Арбатской площади я услышал по радио выступление секретаря Московского комитета партии Щербакова – более пространное, нежели выступление Пронина, и несколько более вразумительное. Можно было предположить, что у немцев что-то застопорилось и что Москву если и сдадут, то, во всяком случае, не сегодня.
Сидеть дома и плевать в потолок мне было невтерпёж. На другой день я пошел в Союз писателей, на Поварскую. Фадеев еще до всеобщего драпа оставил Союз на критика Кирпотина. Кирпотин удрал в ночь с 15-го на 16-е. По коридору слоняются не эвакуировавшиеся летом писатели, пытаются узнать, нет ли хоть какой-нибудь возможности эвакуироваться.
Наконец бразды правления добровольно принял на себя драматург Анатолий Глебов. Своей подтянутостью, деловитостью он напоминал военкома времен гражданской войны. Сходство довершала его тужурка.
Он взял на себя переговоры с начальниками вокзалов об устройстве желавших эвакуироваться писателей в эшелоны. Вокруг него образовалась эвакуационная комиссия, которую он возглавил.
Мне хотелось хоть как-то и кому-то быть полезным. Я спросил Глебова, имею ли я право войти в комиссию, поскольку я не член Союза, и нужен ли я ему. Он ответил, что дел выше головы, что он каждому помощнику рад, член же Союза или Группкома – это не имеет значения. А дела вот какие: «обзвон» вокзалов – куда и в какое время отправляется завтра эшелон, уговоры оставить места для писателей, ответы на вопросы приходящих писателей и на их телефонные звонки, «обзвон» писателей с целью информации: эшелон завтра отходит тогда-то и туда-то, брать с собой еды на столько-то суток, или же с вопросом: желает ли такой-то писатель эвакуироваться, ибо он может и не знать, что усилиями рядовых членов Союза эвакуация хоть как-то да налаживается.
Каждый вечер комиссия собиралась для обсуждения накопившихся за день вопросов.
На одном заседании мы стали просматривать список находившихся по нашим сведениям в Москве и еще не эвакуировавшихся писателей, к которым мы до сих пор не смогли дозвониться. В их числе оказался Вильям-Вильмонт.
– Ну вот с Вильям-Вильмонтом я уж и не знаю, как быть, стоит ли до него дозваниваться, – смущенно проговорил член комиссии переводчик Шифере.
– А что?
– Да он сегодня пришел сюда, начал меня расспрашивать, на какие эшелоны мы устраиваем писателей, но тут какая-то женщина, – жена его, что ли? – перебила нас: «Коля, чего ты с ними разговариваешь? Пошли ты их к… матери. В Союзе писателей как был бардак, так бардак и остался».
И тут впервые за эти страшные дни члены комиссии залились хохотом.
Отсмеявшись, они стали спрашивать друг друга, кто же она такая, откуда Вильмонт ее взял.
Точную справку дал я:
– Это великолепная переводчица с немецкого Наталия Ман. Наверно, вы успели прочесть в этом году в «Интернациональной литературе» роман Томаса Манна в ее переводе «Лотта в Веймаре»?
Новый, еще более громкий взрыв хохота потряс стены приемной Секретариата Союза писателей.
Иной раз я оставался ночевать в Союзе и, накрывшись пальто, располагался на кожаном диване в кабинете Фадеева.
Встретил я в Союзе Евгения Львовича Ланна. Он посмотрел на меня изумленными глазами.
– Как? Вы собираетесь эвакуироваться?
– Нет, я помогаю другим. Нас бросили. У нас грудной ребенок. Ехать с учреждением – это одно дело, а другое – с чужими людьми и совсем уж не известно на что. На верную гибель.
– Ну то-то же! Если б не моя еврейская морда, я бы ни за что не поехал опять в лапы к этой сволочи.
Как-то к нам пришел Дмитрий Александрович Горбов. Он был в добрых отношениях с Новиковым-Прибоем. Тот ему сказал, что карта Сталина бита – по заслугам и честь. Эвакуироваться нет смысла. Немецкие войска сделали рывок, стремительно покрыли огромное пространство. Теперь Браухич подтягивает силы. Москву сдадут без боя, подпишут капитуляцию, как во Франции. Здесь еще есть шанс уцелеть, а только Москва падет, среднеазиаты отложатся от России и перережут все русские «драпунские» полки, без различия пола и возраста, как партийных, так равно и беспартийных. Дома и стены помогают.
По московским улицам летал пепел, пахло жженой бумагой: это в учреждениях жгли документы, в квартирах – партийные и комсомольские билеты, сочинения и портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина.
Алексей Карпович Дживелегов вынес во двор, на свалку бюст Данте, который он нечаянно расколотил, очищая свою библиотеку от марксистско-ленинского хлама. На свалке он обнаружил кем-то выброшенные бюсты Маркса и Ленина. «Нет, Данте, даже с разбитым черепом и отбитым носом, этим господам не компания», – подумал «Карпыч» и снова поставил увечного Данте в своем кабинете.
Из сводок Информбюро явствовало, что немцы остановились, что взять Москву с ходу они или не решились или не смогли. Разговоры о сепаратном мире затихли. Ранним утром мы отворяли форточку. Со стороны Ленинградского шоссе некоторое время до нас доносилась артиллерийская стрельба.
…кто тут нам помог? Остервенение народа, Барклай, зима иль русский Бог?Народ тогда еще не остервенился (остервенится он позднее: когда воочию увидит зверства гитлеровцев и когда его охватит порыв скорей-скорей победить – и по домам!). Тогда еще в иных деревнях хлебнувшие колхозного горя крестьяне встречали гостей беззлобно. Вот ранние морозы помогли, да еще как: немецкий синтетический бензин оказался «слаб на холоду», и немецкая военная техника застряла. А главное, конечно, русский Бог. Это Он помог русским, главным образом – русским крестьянам, в 1812 году освободить Европу, но в России крепостное право некоторое время еще оставалось. Это русский Бог внушил Японии соблюдать нейтралитет, Гитлеру же велел остановить свои войска под Тулой, когда оттуда вывозили зенитную артиллерию, и под охваченной паническим ужасом Москвой, которую в октябре можно было брать голыми руками, а между тем, воспользовавшись медлительностью немцев и нейтралитетом Японии, советское командование успело двинуть в бой сибирские дивизии. Отгон немцев от Москвы действительно развеял миф о непобедимости гитлеровской армии, и эта победа, пока еще в большей степени моральная, чем военная» внесла значительную лепту в победу окончательную. И это русский Бог помог русским, главным образом – русским крестьянам, в 41–45 гг. освободить Европу, но в России Сталин некоторое время еще оставался. А ленинизм-сталинизм все еще остается. Русский Бог даст – пока…
2
Гласом моим ко Господу воззвах, гласом моим ко Господу помол ихся. Пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу.
Псалтирь, 141, 1 – 2 Всю ты жизнь прожила для других. Некрасов Я пью за разоренный дом. Анна Ахматова Неистощима только синева Небесная и милосердье Бога. Анна АхматоваНемцев от Москвы отогнали, но не ахти как далеко. И тотчас появились первые предвестия ожидавшего нас впереди. В газетах хвастовство. На одном из развешанных по улицам плакатов» подписи к которым строчил в убогих стишках какой-то Коган, было напечатано крупными буквами заглавие: «Загнали за Можай». Это можно было принять за насмешку. А Черчилль по-прежнему говорил своему народу, что путь к победе далек и многотруден. Ну, если мы, прогнав немцев за Можайск, уже разбахвалились, то какие фимиамы вознесутся Сталину после победы!
…Начало января 1942 года. К нам в квартиру звонок. Жена пошла отворять. Я сразу узнал по голосу бывшего ученика моей матери, Витю Кузелева, недавно поступившего в Институт философии, литературы и истории (ИФЛИ), не пожелавшего эвакуироваться с институтом и уехавшего к родителям в Перемышль… Да, но почему он задержался в передней и не идет в комнату? И о чем они там двое говорят полушепотом?.. Сразу упало, а потом ой как нехорошо забилось сердце!.. Но вот они вошли…
Мою мать арестовали «освободители», Арестовали по одному-единственному доносу, доносу бывшего ее ученика Владимира Прозоровского, сына упоминавшегося мною в главе «Окна на улицу»[74] жулика с то изымавшимся у него, то возвращавшимся партбилетом, дважды сидевшего в тюрьме за кражу Федьки Прозоровского, которому во время «головокружения» от колхозных «успехов» бабы наложили снегу в штаны.
Единственный случай в многолетней педагогической практике моей матери: несколько лет назад она, как классная руководительница, настояла на исключении из школы Владимира Прозоровского за злостное хулиганство, – жалобы его родителей в высшие инстанции не помогли. Обоснование ареста моей матери: сношения с представителями враждебной державы.
На службу в учрежденную при немцах управу в качестве штатной переводчицы моя мать не пошла, хотя и нуждалась, хотя за отказ от работы немцы грозили карами. Мать отговорилась тем, что у нее на руках больная сестра. (Когда я приезжал в сентябре прошлого года в Перемышль, она перемогалась, а вскоре после моего отъезда слегла и больше уже не встала.) В сношения с немцами моя мать действительно, неожиданно для нее самой, вступила, а затем поддерживала их, но с определенной целью, и этой своей единственной цели она достигла: спасла от расстрела более двадцати человек, преимущественно – партийцев и общественных деятелей, просила, чтобы немцы не сводили со двора то у перемышлянина, то у подгороднего мужика последнюю коровенку, иначе их дети погибнут с голоду.
Мою мать угнали вместе с другими арестованными. Собраться ей не дали – она ушла в подбитой ветром кофтенке. Старая прислуга Анны Николаевны Брейтфус Авдотья понесла ей за две версты в деревню Горки, где некоторое время держали арестованных, теплые вещи. Конвой отказался что-либо передать. А морозы трещали.
Из Горок арестованных погнали по пути нашего наступления, к Смоленской области.
Вот и все, что знал Кузелев.
В бессонные ночи мне мерещилось одно и то же: ночь, снег, сосны, мою мать вместе с другими перемышлянами ведут на расстрел.
Я думал о том, что моя мать и в условиях оккупации осталась верна себе.
В 18-м году, во время противобольшевистского крестьянского бунта, она, рискуя своей и моей жизнью, спасла жизнь почти ей незнакомому председателю Исполкома, члену глубоко чуждой ей большевистской партии – Васильеву. В ежовщину, рискуя тем, что ее в любую минуту схватят, навещала семьи арестованных, на допросах защищала свою арестованную сослуживицу, выступала свидетельницей со стороны защиты на суде над нею. При немцах спасла жизнь многим, преимущественно членам той партии, которую она уже давно ненавидела. Вспомнились мне слова, которые она сказала в 38-м году на Киевском вокзале, узнав от меня об аресте еще одного нашего друга:
– Как же жить?.. Нет, есть путь и в этой жизни, но только один: ничего не пожалеть, даже жизни, ради страждущих близких. Помнишь, как в Евангелии сказано: «Больше сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя»?
И недаром моя мать часто повторяла слова Христа, что Он есть путь, истина и жизнь. С этого пути она не сошла до конца дней.
…Прояснялось все постепенно. Я получил письмо из Перемышля от своей школьной подруги. Матери дали десять лет. Но где она – неизвестно.
Тетя Саша вскоре после того, как увели мою мать, скончалась. Ухаживали за ней, умирающей, две крестьянки: Натальюшка Малова и крестьянка из той же деревни, что и Натальюшка (из Хохловки), Прасковья Васильевна Сальникова, когда-то бывшая в прислугах у о. Николая Панова и, как и Маловы, в еще предреволюционные времена ставшая другом нашей семьи.
Обряжая покойницу, Прасковья Васильевна сняла с шеи моей тетки золотой крестильный крестик. Летом 45-го года в Перемышль из Новинки ездила моя тетка Софья Михайловна, встретилась с Прасковьей Васильевной, и та отдала ей крестик с просьбой передать мне. Крестик этот цел – я подарил его моей старшей дочери на память о тете Саше и на память о Прасковье Васильевне, голодавшей и холодавшей во время войны, но не выменявшей крестик ни на хлеб, ни на дровишки, сберегавшей его для меня, хотя она даже не знала, жив я или убит.
Когда мою мать выпустили на свободу и она поселилась в Калуге, у нее завязалась и длилась частая переписка с Прасковьей Васильевной, пока та не умерла. Прасковья Васильевна несколько раз приезжала в Калугу, чтобы повидаться с моей матерью. Когда моя мать ездила из Калуги в Перемышль, то побывала только на кладбище, остановилась же в Хохловке, в избе у Федора Дмитриевича и Натальюшки.
В декабре 51-го года мы с матерью свиделись после разлуки, и она несколько дней рассказывала мне повесть временных лет. Ее «показания» сошлись с «показаниями» перемышлян, которых я видел после войны.
Начало октября 41-го года. В Перемышле только и разговору, что немцы близко. Мать пошла в РОНО – узнать, не пора ли эвакуироваться и каким способом. Ей нужна подвода. Она согласна идти пешком» но ее сестра – лежачая больная. Ответ;
– Не поддавайтесь панике.
А на другой день «поддалась панике» вся райкомовско-райисполкомовско-наркомвнудельская рать во главе с первым секретарем Райкома партии Крахинским и его супругой и дала деру.
А еще через день Перемышль без единого выстрела заняли немцы.
Советская пресса и советская по духу литература мажут все и всех одной краской. Рембрандтовской светотени они не признают. В свое время мазали одной только черной краской Романовых, так мазали белогвардейцев, так мазали и мажут немецкую армию. Само собой разумеется, среди белогвардейцев, преимущественно – среди контрразведчиков, попадались и садисты» и кокаинисты» и развратники» и карьеристы, и трусы» Но ведь были же Турбины и Студзинские, были Корниловы и Шульгины, и притом в немалом количестве. Из немцев, – преимущественно из эсэсовцев и гестаповцев» – карателей и истязателей, душителей и грабителей и просто мерзавцев» наверное, набралось бы целое войско. Турбиных и Студзинских среди них не было, да их и не могло быть там. Идея Турбиных и Студзинских – идея светлая, белая» идея нацистов – даже не коричневая» а черным-черная. Но я не могу вообразить» чтобы все немецкие солдаты и офицеры были извергами и мародерами. Сколько среди них было» конечно, хороших и самых обыкновенных, мирных крестьян» рабочих, служащих, угодивших в котел войны» как куры во щи» оторванных от семей гитлеровскими «райвоенкоматами»!
Ведь и в Советской Армии были и стукачи, и палачи, и насильники, и грабители. Но в этой же армии были и прекрасные люди, и просто хорошие, и самые что ни на есть заурядные, но ничего худого за границей не делавшие и не корыстовавшиеся на чужое добро.
В Перемышле на земляков сразу по приходе немцев посыпались доносы – такое уж мы получили благородное воспитание. Особенно усердствовал некто Аудор. И когда выяснилось с помощью моей матери, что он клевещет, немцы его расстреляли.
Брат доктора Добромыслова, Павел Николаевич, сказал мне:
– Тем, что в Перемышле почти не было смертных казней при немцах. Перемышль всецело обязан Елене Михайловне.
Когда, в начале 45-го года, мою мать судили вторично в Калуге, по пересмотру ее дела, добровольная свидетельница со стороны защиты» бывшая ее сослуживица» преподавательница биологии в Перемышльской средней школе Надежда Алексеевна Будилина (жена Григория Владимировича), закончив показания, неожиданно для трибунала, так что ее не успели оборвать, обернулась к моей матери и сказала:
– Не падайте духом, Елена Михайловна! Все честные люди в Перемышле на вашей стороне.
Кроме Аудора, немцы расстреляли в первые дни своего пребывания стукача Федора Слонковского, упрятавшего в лагеря нескольких своих товарищей, исчезнувшего из Перемышля и вдруг почему-то при немцах откуда-то вынырнувшего, и – по чьему-то оговору – Михаила Левашкевича, старшего брата моего школьного товарища Семена. Моей матери никто не сообщил о том, что Михаила Харитоновича Левашкевича повели в комендатуру, – иначе она вступилась бы и за него.
С чего началась деятельность моей матери при немцах?
Дверь в ее квартиру распахивается, вбегает девочка – и бух ей в ноги:
– Елена Михайловна! Спасите папочку! Его арестовали – он сейчас в комендатуре…
Это была дочь члена партии, бывшего маминого ученика, потом сослуживца Михаила Николаевича Юдина.
Мать бегом в комендатуру. Тут-то она и познакомилась с самим комендантом, расположила его в свою пользу и поручилась за Юдина.
Немного погодя стук к ней в дверь… Миша Юдин с дочерью. У обоих радостные слезы градом… Бух моей матери в ноги…
Моя мать не скрывала от коменданта, что коммунистов ей любить не за что, что коммунисты разрушили почти все, что ей было дорого, погубили ее лучших друзей, в том числе – евреев. Она говорила правду, и, не скажи она этой правды, ее заступничество не было бы авторитетным. Немцы могли бы подумать, что она покрывает своих единомышленников. Аудор оклеветал более двадцати членов партии. Мать доказывала в комендатуре, что эти люди, формально принадлежавшие к партии, к которой она нежных и благодарных чувств не питает, никому зла не делали. И это тоже была истинная правда. Среди же населения она агитации против Советской власти и «за немцев» не вела – хотя бы по той причине, что она ничего светлого от Гитлера не ожидала. Она видела одно: комендант человек не злой, с ним можно договориться, он не хочет проливать невинную кровь, пресекает мародерство, но симпатию к нему на немецкую армию в целом и уж, во всяком случае, на национал-социалистическое правительство она не переносила, тем более что она, как и многие из нас, весьма смутно представляла себе его программу. Попробуй пойми что-нибудь из наших газет, где – то так, то сяк, то накосяк! Ведь пакт о дружбе с Гитлером был у всех еще свеж в памяти. Нас слишком часто пугали волками, и когда пришел волк всамделишный, мы, уставшие пугаться, испугались не так, как следовало бы испугаться. Осенью 41-го года оставшийся в Москве известный знаток старинной книги, еврей, «дядя Додя», как его называли друзья, Айзенштадт говорил мне:
– Я в россказни о немецких зверствах не верю.
Как бы он поплатился за свое неверие, если бы немцы пришли в Москву! А виновата в неверии Айзенштадтов была советская лживая пропаганда. О Бабьих Ярах, Бухенвальдах и Освенцимах мы узнали много позднее.
Словом, население нуждалось в многообразном заступничестве, моя мать никому не отказывала в просьбах и – чуть что, шла ли речь о человеке, о куренке или поросенке – обращалась в комендатуру. Вот и вся ее деятельность. Коллаборационизм коллаборационизму рознь.
В Перемышле статистика говорит не в пользу «освободителей». «Освободители», ворвавшись в город, бросились в дом столяра Михаила Николаевича Леонова, честного труженика, вывели его на площадь и расстреляли.
Леонов отказывался, когда жители на общем собрании взмолились к нему, чтобы он принял на себя обязанности старосты.
Выбор населения пал на Леонова не случайно – он снискал всеобщее уважение. При немцах он ни на кого не донес, ни с кем не сводил счетов, он только, как мог, защищал интересы населения, улаживал конфликты. За это над ним был учинен самосуд.
Потом начались повальные аресты. Были арестованы не только «полицаи», не только служащие управы, но и члены партии, за которых вступилась моя мать и которых не тронули немцы, – как смели они, пожилые, больные, со стариками родителями и малыми детьми, в последнюю минуту не побежать пешком, меж тем как партийная знать укатывала на машинах? Были арестованы служившие в разных учреждениях писцами, только чтобы хоть что-нибудь заработать. Был арестован и вскоре умер где-то в лагере или в пересыльной тюрьме старый учитель Владимир Федорович Большаков. Арестовали его по двум причинам: во-первых, он организовал церковный хор, но хор этот ни разу не пел, потому что Никольскую церковь, единственную в Перемышле, которую можно было привести в порядок, не успели открыть до «освобождения» Перемышля, а некоторое время спустя советский Ксеркс, о коем я упоминал в начале книги, по фамилии Замулаев, велел древнюю церковь взорвать; во-вторых, Большаков по просьбе населения собрался – но тоже не успел – открыть школу.
Достоевский в записной книжке 1874 – 75 гг. восклицает: «К черту республику, если она деспотизм!» Что бы сказал Достоевский о Союзе Советских Социалистических Республик, если бы узнал, что советские «республиканцы» арестовали старика, отдавшего всю свою жизнь труду на «ниве просвещения», только за то, что этот старик возглавил при немцах церковный хор и провел несколько спевок?..
…Когда я задал вопрос одному перемышлянину: виновата ли хоть в чем-нибудь моя мать, он ответил:
– Ни в чем. В другой стране ей дали бы орден. Ну, а вот советские следователи рассуждали по-иному.
Я не могу не отдать должное тому, кто вел следствие по делу моей матери, и судившему ее военному трибуналу войск НКВД Московского округа.
В городах и селах, отвоеванных у немцев в первые месяцы войны, расправа над теми, кто так или иначе был связан с немцами, чинилась гораздо более свирепая, чем там, где немцы владычествовали несколько лет, и это понятно. В средней полосе России НКВД впервые столкнулся с разнообразными формами такой связи и обрушился на связавшихся всей своей тяжестью. Пересажать пол-Киева или пол-Минска было невозможно. А чтобы похватать служивших в каких-либо учреждениях при немцах в Перемышлях и Тарусах с их малочисленным населением или даже в Калуге, где люди могли отсидеться, просуществовать на то, что они припасли, или обменивая вещи на продукты, где перед многими не успел встать вопрос: голодная смерть или работа в школе, в больнице, в госпитале, требовалось немного времени. Жестокость расправы объяснялась также намерением устрашить еще не отвоеванные города и села: туда, конечно, доползут слухи, как советские войска разделываются за связь с немцами, авось, другим будет неповадно. Суд над схваченными в первые дни творился скорый, в непосредственной близости фронта, по пути следования советских войск.
И все-таки следственные органы и трибунал, не вникнув в дело моей матери, не поняв до конца, кто перед ними, не поняв ее намерений, – иначе они не были бы энкавэдэшниками, – не рубнули сплеча.
Мою мать очень скоро отделили от сотрудников управы и от «полицаев», держали ее в особом помещении, а потом выделили ее дело. Следователь сжалился над ней и посадил ее к себе в сани. И вот тут у них началась дискуссия.
Моя мать спрашивала следователя: в чем ее вина? Кто из-за нее пострадал? Ведь она только и делала, что спасала русских людей от смертной казни и просила вернуть им коров, овец, кур.
На это следователь возразил ей, что вот именно в этом ее вина и состоит. Пусть бы немцы побольше расстреливали и побольше отнимали у населения скота, живности и прочего – тогда население ожесточилось бы, а моя мать способствовала «умиротворению».
Я вспомнил об этом споре в 55-м году, когда читал в «Правде» от 27 июля выступление президента США Эйзенхауэра по радио после Женевского соглашения глав правительств четырех держав (Англии, США, СССР и Франции). Эйзенхауэр говорил о «пропасти, отделяющей до сего времени Восток и Запад, пропасти, настолько широкой и глубокой, насколько широки и глубоки различия между индивидуальной свободой и регламентацией, широкой и глубокой, как пропасть, отделяющая идею человека, созданного по образу и подобию Бога, и идею человека, являющегося простым орудием государства».
24 декабря 1941 года военный трибунал осудил Елену Михайловну Любимову не за измену Родине, как других перемышлян, арестованных одновременно с нею, а за сношения с представителями враждебного государства, отчего и приговор был вынесен по тому времени и по той обстановке мягкий: ее приговорили, как в 37-м году Петра Михайловича Лебедева за «антисоветскую агитацию», к 10 годам лишения свободы.
Суд происходил в деревне Юхновского района Смоленской области. Когда мою мать привели после суда под конвоем в избу, бабы, узнав о приговоре, прослезились от радости:
– Голубушка! Это тебе такое счастье… Благодари Бога… Тебе одной жизнь оставили… А то ведь только и слышишь: расстрел да расстрел.
Они имели в виду, главным образом, сельских старост.
Мой земляк прав: в любой стране, освобожденной от немцев англичанами или американцами, моя мать получила бы награду. Но трибунал войск НКВД Московского округа, по крайней мере, отделил мою мать от тех, кто пошел служить в учреждения, созданные немцами, кто поступил в полицию.
Кто же они такие, за редким и случайным исключением?
Это были, главным образом, те, что с весны 38-го по весну 39-го года протомились безвинно в Калужской тюрьме, над кем издевались сотрудники Перемышльского районного отделения НКВД, кого они пытали, кого, как, например, Федора Прокуратова, продержав несколько дней в темной камере, выводили на яркий солнечный свет (это была еще одна из самых слабых мер воздействия), и кто имел счастье досидеть до конца ежовщины и кого выпустили без суда или после суда.
Благодать христианского всепрощения дается не всем. Этими людьми руководило чувство мести. После пережитого они считали своими не русских мастеров заплечных дел, а немцев, ставивших перед собой, среди других целей, цель свергнуть власть этих мастеров. Что у Гитлера его заплечных дел мастера тоже в чести и у власти – об этом они тогда еще не имели понятия.
Задумывались ли мы над тем, почему так много самого разного люда, – вовсе не одни только «бывшие», – оказалось после Октябрьской революции на чужбине? Во Франции образовалось не «болото эмигрантщины», как с чужих голосов попугайничали мы, а целое русское государство. Какое там скопилось обилие умов и талантов!
Задумывались ли мы над тем, почему за границей очутились не только монархист-прогрессист Шульгин, не только октябрист Гучков, но и кадет Милюков, эсеры Чернов и Савинков, участвовавший в убийстве великого князя Сергея Александровича, меньшевик Дан, тенор Смирнов, Шаляпин, Рахманинов, Вертинский, знаменитые мастера балета, Константин Коровин, Бенуа, Добужинский, Репин, Сомов, Малявин, артисты Художественного театра Массалитинов и Чехов, Балиев со своим театром «Летучая мышь», еврейский театр «Габима», адвокат Карабчевский, Мережковский, Гиппиус, Бальмонт, Вячеслав Иванов, философов, Гусев-Оренбургский, Амфитеатров, Бунин, Куприн, Зайцев, Шмелев, Чириков, Наживин, Ремизов, Аверченко, Саша Черный, Тэффи, Дорошевич, Сургучев, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Георгий Адамович, Владислав Ходасевич, шахматист Алехин, Нимцович, Тартаковер, Боголюбов, Рубинштейн? И, кстати, сколькие уцелели благодаря тому, что очутились в эмиграции! Гибели оставшихся в России Флоренского, Вавилова, Гумилева, Чаянова, гибели хотя бы четырех таких умов и дарований Октябрьская революция не стоит. Это цена непомерно высокая даже и для более удачной революции, а у нас, как говорил Георгий Авксентьевич Траубенберг, ' воцарилось «хамо-бандитское» правительство и царит по сей день.
Задумывались ли мы над тем, почему во время так называемой «Великой Отечественной» войны оказалось столько перебежчиков, как ни в одну войну из тех, что вела Русь со времен Рюриковых и кончая царствованием Николая Второго?
Среди сотрудничавших с немцами идейные пораженцы, смотревшие на поражение Советского Союза как на крайнюю и временную меру для избавления России от «хамунистов», составляли меньшинство. Я скидываю со счетов тех человекообразных, которые в детстве мучали животных и которые, придя в возраст, испытывали наслаждение от мучений людей любой национальности и любых убеждений.
Кадры сотрудников с немцами подготовила Советская власть «своею собственной рукой». Подготовила раскулачиванием, подготовила ягодовщиной, подготовила ежовщиной. Люди шли к немцам, движимые чувством мести за свою растоптанную судьбу, те, что по причине своего неблагополучного социального происхождения оставались недоучками, чувством мести за своих родных, раскулаченных, запытанных, расстрелянных, погибших в тюремных больницах, на этапах, на поселении, в лагерях. Кадры сотрудников с немцами подготовила Советская власть тем, что упразднила ветхозаветную заповедь: «Не лжесвидетельствуй». Если можно давать ложные показания в ОГПУ-НКВД, если можно доносить, оговаривать, клеветать, то почему же нельзя писать доносы в немецкие комендатуры и в Гестапо? Тогда было выгодно то, а теперь, наверное, это. Кадры сотрудников с немцами Советская власть подготовила тем, что упразднила ветхозаветную заповедь: «Не убий». Если не считалось за грех расстреливать своих же несчастных и невиновных по чекистским темницам, коль скоро за это платила деньгами и продуктами Чека, то почему же нельзя расстреливать своих в карательных отрядах, коль скоро за это платят немцы? Эти кадры подготовила Советская власть тем, что упразднила еще одну ветхозаветную заповедь, воспрещавшую посягать на имущество ближних. Ну а если можно было раскулачивать, да еще так, что раскулаченное добро прилипало к рукам раскулачивавших, то почему же нельзя производить реквизиции для немцев, коль скоро немцы за это платят и коль скоро представляется случай на этом поживиться? И еще одну заповедь упразднила Советская власть: «Не прелюбодействуй». Если не считалось за грех блудить с красногвардейцами, с чекистами, с гепеушниками, с энкавэдэшниками, с ответработниками, с наркомами, то почему же не поблудить с немецкими солдатами и офицерами, коль скоро те угощают шоколадом и водят в рестораны, кафе и кино? Тут очень легко перефразировать строки из блоковских «Двенадцати»:
С коммунистами блудила, Нынче с немцами пошла.След моей матери затерялся.
…Передо мной фотокарточка – такие заказывают для получения паспорта. На ней снята миловидная пухленькая девушка с по-русски прелестными в своей неправильности чертами лица, в темном платье со стоячим воротничком, отделанном кружевами, – старомодная гимназисточка-старшеклассница. На обороте надпись;
Дорогой, незабываемой, единственной, моей любимой Елене
Михайловне от Лиды.
7 VIII 48 г. Молотовск
Припоминаю…
После суда мою мать привезли в калужскую тюрьму и заперли в нетопленной и необитаемой камере. Постепенно начали прибывать пополнения. В числе новоприбывших оказалась молоденькая девушка. Войдя, она легла ничком на нары и зарыдала. Мать бросилась к ней. Сквозь рыдания девушка выговорила, что ее приговорили к долгосрочным каторжным работам. Не до тонкости искушенная в советской юриспруденции, моя мать из бессвязного рассказа девушки, прерывавшегося всхлипываниями, уяснила, однако, себе, что допущена чудовищная судебная ошибка. Она начала уговаривать девушку немедленно обжаловать приговор. Та заупрямилась – все равно, мол, ничего не выйдет, разве у них правды добьешься? Мать накричала на нее и потребовала, чтобы девушка попросила у коридорной чернил и бумаги. Девушка послушалась. Некоторое время спустя последовал второй суд над нею, и она отделалась сравнительно пустяками. После этого моя мать рассталась с Лидочкой. Как Лидочка через шесть лет разыскала мою мать для того, чтобы послать ей в лагерь под Калугой письмо и карточку, – не помню.
В эпизоде с Лидочкой – вся душа моей матери. Мерзнущая в холодной камере, голодная (она потом говорила мне, что рада была телесным страданиям – они ослабляли нравственные), пережившая ожидание смертного часа, изнывающая в тоске и тревоге о сестре, обо мне, о моей семье, она врывается в жизнь незнакомой девушки и влияет на благотворный поворот в ее судьбе.
…Десять лет моя мать жила в моих мыслях и чувствах, в памяти, в сознании и подсознании. Я думал о ней даже когда думал совсем о другом. Я вызывал в воображении ее черты: пушистый разлет японских бровей над задумчивыми ясными глазами, порой источавшими такую мучительную жалость к людям, что становилось мучительно жаль ее самое.
Вспоминались особенности ее душевного склада. Вспоминалось, что самым любимым ее народным выражением было: «Без Бога не до порога».
Тетя Саша подолгу молилась на ночь перед киотом с теплившейся лампадкой. Мать молилась только в церкви. Имя Божие она постоянно призывала про себя. Молилась она вслух только на кладбище и, называя имена усопших сродников и друзей, всегда поминала «заблудшего раба Божия Сергия» – это она молилась об упокоении души Сергея Есенина.
Вспоминался мне ее дар незаметной заботы о людях, каким были оделены и ее золовки.
Мать любила выписывать понравившиеся ей мысли, строки и целые стихотворения. Так, она выписала из письма Александры Андреевны Толстой к Льву Николаевичу: «Прекрасная, милая, легкая доброта Ваша…» Вот и об ее доброте можно было сказать именно так.
Вспоминались ее слова о творческом начале в любви. Она говорила, что любовь – это искусство, и, как всякое искусство, любовь требует разнообразия форм. Наши с ней отношения не были бы такими неколебимыми, если б она вовремя не поняла, что настала пора, когда мне уже нужна не столько мать, сколько мать-друг…
В раннем возрасте, когда я, заболев, всю ночь горел как в огне, я говорил матери:
– Давай дузья!
Так я просил ее взять меня на колени, поносить по комнате. Когда я возмужал, она с шутливой ласковостью то же самое предложила мне.
Она выписала такие фразы из писем Александры Андреевны Толстой к Льву Николаевичу:
Никогда не имела способности любить с закрытыми глазами… Чем дороже человек, тем яснее, кажется, поражают нас его недостатки, все равно как дорогой больной.
Это «камешек» в мой «огород».
Моя мать, как и я» рано затосковала о прошлом. (Вообще у нас с ней много общих черт, склонностей и привязанностей.) В лагере ее тоска не могла не усилиться. Это была тоска не только о своем относительно благополучном прошлом, но и тоска о тех, кого она утратила навсегда. Она писала мне, что ей жаль не только ушедших из жизни Петра Михайловича и Георгия Авксентьевича, не только самое себя, потому что она их больше не увидит, но и меня, потому что и я их больше не увижу, У нее были основания для жалости ко мне: она знала, какой не мельчавшей, а все ширившейся любовью любил я их – и за то, что они такие, и за то, как много сил положили они» чтобы я не засох на корню.
В лагере она сделала выписку из «Княжны Мери» (листок с ее выписками сохранился):
Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мною. Всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки… Я глупо создан: ничего не забываю, – ничего!
И из «Тихого Дона»:
От пластов снега несло холодом, но холод этот еще резче подчеркивал аромат доцветающих фиалок, неясный и грустный, как воспоминание о чем-то добром и давно умершем…
Эту книгу она прочла в лагере и высоко ее оценила, там же прочла «Самгина» и писала мне, что некоторые его страницы написаны с огромной художественной силой.
На одном и том же листке две выписки. Одна – из рассказа Горького «Женщина»:
Неизбывная» на всю жизнь данная тоска.
А другая – из рассказа Сергеева-Ценского «Старый врач»:
Чем отчетливее чувствует человек, что он уходит из жизни, тем милее становится для него все кругом. Жизнь каждый день подносит ему тогда в давно известном неизведанно новое. Человек глядит на повседневно привычное, а это привычное так неожиданно вдруг сверкнет, что глазам становится больно от счастья.
Эта выписка характерна для ее скорбной жизнерадостности.
В лагере она много читала. Я посылал ей книги, но и в лагере была неплохая библиотека.
20 ноября 51-го года, незадолго до выхода на волю, она мне писала:
Читаю «Преступление и наказание» и, как всегда при чтении его, потрясена гением Достоевского. Глубоко волнует все, но особенно разговоры Раскольникова с Соней Мармеладовой, их совместное чтение и т. д. Принято говорить, что Достоевский тяжел. А, по-моему, ничуть, так как из всех действительно глубоко трагических положений ярко сверкает свет, все и вся освещающий и дающий счастье.
Выписываю строки из ее письма ко мне от 8 сентября 55-го года:
Людей очень жалею и стараюсь их любить по мере сил. Это иногда трудно, но как же радостно, когда удается по-настоящему прощать и любить! Минуты эти несравнимы. Ведь без этого немыслимо жить: все становится бессмысленным и до ужаса неинтересным.
Сострадание и еорадование жили в душе моей матери дружно. Как только, в январе 39-го года, первым вернулся из калужской тюрьмы на перемышльскую волю бывший заключенный, далекий нашей семье и не очень симпатичный нам человек, которого мы прозвали за малорослость и черноту «Блохой», мать иносказательно (тогда по всякому поводу применяли «шифр»), поспешила мне сообщить в письме от 28 января:
У нас не холодно, чисто, насекомых, конечно, никаких нет, несмотря на кота, а у других, говорят, опять свободно прыгает Блоха, чему я чрезвычайно рада…
Обнаружил я у матери выписки стихов о родине со зловещим и мрачным, почти без проблеска, колоритом: стихотворение Лермонтова «Предсказание» (как только листок с этим стихотворением пропустило при выходе матери на свободу лагерное начальство!), переписанные ею перед войной первая и последняя строфы блоковского «Рожденные в года глухие…» и стихотворение Ахматовой «Думали: нищие мы…» А в однотомничке Есенина, который я ей подарил, когда она жила на свободе в Калуге, она все-таки подчеркнула строки из «Стансов»:
…более всего Любовь к родному краю Меня томила, Мучила и жгла.Вспоминалась ее любовь к цветам и травам, к деревьям и животным, к лугам и рекам, к звездам и облакам.
Вспоминаю ее бесстрашие, помогавшее ей в годину испытаний. Она была очень привязана к свекрови своей и золовкам. В 19-м году она в «телячьем вагоне» ездила в Москву повидаться с братом Николаем Михайловичем. На обратном пути сошла в Малоярославце и до Новинки отмахала тридцать верст пешком в октябрьский день. Ее веревочные туфли расползлись от шлепанья по грязи и по лужам, она их скинула и последние десять верст отшагала босиком по холодной земле. Пришла, когда уже смерклось, а тогда в лесах пошаливали. Брат Гынгиной сослуживицы кадет Сергей Николаевич Преображенский, бежавший из Калуги прятаться от красного террора в Новинке, узнав о путешествии моей матери, воскликнул:
– Вот так женщина!
Вспоминалось, как она меня, пятилетнего, отчитала, услышав, что я назвал Федора Дмитриевича Малова «Федором».
– Какой он тебе «Федор»? Ты думаешь, что если он землю пашет, так он ниже нас? Да мы с тобой без таких людей, как Федор Дмитриевич и Натальюшка, умерли бы с голоду – мы почти ничего не умеем делать из того, что умеют они. И они на сто голов благороднее многих из нас, «образованных».
Я сослался на то, что ведь и няня называет его «Федором».
– Няня может себе это позволить, няня старенькая, Федор Дмитриевич ей в сыновья годится. Ты же не называешь Александра Михайловича Белова – «Александр», а между ними та и разница, что один занят своим полезным делом, другой – своим.
Вспоминалось присущее ей сочетание такта с прямотой, иногда доходившей до яростных вспышек.
Домик, где временно поселился бывший перемышльский городовой Пыжъянов (в раннем детстве я его называл «дядя городовой»), купила мещанка Соловьева, сквалыга и ханжа. Вдовец Пыжъянов с кучей ребят вынужден был переселиться в избушку на курьих ножках.
Мы с матерью проходили мимо соловьевского дома, когда дети Пыжъянова выносили последние узлы с добришком, а достойный отпрыск своей мамаши, лет десяти, кричал им вслед:
– Нищие! Нищие! Что? Выгнали! Выгнали!
У моей матери недостало душевных сил, чтобы пристыдить и вразумить малолетнего живоглота, как это подобало учительнице. Она накинулась на него с таким неистовством, что, казалось, вот-вот прозвенит затрещина. Вдруг мать обернулась ко мне и сказала:
– Близко к этой гадине не подходи!
А незадолго до революции, увидев, что мужик осатанело хлещет кнутом выбившуюся из сил лошадь, она изругала мужика на чем свет стоит, так что он рот раззявил от изумления, призвала на помощь этого самого «дядю городового», и Пыжъянов заставил мужика половину дров скинуть на землю, остальное свезти куда нужно, а потом вернуться за сваленными дровами.
Мелочи жизни, как бы ни были они существенны, для нее не существовали. Жертвовала она ими легко.
20-й год. Перед Пасхой мать на что-то выменяла белой муки для куличей. Но вот беда: сырые осиновые дрова шипят, а не горят. Мать со словами:
– Стану я из-за куличей Светлую заутреню пропускать! Ну пусть сгорят куличи, – прикрыла устье заслонкой и ушла вместе со мной. А когда вернулась, то, в полной уверенности, что вместо куличей обнаружит горелое тесто, первым делом отодвинула заслонку, И что же оказалось? Как в сказке: печка сама истопилась, а куличи вышли такие, как нужно, – и не подгорелые и не сырые.
Письма учеников к моей матери я приводил в главе «Родники»[75]. А вот отрывки из писем от 59-го года сидевшей вместе с моей матерью в лагере под Калугой малограмотной Оли Рословой (писала Оля в Калугу из Малоярославца – обе были тогда уже на воле):
Хотя бы дожить до лета можить я к вам и приехала очин хочится вас видет моя милая и дорогая Е. М., посмотреть на ваше доброе и милое лицо. На ваши добрые, светлые и приветливые глаза. Не пройдет у меня ни однаго вечера что бы я не вспомнила вас всегда.
Из другого ее письма:
…таких сейчас людей нет, добрая, чуткая и отзывчивая Елена Михайловна.
Перед войной переехавший из Перемышля в Калугу доктор Николай Николаевич Добромыслов, о котором я упоминал в главе о ежовщине, о том, как он помогал в Перемышле заключенным и как он сокрушался, что его тоже не посадили, бесстрашно писал моей матери письма в концлагерь. Вот отрывок из его письма от 22 января 51-го года:
Добрый день, Елена Михайловна!
Хочется ободрить Вас, поддержать у Вас уверенность, что несмотря ни на что, ни на какую временную слабость, Вы выдержите оставшийся срок, – потому что обязательно нужно выдержать[76]. Ни на что иное Вы не можете, не имеете права себя настраивать… Чего бы Вам особенно хотелось, чтобы купить Вам для передачи?..
Конец письма Анны Николаевны Брейтфус (60-е годы):
Крепко, крепко целую Вас, дорогая, милая, сердечная Елена Михайловна. Никогда не забываю апрель 39-го года[77].
Когда мои тетки (сестры отца) узнали в Новинке из моей телеграммы, что мать освобождена и я вместе с женой Добромыслова Татьяной Ардальоновной встретил ее у ворот лагеря и привез пока, до приискания квартиры, к Добромысловым, тетя Соня написала нам:
12/XII. 1951 г.
Дорогие Нелличка и Колюша!
От всей души, от всего сердца мы, четыре сестры, приветствуем вас, родные наши, в этот бесконечно счастливый и радостный день, до которого по милосердию Божию мы дожили все. И хотя большое расстояние разделяет нас, но душою, мыслями мы с вами, дорогие.
Как отрадно в письме соединить два ваших имени и знать, что вы вместе, и пусть Господь устроит вашу дальнейшую жизнь.
Будем ждать общего радостного свидания у нас.
Крепко, крепко обнимаем вас, дорогие, и целуем.
Пусть Господь хранит вас.
Всем сердцем любящие вас —
Юня, Гынга, Аня и Соня.
Превозмогая душевную боль, я в разлуке с матерью (тогда, по маловерию моему, я думал, что это разлука вечная) перечитывал те ее письма» из которых особенно ясно видно, какою любовью любила меня она.
В древнерусском языке бытовало выражение «вседумно нещись». Моя мать со дня моего рождения и до своего последнего вздоха вседумно пеклась обо мне.
Привожу отрывки из разных ее писем:
Все в нашей комнатке еще дышит тобой… В ушах и душе звучат наши бесконечные разговоры об искусстве, театре, литературе. Все кажется, что ты здесь, сидишь за работой, инстинктивно хочется что-то подложить, чтобы ты налету клюнул, стащить у тебя папиросы… И вдруг ловишь себя на том, что это мираж: светлые дни твоего пребывания кончились, ты далеко.
(Из письма от 27 января 1939 года)…я даю тебе честное слово, что буду беречь свое здоровье, раз ты этого просил. Но дай же и мне слово обязательно носить теплые носки и синие брюки. А о тех, которые я когда-то купила тебе в Перемышле и которые все вытерлись и стали тебе коротки, – забудь. Будто у тебя их нет. В них ходить холодно и неприлично. Ты знаешь, какая я всю жизнь была и есть противница роскоши в костюмах, но тепло, опрятно и скромно-прилично ходить необходимо.
(Из письма от 28 января 1939 года)Как в Москве? Не стало ли скользко? Ведь у тебя такие скользкие галоши! Мысленно слежу за каждым твоим шагом… Как хочется во всем помочь тебе, во всем облегчить… и это бессилие смешно, когда бы не было так грустно.
(Из письма от 29 января 1939 года)…не знаю, как и благодарить мне тебя за чуткое во всех смыслах отношение ко мне. Нет, за это не благодарят. Выразить это трудно. Только являющиеся у меня радостные умиленные слезы могут показать, как это меня поддерживает.
(Из письма от 19 марта 1939 года)В марте 40-го года я выехал в Калугу из Перемышля на почтовой лошади, в морозный день с ветром. Мать мне писала вдогонку:
…мне хотелось самой мерзнуть, чтобы ты не один мерз. Это может быть и непонятно для большинства, но у меня всегда такое чувство в таких случаях, и с этим ничего не поделаешь.
(Из письма от 17 марта 1940 года)Не могу не сказать, как за все бесконечно тебе благодарна и как больно, что я, избаловавшаяся за длительное пребывание с моим единственным другом, осталась одна, но распускаться гадко, и я все буду делать, чтобы быть здоровой, бодрой, крепкой для будущей встречи. Умоляю тебя меньше курить, возможно больше есть и не ходить по солнцу с открытой головой.
(Из письма от 19 июля 1940 года)Уже из лагеря, в год выхода на свободу, отвечая на мое письмо, в котором я сообщал ей, что болел и потому некоторое время молчал, она писала мне:
…если можно, я еще больше, еще лучше узнала и уверилась в том, что вне тебя у меня ничего нет. Я многих дорогих очень люблю, но когда ты болен или что-либо у тебя не ладится, мне все (особенно я сама) становится безразличным.
(Из письма от 23 февраля 1951 года)В 55-м году я писал матери в Калугу из Киева о том, что побывал в Почаевской лавре, о том, что в Киевском Владимирском соборе после субботней всенощной все духовенство служит молебен Божьей Матери и что заканчивается молебен всенародным пением кондака «О Всепетая Мати». Она ответила мне на это:
Благодарю Господа за то, что Он сподобил тебя туда съездить. И какое же счастье, что это все сейчас есть! Бедные, бедные люди, которые не знают, не чувствуют этого! А какой дивный обычай петь последний кондак из акафиста Божьей Матери «О Всепетая Мати» всем народом!..
……………………………………………………………….
Перемышляне трогательно не забывают меня…
……………………………………………………………….
Как странно: несмотря на необозримое количество оврагов, разделяющих теперь наши с тобой жизни, никто мне так не близок, как друг, как ты, как будто мы и не расставались в 41-м году!..
Всякая радость нечаянна…
В один из летних дней 42-го года я пришел откуда-то домой. На столе письмишко. Мать извещает, что она в Бутырской тюремной больнице, ей разрешены передачи.
Моя жена начала в указанные дни носить передачи. Конечно, скудные – время было голодное, но все-таки она старалась побаловать ее настоящим чаем, кофе.
В первой же записке, подтверждая, что все получила сполна, мать спросила про внучку: «Жива ли Аленочка?»
Всякая радость нечаянна…
Вернувшись откуда-то домой, я застаю незнакомую, тоненькую девушку с вздернутым носиком. Это была медсестра из Бутырской тюремной больницы. Она принесла от мамы письмо, рассказала, что мать заболела в Краснопресненской пересыльной тюрьме дизентерией и ее положили в Бутырскую тюремную больницу.
С этого дня девушка стала нашей письмоноской. Через нее мы дополнительно посылали маме кое-что из еды.
Вновь в нашей с матерью жизни встала Бутырская тюремная больница, только теперь там не я, а она.
Медсестренка делала для нас благое дело бескорыстно. У нас не было дорогих вещей, лишних продуктов, которыми мы могли бы ее приманивать. Я только дарил ей книги, некоторые давал почитать.
Осенью она пришла к нам с дурной вестью: в связи с напряженным положением на фронте многих заключенных, в том числе – выздоровевших, но еще не выписанных из больницы, отправляют в дальние лагеря. Мать снова в пересыльной тюрьме.
Моя жена потратила два дня, чтобы передать маме продукты и теплые вещи. Потом мать писала, что на этапе вещи ее спасли.
Медсестренка вскоре исчезла. До сих пор не возьму в толк – почему. Думаю, что из тогда еще отличавшей русское простонародье деликатности: мавр сделал свое дело и должен уйти сам. А между тем она была нам очень нужна – просто как друг.
Если она, паче чаяния, скончалась, то да дарует ей Господь блаженное упокоение, а если жива, то да удолголетствит Он ее жизнь, и да пошлет Он ей много радостных дней за те радостные в самой своей печали дни, какие я пережил благодаря ей во второй половине 42-го года!..
История повторяется не целиком.
Из Бутырской тюремной больницы я вышел на волю. Мою мать перегнали оттуда в пересыльную тюрьму.
След ее затерялся вновь…
Всякая радость нечаянна…
Седьмое января 1943 года. Первый день Рождества. Утро. В комнате холод собачий. Мы с годовалой дочерью вдвоем. Звонок. Вставать неохота. Под одеялом кое-как угрелся. Опять звонок, продолжительный. Встаю. Что-то на себя накидываю. Почтальонша. Доплатное письмецо-«треугольничек» от моей матери из Тайшета Иркутской области. Доехала, жива, по инвалидности на легкой работе, чинит белье.
7 января 1952 года я писал матери в Калугу уже на волю:
Сегодня получил твое письмо… Невольно вспомнилось, как именно в этот день я получил от тебя письмо в 43-м году» и почувствовал, что умирать мне еще рано.
Переписка у нас с матерью установилась более или менее постоянная. Продуктов и вещевых посылок не принимали. Деньги я высылал ежемесячно. (Кажется, разрешалось посылать не более пятидесяти рублей.) Тяжко было писать с оглядкой на двойную цензуру – военную и лагерную. Тяжко было получать треугольнички с обратным адресом: п/я ЛВТ 215/22. Но то были жалившие мелочи. Я боялся, что мать умрет в лагере от истощения.
Ранней весной 44-го года по совету адвоката Николая Адриановича Сильверсвана, с которым я познакомился у Маргариты Николаевны и который после войны был арестован и погиб в концлагере, я начал хлопоты по пересмотру дела моей матери. На взгляд Николая Адриановича, в связи с нашими успехами на фронте моя мать могла рассчитывать на благоприятный исход дела.
Я послал ей в Тайшет несколько чистых листов бумаги с просьбой поставить свою подпись внизу. К моему удивлению, лагерное начальство пропустило эти листы с подписью. На полученных обратно листах я напечатал несколько экземпляров продиктованного мне Сильверсваном прошения от имени матери на имя Калинина о пересмотре ее дела. Мотивировалось прошение, прежде всего, тем, что единственный ее обвинитель свел с ней личные счеты, во-вторых, тем, что во время оккупации она штатной должности не занимала, что ее отношения с немцами сводились к просьбам за русских людей и, наконец, тем, что за плечами у нее 40 лет беспорочной службы. С этим прошением я пошел в приемную Калинина. Принял у меня прошение косоглазый тип, явно «оттуда», с такой кислой миной, что я сказал себе: «Прошение дальше секретариата не дойдет, и это еще в лучшем случае».
Всякая радость нечаянна…
Летом 44-го года получаю от матери телеграмму из Тайшета:
Еду на пересуждение.
След моей матери затерялся вновь. Четвертого мая 1946 года мать писала мне:
Последнее мое письмо тебе я написала 21-го июня 1944 г., а 23/VI я покинула Тайшет по вызову в Тулу. Дорогой тяжело заболела малярией, в Свердловске меня положили в больницу. Слегка оправившись, я поехала в Тулу, но вновь заболела, настолько серьезно, что в больнице тульской пролежала 3 месяца. Из Тайшета я послала тебе телеграмму, в которой сообщала, что уезжаю, и просила не писать мне и не посылать книги и деньги до сообщения нового адреса. Из Тулы меня перевели в Калужскую область и в калужской тюрьме я пробыла с 15/Х-44 г. до 21/IV-46-ro года. Как я переживала невозможность узнать о здоровье твоем и твоей семьи – ты можешь себе представить.
Мать впоследствии говорила мне» что в Туле к ней отнеслись благожелательно, но, на ее несчастье, Калугу снова сделали областным центром, и дело матери передали туда. В Калуге следователь попался злобный. В 42-м году безжалостность приговора была объяснима: неподалеку идут бои, исход войны неясен, арестованных уйма, разбираться некогда. И все-таки трибунал войск НКВД понял, что моя мать не изменница родины. И на том спасибо. А теперь времени было достаточно, обстановка в Калуге и во всей стране изменилась. Победа была видна явственно. А желание следствия опорочить мою мать усилилось. Особенно много стараний приложило к тому Перемышльское управление НКВД. Рыльце у него было в пушку. После смерти моей тетки оно присвоило все вещи, принадлежавшие и тетке и матери, раскрало книги, на которых стояло мое имя. Так, например, четырехтомник Есенина с березкой на обложке схватила себе жена начальника НКВД. «Все расхищено, предано, продано…» В случае, если б мою мать освободили, пришлось бы как-то выкручиваться.
Прозоровский в качестве свидетеля ни на следствии, ни на суде не фигурировал, – в прошении на имя Калинина Сильверсван смазал его лихо. Подобрали новых «свидетелей». Что-то вякнула квартирная хозяйка матери, которая кое-какие наши вещи подтибрила себе, в частности, сумела доказать, что теткин зеркальный шкаф принадлежит ей и стоит у квартирантов только потому, что у нее тесно. Что-то чернящее мою мать показал на следствии, не явившись однако, на суд, некто Смирнов, племянник которого – полицай – был то ли расстрелян, то ли погиб в штрафной роте, а свояченица, мать полицая, сослана в Сибирь. Главным «свидетелем» со стороны обвинения выступил перемышлянин Евстигнеев. Перед войной он сидел по какому-то уголовному делу. При немцах играл довольно видную роль. Но потом его почему-то не тронули.
15 июля 46-го года мать писала мне о нем:
Когда я совершенно изумленно, вопрошающе посмотрела на очной ставке на Евстигнеева, у него на глазах навернулись слезы, и он отвернулся к окну… На его месте я не хотела бы быть.
Получив сведения, что мать – в Калужской тюрьме и что по ее делу – очевидно, по распоряжению Калинина – вновь наряжено следствие, я пошел на квартиру к адвокату Чижову, которого мне рекомендовали как хорошего адвоката и вполне порядочного человека. (Сильверсвана к защите «политических преступников» не допускали.) Чижов взялся защищать мою мать. Только, мол, сообщите дня за два о том, когда начнется суд, – и он выедет в Калугу. Я ходил к нему довольно часто, сообщая все, что мне удавалось узнать о ходе следствия (кого вызывали по делу матери из Перемышля и прочее), крупно платил за визиты, как врачу-светиле, заверил его, что оплачу ему и дорогу и гостиницу, а если, мол, ему удобнее остановиться в частном доме, то ему будет оказан наилучший прием у наших друзей. Предложил аванс, он отказался. Тогда я сказал, что заплачу ему любую сумму после суда. Чижов успокаивал меня: дело, мол, выигрышное/
– А этого комсомольского гада и лжеца, – однажды добавил он, имея в виду Прозоровского, – мы сумеем вывести на чистую воду.
Меня эта его терминология покоробила тогда же – почему он со мной так откровенничает? Я не запел ему в тон, но больше над этим не задумывался.
Наконец меня извещают, что суд назначен на такое-то число. Я загодя звоню Чижову днем. Он сейчас же узнает меня по голосу, но лыка не вяжет, называет меня: «Мамочка, родненький мой!..» Слышно, что жена стыдит его, требует, чтобы он прекратил разговор, что, дескать, в таком состоянии деловые переговоры не ведутся. Только много лет спустя я понял» что это была сценка, разыгранная экспромтом, чтобы отвязаться от меня. Тогда же я истолковал ее только так, что Чижов, оказывается, пьяница, что положиться на него нельзя, звонить ему еще раз бесполезно.
Мою мать робко защищала девушка-калужанка Елагина, только что вступившая на поприще адвокатуры. Показания добровольной свидетельницы со стороны защиты, учительницы, никак с немцами не связанной и с матерью моей всегда бывшей в хороших, но далеких отношениях, – они никогда не встречались домами, – Надежды Алексеевны Будилиной во внимание не приняли. Основываясь на показаниях Евстигнеева и еще одного (теперь уж не помню – кого), столь же авторитетного «свидетеля», суд, не посмотрев ни на возраст, ни на состояние здоровья, ни на огромный трудовой стаж моей матери, ни на то, что в 18-м году она спасла жизнь большевику, ни на то, что она отбыла почти половину срока, оставил прежний приговор в силе.
И все-таки моя мать дождалась выхода на свободу и прожила еще десять лет на воле прежде всего благодаря тому, что Бог избрал орудием своего милосердия Михаила Ивановича Калинина. Второй раз Калинин протянул нашей семье руку помощи.
В 21-м году осенью мать получила телеграмму из Москвы от жены ее брата: «Приезжай немедленно Коля опасно заболел». Мать поняла, что моего дядю арестовали. В Москве ей посоветовали обратиться к Калинину. Тогда Калинин принимал всех. Выслушав мою мать (она говорила потом, что по виду это простой мужичок с умными, не без хитрецы, глазами) и, видимо, поверив ей, – жизненный опыт у него был большой, – он дал драгоценные указания, как нужно действовать, и обещал помочь. В результате, как я уже упоминал, вскоре моего дядю выпустили.
Ну зачем было большевику облегчать участь царского сановника? Только затем, что Бог вложил в этого большевика чувство сострадания и чувство справедливости.
При «военном коммунизме» все лекарства отпускались по рецептам, но бесплатно, в поездах ездили по командировкам и каким-либо «удостоверениям», «унд бэсплатно», как говорится в старом еврейском анекдоте. Вследствие этой благодетельной (краткосрочной, впрочем) реформы моя мать ехала из Москвы в Калугу стоя – до тех пор, пока одноногий красноармеец не сжалился над ней и чуть не силой заставил ее сесть к нему на уцелевшую ногу. Мать привезла на себе более двух десятков вшей (к счастью, ни одной сыпнотифозной). И все-таки приехала она, полная радостной надежды. В том, что Калинин поможет, у нее не было ни малейшего сомнения. И она не ошиблась.
После до нас доходили вести о том, как много приговоров Калинин отменял или смягчал, как доставалось от него «властям на местах» за самоуправство, как много народу выпустил он из тюрем в провинции.
В ежовщину он утверждал смертные приговоры своим однопартийцам, соратникам и друзьям. Осуждать его за это мы не смеем. Автор «Мастера и Маргариты» прав: все мы Понтии Пилаты, от них же первый есмь аз. И все же Калинин продолжал благотворить до последнего дня своего пребывания на посту Председателя Верховного Совета. Недаром, когда он скончался, москвичи просили священников служить по нем панихиды, «хотя он и безбожник». Верится, что Господь внял молениям облагодетельствованных им и в селениях райских его учинил[78].
Калинин спас мою мать. В Тайшете она разделила бы жребий многих «доходяг». После второго суда ее перевели в лагерь на окраине Калуги и освободили по инвалидности от какой бы то ни было работы. Почти весь оставшийся срок она находилась в больнице. Свидания и передачи, продуктовые и вещевые, были ей разрешены. Она категорически потребовала от меня в письме, чтобы я к ней не приезжал, что тюремного свидания со мной она не перенесет, что если ей суждено дожить до окончания срока, то первое наше свидание должно быть на воле, без ограничения времени и без свидетелей. Я охотно подчинился ее желанию. Я посылал ежемесячно деньги Добромысловым. Жена Николая Николаевича» Татьяна Ардальоновна, покупала все самое питательное, добавляла от себя чего-нибудь, что мать особенно любила, и отправлялась к ней на свидание.
После Калинина спасением моей матери я обязан семье Добромысловых.
Николай Николаевич писал ей 30 апреля 48-го года:
Таня наказывает написать» что посылки Вам собирает всегда с таким же чувством, как» бывало, собирала своим ребятам – с полнейшим удовольствием и любовью, а когда отправляется к Вам с котомкой через плечо, переживает такое чувство, словно вдет на богомолье…
А их дочь Лена приписывает:
Зачем Вы всегда извиняетесь за беспокойство, причиняемое, якобы, нам? Я думаю, что при других условиях Вы то же самое сделали бы для мамы.
12 мая 1946 года мать писала мне:
С момента получения твоего письмеца[79] как будто яркое теплое солнышко стало пригревать мою душу сквозь страшную толщу льда и камня.
Однажды на Никольской улице я встретил Чижова. Мигом преодолев смущение, он спросил, что с моей матерью, и пригласил меня зайти к нему поговорить в коллегию защитников, где он принимает, – как раз на этой самой улице.
В указанный им день и час я к нему явился. Прежнего доверия у меня к Чижову не было, я пошел для очистки совести.
– Мы будем отбивать вашу маму у Ульриха[80], – сказал Чижов и заломил за «отбивание» огромную сумму, на сей раз попросив через несколько дней принести ему сюда весьма внушительный аванс.
Ради матери я готов был «заложить животы», но что-то мне говорило, что Чижов надует меня опять. Я посоветовался с друзьями – у всех было такое чувство, что это вымогатель, а может быть, по совместительству и доносчик. Друзья посоветовали мне «к Чижову больше ни ногой».
Окончательно оправдал я себя в своих глазах» когда прочел «В круге первом» Солженицына о том, что на Никольской находилась контора адвокатов-мошенников, обиравших семьи заключенных и палец о палец не ударявших/
Были у моей матери, а, следовательно, у меня фальшивые тревоги. По лагерю нет-нет да и прокатывался слух, будто лагерь расформировывается или что заключенных с 58-й статьей и такими-то пунктами предполагается выслать в лагеря отдаленные. Лагерь до выхода моей матери на свободу не расформировывался (что с ним стало потом – не знаю). А вот то тех, то других заключенных (например, Софью Всеволодовну Мамонтову, внучку Саввы Ивановича) угоняли на край света.
Летом 48-го года в лагере возник и укрепился слух, что заключенные, которых осудили за то-то и то-то, будут высланы в отдаленные лагеря без права переписки. Нервы у моей матери не выдержали. От нее пришло письмо, которое даже я разобрал с трудом. Привожу его с сокращениями:
23 авг. 1948 г.
…Я уезжаю от тебя тебя тебя теперь далеко и и не только не смогу тебе писать. но от тебя не смогу как когда-то Мишенька и Глебушка[81]. Ну что же значит так значит так надо, все равно я буду тебя я вечно буду тебя любить. Уедем далеко, как тогда, но я ничего, ничего не боюсь: ведь душа всегда с тобой всегда с тобой всегда я с тогда с тобой, я покойна покорна судьбе и вполне спокойна. Я всегда с тобой. Всюду и вечно с тобой с тобой, никогда никогда не уйду. Всегда с тобой, моя деточка. Ты лучше не экрируй[82] мне так мне покойнее…
В ближайшую субботу я поехал в Троице-Сергиеву Лавру ко всенощной.
И вот – как много раз в моей жизни – доброе предзнаменование… Монах-канонарх густо, отчетливо, убежденно произносит нараспев:
– «…у Господа милость и многое (это слово он особенно выделяет) у Него избавление».
В понедельник, в поликлинике Министерства здравоохранения, где я тогда лечился (в Гагаринском переулке) принимал мой хороший знакомый» профессор-психиатр Петр Михайлович Зиновьев. Я поехал к нему и показал письмо матери. Он меня утешил:
– Человека в таком состоянии даже у нас в отдаленный лагерь не посылают. Самое худшее, что может быть: временный перевод в нервно-психиатрическую лечебницу. Но это под Москвой, с правом свиданий и переписки.
Слух оказался ложным.
Мать скоро пришла в себя.
18 декабря 1951 года она писала мне:
В понедельник к 10 час. предполагают, что я уже получу нужные справки и смогу покинуть свою своеобразную большую семью, с которой так долго прожила. Всем говорю «спасибо» ни от кого, кроме хорошего, я ничего не видела.
24 декабря 1951 года мы с Татьяной Ардадьоновной подъехали на такси к воротам лагеря. Ждали недолго. Вышла моя мать, ошеломляюще мало постаревшая, с безоблачным счастьем во взгляде.
Поселилась она в Калуге. Там же и похоронена на Пятницком кладбище.
В 1956 году ее восстановили в правах и вновь назначили ей пожизненную пенсию.
Скончалась она в 1961 году, семидесяти восьми лет от роду. Умерла во сне, в ночь с 18-го на 19 августа, накануне Преображения Господня.
3
То, что есть, довольно скверно.
То, что было, – то постыло.
Что же будет? Да, наверно,
То, что есть, и то, что было.
Неизвестный поэтНедостатка в сочувствии я не испытывал.
Мой «Иван-Карамазовский» бунт ласково усмирила Клавдия Николаевна Бугаева:
– С Христом нигде не страшно. У вашей мамы особый, ей одной предназначенный путь. Она страдает не за себя, не за одну себя, а за всех нас.
Маргарите Николаевне было, казалось бы, не до меня: в начале 42-го года в Ленинграде почти накануне эвакуации в Москву скончался от дистрофии ее сын, но вот отрывок из ее письма ко мне от 3 августа 42-го года:
Дорогой мой, хороший Колюша, все хочу тебе написать – и руки не доходят. А в душе так много о тебе, и больше всего – упрека самой себе, так мало я могла сделать для тебя, так мало дать тебе тепла и облегчения… А между тем неизменно чувствовала всю misere[83] твоей жизни, охватывая ее в полном комплексе, ощущая тебя родным и близким, болея за тебя душой…
Всегда с какой-то особенной, сострадательной проникновенностью смотрели на меня большие глаза на иконописно строгом лице Ирины Николаевны Томашевской, жены пушкиниста Бориса Викторовича. Так смотрела она на друга Бориса Викторовича, пушкиниста Александра Леонидовича Слонимского, когда у него умер окончивший среднюю школу сын… Слонимский долго не мог забыть ее глаза.
Когда я сказал Борису Викторовичу, что мою библиотеку, которую начал собирать на медные гроши мой отец, которую пополнила на свое учительское жалованьишко мать, которую затем пополнял я, разворовало перемышльское Управление НКВД, а между тем эта библиотека была для меня живым существом, членом моей семьи, Борис Викторович с хмурой участливостью меня подбодрил:
– У вас будет время собрать новую, и еще лучше прежней.
Так по его слову и вышло.
В ноябре 42-го года, в печальный вечер моего тридцатилетия, мы отметили его вместе с Томашевскими. Дарить тогда было совершенно нечего, особенно – эвакуантам. Борис Викторович подарил мне оттиск своей статьи «Поэтическое наследие Пушкина», вошедшей перед самой войной в сборник «Пушкин – родоначальник русской литературы».
Зимой 41–42 гг. нам пришлось не сладко. Москва опустела – это бросалось в глаза на улицах. Наземный транспорт работал плохо. Из-за нехватки горючего дрова и прочие грузы перевозили на троллейбусах. Не эвакуировавшихся жильцов нашего дома съютили на зиму в один корпус, но, съютив, топить перестали и в этом корпусе. В комнате, куда нас переселили, было -1, -2. Пеленки для девочки жена согревала за пазухой. Снабжение, конечно, лучше, чем в Ленинграде, но не так уж на много. Кроме хлеба, выдававшегося по карточкам бесперебойно, и небольшого количества сахару, в нашем магазине два раза выдали соленые огурцы, к первому мая побаловали рыбой. Крестьяне что-то приносили на рынок, но не продавали, а выменивали на вещи. У нас лишних вещей не было. Случайно жена встретила крестьянку» которой нужны были деньги, и крестьянка стала нам носить для девочки молоко.
В конце апреля вижу сон: Перемышль, именины тети Саши. Сейчас должна прийти из школы мама. Готовится вкусный обед. Пахнет пирогами.
7 мая 42-го года, в день именин моей покойной тетки, меня приняли в члены Союза писателей. Я был прикреплен к писательской столовой, размещавшейся в двух залах старого здания Клуба писателей, и к писательскому распределителю; я получал теперь по карточкам значительно больше продуктов.
На антресолях того же здания, в восьмой комнате, обедали избранные, меню у них было разнообразнее, порции больше, внизу обедали все, кого начальство считало нужным подкармливать, но не ублажать.
В одном из залов в осеннее и зимнее время поддерживался огонь в камине. ¥ камина стояло кресло. Когда кто-то сел в кресло и начал «смотреть с тоской, как печально камин догорает», к нему подошел заведующий клубом, любимчик Фадеева, горбун Болихов и напомнил:
– Это кресло только для писателей-фронтовиков.
Из «молодых, да ранних» чаще других я встречал в этой харчевне Симонова с откормленной ряшкой, останавливавшей взгляд на фоне общей исхудалости. Создавалось впечатление, что он околачивается в Москве и лишь изредка выезжает в штабы на гастроли.
Необыкновенно приятен был старик Рувим Исаевич Фраерман. Выйдя живым из всех переделок, выпавших на долю злосчастного московского ополчения, он своим тихим голосом, пришепетывая от беззубья, говорил очень серьезно, сидя за столиком:
– Самое страшное в теперешней войне, друзья мои, самое страшное, это… военные рассказы.
Понизив голос до шепота, слышного лишь его соседям по столику, он рассказывал анекдот, тоже без улыбки:
– Политчас в украинской воинской части. Политрук приступает к занятию: «Зараз мы з вамы побачимо, що таке социялизьм и на який хрен вин нам здався».
Высшее начальство закрыло два журнала: «Интернациональную литературу», ответственным редактором которой до перехода в Гослитиздат был Сучков, и основанный Лениным, первый советский литературно-художественный и общественно-политический журнал – «Красную новь», ответственным редактором которого во время войны была критик Ковальчик. Писатели помянули обоих добрым словом:
Сучковы и Ковальчики Угробили журнальчики.Случилась авария у Николая Асеева: запретили его книгу, куда входили стихи о неказистом тыловом быте – об очередях за водкой с драками и матерной бранью и о прочем тому подобном. Опальные злятся на владык сильнее, чем те, кто никогда «в случае» не бывал. Бурно вознегодовал и Асеев, мы встретились с ним в Гослитиздате и разговорились.
Начал он с того, как отвратителен ему Эренбург:
– Какие только роли этот актер не переиграл! Походил и в poetes maudits[84] и в контрреволюционерах, – вы знаете его «Молитвы о России»? – а теперь играет роль потомственного славянина…
От Эренбурга Асеев перешел к общему положению в советской литературе;
– Вы заметили, что теперь все пишут оды? «Пишите оды, господа!» Что ж, ода – жанр благородный. Оды писали Ломоносов, Державин и Маяковский. А наши поэты пишут оды с соплей и, главным образом, оды по случаю получения бобровой шапки… Мы все подкуплены, мы все подкуплены!.. – вскричал Асеев так, что я вздрогнул и оглянулся, не вошел ли кто-нибудь в тот кабинет, где мы сидели вдвоем. Внезапно синие его глаза потухли, и он тихо, но веско добавил:
– И я не составляю исключения…
В торговле жульничество сверху донизу. Завмаги стараются заменить по талонам мясо чем-нибудь менее питательным, сахар – плохими, склеившимися конфетами. Продавцы обвешивают, вырезают у зазевавшихся или обалдевших от многочасового стояния в очередях талоны. Люди предпочитают стоять до одури, лишь бы по возможности «отовариться» (это гнусное слово имело хождение, пока не отменили карточки). Но «отовариться» было не так-то просто. Порядка никакого. Узнать, когда будет завоз продуктов, не у кого. Завы и их помощники иной раз умышленно скрывают, что завтра, скажем, предполагается завоз американской свиной тушенки, а иной раз и сами ничего толком не знают. Люди идут в магазин с мыслью: а вдруг что-нибудь выдадут? Вам говорят почти целый месяц: «Сахару в феврале не будет, берите конфеты», а в последних числах горсточке недоверчивых и долготерпеливых выдают сахар. Головы забиты тем, как бы не потерять карточки, как бы не срезали талоны, по каким талонам что выгоднее взять, ждать или не ждать. Можно запутаться в разных видах карточек: «рабочих», «служащих», «иждивенческих», «детских», «литерных А», «литерных Б», «абонементах». Опять, как в начале 30-х годов, драки в очередях и склоки из-за того, что в этом месяце у кого-то отняли «абонемент» и передали другому. Именно во время войны нам открылся новый смысл в строках из вступления к «Медному Всаднику»:
Из тьмы лесов, из топи Блат Вознесся пышно, горделиво.Мошенничество» взяточничество, спекуляция, блат – это наследие «Великой Отечественной», приумноженное и приумножаемое после войны.
Обрывки фраз» долетавших до меня на улицах, – «Сто грамм…»; «Хозяйственное мыло дают…»; «Суфле дают…»; «По мясным талонам – яичный порошок»; «По детским – сахар?»; «Стандартные справки сдали?»; «Прикрепились?» – приводили на память стихи Зоргенфрея – стихи эпохи «военного коммунизма»:
– Что сегодня, гражданин, На обед? Прикреплялись гражданин, Или нет? – Я сегодня, гражданин, Плохо спал: Душу я на керосин Обменял…Чем ближе шло дело к победе Сталина, тем мрачнее становилось на душе. Когда Информбюро сообщало о взятии нашими войсками еще одного города, я думал о том, сколько горя горького несут с собой «освободители» не только виноватым, но и правым, сколько русских они расстреляют, повесят, отправят на каторгу.
Я не мог слышать вопли Сталина, его присных, его прихвостней и прихлебателей о «немецких зверствах». Кто угодно имел право говорить о них» только не эти человеколюбцы. Немцы – враги. Враг всегда зверствует. «Национал-социалисты» превысили нормы обычных военных зверств. Но, впрочем, так ли далеко ушли они от своих отцов, во время первой мировой войны пускавших удушливые газы, копавших «волчьи ямы»? И так ли уж далеко ушли они от турок, не во тьме средневековья» а в гуманном девятнадцатом веке сдиравших кожу живьем с болгар и русских и в еще более гуманном двадцатом веке, во время первой мировой войны, вырезавших Турецкую Армению? Почему же в 18-м году не устроили суда над турецкими военными преступниками?
Да, немецкие зверства… А сколько лет длятся зверства советские?.. Сталин в речи по радио назвал Гитлера «людоедом». «От людоеда слышу», – вполне резонно мог бы ответить ему рейхсканцлер.
И все чаще задумывался я над тем, что нас, жителей СССР» ожидает после победы.
Писатель Семен Григорьевич Гехт говорил:
– Я не желаю победы Гитлеру» во-первых» потому, что я – человек, а во-вторых» потому, что я – еврей, но ведь и наша победа – это тоже покорно благодарю!..
Мое нервное состояние внушало тревогу невропатологу поликлиники Минздрава доктору Петровой, и она направила меня к профессору-психиатру Петру Михайловичу Зиновьеву/
Жаловался я ему, главным образом, на то, что все мне видится в черном свете, ничто меня не радует.
Зиновьев вонзил в меня острия своих глазок.
– А разве вас не радуют наши победы?
– Нет, – ответил я.
– Почему?
– Я буду радоваться им, только если после войны моему народу дадут возможность хотя бы свободно дышать. А пока я вижу, что стало легче жить даже не всему духовенству, а только митрополитам. Я рад за митрополитов, но мне этого все-таки мало.
Глаза профессора расширились в понимающей улыбке, потом он засмеялся смехом, больше похожим на сдавленные рыдания, а на глазах у него выступили слезы. (После я убедился, что так он смеялся всегда.)
– Ну, в этом я решительно ничего ненормального не вижу, – наконец выговорил он. – Да» правда, пока стало легче только митрополитам.
Эта встреча в кабинете поликлиники положила начало нашему близкому знакомству.
Мы с Петром Михайловичем (кстати сказать, автором интересной книги «Душевная болезнь в художественных образах») сразу почувствовали друг к другу полное доверие.
Как-то, на приеме в поликлинике, я извинился перед ним за то, что прихожу к нему с пустяками.
– Такие «больные», как вы, – это для меня отдых, – возразил Петр Михайлович. – Сегодня в диспансере, которым я заведую, одна женщина уверяла меня, что вчера она родила семь мальчиков, и все они от Ивана Грозного.
Зиновьев стал у меня бывать.
Он твердо держался того мнения, что человек по природе своей добр. Жестокость – отклонение от нормы, аномалия. Наркомвнудельцы – садисты, а садизм – это болезнь.
Зиновьев рассказывал мне об одном молодом человеке, попавшем в больницу. Медсестра заметила, что когда она наклоняется к нему, он до странности пристально смотрит на ее шею, но не придала этому значения. Однажды она наклонилась к нему, а он набросил ей на шею петлю и стал затягивать. Ее Удалось спасти. После открылось, что во время войны он служил в особых войсках. Ему не раз поручалось приводить в исполнение приговоры к смертной казни через повешение, и на этом он свихнулся.
Во время одной из бесед за чашкой чаю Петр Михайлович вспомнил:
– Я узнал об Октябрьском перевороте в поезде, – кондуктор нам сказал. У меня тогда же сжалось сердце от предчувствия чего-то ужасного. Но если б я знал, – я ведь тогда был человек холостой, свободный, – что ужас победит и затянется на десятилетия, я в тот же день покончил бы с собой.
4
О, обступите – люди, люди: Меня спасите от меня… Андрей БелыйПо возвращении из ссылки я зашел с письмом от Дмитрия Михайловича Пинеса к вдове Андрея Белого, Клавдии Николаевне Бугаевой.
Клавдия Николаевна жила в Нащокинском переулке, в писательском пятиэтажном доме, где незадолго до смерти Белого ему дали трехкомнатную квартиру. Недавно этот дом снесли.
Дверь отворила высокая стройная блондинка с ласковыми, грустными голубыми, чуть-чуть навыкате, глазами – как вскоре выяснилось, сестра Клавдии Николаевны, Елена Николаевна, жившая вместе с ней. Имя и отчество «Дмитрий Михайлович» заменили мне «Сезам, отворись!»
Елена Николаевна предложила мне войти, затем я услышал ее голос из глубины коридора: «Это от Дмитрия Михайловича!» – и ко мне вышла Клавдия Николаевна. Она была среднего роста, очень худа, подстрижена, как подстригались до революции «идейные», «передовые» девушки и женщины, с гребенкой в волосах. На худом и бледном лице лучились большие серые глаза. Взгляд тихий, сосредоточенный. Так смотрят люди, в чем-то раз навсегда убедившиеся, что-то для себя раз навсегда решившие и с мягкой властностью зовущие за собой других.
Дмитрий Михайлович знал, к кому он меня направляет. Он знал, что мне и в повседневной жизни необходим духовник, а что наши отношения с Клавдией Николаевной на первой встрече не оборвутся – в этом он почему-то не сомневался. И сложились они так, как, видимо, ему хотелось.
Мои приходы к ней и к Елене Николаевне, наши совместные» как выражался Белый, «посиды» и «покуры» участились с началом войны. Зимой их дом отапливался слабо, а в кухне горел газ. Елена Николаевна предлагала;
– Ну что ж, пойдемте покурим?
На кухонном столе лежали тонкие полоски бумаги. Мы их зажигали и от них прикуривали. Выдававшиеся по карточкам спички сестры отдавали нам – у нас в доме газ провели после войны военнопленные немцы.
Я любил обеих сестер одинаково, обе они не давали мне сломиться, не давали мне оледенеть. Елена Николаевна в год окончания войны умерла, а с Клавдией Николаевной я продолжал видеться часто и подолгу. Я не таил от нее ни сомнений, ни «проклятых вопросов». Я делился с ней моими радостями и перекладывал на нее часть бремени моих печалей. Я рассказывал ей о докучавших мне житейских заботах и неурядицах. Я шел к ней за разъяснением, за успокоением» за утешением. Душевно изнеможенный, я заходил к ней иногда на полчасика – просто чтобы отдохнуть, отдышаться, передохнуть, чтобы набраться сил. Если, уйдя из дому мрачным, взвинченным, взбаламученным, я возвращался утихомиренным и просветленным, домашние спрашивали меня:
– Ты был у Клавдии Николаевны?..
Ее сестра начинает свои (неопубликованные) воспоминания о Белом с того, как он однажды ответил на вопрос: «Что самое важное для современного человека?»
– Klares Denken в голове, келийка святого Серафима в сердце.
И вот если я, стольких и столько утратив за время войны, духовно, умственно, физически выжил, то этим я обязан Клавдии Николаевне, с ясностью ее сознания и с неугасимым огнем веепонимающего милосердия, горевшим у нее в душе.
Клавдии Николаевне жилось трудно. Сила горя, причиненного ей безвременной кончиной Бориса Николаевича, с годами росла. Она признавалась, что ее горе – «чем старе, тем сильней». Но душевная бодрость не покидала ее в самые тяжкие дни и мгновенья.
Узнав о кончине Елены Николаевны, я поехал к Клавдии Николаевне с мыслью о том, какие слова скажу я ей в утешение. Но ей же еще пришлось утешать меня.
На книге стихов Андрея Белого, выпущенной в 40-м году в Малой серии «Библиотеки поэта», Клавдия Николаевна написала мне две строки из «Первого свидания»:
Мое рыдающее горе Свое сверкающее «Да!»Это «Да!» она пронесла сквозь лишения и тяготы, сквозь свой – недолговременный, впрочем, – арест (ее освобождения добился Борис Николаевич), сквозь арест и высылку сестры, сквозь арест и изгнание других антропософов (в начале 30-х годов ОГПУ похватало антропософов и, пришив им «политику», разослало, кого – в лагерь, кого – на поселение), сквозь арест и изгнание друзей Бориса Николаевича: Иванова-Разумника, Пинеса, сквозь смерть Бориса Николаевича (1934), сквозь смерть матери (1942), сквозь смерть сестры (1945), сквозь роковое невезение с изданиями стихов Белого (в «Academia» сборник его стихов был доведен до верстки» но так и не вышел, сборник, намечавшийся к изданию в Гослитиздате, вылетел из плана после доклада Жданова), сквозь годы гонения на творчество Белого, зачисленного Ждановым по ведомству «мракобесия», сквозь всю дьявольскую нелепицу советской жизни. Клавдия Николаевна находила в себе силы поддерживать близких, хотя горе рыдало в ней не умолкая. Мир богословия, мир философии, мир поэзии (в широком значении этого слова), мир лингвистики, мир музыки – это были для Клавдии Николаевны родные миры.
Антропософия не отдалила ее от православия. Богослужебная и обрядовая символика православия раскрывалась перед ней во всей своей глубине. По ее желанию Елену Николаевну отпевали в церкви. Без малейших колебаний согласилась она быть крестной матерью двух моих детей.
Осенью 45-го года я сообщил Клавдии Николаевне, что Гослитиздат намерен поручить ей отбор и подготовку текстов для стоявшего в его плане сборника избранных стихотворений Андрея Белого. Она предложила мне помочь ей.
Клавдия Николаевна держалась того мнения, что, поскольку Борис Николаевич не довел переработку своих стихотворений до конца, поскольку в результате начатой переработки (1929–1931) от Белого-поэта, каким его постепенно узнавала читающая Россия, в первом томе подготовлявшегося автором двухтомного собрания его стихотворений – в «Зовах времен» – долетают лишь неясные отзвуки, «Зовы времен» следует печатать как отдельный сборник.
Клавдия Николаевна предполагала представить в «Избранном» все сборники стихотворений Андрея Белого, начиная с «Золота в лазури» и кончая «Зовами времен», включить поэму «Первое свидание» и несколько поздних стихотворений, не вошедших ни в один сборник. Стихотворения из дореволюционных сборников она хотела дать с учетом только той позднейшей авторской правки, которая устраняла явные погрешности» но не меняла лексики и системы образов прежнего Андрея Белого.
Клавдия Николаевна постепенно пополняла заведенную ею картотеку отзывов о творчестве Андрея Белого, составляла его словарь, постоянно обращаясь за советами к Томашевскому и Винокуру. Над всем этим она трудилась, сознавая, что опубликования ее работ ей не дождаться.
Клавдия Николаевна начала писать воспоминания об Андрее Белом. Написала несколько глав. (Их копии, сделанные от руки, Клавдия Николаевна мне подарила.) Надо надеяться, что они когда-нибудь увидят свет. Поэтому я позаимствую из ее рассказов лишь несколько черточек, отсутствующих в воспоминаниях.
– Одно из любимых стихотворений Бориса Николаевича – «Восток белел. Ладья катилась…» Тютчева, – рассказывала Клавдия Николаевна. – Он любил читать его наизусть. Эти тютчевские «Восток белел», «Восток алел», «Восток вспылал» он произносил по-разному, все усиливая звук и повышая экспрессию. Вы слушали и видели сначала медленную борьбу со тьмой солнечного света, а потом – бурное его торжество.
Один из самых близких Борису Николаевичу поэтов был Баратынский. Если бы вы слышали, с какой безнадежной тоской читал он это его стихотворение:
На что вы, дни! Юдольный мир явленья Свои не изменит! Все ведомы, и только повторенья Грядущее сулит.Дмитрий Михайлович ведь вам тоже говорил, что Борис Николаевич прекрасно читал стихи.
Борис Николаевич говорил, что, как художнику, ему ближе Достоевский, чем Лев Толстой, но близость эта для него – тяжелый крест, который он несет, так как иначе писать не может, хотя мечтал бы принадлежать к школе Толстого. Как человек, он тянется к Толстому – он чувствует, что ему не хватает толстовского душевного здоровья.
Свои воспоминания Борис Николаевич писал «между делом» и называл их «благородной халтурой».
В столовой у Клавдии Николаевны висели на стене портреты в том порядке, в каком она развесила их при жизни Бориса Николаевича: портрет его отца, профессора Николая Васильевича Бугаева, портрет маленького мальчика Бори Бугаева, портрет Андрея Белого в его зрелые годы, портрет Толстого, портрет молодого Блока с дарственной надписью «Боре».
У меня был период резкого неприятия почти всего Толстого. В ту пору многое меня раздражало даже в «Войне и мире». И в разговоре с Клавдией Николаевной я бестактно принялся бранить Толстого.
Клавдия Николаевна остановила меня:
– Коля! В доме Бориса Николаевича и в моем доме Толстого ругать нельзя.
В первый и последний раз я услышал в голосе Клавдии Николаевны ноты неудовольствия и приказания.
– Борис Николаевич верил в благодетельную и губительную силу слова. Он учил, что со словом надо обращаться осторожно, что словом даже на расстоянии можно причинить человеку зло, что слово может ранить и убить, что шутить со словом нельзя, что «красные словца» опасны. Борис Николаевич вспоминал, что у кого-то в его присутствии Клюев читал свой «Плач о Сергее Есенине». Пришла послушать Клюева жившая у хозяев в прислугах старая крестьянка. Когда Клюев произнес первую строку:
Помяни, чертушко, Есенина —старушка встала и ушла. И Борис Николаевич добавлял: «Нам всем надо было уйти вслед за ней».
Борис Николаевич говорил, что к Горькому у него двойственное отношение, потому что и у Горького две души, светлая и темная.
Читая Пильняка, Борис Николаевич восклицал:
– Все у меня хватает. Только у меня это со смыслом, а у него – без всякого смысла… А все-таки он талантлив!
Борис Николаевич не любил Пруста, говорил, что от его подробностей мельтешит в глазах, что он теряет чувство меры в детализации. Джойса не выносил. Он уверял, что это полный распад формы.
Еще одну черточку беру из воспоминаний об Андрее Белом его свояченицы, Елены Николаевны. Единственный экземпляр этих воспоминаний, начатых ею в первый год войны и обидно скоро оборванных, хранится у меня – Клавдия Николаевна мне его подарила.
Елена Николаевна вспоминает лето 32-го года, когда к ней, отбывавшей ссылку в Лебедяни, приезжали погостить Борис Николаевич и Клавдия Николаевна:
В те дни, когда из-за сырости нельзя было идти в поле, мы заменяли прогулки «посидами» у окна. Вели, покуривая, разговоры, больше предаваясь воспоминаниям далекого детства, путешествий, пережитого опыта жизни. Борис Николаевич почти каждый раз касался Блока и говорил о нем, в эти тихие часы, всегда с огромной любовью и горечью, что не вышли отношения такими, какими могли бы и должны были быть, Любовь к Блоку, несмотря ни на что» Борис Николаевич пронес через всю свою жизнь.
Война сблизила меня с двумя ленинградскими учеными: Борисом Викторовичем Томашевским и Александром Леонидовичем Слонимским.
В начале зимы 42-го года я от кого-то услышал, что из все еще блокированного Ленинграда эвакуировался на самолете в Москву Борис Викторович Томашевский и что от него остались кожа да кости.
Вскоре я забежал днем к Клавдии Николаевне Бугаевой и застал у нее Бориса Викторовича и его жену, историка русской литературы XIX века Ирину Николаевну Медведеву-Томашевекую. С этого и началось наше знакомство. Я пригласил их к нам. Они стали к нам заходить – и вдвоем, и порознь, и с детьми, а я частенько залетал в их временное однокомнатное пристанище на Пречистенском бульваре.
Внешность Бориса Викторовича была ничем не примечательна, как-то подчеркнуто, озадачивающе заурядна. Лицом он походил то ли на почтмейстера, то ли на секретаря уездной земской управы. Только пера за ухом не хватало. Ничего не выражающие, скучные, сонные за очками глаза. Ничего не выражающие – на первый взгляд. Ничего не выражающие – если разговор его не интересовал. Но как же быстро они просыпались, какие насмешливые блестки порою в них загорались, какой ясный глядел из них ум, какое участие пробуждалось в них к собеседнику!
Опять-таки на первый взгляд – нелюдим, бука. Таким Борис Викторович был с незнакомыми или с неприятными ему людьми.
Его чуткость я испытал на себе.
В 49-м году я первый раз в жизни поехал в Ленинград. Теперь мне совестно в этом признаться, но меня не тянуло в чужой город, где я, как мне казалось, заблужусь при выходе с перрона. К чувству страха перед чужбиной, какой мне виделся издали Петербург, примешивалось беспокойство. Я ехал по делу Ленинградское отделение Гослитиздата поручило мне редактуру перевода плутовского романа Кеведо «История пройдохи». Этот роман перевел Константин Николаевич Державин. Мне предстояло с ним впервые встретиться для согласования моих поправок и замечаний. Как-то произойдет наша встреча? Примет ли Державин мои предложения? Не ударится ли в амбицию? Ведь он – один из трех наших лучших испанистов (Державин – Кржевский – Кельин), а я тогда еще был не близок к завершению перевода «Дон Кихота», и Державин мог меня знать лишь по переводам прескверной современной испанской и латиноамериканской литературы да по нескольким переводам из Сервантеса. Скажу наперед, что наша встреча с Державиным переросла в дружбу, да такую крепкую, что Константин Николаевич, уже умирая, нашел в себе силы прислать мне из больницы открытку. Но в день приезда в Северную Пальмиру мною владела сиротливая робость.
Поезд приходил поздно. Прямо с вокзала – с корабля на бал я отправился на Невский, в Ленгослитиздат, и оттуда позвонил Томашевским: просто чтобы сообщить им о моем приезде и условиться о свидании.
Ирина Николаевна спросила, где я остановился. Я ответил, что мне будут сейчас искать номер в гостинице.
– Да зачем вам мыкаться по гостиницам? Остановитесь у нас, – повелительным тоном сказала Ирина Николаевна, – Вы еще долго пробудете в издательстве?
– С полчаса.
– К нам от издательства два шага.
Ирина Николаевна объяснила, как к ним пройти (жили они на Екатерининском, близ Спаса-на-Крови).
Я продолжил переговоры с сотрудниками издательства. Вдруг как из-под земли вырос Борис Викторович. Я был уверен, что он пришел по своему делу, и ждал, что он заговорит с главным редактором Горским. Но Борис Викторович хранил упорное молчание. После паузы он обратился ко мне:
– Ну как? Вы обо всем переговорили? Тогда пойдемте к нам.
– Простите, Борис Викторович, что я заставил вас ждать. Но я думал, что у вас тут свои дела.
Борис Викторович усмехнулся в усы:
– У меня здесь давно уже никаких дел нет. Как литератору, мне сюда вход воспрещен. (Борис Викторович намекал на то, что после того, как его «проработали» за «низкопоклонство перед Западом», Гослитиздат прекратил с ним деловые отношения.)
Горский заерзал в кресле:
– Да что вы, Борис Викторович!.. Да мы… Да вы… Да мы вас так…
Борис Викторович откланялся, и мы вышли.
Доведя меня до своего подъезда, Борис Викторович направился в Пушкинский дом, где он тогда заведовал рукописным отделом.
От издательства до писательского дома, где жили Томашевские, было и впрямь рукой подать, я бы не заблудился при всем желании, но, конечно, приход Бориса Викторовича меня обрадовал, чувства затерянности я с той минуты в Петербурге уже не испытывал.
Когда Томашевский делал добро, он становился как-то особенно угрюмым. И когда он играл с маленькими детьми, лицо у него было сердитое, что не мешало детям к нему льнуть.
В гневе Томашевский мог быть резок» чуть ли не драчлив. Чаще всего пробуждало в нем гнев нахальство неучей и бездарностей.
Ирина Николаевна рассказывала мне об одной вспышке Бориса Викторовича. Это было в ту пору, когда он готовил к столетию со дня гибели Пушкина его однотомник. Редактор Николай Леонидович Степанов, человек не чересчур высоко образованный, тугоухий текстолог и стиховед, осмелился «перепахать» комментарий Томашевского. В верстке Томашевский все восстановил. В сверке Томашевский обнаружил, что Степанов без согласования с автором снова переделал его комментарий по-своему.
Когда Степанов явился к Томашевскому, тот, показав на корректуру, грозно спросил:
– Это что такое? Что вы тут опять натворили, да еще без моего ведома?
– Да я ничего… я только хотел оживить комментарий… – пролепетал почуявший недоброе Степанов.
– Вон! – крикнул Томашевский, схватил Степанова за шиворот, выволок в переднюю, левой рукой отворил дверь и выставил незадачливого пушкиниста на площадку.
– Моя шляпа! Мой портфель! – взвыл на площадке Степанов.
Дверь снова отворилась, и в Степанова полетели портфель и шляпа.
Во время войны Томашевский по просьбе редакции русской классики Гослитиздата отрецензировал какое-то издание Пушкина. Рецензия была убедительно разгромная. Когда Борис Викторович пришел в редакцию, готовивший это издание мелкоплавающий литератор попробовал отстоять свои «принципы».
– Гражданин Костицын! Вы – невежда, и я не желаю с вами разговаривать, – отрезал Томашевский и заговорил с кем-то еще.
В 50-х годах на текстологической конференции в Москве, в Институте мировой литературы, Томашевский произнес преисполненную яростных сарказмов речь против текстологической «школы», возглавлявшейся Верой Сергеевной Нечаевой, Какой-то ее циркуляр он назвал «Символом Веры Сергеевны Нечаевой».
Громоносности его полемических стрел, свирепой стремительности его жестов, подкрепляющих мысль, мог бы позавидовать Маяковский. Толстовец Гусев, старый леший с выделанно благостным выражением лица, вступился за прекрасный пол: нельзя, мол, таким тоном говорить о почтенной женщине.
– Обо мне последние тридцать лет говорят и пишут в таком тоне, что один раз за тридцать лет я могу позволить себе говорить о ком угодно в любом тоне, – отразил удар Томашевский.
Так Томашевский иногда позволял себе говорить с начальством, с возмутившими его коллегами. А с теми, кто от него зависел, он говорил совсем другим тоном, даже если эти зависимые лица напрашивались на взбучку и окрик.
Во время войны Томашевский одно время заведовал учебной частью в Московском литературном институте имени Горького, преподавал теорию литературы и вел семинар по Пушкину. Несмотря на то, что я иногда изнемогал под непривычной тяжестью домашних обязанностей, да и работенка время от времени мне перепадала, я с разрешения Бориса Викторовича посещал его лекции и семинар.
Томашевский-лектор обладал теми же счастливыми свойствами, что и Томашевский-исследователь: зримостью хода мысли, стройностью архитектоники (сказывался математик, окончивший технологический институт в Льеже, и в 30-х годах, когда его отлучили от литературы, преподававший высшую математику в Ленинградском институте инженеров транспорта). Временами создавалось впечатление, что Томашевский присутствовал при рождении какого-нибудь прозаического отрывка, стихотворения, что Батюшков и Пушкин допускали его в свое «святая святых» или делились с ним заветными тайнами своего искусства.
Томашевский не бил на эффект, не подлаживался и не подольщался к аудитории. Стиль его лекций был тот же, что и стиль его книг и статей; суховато деловой. Только если он замечал, что студенты устали, что внимание их притупилось, он вплетал в лекцию шутку, но шутку, имевшую непосредственное отношение к теме. Процитирует, к примеру, строчку о Готфриде Бульонском из перевода Тассова «Освобожденного Иерусалима», принадлежащего, если не ошибаюсь, Раичу:
Вскипел Бульон, течет во храм…Дружный смех… Разрядка… Теперь можно продолжать разговор о «матерьях важных».
Все это я клоню, однако ж, к «разнотонности» Томашевского. Я присутствовал при том, как он принимал у студентов зачеты, и дивился его кротости и долготерпению. Далеко не все слушатели Томашевского доказывали, что они хорошо усвоили его курс. Из иных ответы надо было вытягивать клещами, не сразу помогали наводящие вопросы, от иных Томашевский так и не добивался толку. Но он был снисходителен до того, что за некоторых отвечал сам, лишь бы выставить им удовлетворительную отметку. В иное время он, наверное, был бы во много раз требовательнее. Но он знал, что студенты подголадывают, что их то и дело посылают на «трудовой фронт», что когда они готовятся к сдаче экзаменов и зачетов у себя в общежитии, изо рта у них идет пар, и строго взыскивать с них у него не хватало душевной твердости, вернее – черствости.
Начальства он не слушался. В Литературном институте он по праву заведующего учебной частью сплотил такой состав преподавателей, что тогдашние студенты вспоминают о нем как о блаженном сне. Он пригласил Сергея Михайловича Бонди, Григория Осиповича Винокура, Александра Леонидовича Слонимского, Алексея Карповича Дживелегова, Александра Александровича Реформатского, из писателей – Леонова, Федина. Директор Федосеев предложил ему пригласить малограмотного автора псевдоисторических романов, в области перевода не брезговавшего и плагиатом, Анатолия Виноградова, путавшего французские слова poile (печь) и poil (шерсть), объяснявшего, что французское слово les aristes (презрительная кличка аристократов, имевшая хождение во время Великой французской революции) – это испанское слово aristos.
Томашевский отказался взять Виноградова. Федосеев растерялся:
– Да как же, Борис Викторович! Ведь насчет него мне был звонок из ЦК!
– А для меня звонок из ЦК ровно ничего не значит, – огорошил Федосеева Томашевский. – Пусть пришлют мне из ЦК официальное предписание…
У Томашевского мысль и слово в иных случаях расходились с делом, но это расхождение всякий раз вызывалось не беспринципностью, а душевным его благородством.
Томашевский был атеистом. Но когда, в 30-м году, в Пушкинском доме его попросили поставить подпись под коллективным протестом против заявления папы римского о преследовании религии в СССР, он своей подписи не поставил, так как считал, что в СССР религию преследуют, и этот отказ послужил одной из причин его временного устранения из Пушкинского дома.
Томашевский был поклонником французской культуры, о чем свидетельствуют многие его работы. Германская культура его к себе не влекла. Он многое мог бы сказать о немецко-фашистском варварстве. Но когда ему во время войны предложили в Москве выступить по радио для французов на тему «Бей немца!» – он уклонился, уклонился единственно потому, что не хотел вмешивать свой голос в эренбуржий вой.
– О чем, собственно, я стану говорить? О немецких зверствах? Чья бы корова мычала, только уж не наша…
Друг Ахматовой, Томашевский скептически отзывался о ее патриотической лирике начала 40-х годов.
– «Славно начато славное дело…» – цитировал он ее стихотворение «Победа». – Славно начато, а вот славно ли кончится? Ведь начато оно под руководством тех, которые ни за что» ни про что засадили ее сына. Может ли Ахматова ручаться» что после войны верховоды не засадят многих из начавших и продолжающих славное дело и не объявят новый набор в концлагеря?..
Пророчество Томашевского сбылось с беспощадной точностью. Новый набор в концлагеря объявили в 49-м году, снова посадили посаженного в ежовщину, а потом воевавшего сына Ахматовой, ее отблагодарил за патриотические стихи сначала ЦК в постановлении о журналах «Звезда» и «Ленинград», а потом и «лично товарищ Жданов» в своем докладе, произведении в своем роде единственном, какого история русской общественной мысли не знала со времен своего рождения-. Рано пташечка запела – как бы кошечка не съела…
До войны дважды сидевший в тюрьме, отбывший ссылку и не прописанный в Ленинграде историк русской общественной мысли и русской литературы Иванов-Разумник, наезжая из Царского Села в Петербург, останавливался у Томашевских, чем мог подвести хозяев под неприятности.
В 46-м году почти весь литературный Ленинград отшатнулся от Зощенко и Ахматовой.
Зощенко, вспоминая о своей случайной встрече с бывшим «серапионовым братом» Михаилом Слонимским, говорил:
– Он прошел мимо меня, как астральное тело. А злые языки придумали, будто Михаил Слонимский, столкнувшись с Зощенко и не поздоровавшись с ним, все-таки прошептал:
– Миша! У меня жена и сын…
Томашевский и его семья участили встречи с Зощенко и Ахматовой у себя в квартире.
Простодушный Зощенко иногда звонил им по телефону (он жил в том же доме и в том же подъезде):
– Ирина Николаевна! Можно, я сейчас приду к вам послушать Би-Би-Си?
А тогда за слушание иностранного радио «давали срок». Дочь Бориса Викторовича Зоя ежедневно возила Ахматовой в судочках обед.
В 47-м году Ирина Николаевна приезжала в Москву, чтобы в узком кругу надежных людей собрать для Ахматовой денег.
Когда мы с Борисом Викторовичем заговорили о формализме, я спросил, как он относится к своей «формалистско-опоязовской»[85] молодости.
– От формализма я отошел давно, – ответил Борис Викторович, – Но от меня требуют, чтобы я отрекся от него громогласно, бия себя в грудь, на площади. А я на такие отречения не мастер, как далек мне теперь формализм – это видно по моим работам.
От формализма разговор перешел к Маяковскому, с которым в период «смычки» опоязовцев с лефовцами Томашевский общался и в аудиториях, и в частных домах.
Мне запомнились его слова:
– Маяковский ни во что не верил: ни в чох, ни в сон, ни в революцию. Ему надо было содержать оплывшую жиром нэповскую чету Бриков, ради этого он строчил свои агитационные и рекламные стихи и поэмы – и погубил себя как поэта.
Томашевский был свободен от схоластического педантизма. В мою память вросло его изречение: «Нет текстологии “вообще” – есть текстология данного автора».
Рассказывая о мытарствах, претерпевавшихся пушкинистами, Томашевский признался:
– Можно было бы составить целый список тем, которых нам не дозволено касаться в печати… Ну, например, прихода Пушкина к христианству. А что он от юношеского озорного, неглубокого вольтерьянства пришел к христианству – об этом неопровержимо свидетельствуют и его поздние стихи, и его письма.
Не любитель был Борис Викторович подглядывать в замочную скважину, чем занимаются изучаемые им писатели, и подслушивать их разговоры. Когда я задал ему вопрос, касавшийся семейной жизни Пушкина, он ответил с легким оттенком брезгливости в голосе:
– С такими вопросами вы обращайтесь к другим пушкинистам – меня они не интересуют.
Любимым прозаиком Бориса Викторовича был Достоевский. Сравнивая его с Львом Толстым, он между прочим заметил:
– «Войну и мир» вполне можно себе представить без толстовских отступлений на военно-исторические темы. А попробуйте вынуть из «Братьев Карамазовых» поучения Зосимы – роман сразу пошатнется. Если вынуть беседы Зосимы, тогда для равновесия надо вынуть и «Великого инквизитора». Поучения Зосимы – это не нарост, это одна из тканей живого организма.
Томашевский обладал способностью одной фразой проколоть кого-либо, как булавкой – жука. Вот его приводимый мною дословно отзыв о поэзии Константина Симонова:
– Симонов – поэт для парикмахеров, ставших в армии майорами.
Или – о вступительной статье Д. П. Святополк-Мирского к двухтомному полному собранию стихотворений Баратынского в Большой серии «Библиотеки поэта» (1936):
– Мирский написал статью под одним из любимых лозунгов наших историков литературы; «Классики хорошо делали свое грязное дело».
Томашевский остро и тонко чувствовал искусство перевода. Он осуждал буквалистскую переводческую школу.
Пока Борис Викторович не переехал в Ленинград, я много раз просил у него совета, если что-то у меня в переводе не ладилось. Просил, приходя к нему без предварительного уговора на Пречистенский бульвар (телефона ни у него, ни у меня не было) и отрывая его от занятий, – он выходил ко мне из-за ширмы, за которой стоял его бивуачный письменный столик, – ловя его в Институте, в перерыве между лекциями. И не было случая, чтобы я ушел от Бориса Викторовича, не солоно хлебавши. И ни разу я не заметил на его лице выражения досады на то, что я помешал. Напротив; видно было, что помогать младшим товарищам – это для него удовольствие.
Переводя этюд Анатоля Франса о Верлене, я наткнулся на неясный намек: с Верленом-де приключилось то же, что с «gai compagnon de Vaudevire». Старый перевод, в который я заглянул, света не пролил. Там было сказано, что с Верленом произошло то же, что с «веселым собутыльником Водевира». Напрашивался вывод, что у некоего Водевира был веселый собутыльник, и с Верленом случилось то же, что с загадочным Водевировым собутыльником.
Это уравнение со всеми неизвестными предложил читателю автор перевода, романист Локс.
Инженер по образованию, «русист» по специальности, Томашевский, немного подумав, ответил:
– Ах, это французский поэт пятнадцатого века Баслен!
И тут он мне прочел краткую лекцию о нормандском сукноделе Баслене с его забавными куплетцами, сперва называвшимися в честь его родного края водевирами, потом – водевилями, которые, в свою очередь, дали название комедийкам с куплетами.
Я не удержался от восклицания:
– Как много вы знаете, Борис Викторович!
В голосе Бориса Викторовича, возразившего мне, самый изощренный слух не уловил бы ложной скромности, унижения паче гордости. Он ответил мне серьезно, даже, я бы сказал, строго:
– Напрасно вы так думаете. Я знаю совсем не много. Я только твердо знаю, чего я не знаю, и обычно знаю, где найти то, чего я не знаю…
Ранней весной 42-го года в столовой Союза писателей появился невысокого роста пожилой брюнет с расчесанными на прямой пробор, тронутыми сединой гладкими волосами, с благородно семитическим типом лица. Почему-то он сразу остановил на себе мой взгляд. Увидев, что он подошел к Томашевскому и заговорил с ним, я потом спросил Бориса Викторовича, кто это. Оказалось, что это совсем недавно эвакуировавшийся на самолете из Ленинграда Александр Леонидович Слонимский, сын публициста, ближайшего сотрудника «Вестника Европы» Леонида Зиновьевича Слонимского, племянник историка русской литературы Семена Афанасьевича Венгерова (родного брата его матери, Фаины Афанасьевны) и в предреволюционное время известной переводчицы Зинаиды Афанасьевны Венгеровой (второй жены поэта Минского), старший брат прозаика Михаила Слонимского, автора никем, кроме него самого и его ближайших родственников, не читавшихся и не читаемых, «маловысокохудожественных» произведений, как-то; «Лавровы» и «Фома Клешнев». (Когда мы с Александром Леонидовичем сошлись на короткую ногу, он не скрывал, что презирает брата за холуйство в литературе и в жизни. «Мишу я терпеть не могу!» – запальчиво говорил он.)
Пользовавшуюся успехом у «старших школьников» повесть Александра Слонимского «Черниговцы» я не читал. Но зато как раз за несколько дней до этой встречи я с чувством удовлетворения прочел его вступительную статью к трехтомнику Пушкина, вышедшему в 40-м году под его общей редакцией в Большой серии «Библиотеки поэта». Мне и сейчас представляется верным то краткое определение стилевого принципа поэзии Пушкина, какое дает в этой статье Слонимский. В самом деле, такой, как у Пушкина, слитности приемов разговорной речи с интимно-задушевной интонацией и с музыкальностью стиха мы не найдем ни у кого из русских поэтов, – ни до, ни после него.
В статье Слонимского нет ни намека не только на «роман» Натальи Николаевны с Николаем Первым, но и на ее «роман» с Дантесом, ни намека на то, что дуэль Пушкина с Дантесом была якобы «организована» царем.
В один из следующих дней Борис Викторович познакомил меня со Слонимским.
Потом мы с Александром Леонидовичем виделись уже не только в писательской столовой или в Литфонде, куда члены Союза писателей в начале каждого месяца относили заверенные домоуправлениями и удостоверявшие, что они – не «мертвые души», что они действительно проживают там-то и там-то, «стандартные справки», на основании которых им в конце месяца выдавали в том же Литфонде продовольственные и промтоварные карточки и где – по большей части, тщетно, – пытались они получить «ордера» на носильные вещи для себя, для жен и детей. Мы стали встречаться друг у друга за чайным столом» после войны жили целое лето у одного дачевладельца. Постепенно мы сблизились. Свою книгу «Мастерство Пушкина» Александр Леонидович подарил мне с надписью;
Дорогому Коле Любимову, несравненному переводчику «Дон Кихота» и прочих шедевров, от любящего и глубокоуважающего автора. 14 августа 1959 Москва.
С течением времени я убедился, что Слонимский-собеседник – и, вероятно, лектор – одареннее Слонимского-писателя.
Разумеется, когда судишь русских писателей послереволюционной эпохи, писателей-неэмигрантов, то необходимо принимать в соображение тройной гнет: гнет цензоров, именуемых издательскими редакторами, заведующими редакциями, заместителями главных редакторов, главных редакторов и директоров, гнет собственно цензоров, и, быть может, наиболее тяжкий гнет – гнет предварительной самоцензуры.
Историк литературы Андрей Венедиктович Федоров, шутя над какой-то своей статьей, процитировал мне первую строку из стихотворения Случевского, заключающего «Песни из “Уголка”»:
Что тут писано, писал совсем не я…Многие советские литераторы могли бы так же горько подшутить над собой.
Но и от строгого учета силы давления цензурного пресса книга Слонимского «Мастерство Пушкина» выигрывает не намного. И напрасно Слонимский включил в нее раннюю, совсем уж незрелую статью о «Пиковой даме» (то была жертва на алтарь расцветшего в начале революции и по существу тогда уже чуждого Слонимскому формализма) – статью, впоследствии со справедливой жестокостью высмеянную А. 3. Лежневым в «Прозе Пушкина».
Пушкин в письмах употреблял выражение: хотеть чего-нибудь брюхом. У Слонимского «брюхо» было чувствительное, и это уберегло его от преувеличений и от преуменьшений, какими грешили почти все формалисты – да и далеко не они одни, это грех, пожалуй что, большинства историков литературы, – создававшие образ писателя по своему собственному начетническому образу и подобию, по образу и подобию книжного червя, свысока смотревшие на Алексея Константиновича Толстого, – а ведь его любили Достоевский и очень разные поэты, от Бунина до Хлебникова! – свысока смотревшие на Есенина, которого любил Пастернак, проморгавшие второе, послереволюционное рождение Сергеева-Ценского, вряд ли даже заглянувшие в его «Обреченных», но зато любовавшиеся кунсткамерой, которую являли собой «исторические романы» Тынянова» где вместо людей не действуют, а фигурируют, по его же собственному выражению, «восковые персоны». Слонимский прежде всего определял силу веяний жизни в художественном произведении. Степень влияния на писателя прочитанных им книг, конечно, интересовала его, но – не в первую очередь. И это роднило меня со Слонимским. Опять-таки в противоположность большинству историков литературы, Слонимский чувствовал воздух разных эпох русской жизни, и это меня тоже в нем привлекало.
Должно полагать, Тургенев читал Анну Редклиф, но попробуйте найти у него самомалейший след ее влияния. А вот ее воздействие на Достоевского неоспоримо. Достоевскому было чему у нее поучиться. В известной мере она была близка ему кругом тем, приемами композиции и сюжетосложения. Как только для художника кончается время «рабского, слепого подражанья», первоисточником творчества служат ему воспоминания его детства и юности, непосредственные впечатления от окружающего мира, хотя бы даже – мирка, его мысли, его душевный опыт, семейные предания, рассказы бывалых людей, на ловца со всех сторон бегут звери, а в ходе работы ему помогают предшественники и современники, двигавшиеся или движущиеся в том же направлении, что и он. Таков путь художников, а не литераторов (hommes de lettres), облекающих свои добро бы еще идеи, как «Вольтер и Дидерот», как Анатоль Франс, а то ведь идейки, обноски идей, как «досоветский», еще фрондировавший Илья Эренбург, в форму романа, новеллы, поэмы, трагедии.
Слонимский, как и Томашевский, отдавая должное Тынянову-ученому, не выносил его упражнений в «историко-романическом» роде, особенно его неоконченный роман «Пушкин».
– Тынянов подменяет психологию Пушкина психологией мальчика из интеллигентной еврейской семьи! – сыпалась его азартная отчетливая скороговорка, которой аккомпанировали короткие, быстрые взмахи рук. – В Царском Селе Пушкин, видите ли, «постепенно свыкся с садами». Это Тынянову надо было «постепенно свыкаться» с новой обстановкой, потому что он нетвердо знал, где у него правая рука, а где левая. Пушкин с его непоседливой любознательностью наверняка в первый же день обежал все сады. С его зоркостью ему не надо было «учиться отличать» их – да он сразу ухватил их приметы! А как у Тынянова говорит Арина Родионовна: «Мундирчики, лошадушки, ребятушки, шапонька…» Где Тынянов слышал такую, с позволения сказать, «народную» речь?.. И какая худосочная эротика! Эротика не то онаниста, не то импотента… Как можно приписывать ее Пушкину? Слава Богу, он с молодых лет был по этой части не промах.
Слонимский не прощал несведения концов с концами даже большим писателям, даже великим.
На даче он попросил меня дать почитать ему Гауптмана, один том которого я захватил с собой из Москвы, а спустя несколько дней, возвращая книгу, сказал:
– Когда я перечитывал Гауптмана («Ганне ле» и «Потонувший колокол – это особь статья), у меня было такое чувство, как будто я – в классной комнате, а передо мной лежит задачник Евтушевского… И что Гауптман развел в «Одиноких»? Иоганнес уверяет родителей и жену, что Анна Мар – не его возлюбленная, а друг. Почему же он топится, когда она уезжает? Уж какие мы с Аркадием Семеновичем Долининым друзья, но он остался в Ленинграде, я переехал в Москву, и, однако, не прыгнул же я в Москву, а он в Фонтанку!
Не жаловал Слонимский и другого кумира конца XIX – начала XX века: Генрика Ибсена.
Я заговорил с ним о «Строителе Сольнесе»: стоило, ли, мол, писать трагедию о мошеннике, крадущем идею у своего ученика, и может ли служить мерилом духовной высоты человека его боязнь или небоязнь высоты пространственной? Сверзиться с лесов высокого здания может и мерзавец, и глубоко порядочный человек – или потому, что они страдают вестибулопатией, или потому, что они сами были неосторожны.
Слонимский обрушился на «Нору»:
– А скажите, пожалуйста, почему мы обязаны восхищаться нечистоплотной в материальных делах Норой и считать подвигом то, что она бросила не только мужа, но и малолетних детей?
Обнаруживал Слонимский несообразности и у позднего Льва Толстого, который вообще не входил в число самых больших его любимцев, – знал и любил он многих, обожал четырех: Пушкина, Гоголя, Достоевского и Островского:
– Толстого с его-то ощущением реальности так заворожило «толстовство», что в конце концов ему стали изменять и чувство справедливости, и здравый смысл. Он вбил себе в голову, что искусство пагубно для человека. И вот он уже забывает, что его Позднышев – убийца, изверг, злодей, и позволяет ему произносить обличительные тирады, а мы почему-то должны терпеливо выслушивать его рацеи, и не просто выслушивать, но и сочувствовать!.. Доктора видите ли, развращают человечество, английские лорды обжираются… Позднышеву за зверское убийство жены, – даже если б она ему изменила, – на каторге место, а он еще смеет разглагольствовать!
О «Воскресении» и о «Братьях Карамазовых»:
– Из-за чего, собственно, у Толстого сыр-бор горит? Суд, по особому заказу Толстого подобранный сплошь из карьеристов и мелких себялюбцев, допускает судебную ошибку, неправильно применяет закон. Нехлюдов подает прошение на высочайшее имя, и ошибка исправляется: каторга заменена Катюше поселением. Совсем освободить Катюшу от наказания нет оснований. Как бы ни был мерзок купец, подсыпать ему порошку, – ведь она же не знает, что это за порошок, – значит совершить хоть и неумышленное, но все же преступление… Нет, ты вот как Достоевский! Состав его суда, за исключением криводушного адвоката, безупречный… Но это суд людской, а самому нелицеприятному людскому суду свойственно заблуждаться, и вот даже суд, который сознает всю свою юридическую и нравственную ответственность, осуждает Митю на каторгу. Но у Достоевского ничто не нарушает логики его сложного философского и художественного мышления. Да, суд вынес Мите формально неправильный приговор, но с точки зрения высшей, божеской справедливости Митя его заслужил: он не убил отца, однако мог бы убить, – значит, страдает он все-таки не безвинно. Он должен искупить свои преступные мысли.
Школу «медленного чтения» я проходил, не только читая Гершензона, но и слушая «лекции на дому»: «лекции» Пинеса, а через десять лет – «лекции» Слонимского.
Жизнь Пушкина занимала Слонимского не меньше, чем его творчество. Он, как и Леонид Гроссман, был высокого мнения о душевных качествах Натальи Николаевны, утверждал, что она была верной женой и другом Пушкина.
– Сплетни о ее «романах» с Николаем Первым и с Дантесом подхватили титуляшки, начитавшиеся Белинского, и на этих же сплетнях поживился грязная свинья – Щеголев! – с гадливой пылкостью восклицал Слонимский.
Узнав, что семейными делами Пушкина занялась Ахматова, Слонимский встревожился:
– Не бабье это дело. Ахматова – поэт, ей стихи нужно писать, а не судить и рядить сестер Гончаровых. Конечно, наврет с три короба и очернит Наталью Николаевну.
Наш разговор о ближайшем окружении Пушкина иной раз переходил на Николая Первого. Слонимский брал под защиту и его:
– Нельзя же вешать на него всех собак! По делу декабристов он вынес мягкий приговор. Петербургское дворянство настаивало на казни «хотя бы ста человек». И ведь Николай прекрасно знал, что в случае победы декабристы собирались уничтожить не только его, но и всю его семью. С Пушкиным в самых важных случаях он вел себя как джентльмен. Вспомните историю с «Гавриилиадой». Это был отличный предлог упечь Пушкина в Соловки. Но он им не воспользовался – он прекратил дело. Конечно, он не всегда был достаточно тактичен, но почему мы каждое лыко ставим ему в строку, почему мы смотрим на него только со стороны, а не изнутри его? Почему мы смотрим на него из двадцатого века и не принимаем во внимание, что каждый человек – в той или иной степени – сын своей эпохи? К тому же – воспитание! К тому же – среда, А его отношение к Гоголю? А история c «Ревизором»? Он понимал» что в этой пьесе «больше всех досталось ему», и, однако, разрешил же ее! Воспитание наследника поручил гуманнейшему Жуковскому» который вечно надоедал Николаю заступничеством за его врагов. Сошелся c Аполлоном Григорьевым и том, что не Печорин, а Максим Максимыч – самое значительное лицо в лермонтовском романе. Льва Толстого велел убрать с опасного места во время Севастопольской кампании» хотя Толстой тогда еще не был автором «Войны и мира». А вот Полежаев написал своего похабного «Сашку» – не смей трогать. Нахулиганил Соколовский – тоже не смей трогать. Ох уж эти герценовские колокола! Пожил бы звонарь в наше время, показали бы ему его далекие потомки, где раки зимуют, так он не то что Николая Первого – Анну Иоанновну встретил бы с колокольным звоном! Я начал было перечитывать «Былое и думы» – не осилил. Скучно… Скучно и противно. Весь погряз в эмигрантских дрязгах.
Слова Александра Леонидовича о Николае Первом перекликаются, как я установил позднее, со словами Гончарова из его воспоминаний («На родине», V): «Удят из прошлого какую-нибудь личность, отделяют ее от времени, точно отдирают старый портрет от холста, от освещения, от колорита, аксессуаров обстановки, и неумолимо судят ее современным судом и казнят, что она носит девизы и цвета своего века» его духа, воспитания, нравов и прочих условий. Это все равно, что судить, зачем лицо из прошлого века носило не фрак, а камзол с кружевными манжетами, и, пожалуй, еще зачем не ездило по железной дороге».
Само собой разумеется, «революционных демократов» Слонимский не жаловал. По венгеровской инерции он делал исключение для Белинского, да и то – со значительными оговорками. Я высказал ему ту мысль, что Белинский, автор «Письма к Гоголю», – родоначальник советской критики. Он первый ввел в русскую критику шулерские приемы. Это у «неистового Виссариона» Ермилов и К° научились передергивать, выдергивать цитату из контекста, обрывать ее там, где выгодно критику, придавать написанному в шутку серьезный смысл, придавать фигуральному выражению смысл буквальный – ведь именно так эта бранчливая баба, демагог, видевший Россию не шире и не дальше, чем это ему позволяли размеры окна его кабинета (характерная черта всех наших пред социалистов, социалистов и коммунистов – от Виссариона Григорьевича до Иосифа Виссарионовича), именно так полемизировал он с «Перепиской Гоголя».
В следующую вату встречу Александр Леонидович сказал:
– А ведь насчет Белинского вы правы. Я перечитал его «Письмо к Гоголю», «разносы», которые он учинял Марлинскому, Бенедиктову. Корни рапповского метода, корни доклада Жданова о Зощенко и Ахматовой, корни нынешних статей из «Правды» и «Литературной газеты» действительно в Белинском. И какое невежество! Ведь азов русской истории не знал!.. Но он был человек талантливый, по-своему любил литературу и иногда проявлял удивительную прозорливость, как с Достоевским, которому он после «Бедных людей» предрек великую славу. А наши только и умеют, что «хлестать в ус да в рыло», и любят они только свое свинохлевское благополучие.
Слонимский редко перечитывал иностранных классиков, за современной иностранной литературой почти не следил. Но это не мешало ему то кипеть от негодования, то с добродушным ехидством посмеиваться над начавшейся у нас вскоре после войны борьбы против «низкопоклонства перед Западом», в которой мы, как всегда, хватали через край.
– Надо бы, – трунил Слонимский, – предложить Ермилову (он был тогда ответственным редактором «Литературной газеты») вместо «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» – в каждом номере газеты печатать четверостишие из поэмы Воейкова «Дом сумасшедших»:
О Расин! откуда слава? Я тебя, дружок, поймал: Из российского «Стоглава» «Федру» ты свою украл.Слонимский был завзятым театралом, театралом – не ретроградом. Воспитавший свой театральный вкус на спектаклях Александр ринского театра, он полюбил театр Мейерхольда. В разное время и в разных учебных заведениях он читал курс теории драмы, вел семинар по Островскому.
Посмеиваясь над потугами создать «советскую оперу», Слонимский вспоминал, как в 20-х годах ленинградский музыковед Соллертинский, одно время состоявший в художественном совете Мариинского театра и по обязанности прочитывавший уйму либретто, на одном заседании совета отрапортовал:
– Все либретто – на один покрой. Ни одно не обходится без pas de deux Ильича с Зиновьевым в шалаше, а в апофеозе – без танца вождей вокруг мавзолея.
В 30-х годах Слонимский по инициативе Маршака сотрудничал в ленинградском отделении Детгиза. Это давало ему возможность наблюдать вблизи падение на Детгиз лавин халтурной перелицовки. У нас долго пробавлялись перелицовками старых песен. Долго не могли Чуковский и Маршак запрудить поток перелицовок стихов для детей. Слонимскому запомнилась пародия одного из братьев Бонди (не пушкиниста), бившая по такого рода храбрым портняжкам:
Дети, в школу собирайтесь — Уж Ильич пропел давно! Попроворней одевайтесь — Смотрит Крупская в окно. И рабочий, и крестьянин — Все берутся за дела. С ношей тащится Бухарин, А за ним летит пчела.Слонимский рассказывал мне о себе:
– Меня окрестили через несколько дней после моего рождения. Няня пела мне русские колыбельные песни, рассказывала русские сказки. Я рос в убеждении, что я – русский. О евреях я читал в учебнике Закона Божьего, но я был уверен, что это давно исчезнувший народ – вроде печенегов. И я однажды сказал в семейном кругу: «Как бы я хотел посмотреть на одного живого еврея!» Когда я вырос, дядя Семен[86] вспомнил об этом моем желании. «Я, – говорит, – чуть было тебе не предложил: “За чем же дело стало? Посмотри на себя в зеркало”». В одном из старших классов гимназии товарищи меня «просветили». Мне было так тяжело, что я едва не покончил с собой. Но кризис скоро миновал. Если возможно, я почувствовал себя еще более русским и навсегда остался благодарен родителям за то, что с малых лет врос в русскую почву. Вот сейчас евреи волнуются в связи с образованием государства Израиль. А меня это совершенно не трогает. Мое государство – Россия. Вот только я считаю, что, как и все евреи, я не имею права преподавать русский язык ни в школе, ни в высшем учебном заведении. Какой угодно другой предмет, вплоть до русской литературы, только не русский язык. Тут я за себя не ручаюсь: что-то от еврейского акцента, незаметно для меня, могло примешаться. И часто акцент проступает на старости лет. Я глубоко уважаю Григория Осиповича Винокура, он настоящий ученый и прелестный человек, но на месте Бориса Викторовича я в этом случае за него хлопотать бы не стал.
Вера в Бога у Александра Леонидовича была детски чистая. Какой ее заложили ему в душу молитвы, которые он повторял вслух за няней, богослужения, первое знакомство со Священным писанием, такою он сохранил ее до смертного часа. Он ходил в церковь, ставил свечи, молился, в его комнате, к вящему изумлению бывавших у него издательских работников, висели иконы, но рассуждать на богословские темы он не любил. Я не помню, чтобы он ссылался на кого-нибудь из религиозных философов. Только однажды привел он мне слова Владимира Соловьева, но почерпнул он их не из его трудов, а из семейных преданий.
Отец Александра Леонидовича передал ему содержание одного своего разговора с Владимиром Соловьевым. Леонид Зиновьевич признался, что величие и красота евангельских событий для него ясны, но он не понимает одного: почему для таких грандиозных событий была избрана такая маленькая планета, как Земля?
– Друг мой Леонид! Это самый наивный критерий – судить о вещах по величине, – заметил Соловьев.
Александр Леонидович этого критерия не применял.
– Народ – не арифметическая величина, – утверждал он. – Народ – это цвет страны, вне всякой зависимости от сословной принадлежности и образовательного ценза, даже от состава крови. Русский народ – это Владимир Мономах, летописец Нестор, Строгановы, Иван Федоров, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Козьма Минин, князь Пожарский, Петр Великий, Ломоносов, Арина Родионовна, Пушкин, Гоголь, Жуковский, Аксаковы, Щепкин, Островский, Достоевский, Александр Второй, Короленко, Шаляпин, Савва Мамонтов, Савва Морозов, Павел Михайлович Третьяков, Левитан, Сытин, Чехов, Пастернак. А Молотовы, Ждановы, Симоновы, Суровы, Бубенновы – какой же это русский народ?.. Шушера это, а не русский народ.
Памятно мне, как – с комом в горле – говорил Слонимский о убиении царской семьи в Екатеринбурге:
– Мальчика Алешу убили… Мальчика!.. За что?.. Кровь его на всех нас и на чадех наших…
Судорога перехватила ему горло.
5
В ней что-то чудотворное горит…
Анна Ахматова, МузыкаУже в начале войны Сталин сообразил, что союз с православной церковью сулит ему немалые выгоды. Более того: он понял, что без союза с церковью ему не обойтись, ежели он хочет дружить с Америкой и получать от нее всяческое вспоможение.
В 42-м году было разрешено ходить по Москве под Пасху всю ночь. То был знак высшего монаршьего благоволения.
Возвращаясь домой после Светлой заутрени, я шел по темным-темной Москве от Елоховской площади до Триумфальной – ни один патруль меня не остановил… Разговлялся я хлебом и солеными огурцами.
В 43-м году стало известно из газет, что Сталин принимал священноначальников русской православной церкви.
Вскоре после этого у нас в гостях был Петр Иванович Чагин. Все издания, предпринимавшиеся русской православной церковью, проходили через его руки, печатались под его политическим и полиграфическим надзором, и в связи с этим он довольно часто общался с духовенством, большею частью – с митрополитом Киевским и Галицким, потом – Крутицким и Калужским, потом – Крутицким и Коломенским Николаем (Ярушевичем), имя которого впервые появилось на страницах нашей печати во время войны. Это он в торжественной обстановке передавал командованию Красной Армии танковую колонну «Дмитрий Донской» (сбор пожертвований на колонну проходил по всем церквам на неоккупированной территории России).
Содержание последнего своего разговора с митрополитом Николаем Чагин передал нам. Побывав у Сталина в Кремле, митрополит по очередным издательским делам приехал в Гослит к Чагину. Чагин полюбопытствовал, каково-то их принимал «хозяин».
– Мы подивились его благорасположению к православной церкви, – ответил митрополит. – Вы только подумайте: избрать патриарха разрешил, выпускать журнал московской патриархии разрешил, открыть богословские курсы и институт разрешил (потом эти два учебных заведения стали называться по-прежнему: духовной семинарией и духовной академией – Н. Л), колокольный звон разрешил, да еще говорит: «Не нужно ли вам еще чего-нибудь? Мало просите».
И тут митрополит Николай неожиданно прибавил:
– Как видите, Петр Иванович, мы оказались правы.
– В чем же, Николай Дорофеевич?
– А помните, что было написано в далекие времена о взаимоотношениях церкви и государства? «Несть бо власть, аще не от Бога»? Кто это написал, не помните?
– Кажется, апостол Павел.
– Совершенно верно, в Послании к Римлянам. А ведь римские императоры полютей вас, большевиков, были… Мы все эти годы уповали, что рано или поздно между нашей властью и нами установится согласие.
Рассказ Чагина привел мне на память рассказ кого-то из взрослых, слышанный мною году в 22-м, когда разрешались открытые диспуты не только между Луначарским и обновленческим митрополитом Введенским, но и между тихоновским духовенством и антирелигиозниками. В них могли принимать участие и желающие слушатели, верующие и неверующие. Даже в Перемышле был устроен диспут между о, Владимиром Будилиным и калужским гастролером Образцовым. В Москве на каверзный вопрос безбожника: как же» мол» в вашем Писании сказано: «нет власти не от Бога», а вот Советская власть – власть безбожная, от кого же она? – кто-то из публики, – лицо не духовное, – получив слово, ответил так: «Всякая власть от Бога» и Советская власть, конечно, тоже: она послана нам Богом в наказание за наши грехи».
Сталин, кажется» только раз в жизни не проявил вероломства, и не проявил он его в своем отношении к церкви. Разумеется, пределы союза государства с церковью особой широтой не отличались. Духовенство и верующие то и дело натыкались на рогатки. Свобода вероисповедания продолжала оставаться свободой по-советски, только без острых приправ. В провинции, где всё и все на виду, интеллигенция по-прежнему опасалась ходить в церковь: любого преподавателя, любого библиотекаря, которого шпики высмотрели бы в храме, турнули бы с места, как и до войны. Слежка за священно– и церковнослужителями, за певчими, регентами, членами церковно-приходских советов и прихожанами не прекратилась. Но после войны гонение на церковь не возобновилось, как этого, зная сталинский нрав, ожидали многие. Напротив, Сталин сделал ряд широких жестов: выпустил из лагерей кое-кого из белого и черного духовенства, посаженного до войны; тех» кто после войны подлежал высылке «за прежние вины», так называемых «повторников», высылал не на подножный корм, как представителей всех прочих сословий, а в распоряжение местного архиерея, который имел право назначать высланных на приходы; не закрыл монастырей и храмов, вновь открывшихся при немцах; разрешил открыть храм в бывшем Новодевичьем монастыре; разрешил открыть Троице-Сергиеву Лавру; разрешил открыть храм в Донском монастыре с гробницей патриарха Тихона; разрешил расширить сеть духовных учебных заведений. Тут действовала, – думается, – совокупность причин: православная церковь нужна была Сталину для того, чтобы привлечь к себе сердца сербов, болгар, румын.
Быть может, на старости лет в Сталине забродили семинарские дрожжи. Даже Сталину было чуждо не все человеческое. Он никак не мог ожидать, что православное духовенство на оккупированной территории, вместо того, чтобы свести с Советской властью счеты, в целом, за немногими исключениями, не пошло в услужение немцам, – напротив, прятало от немцев бойцов и командиров русской армии, держало связь с партизанами, кормило их и поило. Сталин никак не мог ожидать, что православное духовенство на неоккупированной территории начнет оказывать армии и семьям бойцов такую огромную нравственную и материальную помощь. Газеты были полны сообщениями о пожертвованиях духовенства. Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), известный хирург, получил Сталинскую премию за свой труд о лечении гнойных ран.
Вполне допускаю, что в душе Сталина шевельнулось чувство благодарности. Наконец – кто знает? – на старости лет приходят мысли о смерти, о том, есть ли что там, а если есть, то ведь придется предстать перед Судом. Как бы то ни было, с начала войны и по день кончины Сталин держал себя по отношению к русской православной церкви, по его «силе-возможности», благородно, И все же кто заключает союз с Советской властью, тот должен зарубить себе на носу, что она в любой момент и под любым предлогом может отказаться от своего слова. Дал дуба Сталин – выскочил прыщом Хрущев. Во время Второй мировой войны на Украине и в Белоруссии многие храмы и монастыри, закрытые советскими властями, были открыты с согласия немецких оккупационных властей. Прыщеву этого позора показалось мало. Он закрыл несколько монастырей, вновь открывшихся при немцах, в частности – Киево-Печерскую Лавру; закрыл несколько духовных семинарий, множество храмов, дотоле не закрывавшихся, как, например, Андреевская церковь в Киеве, и вновь открывшихся; иные храмы снес, как, например, Преображенскую церковь на Преображенской площади в Москве; устраивал облавы с милиционерами и собаками на богомольцев в Почаеве, а Почаевская Лавра живет, главным образом, за счет богомольцев; вынудил Ярушевича сперва уйти с поста заведующего отделом внешних сношений в Московской патриархии, потом – с поста Московского митрополита с фактическим запрещением ему служить в храмах (а уж отчего скончался митрополит Николай в больнице, об этом история пока молчит, да и когда еще отверзнет уста), вынудил за то, что митрополит начал проявлять строптивость: отказался принять на службу в отдел внешних сношений тех, кого ему навязывали гражданские власти, и за то, что он был самым популярным в стране духовным лицом, так как первоначально гражданские власти создавали ему политический авторитет, ввели его в комиссию по расследованию немецких злодеяний, во Всемирный Совет Мира, печатали и передавали по радио его речи, печатали в газетах его фотографии, а Хрущеву популярные духовные лица были не нужны; наложил колоссальный налог на духовенство и певчих, будто бы недобранный за несколько истекших лет; усилил антирелигиозную пропаганду, для чего воспользовался услугами перебежчиков, темных личностей, вроде Осипова, или тех, кого лишили сана за провинности; заставил старост церквей регулярно сообщать в рай-, пос– и сельсоветы о том, кто крестил своих детей и кто венчался, дабы означенные советы сообщали об этом в учреждения, где работают повинные в соблюдении обрядов, дабы главы учреждений вызывали «одурманенных религией» на предмет вздрючки и таски и для острастки другим; науськал борзых писцов» и они собирали сплетни об архиереях, священниках, певчих и строчмя строчили пасквили в столичные и провинциальные газеты – на языке хрущевцев это называлось «научным атеизмом»; устроил по сталинскому рецепту, ведь он, несмотря на всю свою ненависть к Сталину, ненависть лакея, которому барин давал по мордасам, был плотью от сталинской плоти: вспомним, как он подавлял восстание в Венгрии; вспомним, что концлагеря при нем были полны «политических», а режим в лагерях кое в чем ухудшили по сравнению со сталинским; что же до пресловутого «реабилитанса», то он пошел на эту меру не из добросердечия, а чтобы нажить себе политический капитал, чтобы иметь крупный козырь в игре с Молотовым и Кагановичем, а ведь игра шла ва-банк, устроил несколько судебных процессов над духовными лицами: с помощью лжесвидетелей им предъявлялись ложные обвинения, и суд закатывал их на несколько лет в лагеря (таковы были, к примеру, суд над молодыми монахами из Киево-Печерской Лавры в Киеве и суд над архиепископом Андрием в Чернигове).
Ну и вот: стоило ли митрополиту Николаю так уж усердствовать? Имел ли он нравственное право перетягивать в СССР священников-эмигрантов? Не было ли это с его стороны легкомыслием? Стоило ли, как крестьян в колхозы, загонять униатов в православие? Стоило ли входить во Всемирный Совет Мира и на высокой его трибуне лукавить, а когда речь заходила о внешней политике СССР, то врать, врать, да еще и завираться, вроде того, что на Северную Корею напали американцы?
В 44-м году скончался патриарх Сергий (Страгородский), 2 февраля 45-го года на Поместном Соборе, состоявшемся в Воскресенской церкви в Сокольниках, патриархом Московским и всея Руси был избран митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский), со стойкостью героя перенесший блокадные беды.
У меня был пропуск на выборы патриарха и на всенощную в Богоявленском соборе в Елохове с участием представителей иностранного духовенства, прибывших на выборы в качестве гостей. Все приезжавшие до начала богослужения делегации встречал митрополит Николай и к каждой обращался с приветственным словом, в котором касался особенностей истории представляемой ею церкви и ее взаимоотношений с церковью русской.
Был у меня билет и на концерт духовной музыки, данный в честь членов и гостей Поместного Собора в Большом зале Московской государственной консерватории 6 февраля 1945 года.
В первом и втором отделениях исполнялись церковные песнопения, положенные на музыку Бортнянским, Веделем, Турчаниновым, Львовым, Чайковским, Рахманиновым, Архангельским, Смоленским, Чесноковым. Солировали Иван Семенович Козловский, Максим Дормидонтович Михайлов, Наталья Дмитриевна Шпиллер, протодьякон Сергей Павлович Туриков. В программе было не совсем точно сказано; «Исполняет Патриарший хор под управлением В. С. Комарова». На самом деле, песнопения исполнял Патриарший хор под управлением Виктора Степановича Комарова, усиленный лучшими певцами из других московских церковных хоров.
В третьем отделении Государственный симфонический оркестр при участии двух военных оркестров под управлением Николая Семеновича Голованова исполнил торжественную увертюру Чайковского «1812-й год».
Перед началом концерта я столкнулся в фойе с Чагиным.
– «Какая смесь племен, наречий, состояний!» – обведя взглядом священников в рясах и с наперсными крестами, их жен, архиереев, иностранных гостей, литераторов, певцов, музыкантов, представителей печати, сотрудников Радиокомитета, издательских работников, заметил Петр Иванович. – А это знаете, кто? Вон тот, что разговаривает со священником? – Чагин показал на коренастого, размордевшего «аппаратчика». – Это и есть председатель недавно образованного Комитета по делам русской православной церкви Георгий Георгиевич Карпов.
– А он откуда?
– Из «органов»… Он там ведал церковным отделом/
– Стало быть, раньше ему велено было казнить, а нынче миловать?
– Выходит, так.
Лицо Чагина расплылось в добродушно-хитрой улыбке.
Кстати сказать, на своем новом посту Карпов сделал для церкви много хорошего. За это Хрущев его и убрал.
Карпов занял место в одном из первых рядов зала. В ложе появился красавец-барин патриарх Алексий. Все встали. Он благословил собравшихся. Затем послал кого-то к Карпову. Тот подошел к ложе и попросил патриарха благословить его. Патриарх, благословив, по-видимому, пригласил его в ложу, потому что несколько минут спустя мы увидели его сидящим в ложе, за патриархом.
…Когда в увертюре Чайковского зазвучал напев молитвы «Спаси, Господи, люди Твоя», священники, многие из которых, наверное, впервые слышали увертюру, в радостном изумлении, с влажным блеском в глазах, переглянулись и снова впились взором и слухом в оркестр. Голованов дирижировал вдохновенно – в увертюре раскрывалась вся его русская, православная душа.
Но вот оркестр смолк. Боже, что тут началось! Батюшки и матушки, а за ними регенты и музыканты, члены приходских советов и советские чиновники, словом, все, кто только ни находился в зале, повскакали с мест и закричали: «Бис!»
Такого единого порыва, такого душевного подъема ни раньше, ни позже я не наблюдал ни на одном спектакле, ни на одном светском концерте.
Это было нечто безмерно большее, чем бурная овация. В этих рукоплесканиях, в этом реве, в этих воспламененных глазах выражалось счастье от сознания, что наша родина – Россия. Выражалось счастье быть русским. Выражалась вера в скорую победу России, А у большинства эта вера сочеталась с верой в победу Церкви. Мы уже отвыкли от благовеста. И вот колокола снова звонят… Сейчас не думалось о том, что принесет с собой победа советского оружия. Сейчас не думалось о том, что до окончательной победы Церкви еще ох как далеко! Разум молчал. Клубком восторга подступала к горлу любовь к Отчизне, у многих сливавшаяся с любовью к Церкви. И эта любовь ширилась и вздымалась.
Голованов и оркестранты прощально кланялись. Не тут-то было! Зал неистовствовал, зал свирепел в грозном своем ликовании.
На жестком, словно из грубого камня вытесанном, волевом лице дирижера проступила растерянность… И вдруг точно незримая сила толкнула его. Крутой поворот, знак оркестру приготовиться, особенный головановский, стремительный, повелительный взмах – и вновь торжествующе грянул «Тысяча – восемьсот – двенадцатый – год».
6
…мглою бед неотразимых Грядущий день заволокло. Владимир СоловьевВ отвоеванных Советской Армией городах – виселицы, расстрелы. Все чаще мелькает на страницах газет словосочетание «изменники родины». А давно ли нам вернули понятия отечество, родина? Не большевики ли втаптывали их в грязь? Не комсомольский ли поэт Безыменский визжал: «Расеюшка Русь, растреклятое слово»? Не большевики ли вколачивали нам в головы, что у пролетариата нет отечества? Не они ли оплевывали русскую старину? Ну, а потом, году в 35-м, когда уже замигали зарницы второй мировой войны, пришлось вернуть русским людям родину. А то за что же сражаться? За теорию прибавочной стоимости?..
Тогда же была вытащена статья Ленина о национальной гордости великоросов («у дядюшки у Якова хватит про всякого»). Сталин если и спохватывался, то всегда поздно. Сталин ниспроверг антипатриотическую и антиисторическую школу «историка» Покровского. В 36-м году были сняты с репертуара Камерного театра «Богатыри» Демьяна Бедного, издевавшегося над дорогими русскому сердцу героями былин, этими воплощениями того доблестного, что было и еще есть в русском народе, над Крещением Руси. «Богатырей» сняли. Камерному театру влетело по первое число, а корни были пущены давно и глубоко. Ну, а дружба с Гитлером перед самой войной с ним? За пакт о ненападении никто бы Сталина не осудил, но зачем же было пакт-то о дружбе заключать? Кто дергал за язык Молотова заявлять, что-де у нас кое-кто увлекся примитивной антифашистской пропагандой? А потом поворачивай пропаганду опять на сто восемьдесят градусов! Ой, сколько стоили русскому народу эти повороты, скольких неудач и поражений!
Начало мая 45-го года. Народу еще не объявили о капитуляции Германии. Но слух обежал Москву.
Из Радиокомитета позвонили Демьяну Бедному. Он сказал:
– А, я уже все знаю! Последний салют – Левитану капут!
Западная Европа – от Норвегии до Греции – выиграла свободу. Русские, спасшие Западную Европу, остались при своих. Но не только у нас, айв Западной Европе гроза не очистила воздух.
Москва, сентябрь – октябрь 1975
В ледяных потьмах
Люто есть и горько аще злии над добрыми владеють и несмыслении над умными.
Из «Пчелы» Вечный враг всего живого Тупоумен, дик и зол, Нашу жизнь за мысль и слово Топчет произвол. М. МихайловМыслят устроиться справедливо, но, отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир кровью…
ДостоевскийДоля народа русского – жертвовать собой.
Русский народ отстоял Западную Европу от монгольского ига, но сам подвергся монгольскому потоку и разграблению.
В 1812 году русский народ отстоял Западную Европу от наполеоновской деспотии, но русские крестьяне от крепостной неволи не освободились. В этом была великая их трагедия, в этом была великая вина перед ними Александра Первого.
В 1945 году русский народ отстоял свободу англичан, французов, бельгийцев, голландцев, датчан, норвежцев, греков от гитлеровской тирании, но и неумышленно отстоял кабалу для всех слоев населения России, для всех ее народов, неумышленно способствовал закабалению Польши (Польши, из-за которой в 39-м году весь сыр-бор второй мировой войны-то и загорелся), Румынии, Албании, Болгарии, Чехословакии.
Концлагеря – для большинства тех, кто томился в немецком плену… Мировая история такого «акта правосудия» не запомнит.
В начале войны выселили немцев Поволжья. Теперь выселяются калмыки, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, крымские татары. Выселяются так и в такие бытовые условия, что сомнений не остается: народы эти обрекаются на вымирание.
«Несытства ради своего», как писал о Грозном в послании к нему Курбский, Сталин опять взялся за прежнее. Сначала прибегнув к террору идеологическому (46-й год – побивание камнями одного из лучших прозаиков послереволюционной эпохи Зощенко и одного из лучших русских поэтов Анны Ахматовой), а потом и к лубянскому»
«Мятежный» Сталин насылал на страну одну бурю за другой, в отличие от лермонтовского паруса сам оставаясь в надежном укрытии. Он уничтожил НЭП, вверх дном перевернул наладившееся с превеликим трудом после двух войн – первой мировой и гражданской – сельское хозяйство. Казалось бы, после такого бедствия, как вторая мировая война, после победы не худо бы и не грех бы дать народу отдохнуть. Куда там! Среди многих других пророчеств Достоевского сбылось и пророчество его героя – Шатова: «…они (то есть “бесы”. – H. Л.) первые были бы страшно несчастливы, если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива. Некого было бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться».
В 27-м году на Октябрьском пленуме ЦК и ЦК ВКП(б) Зиновьев попал Сталину не в бровь, а в глаз:
«А ведь давно уже сказано, что при помощи чрезвычайного положения править может и не самый умный правитель». (См. «Правду» от 2. XI. 1927 года, «Дискуссионный листок» № 2).
Во время войны там, где немец не побывал, не хватали, как при Ежове, а только то того, то другого выхватывали. За «идейные срывы» били редко – надо было показать Европе и Америке, что советский народ един, что он сплотился вокруг партии и ее великого вождя. Изволтузили Зощенко за «Перед восходом солнца», режиссера Судакова – за постановку «Отечественной войны» (по «Войне и миру» в Малом театре – зачем не сделал из Кутузова Илью Муромца?), в Союзе писателей «поначалили» Асеева за небодрые стихи, Довженко – за сценарий «Украина в огне».
Вскоре после войны Сталин снова ввел в стране чрезвычайное положение.
Для чего? Да для того же, для чего ввел его в 20-х годах.
Чтобы держать людей в постоянном страхе, – править иначе он не умел и не хотел.
Чтобы ввести недовольство народа тем, что в стране-победительнице жизнь по-прежнему трудна и скудна (награбленное ни немцам, ни нам впрок не пошло), в избранное им русло. Нет уже старой научно-технической интеллигенции. Почти все старые ученые, инженеры, агрономы перемерли, перестреляны, погибли в тюрьмах и лагерях. На них теперь не свалишь. Нет меньшевиков» эсеров, троцкистов, бухаринцев, «право-левацкого» блока, рютинцев. На них теперь тоже не свалишь. Ну так на кого же крикнуть «ату»? На евреев. И вот уже «изъят органами МГБ» прекрасный артист Еврейского театра Зускин, чья игра представляла собой редкостное сочетание трагизма и гротеска. Прикончили Михоэлса, незадолго перед тем наградив и его, и Зускина орденами. Арестован почти весь Еврейский антифашистский комитет. В частности – талантливый детский поэт, обаятельный в общении с людьми Квитко. (До сих пор не могу забыть его улыбку, а ведь и знакомство-то у нас было шапочное, и встречались мы только в Союзе писателей или на улицах.) Вышибли из литературы «критиков-антипатриотов», как их назвала «Правда»: Гурвича, Юзовского. Дали по скуле для острастки Антокольскому и Алигер. Разумеется, пальцем не тронули Эренбурга, Льва Никулина и прочих, как их тогда прозвали, «декосмополитизированных евреев».
Идут аресты и среди русских. Арестован гениальный, самоотверженный хирург Сергей Сергеевич Юдин. Снова «чистится» «город славы и беды» Петербург. Арестовываются те из бывших наших военнопленных, кого тщательно и различными способами «проверяли» в 45-м году и отпустили на все четыре стороны. Зимой 48-го года – «варфоломеевские ночи». Производятся массовые аресты тех, кто в ежовщину был осужден по наиболее серьезным пунктам 58-й статьи, но отсидел свой срок, даже, по случаю войны, пересидел и в конце концов был выпущен на свободу. А теперь опять сначала: без всякого обвинения – тюрьма, этап и – на вечное поселение в Сибирь.
«Эмгебешники» распоясались. По Москве от Лубянки и к Лубянке по-прежнему часто летают «черные вороны», а при свете дня даже еще чаще, еще бесстыднее, чем до войны. Триумфатору все дозволено.
Когда я вышел из Бутырской тюрьмы (1934 год), мой бывший сокурсник задал мне вопрос: чему, главным образом, научило меня заключение? Я ответил, что оно приучило меня к долготерпению, которого мне прежде недоставало, и убедило, что рано или поздно почти все советские граждане там побывают.
Сыск изощрялся.
В 52-м году членам московской организации Союза писателей была с курьером под расписку разослана анкета («личная карточка»). Она состояла из сорока опросных пунктов.
Прощаясь со мной в 41-м году, начальник Тарусского отделения НКВД Бушуев сказал, что, поскольку судимость с меня снята, мне в анкетах следует писать, что я судим не был.
В этой анкете требовалось ответить на вопрос: если я был судим, то снята ли судимость.
Составители анкеты интересовались не только самими писателями; предмет их любознательности составляли родственники писателей, как живые, так равно и умершие. Вот несколько пунктов этой «личной карточки», которую я сохранил на память:
19. Принадлежали ли Вы и Ваши ближайшие родственники к антипартийным группировкам, разделяли ли антипартийные взгляды. Какими парторганизациями вопрос об этом рассматривался, когда и их решения.
26. Находились ли Вы или Ваши родственники на территории, временно оккупированной немцами, в плену или в окружении в период Отечественной войны (где, когда) и работа в это время.
28. Живет ли кто-либо из родственников за границей.
29. Привлекались ли Вы или Ваши ближайшие родственники к суду, были ли арестованы, подвергались ли наказаниям в судебном или административном порядке, когда, где и за что именно. Если судимость снята, то когда.
30. Лишались ли Вы или Ваши родственники избирательных прав. Если да, то кто именно, когда и за что.
31. Семейное положение (холост, женат, вдов). Если вдов или разведен, указать фамилию, имя и отчество и национальность прежней жены (мужа).
32. Фамилия (теперь и до брака), имя и отчество, год и место рождения жены (мужа), партийность и где работает.
Новый набор в концлагеря, кроме устрашения засаженных, – «дальше едешь, тише будешь», – кроме устрашения оставленных на свободе, как всегда у Сталина, преследовал еще одну, чисто практическую цель: опять понадобилась даровая рабочая сила: для «великих строек коммунизма» и для изготовления атомной бомбы.
И, понятно, мания преследования, обуявшая Сталина, не уступала в росте завладевшей им мании величия. Слова из «Пчелы» об Иоанне Грозном применимы и к нему:
Иже многим страшен, то многых имать боятися.
Колхозное ярмо стало еще тягостнее. Строгости усилились. Колхозы теперь походили на аракчеевские военные поселения. Государство забирало у колхозников львиную долю урожая и на полях, и на огородах. Вошедшее в марксистскую идеологию выражение – «идиотизм деревенской жизни» – обрело смысл только в колхозной России и не утратило своей меткости и при Никите «Кукурузнике», и при «Бровеносце в потемках».
Еще один плод победы – обожествление Сталина. Теперь он уже стал и великим полководцем, и корифеем науки. Антокольский не постеснялся назвать его в какой-то статейке «великим поэтом». Всю воинскую славу и честь Сталин пригреб к себе, и – увы! – многие, до войны смотревшие на Сталина трезво-ненавидящим взглядом, даже иные из пострадавших поверили, что это он выиграл войну. Верили в то, что победа над гитлеризмом – это победа Сталина, его гения и его несгибаемой воли, а не победа русской зимы, а не победа русских пространств, а не победа долготерпения, покорности и храбрости русского народа, которому оказали колоссальную помощь оружием, средствами передвижения, лекарствами, медицинскими инструментами, марлей, продуктами, вторым фронтом союзники, который они поддержали морально (русский народ чувствовал, что он не один в поле воин), которому больше, чем кто-либо, помог сам Гитлер своим сумасбродством и невежеством. Против Гитлера начало работать и время. Он не сумел воспользоваться преимуществами нападающего врасплох. Он остановился под Ленинградом, под Тулой и под Москвой, изменив своему принципу «блицкриг». А война затяжная в условиях государства Российского ничего доброго нападающему не сулит. Тут и материальные, и духовные силы начинают действовать против напавшего. Русский воинский дух крепнет постепенно. Каждая удача окрыляет русского воина. Он разуверяется в непобедимости противника, убеждается в неминуемости его разгрома, и теперь его гонит вперед, помимо воинского долга и отваги, желание как можно скорее довести войну до победного конца и вернуться домой. А противник между тем падает духом, деморализуется, его разбой и душегубство только усиливают боевой пыл русского воина.
Итак, Сталина величали и ублажали на все лады историки, социологи, писатели, журналисты, композиторы, художники, артисты, простые обыватели. Чего стоил «поток приветствий», лившийся из газетного номера в номер по случаю его семидесятилетия! Одна из главных улиц в Калуге до революции называлась Никитской. После Октября ее переименовали в проспект Революции. После войны спохватились: что же это мы опростоволосились? У нас есть улица Ленина, улица Луначарского, улица Софьи Перовской, улица Рочдельских пионеров, а улицы Сталина нет! Взяли и переименовали лучшую часть проспекта Революции, куда выходят знаменитые торговые ряды, в улицу Сталина, а Революции оставили ту часть, с облупившимися домишками и покосившимися лачужками, что круто спускается к Оке, по горе, прежде называвшейся Воробьевкой и не считавшейся продолжением Никитской, – их разделяла площадь.
Многие мои соотечественники степени своего духовного порабощения уже не сознавали. Кого застращали, кого подкупили, кого заласкали, кому заморочили голову. Нас избавили от утомительной обязанности мыслить. «Сталин думает за всех», – изо дня в день внушала нам какая-то песня. Для затуманивания мозгов советским гражданам Сталин придумал еще одно сильное средство: спаивать их. Это и для казны прибыльно, и притупляет вредные мысли и чувства. Водкой теперь торговали не только в магазинах, но и на улицах. Летом в любом дачном месте, чтобы пробиться к станционному буфету за спичками, надо было пройти сквозь строй пьяного гогота, ора и мата.
«Полезно тоже пьянство…» – рассуждает Нечаев в подготовительных материалах к «Бесам».
Вообще можно подумать, что Сталин углубленно изучал эти материалы и что они отчасти послужили ему «руководством для действия».
Литературу и искусство по указке фюрера вытоптали сапожищами его гаулейтеры. До войны поэт Шершеневич острил:
– Если упразднить Союз писателей, то литература останется, но если упразднить литературу, то Союз писателей все-таки останется.
После войны дело именно так и обстояло, да и обстоит даже до днесь. Нежданно-негаданно в безлесном краю зазеленеет и раскудрявится деревцо. Проходит лето, другое, третье – засохло. Однако деревья кое-где виднеются, а леса все нет как нет.
«Нашему начальству способные люди тягостны», – заметил в «Смехе и горе»[87] Лесков.
Советскому начальству они стали в тягость на первых послеоктябрьских порах. Что же, как не оттеснение и истребление способных людей, есть вся история России после Октябрьского переворота?
О бесчинствах большевиков «на вакантном троне Романовых» писала в 18-м году горьковская газета «Новая жизнь». От этих бесчинств бежали за границу общественные деятели, боевые генералы, писатели, певцы, композиторы, художники, шахматисты. В начале НЭП’а большевики выслали за границу Бердяева, Булгакова, Айхенвальда, Осоргина, Франка.
Во время второй мировой войны из Кремля была подана команда «Свиетай всех наверх!» И Ахматова пригодится. Ее стихотворение «Мужество» напечатала «Правда». Ну, а там – мавры сделали свое дело…
То ли в мае, то ли в июне 46-го года в Клубе писателей состоялся вечер ленинградских поэтов: Дудина, Всеволода Рождественского, Ольги Берггольц, Александра Прокофьева, Анны Ахматовой. Успех имели все. После Ахматовой самый шумный успех выпал на долю Прокофьева. Его заставили прочитать на «бис» «Закат» – последнее хорошее его стихотворение:
Да, такого неба не бывало, Чтоб с полнеба сразу стало алым, Чтоб заката лента обвивала Облака, грозящие обвалом! Вот отсюда и пошло: в лугу Розовый стожар горит в стогу, Розовые сосны на снегу, Розовые кони в стойла встали, Розовые птицы взвились в дали, Чтобы рассказать про чудеса… Это продолжалось полчаса!Ахматовой устроили овацию. Ей аплодировали стоя – и перед тем, как ей начать читать, и после окончания ее выступления.
Когда первая овация стихла, сидевший со мной рядом автор книги «Щедрин и Достоевский» Соломон Самойлович Борщевский шепнул мне:
– А ведь мы ее губим!
В сентябре 46-го года Ахматову и Зощенко облил помоями Жданов. Обоих выбросили из Союза, лишили писательского снабжения и лимита на пользование электроэнергией. Набор книги стихов Пастернака рассыпали. Ему дозволено было только переводить.
Иные писатели, сказав себе: «Не пишите, да не описуемы будете», замолчали, ушли в перевод. Иные – Тихонов, Катаев, Леонов – исписались и изолгались.
Перед революцией – какое богатство! От Шаляпина до Вертинского, от Неждановой до Вари Паниной, от Васнецова до Бенуа, от Короленко до Маяковского, от Мережковского до Гиляровского… Теперь мне вспоминались вещие слова Евгения Замятина: «…я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое» («Я боюсь», 1921).
А в настоящем – «славься, славься»; при изображении войны – чтобы как можно громче гремели фанфары; в колхозах, живописуемых словом и кистью, показываемых на сцене и на экране, долженствует быть изобилие плодов земных. Сатиру вон!
Нам нужны Понежнее Щедрины, И также Гоголи, Чтобы нас не трогали.Даже Софронов не уберегся от разноса в зубодробилке – в газете «Культура и жизнь», органе одного из отделов ЦК, – за умеренноаккуратную комедию «Карьера Бекетова». Фанфарьте! Фанфарьте!
Кто кого перефанфарит – тому Сталинская премия. Как поется в озорной частушке:
А кто высрет целый пуд. Тому премию дадут.И вот полезли из всех щелей Недогоновы, Суровы, Ажаевы, Грибачевы, Бубенновы, Бабаевские, Полевые… Карантина на прорву не было. В наши дни можно заставить читать тогдашних лауреатов только, как говаривали встарь, за непочтение к родителям.
В середине 30-х годов мой архангелогородский друг Владимир Александрович Окатов делил многих советских писателей, – исключения он пересчитывал по пальцам, – на уличных девиц с надрывом и без. Наиболее характерными представителями первой категории он считал из прозаиков Леонида Леонова и Юрия Олешу. (Впрочем, были ли это два мальчика? Может, их и не было вовсе, а мы их просто-напросто выдумали?). После ежовщины первая категория вывелась, вышла из моды, на нее уже не было спроса. Надрыв слышался только кое-когда у Леонова. Зато появились потаскушки нового типа, залихватские, форсившие своим ремеслом.
Воплощением именно такого типа был Константин Симонов.
Он стряпал и оды, и исторические поэмы, и романы, и стишки со слезой. Повар вышел из него неискусный – то недоварит, то пережарит, то пересолит, и «продукция» у него не первой свежести, а между тем свежесть, как мы знаем из «Мастера и Маргариты», может быть только первая, – неискусный, но зато расторопный. Вам нужна патриотическая пьеса о воинах-героях с образом «предателя» для «большего реализма»? Пожалуйста, с пылу, с жару – «Русские люди». Вам нужен роман о Сталинградской битве? И это можем-с – «Дни и ночи». А потом из него пьеску испечем! Вам нужна пьеса о «стране народной демократии»? Готово-с: «Под каштанами Праги». Вам нужна пьеса о начале «мирного строительства»? «Так и будет». Мы расплевываемся с нашим бывшим союзником – Америкой? Будет и на эту тему пьеса – «Русский вопрос». (Несколько сюжетных мотивов стибрим из пьесы Гамсуна «У врат царства».) У Сталина очередной приступ шпиономании? Можем соответствовать в лучшем виде-с: «Чужая тень».
В былые дни это называлось: «лакействовать», «выслуживаться», «подмазываться». В наши дни это называется: «откликаться», «служить делу партии», «быть верным помощником партии».
В начале своей драматургической карьеры Симонов оступился, как оступился потом, написав повесть «Дым отечества», и уже при Хрущеве – напечатав в «Новом мире», который он тогда редактировал, «Не хлебом единым» Дудинцева: тут он, как выражался Сталин, «жестоко просчитался» и вышел из границ хрущевской «либерализации».
Так вот, в начале своего извилистого драматургического пути Симонов написал пьесу «Обыкновенная история», В 40-м году «Историю» поставил Театр Ленинского комсомола, но ее мигом сняли с репертуара. В том же театральном сезоне – 40–41 гг. – тот же театр поставил пьесу Симонова под названием «История одной любви». Историю этой истории вкратце изложил Ю. Юзовский на страницах «Известий» от 25 января 41-го года в статье «История одной любви» (Пьеса К. Симонова в театре Ленинского комсомола):
…История этой пьесы. Сначала она появилась на сцене под названием «Обыкновенная история» и вызвала спор в печати. – Что же это за история, – обращались критики к драматургу, – мужья и жены у вас сходятся, затем расходятся, опять сходятся, чтобы снова развестись… Автор даже не дослушал критиков, а мгновенно согласился и написал пьесу «История одной любви». Те же герои, но, обратите внимание, какая разница. Там торжествовал порок, здесь – добродетель, там ниспровергали мораль, здесь ее возносят, там сходились и расходились, – здесь никто не сходится и не расходится, – здесь все в высшей степени прилично. «Устраивает?!» Нет, не устраивает, – отвечаем мы, – ни те герои, ни эти, ни та, ни эта мораль, ни ваш порок, ни ваша добродетель. Больше всего не устраивает этот беззаботный переход от одной пьесы к другой. Пожалуй, это – самое печальное во всей этой истории.
Симонов – подхалим грубый и дешевый. Были в то время дамы легкого поведения и пошикарней, и поизысканней.
Леонид Леонов разузоривал свои величания под якобы народную речь. Военная и послевоенная публицистика Эренбурга являла собой в переводе с французского на околорусский смесь проклятий немцам, а потом, когда началась «холодная война», и американцам с дифирамбами тому, кто уничтожил его друга – Бухарина.
Наглости в Эренбурге всегда было хоть отбавляй, или, выражаясь его не весьма чистым русским языком, «хватало».
В статье, напечатанной 11 апреля 45-го года в «Красной звезде» под названием «Хватит!», он писал: «Нет у меня слов, чтобы еще раз напомнить миру о том, что сделали немцы с моей землей. Может быть, лучше повторить одни названия: Бабий Яр, Тростенец, Керчь, Понары, Бельжец».
Почему после «Молитв о России», сложенных в белогвардейском тылу, Эренбург ни слова не сказал о том, что сделали с «его землей» большевики? Во что они ее превратили? Сколько десятков миллионов замучили и перебили? И с какой совестью верещал он о Бабьих Ярах» он» ни разу не вякнувший ни об одном из концлагерей, сетью которых опутал «его землю» Сталин?..
Эренбург был не так назойлив в своих восхвалениях, как иные из его собратьев по перу. Он реже упоминал имя Сталина. Оно в его статьях и фельетонах не так выпирает, не так лезет в глаза, Он предпочитал поясные и земные поклоны распластыванию и ползанью на брюхе. Он старался избегать подлипальской умиленности в интонациях. Тут был свой расчетец: в случае чего можно будет обиженно фыркнуть: «Ах, оставьте, я не такая…» Нет, в сущности – именно «такая». Что написано пером, того не вырубишь топором. В стихотворении в прозе, которое Эренбург посвятил «славному семидесятилетию» («Большие чувства»), он не посовестился исказить историю гражданской войны:
Задолго до второй мировой войны в Сталинграде решались судьбы всего советского государства, мечты трудящихся всего мира… молодое советское государство, мечту трудящихся всего мира, отстоял тогда Сталин.
Сталин, по Эренбургу, и швец, и жнец, и в дуду игрец. Москва, видите ли, «многим ему обязана: жилыми домами и метро, школами и душистыми липами». Да, обязана, – клоповниками коммунальных квартир, где совершенно чужие друг другу люди задыхались от скученности, где от одной тесноты поминутно вспыхивали ссоры, обязана сносом древних храмов и монастырей, Сухаревой башни, Голицинских палат, Красных ворот, вырубкой бульваров кольца «Б».
«Каждый советский человек знает, что Сталин – это труд, – поет-разливается Эренбург. – Мы видим его архитектором над планами городов… Мы видим его инженером и химиком. Мы видим его агрономом… Мы видим его рабочим человеком, трудящимся с утра до ночи, не отказывающимся ни от какого тяжкого дела, первым мастером советской земли».
Сей акафист Эренбург включил в книжонку «Надежда мира» («Советский писатель», 1950).
Впоследствии в своих пропитанных самооправдательной ложью «воспоминаниях» этот международный проходимец (Абдурахман Авторханов в книге «Загадка смерти Сталина» называет его «подставным лицом», «рупором Кремля»), всесветный бродяга, игравший двусмысленную роль и во Франции, и в Испании, перекати-поле, прожженный авантюрист и профессиональный перебежчик, в каких только странах не побывавший, каким только кумирам не поклонявшийся, одно время подвизавшийся у белых, автор сборника контрреволюционных стихотворений «Молитвы о Pocqmi», славивший «Деда Мороза», а потом, только успел «Дед» отдать концы, поспешивший первым прославить «Оттепель» (так называлась его повестишка), но от первого же симоновского окрика виновато завилявший хвостом (чуть что – злая и трусливая его душа всегда уходила в пятки), пытался прикинуться несмышленышем, не понимавшим, видите ли, что «правит бал» Сталин. Казалось бы, этой ложью он мог бы обмануть разве что грудных младенцев. Но нет. Нашего легковерного читателя приманили и «смелые» фразы, за которые автору ничего серьезного при Хрущеве грозить не могло (велика важность – выругал Ермилов: книге реклама, а ему ореол пострадавшего за правду), и то, что в книге мелькают тени больших людей, да еще таких, чьи имена долгое время были под запретом, – только тени, ибо изобразить человека у Эренбурга никогда не хватало силенок. Читатель не замечал, – и к сожалению, далеко не только юный, – что Эренбург играет краплеными картами, передергивает и подтасовывает. К примеру, он наврал на Пастернака, что тот-де замкнулся, уединился, между тем как Пастернак был как раз чрезвычайно общителен.
По счастью, шум вокруг спекулятивной литературы скоротечен. Такая участь постигла и «воспоминания» Эренбурга. Такая участь постигла все его беспочвенные и безвоздушные сочинения – от «Хулио Хуренито» и «Жизни и гибели Николая Курбова» вплоть до увенчанной Сталинской премией «Бури», В библиотеках они давно уже спят мертвым сном на полках. Перечитывают их, вероятно, родственники и потомки, да крайне немногочисленные почитатели. Эренбург-писатель и Эренбург-политический деятель забыт. В забвенье ему и дорога.
После войны классиков тоже стали просеивать сквозь сито.
«Довольно Достоевского!» – рыкнул Сталин.
12 сентября 41-го года Пастернак писал своей жене, Зинаиде Николаевне:
Нельзя сказать, как я жажду победы России… Но могу ли я желать победы тупоумию и долговечности пошлости и неправды?
В СССР после войны победило тупоумие и надолго воцарились пошлость и неправда.
Я прочел это письмо в 76-м году, но думал я и во время и после войны точно так же и изъяснял близким свои мысли почти в тех же выражениях.
Политика партии в литературе и искусстве – это тянущийся более полувека суд глупцов. Доклад Жданова – это был тоже суд глупца и знамение победы тупоумия. Это был суд глупца, науськанного Сталиным. Безусловно науськанного, ибо без воли Сталина Жданов выступить с таким докладом не отважился бы, да и какой был смысл Жданову обрушиваться на ленинградских писателей и вопить о недопустимом положении дел в ленинградской писательской организации и в редакциях ленинградских журналов? Устраивая секуцию другим, Жданов больнее всех высек самого себя, ибо это он отвечал перед Сталиным и Политбюро за направление умов в «городе Ленина».
С течением времени стало ясно, что доклад Жданова явился началом его конца. Доклад он сделал в 46-м году. В 47-м году арестовали и засадили директора издательства «Иностранная литература» Бориса Леонтьевича Сучкова, которому протежировал хороший знакомый его отца еще по Нижнему Новгороду Жданов. Паны дерутся – у холопов чубы болят. Дрались два пана – Маленков и Жданов. Арест протеже означал падение престижа протежировавшего и пятнал его. В 48-м году Жданов скоропостижно скончался. Если даже он умер и своей смертью, то вряд ли он уцелел бы, дожив до так называемого «Ленинградского дела», после которого романтику ленинградской блокады выбросили на свалку. Об особом героизме ленинградцев говорить уже было не принято.
Вне всякого сомнения, Сталин дал Жданову выволочку и выпихнул его на трибуну «докладать» (сам он предпочитал в таких случаях оставаться за кулисами), но временно пощадил его и разрешил переложить вину на других, рассчитывая, что подавляющее большинство читателей не поймет, что доклад товарища Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» – это доклад о политическом фиаско и закате самого товарища Жданова.
«Насколько должно было ослабнуть руководство идеологической работы в Ленинграде!» – восклицал Жданов. А кто же был тогда главным руководителем идеологической работы в Ленинграде, как не он?
…руководители нашего идеологического фронта в Ленинграде забыли некоторые основные положения ленинизма в литературе.
Значит, прежде всего, забыл их сам Жданов.
Он сваливал вину на стрелочников; на секретаря горкома партии Капустина[88] и секретаря горкома по пропаганде Ширкова. А ты-то, батенька, куда смотрел?..
Ну, а кто же пробудил гнев в душе Сталина? Кто подсказал ему фамилии Зощенко и Ахматовой? Кто натравил его на писателей и, главным образом, на ленинградских?
Есть все основания думать» что Фадеев.
В 44-м году его отстранили от управления литературным департаментом за притупление бдительности. На его место назначили бывшего ленинградца Тихонова, из которого тогда сделали героя ленинградской блокады. Честолюбивый Фадеев рвался к власти и дорвался.
Незадолго до грозы, разразившейся над ленинградскими писателями, он уехал то ли в санаторий» то ли в «дом творчества» и, уезжая, с таинственным видом сказал одной из своих парикмахерш, причесывавших его доклады, что едет обдумывать в тишине один «проект».
Проект, надо полагать, заключался в том» чтобы пригнуть седую, но немудрую голову Тихонова и снова прыгнуть в свое насиженное кресло. И он пригнул и прыгнул.
Тихонова согнали с поста председателя Союза, но из уважения к его заслугам в Президиуме оставили, а запойного пьяницу, доносчика, на руках которого еще не просохла кровь его товарищей по РАПП, «перевальцев», «кузнецов» и всех, кого он выдавал и предавал в 37-м году и страха ради, и из любви к искусству, дезертира, бежавшего ночью из Москвы, предоставив руководимым им писателям спасаться от немцев кто и как может, – Фадеева назначили не просто первым, а генеральным секретарем Союза писателей. Союз возвели в ранг министерства. Образовали президиум в составе генерального секретаря, четырех заместителей и восьми членов секретариата.
Плохой писатель, так до самой смерти и не кончивший школу Льва Толстого, Фадеев был умным и опытным интриганом. Он знал, что делал, когда подсовывал Сталину рассказ Зощенко «Приключения обезьяны».
На Зощенко давно уже косились и точили зубы.
11 января 65-го года после вечера памяти Зощенко в Центральном доме литераторов Игорь Владимирович Ильинский, читавший на вечере «Елку» и «Искусство Мельпомены», сказал мне:
– Зощенко уже давно раздражал. Мне еще в сороковом году Ворошилов говорил: «Зачем вы читаете Зощенко?»
Как раз в 40-м году Сталин прогневался на Леонида Леонова за пьесу «Метель» и на Валентина Катаева – за комедию «Домик». (Вон когда Сталин ополчился на «никчемный юмор», как выразится в 46-м году Жданов!) Мимоходом ругнули и напечатанную во 2-м номере «Звезды» за 40-й год пьесу Зощенко «Опасные связи».
В «Опасных связях» бывший провокатор Безносов, ставший после Октябрьской революции важной птицей, говорит о себе, что он, «гуманист по природе», «не дрогнет любому врагу голову оторвать…» «Пятьсот людей за один бутерброд отдам».
На обсуждении пьесы в Ленинградском отделении Союза писателей Зощенко сказал примерно следующее (передаю его слова в пересказе присутствовавшего на обсуждении ленинградского фольклориста Александра Николаевича Нечаева):
– Здесь много говорили об идейных недостатках моей пьесы, а вот о самом главном, – о ее чисто художественных слабостях, которые мне теперь видны» – почему-то никто словом не обмолвился. А если перейти к идейным недостаткам» то опять-таки самого главного ее недостатка никто не заметил и не указал. А ведь в чем основная мысль пьесы? В том, товарищи» что подлец у нас был, есть и еще долго будет. И вот эта основная мысль в моей пьесе недостаточно ярко выражена. А вообще —
Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят — что ж, По родной стране пройду стороной, Как проходит косой дождь.Вскоре после обсуждения где-то на улице встретила Зощенко Ирина Николаевна Meдведева-Томашевская.
– Ну как» досталось вам, Михаил Михайлович? – спросила она.
– Пьеса – это что! Вот когда до моих рассказов доберутся!..
Сначала добрались и разобрались в его повести «Перед восходом солнца», и печатанье повести в журнале «Октябрь» оборвалось. В 46-м году добрались и до его рассказов.
После постановлений ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» и доклада Жданова даже и «прощенный», восстановленный в правах члена Союза писателей Зощенко физически и душевно не оправился. Но убить зощенковское в его творчестве все-таки не удалось.
В 1947-м году было высочайше дозволено печатать Зощенко. Он опубликовал в девятом номере «Нового мира» за этот год цикл партизанских рассказов под общим названием «Никогда не забудем». «Военного писателя» из Зощенко не вышло, рассказы написаны неуверенной, дрожащей рукой. Но у заглавий некоторых рассказов есть автобиографический подтекст, глубоко запрятанный и на счастье Зощенко ни редакторами, ни цензорами не усмотренный.
Заглавие второго рассказа: «Добрый день, господа». – После вынужденной разлуки Зощенко здоровается с читателями. Заглавие четвертого рассказа: «Где кушаю» того и слушаю». – С голодухи и сатиру, и юмор бросишь и в чужом жанре сочинять начнешь. Заглавие десятого рассказа: «У счастья много друзей». – Кто только ни втирался в дружбу к Зощенко до сентябрьских событий 46-го года и кто только ни отвернулся от него потом!..
Начали с запрета катаевского «Домика», придавили Зощенко, а в конце 40-х годов Евгении Ковальчик за то, что она была редактором однотомника Ильфа и Петрова» по партийной линии влепили «строгача». «Двенадцать стульев» и «Золотого теленка» начали переиздавать только после того, как Сталин загнулся.
Доклад Жданова – это длиннейший приказ по армии искусств духовного сына унтера Пришибеева. Цели у него две – застращать и взбодрить коняг: «Но, каторжные, но!» Жданов так прямо и говорит:
…ЦК принял… крутые меры по литературному вопросу.
Своим решением ЦК имеет в виду подтянуть идеологический фронт по всем другим участкам нашей работы.
Шпаргалку Жданову составляли люди, не обременявшие себя хотя бы поверхностным знанием предреволюционной литературы и искусства. Он спутал немецкого писателя Гофмана, автора книги «Серапионовы братья», и поэта-символиста Виктора Гофмана, и этот сшитый из двух Гофман оказывается у него идейным вождем и акмеистов, и «Серапионовых братьев»[89].
Жданов задает риторический вопрос:
Все эти символисты, акмеисты, «желтые кофты», «бубновые валеты», «ничевоки», – что от них осталось в нашей родной русской советской литературе?
Здесь одним небрежно-величественным жестом сваливаются в кучу литературные направления, объединение художников («Бубновый валет») и даже часть костюма Маяковского.
По всему докладу Жданова рассыпаны, как говорил председатель Перемышльского Исполкома Васильев, «перлы» красноречия:
Насквозь гнилая и растленная общественно-политическая и литературная физиономия Зощенко оформилась не в самое последнее время.
Позвольте привести еще одну иллюстрацию о физиономии так называемых «Серапионовых братьев».
В выражениях этот кнутобой не стесняется. Зощенко он обзывает «мещанином и пошляком», «подонком», «беспринципным и бессовестным литературным хулиганом», «пошлой и низкой душонкой». Он считает «совершенно справедливым», что Зощенко «был публично высечен в “Большевике”, как чуждый советской литературе пасквилянт и пошляк» (он имеет в виду статью, громившую «Перед восходом солнца») – Поэзия Ахматовой для него поэзия «взбесившейся барыньки».
Итак, стало быть, к черту сатиру и юмор, ибо даже в юмореске содержится гомеопатическая доля истины, а у нас критиковать нечего – мы живем в Эдеме. К черту интимную лирику! Советскому человеку горевать не о чем. Даешь «идейные, бодрые произведения», «бодрое, революционное направление»! Даешь произведения о Великой Отечественной войне по рецепту: «Политрук не растерялся и вытащил связку гранат», и ни слова о том, как бежали наши воины в 41 – 42 годах, как они попадали в окружение и десятками тысяч сдавались в плен, как бежали во все лопатки партийные и советские работники из городов, к которым подступали немцы (а на беспартийную и даже на партийную сволочь им было наплевать), даешь произведения о героическом (непременно героическом!) мирном труде!
«Наш народ ждет, – вещает Жданов, – чтобы советские писатели осмыслили и обобщили громадный опыт, который народ приобрел в Великой Отечественной войне, чтобы они изобразили и обобщили тот героизм, с которым народ сейчас работает над восстановлением народного хозяйства страны…»
В ответ на этот призыв посыпались поделки-скороспелки, а в поощрение подельщикам и в назидание другим – Сталинские премии. И почет и денежки.
Не сметь, сукины дети, любоваться прошлым: «помещичьими усадьбами екатерининских времен с вековыми липовыми аллеями, фонтанами, статуями и каменными арками, оранжереями, любовными беседками и обветшалыми гербами на воротах», «дворянским Петербургом, Царским Селом», «вокзалом в Павловске и прочими реликвиями дворянской культуры», «Старым Петербургом, Медным Всадником как образом этого старого Петербурга…»
Жданов воротит свою моржеподобную морду даже от воспетого Пушкиным Медного Всадника и требует такого же движения от писателей. Равнение на Великую Отечественную войну, на фабрики, заводы и колхозы! Шагом – арш!..
Медному Всаднику, царскосельским дворцам и помещичьим усадьбам Жданов противопоставляет «потрясающие успехи наших культурных делегаций за границей, наш физкультурный парад и т. д.»
И еще одна зычная ждановская команда стоголосым эхом отдавалась потом до смерти Сталина в советской прессе, команда, кстати сказать, поданная человеком, получившим образование не намного выше того, какое получил его духовный отец – Пришибеев, и школьной премудрости так и не одолевшим:
Некоторые наши литераторы стали рассматривать себя не как учителей, а как учеников буржуазно-мещанских литераторов, стали сбиваться на тон низкопоклонства и преклонения перед мещанской иностранной литературой. К лицу ли нам, советским патриотам, такое низкопоклонство?. – К лицу ли нашей передовой советской литературе… низкопоклонство перед ограниченной мещански-буржуазной литературой Запада?
И – еще шире:
К лицу ли нам, представителям передовой советской культуры, советским патриотам, роль преклонения перед буржуазной культурой или роль учеников?!
«Стали рассматривать себя не как учителей…», «…роль преклонения…» Нет, право же, речь сего витии многовещанного – это речь пошедшего не по военной части Пришибеева-сына, который не уступает папаше ни в глубокомыслии, ни в мягкости тона, ни в красоте слога.
Сама по себе идея борьбы с преклонением и низкопоклонством перед Западом – идея разумная. Ее вели еще Грибоедов, Аполлон Григорьев и Достоевский.
Писк грибоедовских княжон: «Ах! Франция! Нет в мире лучше края!» постепенно слился с заливистыми тенорами наших западников, – от Дружинина, Анненкова, Тургенева до сладкопевцев кадетских, – и с хриплыми семинарскими октавами и басами «революционных демократов», а по нотам «революционных демократов» запели гимны Западу социалисты-революционеры и социалисты-демократы. В докладе Жданова, как и во всей послевоенной «культурной» политике партии, концы с концами не сводились. Если уж Жданов хотел нанести решительный удар низкопоклонству, то вместо того, чтобы восславлять основоположников низкопоклонства, Белинского, Чернышевского и Добролюбова, он должен был бы их развенчать и обратиться к самобытным русским мыслителям – от славянофилов и почвенников до Владимира Соловьева и Розанова. Но что общего у Сталина и Жданова с Хомяковым и Достоевским?.. Вот они и крутились, как бесы перед заутреней.
Обожание всего иностранного действительно въелось и в русское барство, и в русскую интеллигенцию. Увы! От многих моих «отцов», любивших живопись и зодчество, я не слышал ни единого слова о Рублеве и Феофане Греке, о Суздале и Покрове-на-Нерли. От многих моих «отцов», любивших музыку и пение, людей религиозных, я ни слова не слыхал о киево-печерском распеве, о Веделе, Турчанинове и Архангельском. Но советская пресса не способна вести борьбу без тумаков, тычков, тулумбасов, зуботычин, подзатыльников, оплеух и волосяного дера, так что, даже если она, – что, впрочем, случается с ней чрезвычайно редко, – в основе права, ты невольно становишься на сторону тех, кого она лупит и в хвост и в гриву. Мне чужд космополитизм, тем более что природа пустоты не терпит, и в этой пустоте неизбежно заводится всякая нечисть вплоть до кровожадного национализма (пример тому Эренбург). Но я сочувствовал большинству тех, кого в 40 – 50-х годах объявляли у нас «безродными космополитами», потому что это были не «безродные космополиты», а просто-напросто евреи; если же еврея подводили под эту рубрику, то за сим следовало увольнение и лишение куска хлеба.
Борьба с низкопоклонством приняла на страницах советских газет и журналов, как все проводимые партией «кампании», уродливую и смехотворную форму – мы же все умеем изуродовать, огрубить, оглупить и опошлить! Она шла под лозунгом: «Россия – родина африканских слонов». Для моих друзей и для меня она была источником балагурства. Александра Леонидовича Слонимского мы переименовывали то в Вяземского, то в Шуйского. Для переименования Сергея Михайловича Бонди предлагались разные варианты: Прыгунов (если производить его фамилию от французского слова bondir – подпрыгивать), Краснобаев (если производить ее от французского bon dire – хорошо сказать), и, наконец, просто Бондарев.
Советская печать называла германскую армию «грабьармией». Ну, а советская армия, – разумеется, далеко не вся, как, впрочем, далеко не вся германская армия состояла из грабителей, – не превратилась в грабьармию, как скоро переступила границу Восточной Пруссии?
Осенью 41-го года Дмитрий Александрович Горбов сказал:
– Если мы войдем в Германию, дверные ручки будем там отламывать.
Дело доходило и впрямь до дверных ручек. «Освободители» во всяком случае сравнялись с захватчиками.
Ко мне приходили мои друзья, воевавшие с 41-го по 45-й год, отличившиеся, награжденные за боевые заслуги высокими наградами. Все они были потрясены, подавлены, доведены почти до психического расстройства не ужасами войны, о которых они не рассказывали, а ужасами насилий и грабежей, чинившихся Советской армией, ничем не вызванным грубым, хамским обращением советских офицеров с мирным населением оккупированных стран. Теперь уже про «освободителей» немцы, австрийцы, венгры, румыны могли петь:
Насильники, грабители, Мучители людей.В Польше, в Болгарии, в Венгрии, в Румынии, в Чехословакии Сталин для прилику поиграл в демократию. А малое время спустя то здесь, то там – путчи, «суды» и казни.
В Венгрии схватили, пытали, заточили в тюрьму кардинала Мин-центи. Оттуда удалось «за погодку» унести ноги за границу представителю партии мелких сельских хозяев премьер-министру Ференцу Надю и председателю Национального собрания Варге, из Польши – создателю партии «Польске Стронництво Людове» Миколайчику. Цадь, Миколайчик, в Болгарии – Петков, в Чехословакии – Бенеш и во время «февральских событий 48-го года» «выбросившийся из окна» Масарик наивно полагали, что многопартийная система в их странах останется незыблемой и что при многопартийной системе можно помериться силами с коммунистами и потрудиться на благо народа. Но все они вряд ли читали, а если читали, то наверняка забыли речь Томского, выдержки из которой я уже приводил: «…в обстановке диктатуры пролетариата может быть и две, и три, и четыре партии, но только при одном условии: одна партия будет у власти, а все остальные – в тюрьме».
Разговор у коммунистов с представителями других партий был, в буквальном смысле слова, короткий. Везде применили один и тот же сталинский прием: дело, мол, не в наших идейных разногласиях; все эти Ференцы и Варги, Маниу, Петковы и Миколайчики – террористы, изменники, заговорщики, наемники, связанные с иностранной разведкой и ставившие своей целью свержение республики и возрождение фашизма. Тогда широким массам будет ясно, почему надо сажать, вешать и расстреливать тех, кому эти массы во время избирательной кампании отдали свои голоса.
Взялись и за неугодных Сталину коммунистов. Начал своевольничать, льнуть к Броз Тито Димитров – его у нас «полечили». В Чехословакии казнили Сланского.
Грабеж, убийства и пожары, Тюрьма, петля, топор и нож — Вот что, Россия, на базарыВсемирные ты понесешь!
Как и до войны, Сталин приближал к себе людей, отвечавших трем основным его требованиям: а) способных на «мокрое дело» в любом виде, хотя бы в виде подписи на смертном приговоре; б) холопски ему покорных и в) не возвышавшихся над уровнем посредственности.
Алексей Константинович Толстой в предисловии к «Князю Серебряному» признался, что, работая над романом, он временами «бросал перо в негодовании не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, сколько от той, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования».
Конечно, страшен был сам Сталин, эта удивительная амальгама тупоголовости, лавирующей беспринципности, хитрости и неутолимой кровожадности. Но, пожалуй, и впрямь еще страшнее было наше общество. Оно разглагольствовало и писало о немецких зверствах, закрывая глаза на зверства сталинские. Оно кипело от справедливого возмущения Освенцимом и Бухенвальдом, но оно забыло про Соловки, про Магадан, про Караганду, про «централы», про Лубянку, про Лефортово, Шпалерку, Таганку. Оно клеймило тех, кто у нас и за границей «сотрудничал с немцами» – не только тех, кто участвовал в карательных экспедициях, кто работал в Гестапо, то есть людей, заслуживающих всяческого поношения, но и тех, кто ради куска хлеба, ради прокормления престарелых родителей и малых детей работал в самых невинных учреждениях (это даже и сотрудничеством назвать нельзя), и тех, кто шел на сотрудничество с немцами во имя спасения соотечественников. Кому бы говорить!.. Ведь мы, прежде всего, должны были бы заклеймить самих себя, ибо мы, за ничтожным исключением, в той или иной форме сотрудничали и продолжаем сотрудничать с партией Ленина – Сталина, то есть с партией предшественников и учителей Гитлера, с партией более опасной и вредной, чем партия нацистов, ибо она двулична и лицемерна.
Интеллигенты, оставшиеся в Совдепии, кто же мы, как не коллаборационисты с 18-го года? Самое слово «попутчик», которое в начале 20-х годов применялось к писателям-интеллигентам, в той или иной степени «принявшим» Октябрьскую революцию, близко по смыслу к слову «коллаборационист». Лай не лай, а хвостом виляй… Все мы – что греха таить? – если и не лаяли, то хвостиками повиливали.
Мне было легче не подличать, чем многим другим. Я не только не состоял в партии – я не был ни одного дня в комсомоле, я не был даже «юным пионером». Со дня ареста и до 42-го года я в учреждениях служил несколько месяцев, ни в каких организациях не состоял, следовательно, имел возможность на собрания не ходить и за расстрелы руки не поднимать. Вступив в 42-м году в Союз писателей, я посещал только собрания, на которых обсуждались вопросы художественного перевода, да и то – «в редкую стежку». Мне было гораздо легче не подличать, потому что мой основной жанр – художественный перевод. Но ведь и я никогда громогласно своих убеждений не высказывал. В школе, в институте и после я был неизменно лоялен. Будучи студентом, я удрал с митинга, где надо было голосовать за смертную казнь рамзинцам. Удрать-то удрал, но протеста не выразил.
Когда в институте устраивались антирелигиозные вечера, я стоял в церкви. Но ведь я же ни разу не вступил в рукопашную ни с одним безбожником! На допросе я говорил истинную правду, что я не террорист, что я всякое порученное мне дело исполнял добросовестно, но я ведь все-таки играл в советского человека вместо того, чтобы прямо сказать следователю, что я ненавижу ленинско-сталинский рабовладельческий строй. Я боялся, что этим навлеку на себя строгую кару, боялся за себя, еще сильнее – за мать. В Архангельске я наотрез отказался быть осведомителем, но – сославшись на отсутствие у меня всякого присутствия надлежащих склонностей и способностей, вместо того, чтобы дать следователю по морде за его гнусное предложение. Я боялся, что меня снова засадят, боялся за мать. Для чего я вступил в Союз писателей? Только чтобы получать по карточкам больше продуктов, чтобы уберечь семью и себя от истощения. В тех немногих статьях, какие я печатал при жизни Сталина, есть фразы и абзацы, при воспоминании о которых кровь приливает мне к лицу от стыда. Есть в них фразы, мне не принадлежащие, вписанные руками редакторов, а я по малодушию не вычеркнул их. Так мне ли бросать камень в «коллаборационистов»?
Чехов, по его собственному признанию, «выдавливал из себя по капле раба». Мне надо было выдавливать из себя по капле страх. Задача, которую поставил перед собой Чехов, была все-таки легче моей. Чехов принялся выполнять ее в молодости, а я – когда мне перевалило за сорок.
В главе «Самоубийца» я писал о том, что советский подхалимаж многолик. Иных толкала на раболепство угроза голода, иных – угроза ареста, высылки из Москвы или из Ленинграда. Иным надо было прикрыть кого-то из родных. Иные, как Василий Иванович Качалов, славословили, чтобы этой ценой покупать волю для узников и возвращение изгнанников. Иные, как патриарх Алексий и митрополит Николай, славословили, чтобы этой ценой добиться выпуска из концлагерей уцелевших священников и святителей, открытия церквей, монастырей, семинарий и академий. Правда, иерархи, воздавая кесарево кесарю, иной раз переплачивали – и в смысле лексики и интонационного строя обращений к советским властям, и в смысле денежных отчислений, и все-таки, по сравнению с тем, чего они добивались, этот грех невелик.
Я знаю множество примеров, доказывающих, что наши тогдашние иерархи хотя иной раз и кривили душой, но – ради помощи ближнему, ради Церкви, а не ради собственного благоденствия. Ну вот хотя бы такие случаи… Патриарх Алексий, пользуясь благоволением Сталина, вызволил из Казахстанского концлагеря архимандрита Вениамина (Милова), куда его, в 1949 году арестовав в Троице-Сергиевой Лавре, по второму разу запрятали. Об этом мне стало известно от иеромонаха Троице-Сергиевой Лавры о. Никона (Преображенского). Митрополит Николай в том же году, пользуясь благорасположением к нему властей, уберег от высылки из Москвы архидиакона о. Сергия Турикова, уже отбывшего до войны ссылку. В начале войны он помог снять судимость протоиерею о. Александру Скворцову и назначил его настоятелем московского храма во имя Воскресения Словущего, что в Филипповском переулке. Александр Григорьевич Скворцов был священником в селе Изварине Московской области (близ станции Внуково по Киевской железной дороге). В 30-х годах его посадили. На вопрос о. Александра: «Какое же я совершил преступление?» – следователь ответил: «У вас был слишком большой авторитет у населения». Потом о. Александр рубил лес в концлагере, потом вернулся, некоторое время жил в Малоярославце (ближе к Москве не подпускали), потом переехал с женой к дочери в Москву на Арбат. И вот тут-то в нем принял живейшее участие митрополит Московский Николай. Об о. Александре я все это слышал из его уст. Он давно скончался, но верующие москвичи помнят его до сих пор. Лучшего священника я в Москве не встречал. Он был моим духовником, крестил моих детей, Елену и Бориса. Как просто, кратко и проникновенно говорил он проповеди! Как утешал, ободрял, какие мудрые советы давал на исповеди!.. Как приветлив и ласков был с молящимися! Как умел ладить, никому не льстя, ни перед кем не заискивая, со своими разнохарактерными сослуживцами! Как остроумен он был в обиходной речи, как умел вовремя вставить незатрепанную пословицу! Какое верное объяснение находил для явлений церковной жизни, непонятных для таких, как я, рядовых прихожан!.. Как он был мудр! Когда я ему сообщил, что Пастернак написал «Рождественскую звезду», он ответил: великая идея для самовыражения всегда выбирает лучших из лучших.
Вот я и думаю: митрополит Николай иной раз оступался, иной раз в своих официальных заявлениях «брал тоном выше», чем бы, пожалуй, следовало. Но не простятся ли ему все его прегрешения, вольные же и невольные, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением, – хотя бы за то, что он подарил верующим москвичам такого священника, как о. Александра Скворцова?..
Коротко говоря, не всех, принимавших участие в хвалебном пении партии, правительству и «лично товарищу Сталину», надлежит пригвождать к позорному столбу. У кого повернется язык осудить Ахматову за оду самодержцу, которую она написала в то время, когда ей самой жить было не на что и нечего посылать сыну в концлагерь?
Я не нахожу оправданий лишь для выслуживания, как выразился в «Мудрости жизни» Алексей Константинович Толстой, «без особенной нужды».
Я писал о том, что Сергееву-Ценскому не было никакой необходимости коверкать лучший свой роман «Обреченные на гибель». Никто не требовал от Алексея Николаевича Толстого портить «Хождение по мукам». Никто не требовал от него вывертывать наизнанку русскую историю в дилогии об Иоанне Грозном, за что не знающее пощады искусство отомстило ему: автор «Повести смутного времени» и «Петра», так тонко чувствовавший запах старинного русского слова, всех героев дилогии выкрасил в стилизаторскую сусаль. А ведь ни Ценский, ни Толстой на паперти с рукой не стояли, и МГБ на них не замахивалось. Как не совестно было Зощенко в пору гонения на духовенство и яростного преследования за религиозные убеждения и исполнение обрядов разводить чепуху на постном масле о пьяных попах? Как ему не совестно было сочинять такие побасенки, которыми Гаргантюа, великий знаток подтирки, побрезговал бы употребить их для этой цели? Ведь Зощенко – «не чета каким-то там Демьянам». Кто дергал за язык Семена Кирсанова на общемосковском собрании писателей мяукать, как обозленный кот, о «мещанстве и пошлости зощенковских писаний и салонности поэзии Ахматовой»? (Зри «Литературную газету» от 21 сентября 46-го года.) Есть ли тут хоть слово правды? Кто тянул за язык Леонида Мартынова, в 58-м году произнесшего архиподлую речь против Пастернака? Всем членам Союза звонили по телефону, приглашали на «суд над Пастернаком», но ведь силком же не гнали! Быть героем дано не всякому, но отойти от зла даже при диктатуре Ленина-Сталина-Хрущева-Брежнева мы могли, можем, были обязаны и сейчас обязаны. Ну зачем Чуковский-фис ратовал за исключение из Союза писателей историка литературы, старика Оксмана, прошедшего концлагерь и ссылку? Ведь Николай Чуковский был беспартийный, имел возможность под любым предлогом не явиться на заседание – с беспартийных спрос не велик. Какого черта Чуковский-пер в печати обозвал переводы Анны Радловой «предательскими», когда Радлова сидела в лагере? Кого «предавала» своими переводами Радлова? Экое непотребное пустозвонство! «Не пора ли, Корней, постыдиться людей?», – так переделали строку из стихотворения Никитина «Ссора» (У Никитина: «Не пора ль, Пантелей…»).
26-го января 47-го года я писал моей матери в концлагерь (это письмо вместе с другими письмами ей при выходе на свободу разрешили взять с собой, и оно у меня сохранилось):
…не думаю, чтобы твое самочувствие в основном резко отличалось от моего и от самочувствия моих друзей.
У нас и впрямь было такое ощущение, словно мы в концлагере. Мы обнесены незримой колючей проволокой. Охранников мы встречаем на каждом шагу: и в электричке, и в метро, и на улицах, и в форме, и в штатском. Во всех учреждениях с провокационными разговорами к нам подсыпаются стукачи…
Время от времени страх налетал на нас порывами, слепил глаза молниями, бросал в дрожь ударами грома. Но жил в нас иной страх – будничный, повседневный, тихий, уже привычный.
Мы с Колей Богословским признались друг другу, что всякий раз торопимся получить причитающийся нам гонорар. А вдруг арестуют? Пусть хоть какое-то время у семьи будут деньги.
Летом, приезжая с дачи в Москву, я старался покончить со всеми делами в один день: закупить на неделю продуктов и обегать несколько издательств. Только не ночевать в Москве! Если за мной приедут на дачу, я смогу проститься со спящими детьми. И как я ни старался уговаривать себя: за что же, собственно, меня сажать-то? – не только чувства, но и разум мне не повиновались. А за что других? Захотят – повод найдут.
Во мне жила еще одна разновидность страха. В ту минуту, когда я узнал об аресте матери, во мне вновь поселился страх изгоя. Я боялся боязни знакомых. Я, бывший ссыльный и сын заключенной, боялся бросить на них тень. Боялся, что меня будут сторониться, и начал сторониться первый. Еще больше боялся, что иные не покажут вида, а подумать все-таки подумают: «Как бы чего не вышло?..» И этих я обегал. Круг моих знакомых сузился до размеров кружочка. Но кружочек этот единомыслил.
Один из моих друзей, бывший социал-демократ, хороший переводчик испанской классической драматургии Михаил Матвеевич Казмичов скупыми, но яркими красками нарисовал картину нашей «житухи» при большевиках и, внезапно сверкнув своими черкесскими глазами, в азарте полемики с воображаемым противником, воскликнул:
– А, да что там! Генерал Шкуро – это ангел в сравнении… даже с Луначарским!
Мы оба покатились со смеху, но потом пришли к выводу, что эта сверхгипербола все же заключает в себе крохотную долю горестной истины.
Над нами властвовала животная сила привычки к месту. Мы до сладостных слез любили русскую землю, русскую речь, но каждый грядущий день готовил нам новые доказательства правоты капитана Студзинского из «Дней Турбиных»:
– Какое же отечество, когда большевики… когда они Россию прикончили?
Мы утешали себя тем, что Царь Ирод не вечен.
Вдруг в душе просветлеет, только услышишь, что через такие-то деревни гнали пленных немцев и бабы выносили им поесть.
Пленных немцев я увидел впервые» когда летом 45-го года приехал в Новинку. Там они паели колхозное стадо. Были очень деятельны и добросовестны. Они смотрели на стадо как на войско, которому надо указывать наиболее выгодную позицию – где погуще травка. То и дело слышались щелканье кнутом и командирские окрики:
– Хальт» зараза!
Собираясь на прогулку, я каждый раз брал табаку и папиросной бумаги на долю пленных. При встрече угощал их. Они хорошо улыбались, доверчиво и благодарно, говорили:
– Зпазыбо, зпазыбо!
В этих немцах ничего зверского я не углядел.
Я не читал газетных отчетов о Нюренбергском процессе.
Только ОГПУ могло мне, чья дух и плоть восставали против смертной казни еще в отроческие годы, пришить пособничество к террору. У меня бы рука не поднялась подписать смертный приговор даже убийцам Александра Второго и последних Романовых, даже Ленину, Троцкому и Зиновьеву, даже Дзержинскому, Менжинскому и Крыленко, даже Ягода, Ежову и Вышинскому, даже Гитлеру и Гиммлеру, даже Сталину и Берия. Но раз смертная казнь существует, то учредители нацистских концлагерей, равно как и идейные их вдохновители, заслуживают именно этой, самой страшной меры наказания. «Только как же вам не совестно, господа американцы и англичане, – мысленно обращался я к нюренбергскому синедриону, – заседать вкупе и влюбе с посланцами советских истязателей? Они-то какое имеют право судить? И уж если вы приговариваете к смертной казни приспешников Гитлера, то уж тогда, будьте любезны, вздерните на виселицу Сталина и его клику. А иначе – где же справедливость? История рано или поздно признает ваш суд судом неправым, а вас – судьями неправедными».
И я в этом с моими друзьями не разномыслия.
Ранней весной 44-го года, днем, мне сказали домашние, что меня кто-то спрашивает. Я вышел в переднюю. Передо мной стоял человек лет двадцати пяти, с большими черными, глупыми глазами, наглохамски смазливый.
Он пальцем поманил меня к выходной двери и, кривя губы в насильственной улыбке, прошептал:
– Выйдите, пожалуйста, на минутку, мне нужно вам два слова сказать наедине.
– Я нездоров. У меня больничный лист. Пройдите ко мне – в моей комнате сейчас никого нет.
Молодой человек нехотя прошел ко мне и, как был, в дорогом демисезонном пальто, сев на тахту, понес околесицу: он – из НКВД; задержан один приезжий; при нем не оказалось документов; он ссылается на меня, что я его знаю и могу подтвердить его показания.
– А как он себя называет?.. Откуда он?
– Там все вам скажут, предъявят его фотокарточку.
– Да вы мне ее покажите сейчас, и я вам скажу, знаю я его или нет.
– Я ее с собой не захватил.
Все это было шито уж чересчур белыми нитками.
Я повторил, что мне предписан домашний режим.
– Ну что ж, жаль, конечно… Задержали-то его, как мы думаем, по ошибке, и вот человек зря будет сидеть… А может, все-таки пройдете со мной сейчас, поможете нам в этом деле?
– Я же вам говорил, что я болен и не выхожу.
– Ну да, конечно, раз на бюллетене… Тогда я к вам зайду через пару дней.
– Заходите, но я не ручаюсь, что выздоровлю к тому времени. Лучше обратитесь к кому-нибудь еще – ведь не я же один во всей Москве его знаю.
Несколько дней спустя молодой человек опять ко мне заявился. На мое счастье, я не поправился. Врач продлил мне бюллетень.
– Разрешите посмотреть ваш бюллетень, – с трудом сдерживая раздражение, сказал молодой человек.
Бюллетень был мне выдан врачом из поликлиники Министерства здравоохранения, к которой я был тогда прикреплен. Диагноз: грипп, радикулит.
– Та-ак… – помявшись, вымолвил молодой человек. – Значит, придется обойтись без вашей помощи.
На сем мы расстались. Но я понял, что продолжение последует, только, по всей вероятности, не так скоро. Однако зачем я опять понадобился?.. Ответ как будто напрашивался сам собой: должно быть, это как-то связано с делом моей матери.
Находился я в приятном ожидании два с лишним года.
В 47-м году, утром, на второй день Пасхи, мне опять сказали, что меня кто-то спрашивает. Выйдя в переднюю, я увидел накрашенную дамочку, которой можно было дать лет тридцать с хвостиком. Она вынула из сумочки бумажку и протянула мне. Это была повестка из Военкомата: мне предлагалось явиться сегодня, к четырем часам. Я расписался в получении.
– Но вы придете сегодня? – спросила дамочка.
– Приду, – слегка удивленный ее вопросом, ответил я.
Удивил меня и самый вызов, – о перерегистрации и переосвидетельствовании военнообязанных я ничего не слыхал, – и его срочность, и то, что повестку мне прислали не через домоуправление, и то, что Военкомат избрал своим гонцом типичную «секретутку».
Ровно в четыре часа я пришел в Военкомат (он помещался тогда на Тверской) и отдал повестку одному из сотрудников. Тот начал рыться в папках с таким видом, как будто никак не может найти мое дело. Было ясно, что ему для чего-то нужно протянуть время. Потом он куда-то исчез, затем снова появился и сказал:
– С вами хочет поговорить товарищ комиссар, но сейчас он занят. Подождите немного.
Я почуял недоброе.
К комиссару меня вызвали довольно скоро. У него в кабинете стоял какой-то мозгляк в штатском.
– Ваш военный билет? – обратился ко мне комиссар.
Перелистав билет, комиссар вернул его мне и указал на мозгляка:
– Пройдите вот с этим товарищем.
Вдвоем с плюгавцем мы вышли на улицу.
– Я из МГБ, – отрекомендовался он. – Мои начальники хотят вас о чем-то спросить, но это минутное дело – вы тут же вернетесь домой. Нас ждет машина, вот тут, за углом.
Мы свернули в ближайший переулок и сели в машину.
Дорогой я смотрел вперед и по сторонам с той же мыслью, с какой смотрел всякий раз на небо, идя на отметку в НКВД в Архангельске: может быть, я вижу московские улицы в последний раз… И все-таки хорошо, что нарыв прорвался…
Машина остановилась в Фуркасовском переулке, слева, если смотреть на него с Кузнецкого моста, возле углового дома с магазином внизу, выходящего в переулок и на Большую Лубянку.
В кабинете меня ждал человек в военной форме, наружности ничем не примечательной, не специфически гепеушной; человек с таким лицом мог служить и в пехоте, и в связных частях. Я запомнил его фамилию: Журавлев.
Речь пошла о моей биографии. Не дожидаясь его вопросов, я сказал, что был арестован, сослан, куда и насколько, чем занимался в Архангельске и что судимость с меня снята. Не поинтересовавшись, в чем меня обвиняли, Журавлев, слегка озадаченный моей прямотой, – по крайней мере, мне так показалось, – задал мне вопрос, кто мои родители. Я и тут решил предупредить дальнейшие его расспросы и сказал, что мою мать арестовали в 41-м году и что теперь она находится в концлагере.
– А за что ее арестовали?
– Вот этого я вам сказать не сумею. Меня тогда в Перемышле не было. Одно я знаю наверное и из ее писем ко мне, и из разговоров с моими земляками, что она, несмотря на угрожающие приказы немцев, ни в каких учреждениях при них не работала и никому зла не делала, – напротив, заступалась.
– Наверно, все-таки что-нибудь это у нее из-за немцев, – неожиданно мягко, не осуждая мою мать, а лишь высказывая предположение таким тоном, каким говорят о людях, которых могли замести под горячую руку, сказал Журавлев и, к моему удивлению, переменил разговор. Больше о моей матери я в этом кабинете не услышал ни слова.
Журавлев спросил, доволен ли я своим положением в литературе.
– Я счастлив, что Гослитиздат доверил мне перевод «Дон Кихота», – ответил я.
– Да, конечно, работа большая, ответственная… А современную иностранную литературу вы не переводите?
– Нет, давно уже не перевожу.
Он спросил, не помню ли я, кто входит в коллектив переводчиков книги, недавно выпущенной издательством «Иностранная литература», – «Совершенно секретно»?
Я назвал несколько фамилий.
– А Горбов?
– Правильно: и Горбов.
– А вы не помните, Горбов в свое время входил в группу «Перевал»?
– Кажется, входил.
– А еще кто туда входил, не припомните?
Я сделал вид, что напрягаю память:
– Пришвин… Павленко… Сергей Бородин…
Я не случайно назвал эти фамилии: про этих трех МГБ было все известно, а вот о «перевальстве» менее заметных фигур, как, например, Богословский или Замошкин, могли и забыть. К тому же, Пришвин был старик, корифей, ему даже в 37-м простили его «перевальство». Павленко (писатели прозвали его «Подленко») был одним из главных сталинских фаворитов, Бородин в 42-м году получил Сталинскую премию за роман «Дмитрий Донской».
– А больше никого не припомните?
– Нет. Ведь это уже старина. Когда существовали литературные группировки, я стоял в стороне от литературы.
– Там еще и Воронский был?
– Ну хорошо… Подождите…
Журавлев вышел.
«Старая песня…» – подумал я.
Но тут вошел какой-то вахлак и сел поодаль.
Ждать пришлось довольно долго.
– Мне нужно в уборную, – обратился я к вахлаку.
Туда и обратно я прошествовал под вахлацким конвоем, Меня ни на секунду не оставляли одного. Все это должно было нагнетать во мне чувство» что связи мои с внешним миром уже оборваны. Я был почти уверен, что это игра, но именно «почти»; в стенах этого учреждения, пока не выйдешь на улицу, надо быть готовым ко всему.
Вошел Журавлев.
– Вы не курите?
– Нет, благодарю вас, бросил.
– Вы с Горбовым лично знакомы?
– Знаком.
– Встречаетесь?
– До войны несколько раз были друг у друга, а потом перестали встречаться. (Я говорил правду.)
– Почему же?
– Во время войны было не до встреч, а после войны на меня нахлынула большая работа, и теперь я вообще ни с кем не вижусь, даже на спектакли и концерты времени не хватает. В сорок первом году у меня родилась дочь – я много внимания уделяю ей.
– Что ж, это похвально. Воспитание детей – тоже дело ответственное, не менее, чем ваш литературный труд.
– Вот и я так же смотрю…
Тут появилось новое лицо, чином выше Журавлева, – должно быть, его непосредственный начальник. Теперь уж разговор вел со мной он, а Журавлев только поддакивал ему да вставлял короткие реплики.
Этот был пострашнее архангелогородского Филиппова, пострашнее даже Исаева… Средних лет, среднего роста, поджарый, тонконогий, весь как на шарнирах… Облысевшая голова толкачом, бесовски играющие глаза, тонко очерченный рот. Выражение его лица могло быть и приторно любезным, и издевательским, и злобным, и бешеным. Он был не из простонародья, в отличие от Исаева не делал неправильных ударений, изъяснялся более или менее литературно. Но от его обходительности веяло еще большей жутью, чем от мясника Исаева. «Этот применит любые, самые утонченные орудия физической и нравственной пытки», – думал я, глядя на него. В Архангельске я не боялся Вольфсона. Я не боялся Журавлева. При виде этого беса сердце у меня дрогнуло.
Бес поздоровался со мной нарочито вежливо.
– Так вы, оказывается, несколько месяцев у нас сидели? – с очаровательной приятностью спросил он.
– Вы ошибаетесь, – тоже изобразив на лице улыбку, ответил я. – У вас я сидел всего десять дней, а около двух месяцев – в Бутырской тюрьме.
– Во время войны вы где были?
– В Москве.
– А почему не эвакуировались?
Я рассказал о том» как мы с женой решили эвакуироваться, даже рискуя потерять грудного ребенка, и как начальство уехало ночью, бросив нас на произвол судьбы.
Тема была слишком щекотливая. Бес предпочел этот разговор замять.
– Скажите, пожалуйста, – продолжал бес, – вам не попадались за последнее время какие-нибудь выступления, в которых чувствовалась бы отрыжка групповщины?
– В одной статье я такую отрыжку почувствовал.
– В какой же?
Оба впились в меня глазами.
– В статье Ермилова «Вредная пьеса», о пьесе Василия Гроссмана «Если верить пифагорейцам»[90]. Я тут абсолютно беспристрастен; знаком я с Гроссманом шапочно, как писателя его не люблю» но статья о нем Ермилова – это не критическая статья, а удар рапповской оглоблей.
Лица у обоих разочарованно вытянулись.
– С кем вы теперь встречаетесь?
– Ни с кем. До войны бывал у Сергеева-Ценского. Но потом он эвакуировался, а потом снова безвыездно засел у себя в Алуште. Опять-таки до войны бывал у своего учителя, профессора Грифцова, но после войны он тяжело заболел: утратил дар речи.
– Вы к какой-нибудь литературной группировке принадлежали?
– Ни к какой.
– Почему?
– Прежде всего потому, что группировки были ликвидированы в тридцать втором году, когда я еще учился и ни одной строчки не напечатал. На каком же основании меня бы приняли до ликвидации? Да я и в Москве стал жить с тридцатого года.
– Ну, а если бы были тогда постарше, то уж к какой-нибудь да примкнули бы?.. Вернее всего, к «Перевалу», а?
– «Дался им “Перевал”!» – подумал я и ответил:
– Ни к какой.
– Почему?
– Потому что, откровенно говоря, борьба тогдашних группировок напоминает мне тараканьи бега. Я не могу похвалиться большими знаниями, но вкус у меня и тогда уже для моих лет был неплохой, и лужу за зеркало я принимал редко. Я очень любил и люблю некоторых наших действительно больших прозаиков и поэтов – Горького, Эдуарда Багрицкого, Сергеева-Ценского, Алексея Толстого, Шолохова, Есенина, – но тогдашняя литература в целом, все эти группочки и межгрупповая грызня меня занимали, но не прельщали. И я оказался прав. Кого теперь волнует все, из-за чего в те годы копья ломались?
– Но ведь вот вас же потянуло к бывшему идеологу «Перевала» Горбову?
– Меня к нему потянуло не как к бывшему «перевальцу», а как к очень образованному человеку. Меня всегда тянуло к людям, у которых я мог бы поучиться.
Тут бес, в упор глядя на меня змеиными глазами, повысил голос:
– Горбов вел с вами разговоры на политические темы?
У меня мелькнула мысль: «Чего это они ко мне с Горбовым привязались? Уж не арестован ли он? И не вытянули ли они чего-нибудь из него?»
– Никогда, – сделав над собой усилие, ответил я. – У нас с ним было достаточно увлекательных тем для беседы: литература, музыка, живопись, театр…
– И вы продолжаете с ним встречаться?
– Меня уже об этом спрашивал товарищ Журавлев, и я ему ответил, что нет. И вообще я с головой ушел в трудную работу.
Говорю я это, а сам думаю: «Пронюхали они или нет о моих частых встречах с перевальцем Богословским, со Слонимским, с Клавдией Николаевной Бугаевой, с Зиновьевым, с Михаилом Матвеичем Казмичовым, о встречах с Пастернаком?»
– Да что вы нам сказки рассказываете? Нам точно известно, что вы не выходите из салона (слово «салон», ставшее у нас после доклада бранным, бес подчеркнул) Щепкиной-Куперник?
При этих словах я взыграл духом.
Как в 33-м году Исаев, так сейчас бес выдал мне того, кто на меня настукал. Это был шпичишка, принятый в Союз писателей не за литературные, а за какие-то другие заслуги. Мы учились с ним на одном курсе. Когда я вернулся из ссылки, меня предупреждали, чтобы я держался от него подальше, – он пытался наводить своих собеседников на скользкие темы; придя к нашему общему знакомому, которого на тот случай не оказалось дома, но который должен был скоро прийти и потому его бабушка провела гостя в кабинет, он начал рыться на письменном столе у него в бумагах, за каковым почтенным занятием гостя застала вошедшая невзначай бабушка. При наших случайных встречах во время войны и после – на улицах, в издательствах, в Союзе писателей – он проявлял ко мне повышенный интерес. Месяца два назад я столкнулся на лестнице Гослитиздата с Горбовым и разговорился. Мимо прошел шпичишка, зыркнул на нас глазами и, поклонившись, проследовал дальше. Говорили мы с Горбовым как добрые старые знакомые.
Шпичишка в очередном донесении наверняка сообщил своим принципалам об этой нечаянной встрече, а те решили, что одна нить будущего разговора со мной у них в руках: моя «дружба» с Горбовым. Полный уверенностью в том, что свежий «материал» поступил на меня именно от этого шпичишки, я проникся при вопросе о Щепкиной-Куперник. В наши студенческие годы он знал о моих добрых с ней отношениях. Но ему было неизвестно, что после войны я из-за сущей безделицы временно перестал бывать на Тверском бульваре. И, разумеется, он был не осведомлен о новых моих знакомствах.
Как почти у всякого человека в решительную минуту, догадки и соображения облаком колкой пыли пронеслись у меня в голове:
«Ага! Стало быть, они хотят запугать меня моим “окружением”: с одной стороны – “перевалец”, впоследствии близкий к Каменеву штатный сотрудник издательства “Academia”, исключенный из партии околотроцкист Горбов, с другой – “салон” Щепкиной-Куперник… Ничего мерзавцы не знают…»
Мнимо хитросплетенную сеть я прорвал без труда и, как в свое время Исаева, посадил в калошу и Журавлева, и беса.
– У вас устарелые сведения, – выдержав паузу, с насмешечкой в голосе заметил я. – Я не бываю у Щепкиной-Куперник с осени сорок пятого года.
– Почему? (Ох уж эти «сто тысяч “Почему”»!)
– По чисто личным мотивам.
– Личные мотивы нас не интересуют… Но ведь раньше вы там часто бывали?
– Бывал, но ничего зазорного в этом не вижу.
– Но у нее же самый настоящий салон! – вставил Журавлев.
– Хозяйка этого «салона», как вы выражаетесь, Заслуженный Деятель Искусств. Бывали у нее при мне Народная Артистка Обухова, Народный Артист Юрьев, Народная Артистка Держинская, Народная Артистка Турчанинова, академик Тарле – все люди, высоко награжденные правительством.
Снова бес смотрит на меня в упор остервенелым взглядом и возвышает голос:
– И вы в письменной форме могли бы засвидетельствовать, что Щепкина-Куперник антисоветских разговоров не ведет?..
Я взял на полтона выше беса:
– Кто?.. Татьяна Львовна?.. Антисоветские разговоры?.. Да я от нее антисоветского слова никогда не слыхал!.. Давайте бумагу и перо! Сейчас же давайте бумагу и перо!..
– Писать после будете…
Напряжение спало. Разговор иссякал. Теперь он уже струился вяло и лениво. Бес переливал из пустого в порожнее, жевал мочалу:
– И все-таки вы с нами не откровенны… И что вы это так замкнулись? И вдруг:
– А как у вас со здоровьем?
– Терапевтам не докучаю» а вот нервная система у меня в плохом состоянии.
– Что же вы» лечитесь?
– Да, я нахожусь под постоянным наблюдением невропатолога поликлиники Минздрава и под наблюдением профессора-психиатра.
– Ах» даже психиатра?
От меня не укрылось» что мои собеседники переглянулись.
В действительности «наблюдение» надо мной психиатра сводилось к тому, что невропатологи изредка направляли меня к нему для консультации, а Петр Михайлович Зиновьев умел успокоить меня не столько снадобьем, сколько словом участия. Но я ввернул «наблюдение психиатра» не зря. Арестовывать меня как будто не собираются. К чему же эта затянувшаяся беседа? А, наверное, хотят завербовать меня в осведомители: «Сперва оплетем его: сам сидел, мать сидит, Горбов, “салон”» а потом – ультиматум». Но я знал, что услугами «психов» МГБ предпочитает не пользоваться – с ними хлопот не оберешься.
Расчет мой был, по-видимому, верен, ибо засим последовал ряд чисто формальных вопросов.
Теперь я убежден, что и в 44-м году меня вызывали с той же целью. Только в 44-м году тема «Перевала» не возникла бы: упор, надо думать» был бы сделан на деле моей матери (война не кончилась, и тогда это еще было актуально) и на том, что я свой человек в гостеприимном доме Ермоловой.
Наконец бес объявил:
– Больше мы вас задерживать не будем. Желаем успеха в переводе «Дон Кихота». Вот только дайте нам подписочку в том, что вы никому не скажете» что мы вас вызывали и о чем спрашивали.
– Пожалуйста.
– Я вам сейчас продиктую.
Я дал письменное обязательство не разглашать наше «тайное свиданье».
– А жене скажите, что вас задержали в Военкомате. Она поверит. Во всех решительно Военкоматах бестолочь и неразбериха – это ни для кого не секрет, – слиберальничал бес. – Но про наш разговор жене и вообще никому ни слова! Разболтаете – пеняйте на себя: ведь тогда уж мы вас непременно арестуем!..
Последние слова бес произнес изогнувшись и со сладчайшей улыбочкой, затем протянул мне руку. Его примеру последовал Журавлев.
Когда я вышел в коридор» как из-под земли вырос замухрышка и проводил меня до самого выхода.
Домой я вернулся уже не на машине. Я прилетел на своих двоих.
В те годы великим моим утешителем стал Сервантес» каждодневно вводивший меня в мир своих светлых идей и образов.
В конце 51-го года вышел первый том «Дон Кихота» в моем переводе, в начале 52-го – второй. Перевод обсуждался в Союзе писателей. Мои товарищи – докладчик Николай Борисович Томашевский, Вильмонт, Кашкин, Казмичов и другие – сказали о нем доброе слово. Однажды вечером ко мне пришел без предварительного уговора никогда у меня не бывавший Корней Чуковский с первым томом «Дон Кихота» под мышкой.
– Любую фразу из вашего перевода можно сбросить с десятого этажа» и она не рассыплется, – сказал он. – Ну вот хотя бы…
И вслух прочел «Посвящение».
В 4-м номере журнала «Октябрь» за 52-й год появилась статья Н. Медведева (Н. Б. Томашевского) «О новом переводе “Дон Кихота”». Это был подробный анализ перевода с выводами, в высшей степени благоприятными, анализ тем более для меня ценный, что статьи об отдельных переводах, особенно – о прозаических» печатали и печатают у нас неохотно.
А в 57-м году я узнал из журнала «Иностранная литература» (№ 5), что мой перевод не прошел незамеченным и в Испании. Пабло Тихана в статье о нем писал, что я перевел «Дон Кихота» «великолепным русским языком».
И уж совсем недавно до меня дошел из Парижа отклик одного из старейших русских писателей Бориса Константиновича Зайцева.
Он писал 4 апреля 1970 года из Парижа в Москву литературоведу Александру Вениаминовичу Храбровицкому:
Дорогой Александр Вениаминович, прилагаю только что вышедшую свою вещицу. Если знаете переводчика «Дон Кихота» Любимова, передайте ему мое теплое одобрение – перевел хорошо.
А. В. Храбровицкий был так любезен, что перепечатал для меня на машинке «вещицу» Зайцева. Это его статья – «Дни. Похвала книге», напечатанная в газете «Русская мысль» от 2 апреля 1970 года.
Кстати, об отзывах.
О моем переводе «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле писали многие. Лучше всех написал Николай Николаевич Вильям-Вильмонт в статье «Русский Рабле» («Иностранная литература» № 7 за 1962 год). Особенно я ему благодарен за строки, в которых он дает точное определение моей переводческой сути:
H. M. Любимов – один из самых строгих и суровых мастеров художественного перевода. Верность оригиналу для него закон и нравственная норма художества.
Михаил Михайлович Бахтин на своей книге «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса» (изд. «Художественная литература», 1965) написал:
Дорогому Николаю Михайловичу Любимову, с глубоким уважением, любовью и безмерной благодарностью за изумительный перевод Рабле. 25/1 – 66 г. М. Бахтин.
А в самой книге Михаил Михайлович посвятил моему переводу такие строки:
Хочется сказать несколько слов о переводе H. М. Любимова. Выход в свет этого перевода – событие большой важности. Можно сказать, что русский читатель впервые прочитал Рабле, впервые услышал его смех. Хотя переводить Рабле у нас начали еще в XVIII веке, но переводили, в сущности, только отрывки, своеобразие же и богатство раблезианского языка и стиля не удавалось передать даже отдаленно. Создалось даже мнение о непереводимости Рабле на иностранные языки (у нас этого мнения придерживался А. Н. Веселовский). Поэтому из всех классиков мировой литературы один Рабле не вошел в русскую культуру, не был органически освоен ею (как были освоены Шекспир, Сервантес и др.). И это очень существенный пробел, потому что через Рабле раскрывался огромный мир народной смеховой культуры. И вот благодаря изумительному, почти предельно адекватному переводу H. М. Любимова Рабле заговорил по-русски, заговорил со всею своею неповторимой раблезианской фамильярностью и непринужденностью, со всею неисчерпаемостью и глубиной своей смеховой образности. Значение этого события вряд ли можно переоценить.
И еще не могу не привести слова В. Днепрова из его предисловия к роману Пруста «Под сенью девушек в цвету», вышедшем в моем переводе[91]. Он находит, что мне свойственна «самозабвенная преданность оригиналу». Что из этой моей преданности рождается – судить читателям. Но я и впрямь мог бы сказать о переводимых мною авторах и о себе-переводчике словами Пастернака из его стихотворения «Рассвет»:
Я ими всеми побежден, И только в том моя победа.…Успех моего перевода «Дон Кихота» предопределил мою дальнейшую литературную судьбу. Издательства шли мне навстречу. Сбылись и другие давние мои мечты: я перевел «Брак поневоле» и «Мещанина во дворянстве» Мольера, драматическую трилогию Бомарше, «Коварство и любовь» Шиллера. Осенью 52-го года со мной заключили договор на перевод «Гаргантюа и Пантагрюэля».
Я выбился из нужды.
В конце 51-го года вышла на свободу моя мать.
Надо мною разъяснилось.
А кругом, куда ни посмотришь, студеная тьма.
13 января 1953 года газеты сообщили, что органами Государственной безопасности «раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью, путем вредительского лечения, сократить жизнь активным деятелям Советского Союза».
«Сократили» они жизнь Жданову и Щербакову, «собирались вывести из строя» маршала Василевского» маршала Говорова, маршала Конева» генерала армии Штеменко, адмирала Левченко.
Большинство участников (Вовси, Коган Б. Б.» Фельдман, Гринштейн, Этингер) было связано с международной еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт», созданной американской разведкой. Арестованный Вовси заявил следователю, что он получил директиву об истреблении руководящих кадров СССР из США от организации «Джойнт» через врача в Москве Шимелиовича и известного буржуазного националиста Михоэлса.
Другие участники террористической группы (Виноградов В. Н.» Коган М. Б., Егоров П. И.) оказались давнишними агентами английской разведки.
Я ужаснулся, но не удивился… Старая погудка на новый лад… Сталин не считал нужным разнообразить приемы. Он и тут играл на низменных человеческих чувствах, на исконном недоверии простонародья к врачам, не исчезнувшем, а лишь затаившемся после холерных бунтов, и на не угасшей, а лишь затаившейся страсти охлоса к еврейским погромам. В никем не подписанной статье о «критиках-антипатриотах», которую опубликовала «Правда», Сталин проявил хитрость дикаря: «Да нет у нас никакого госантисемитизма! Вот, смотрите: к критикам-антипатриотам мы причисляем не только Гурвича, Юзовского, Мееровича, Варшавского, но и русского Малюгина, но и армянина Бояджиева». Та же хитрость дикаря в сообщении о врачах: арестованы Вовси, Коган, Фельдман, Этингер, Гринштейн, но среди главных «убийц в белых халатах» – Виноградов и Егоров. Потом еще подбавили русских.
После смерти Сталина, 4 апреля 53-го года, на Пасху, мы узнали из газет, что эти врачи – не убийцы.
Министерство Внутренних Дел известило нас, что оно
провело тщательную проверку всех материалов предварительного следствия и других данных по делу группы врачей» обвинявшихся во вредительстве, шпионаже и террористических действиях в отношении активных деятелей Советского государства.
В результате проверки установлено, что привлеченные по этому делу… были арестованы бывшим Министерством государственной безопасности СССР неправильно» без каких-либо законных оснований.
Проверка показала, что обвинения… являются ложными, а документальные данные, на которые опирались работники следствия, несостоятельными. Установлено, что показания арестованных, якобы подтверждающие выдвинутые против них обвинения, получены работниками следственной части бывшего Министерства государственной безопасности путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия.
Арестованные «полностью реабилитированы» и «из-под стражи освобождены».
Лица, виновные в неправильном ведении следствия, арестованы и привлекаются к уголовной ответственности.
Для меня эта Пасха была вдвойне светлым праздником. На моей памяти у нас в стране впервые гласно осудили действия органов государственной безопасности, признали невиновными и освободили вчистую тех, для кого уже были отлиты пули и сплетены петли. Как же было не ликовать?..
Мою радость омрачала мысль: «Врачам-убийцам» повезло; не сыграй Сталин в ящик, не окажись у нового правительства необходимости в широком жесте, рассчитанном, главным образом, на Европу и Америку, они разделили бы участь двадцати, сорока восьми, шахтинцев, Пальчинского, Величко и фон-Мекка, плановиков, врачей Ленина, Плетнева и Казакова. Перед всеми этими точно такими же «злодеями» и «преступниками», как и Виноградов, Вовси, Коган, тюремные двери не распахнулись.
Четвертое марта 53-го года, среда, утро.
Меня будят:
– Только что сообщили по радио, что Сталин тяжело заболел. Моя рука сама потянулась ко лбу, потом к груди и плечам…
Днем в книжном магазине на Кузнецком мосту встречаю Петра Михайловича Зиновьева. С замиранием сердца шепчу:
– Может быть, все-таки выздоровеет?
Петр Михайлович успокаивающе улыбается:
– Спасти его может только чудо. В таких случаях медицина, как говорится, бессильна.
Мне приходилось слышать такие речи: почему многое множество цекистов и чекистов было запытано и перестреляно, а Сталин отделался легкой смертью? (Своей или насильственной – судить не берусь.)
Я на этот вопрос отвечал словами мамки Онуфревны из «Князя Серебряного», говорившего о Малюте Скуратове:
– …этот не примет мзды своей: по его делам нет и муки на земле; его мука на дне адовом…
Я часто вижу во сне: Сталин властвует и управляет, а его смерть мне приснилась.
И еще один из моих более или менее часто повторяющихся снов: Сталина упрятали в клетку, но он вот-вот выпрыгнет, и все начнется сызнова.
Я уже давно понял: дело далеко не только в Сталине, Дело в Ленине и Троцком, сколотивших партию, породивших Сталиных (Сталин есть плоть от плоти Ленина), совершивших переворот и заложивших основы строя.
«Смотри в корень!» – справедливо заметил Козьма Прутков.
Моста, август 1976
Примечания автора
В некотором государстве
Эпиграф – первая строка из неозаглавленного стихотворения И. С. Никитина «Медленно движется время…».
С. 12 Мы голы, как соколы… – Никитин, «Песня бобыля», неточная цитата.
С. 19 …Раппство, падшее по манию царя… – переосмысленная цитата из «Деревни» Пушкина: «Рабство» падшее по манию царя…».
… порадел родному человечку… – Грибоедов, «Горе от ума», действие второе, явление 5, неточная цитата.
…какого змия ласкает он на груди своей… – Пушкин, «Полтава», песнь первая, неточная цитата.
С. 22 младенца милого ласкал… – Пушкин, «Брожу я вдоль улиц шумных…», неточная цитата.
С. 26 …к нам мыслили… – А. К. Толстой, «Царь Федор Иоаннович», действие второе, «Царская палата».
С. 32 Поток-богатырь – герой одноименной баллады А. К. Толстого.
С. 33 Да не смущается сердце ваше… – Евангелие от Иоанна, 14, 1 и 2.
С. 40 «Опасные связи» – роман Шодерло де Лакло (1741–1803).
С. 42 …по Булгакову – «Грибоедова» – см. роман Булгакова «Мастер и Маргарита».
С. 44 …всегда радоваться и непрестанно молиться… – Первое послание к Фессалоникийцам святого апостола Павла, 5, 16 и 17, неточная цитата.
С. 47 …сыну человеческому, негде голову приклонить – Олеша применяет к себе слова Христа (Евангелие от Матфея, 8, 34).
С. 48 Алло, Русь! – Сельвинский, «Великий обыватель с улицы Карла Маркса».
Маяковский в 28-м году призывал снести Страстной монастырь – имеется в виду стихотворение Маяковского «Шутка, похожая на правду».
Не обрывайте васильков! – М. Лохвицкая, «Не убивайте голубей» (1903).
С. 49 «Россия, кровью умытая» – название эпопеи Артема Веселого.
Россия, влево! – Борис Пильняк, «Машины и волки».
С. 50 …избы и песни так же дороги… – имеется в виду стихотворение Блока «Россия».
…далях родных… – Андрей Белый, «Из окон вагона» (вошло в его книгу стихов «Пепел»), неточная цитата.
…веками нищеты и безволья… – Андрей Белый, «Отчаяние» («Пепел»), неточная цитата.
„.прорыдать в сырое,»в пустое раздолье… – там же, неточная цитата,
С. 51 …наше время трудновато для поэтического пера… – Маяковский» «Сергею Есенину», неточная цитата.
Не продается вдохновенье… – Пушкин, «Разговор книгопродавца с поэтом».
С. 60 …своею собственной рукой… – «Интернационал».
…степеней известных… – Грибоедов, – «Горе от ума», действие первое, явление 8.
С. 61 …человечьи лица без человеческой души… – Игорь Северянин, «Поэма о странностях жизни».
С. 65 «Борис Годунов» в толстовском «Царе Федоре»… – действие первое, Палата в царском тереме.
С. 70 Я взмахнул «белым покрывалом»… – намек на стихотворение немецкого поэта Гартмана «Белое покрывало».
Коридоры в коридоры… – Багрицкий, «Дума про Опанаса», VII.
С. 81 Весть помчалась через реки… – Вера Инбер, «Сыну, которого нет», неточная цитата.
С. 94 …им жилось на советской Руси вольготно-весело… – перефразировка строк из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
С. 96 С …Никольским…меня связала, по выражению Радека, «интеллектуальная» дружба…» – так в 1937 году Радек в показаниях на процессе охарактеризовал свои отношения с Бухариным.
С. 101 …освобождающий от «уз и пленения»… – акафист святителю Николаю, икос 10.
…каторжных норах… – Пушкин, «Во глубине сибирских руд-..», неточная цитата.
С. 106 …словно из «Думы про Опанаса»… – имеется в виду монолог Опанаса из первого действия либретто оперы Багрицкого «Дума про Опанаса».
С. 111 …образок святой… – Лермонтов, «Казачья колыбельная песня».
На теплом Севере
В эпиграфе прошение ектеньи цитируется неточно.
С. 115 …известное стихотворение о малютке… – имеется в виду стихотворение К. А. Петерсона (1819–1875) «Вечер был, сверкали звезды…»
С. 117…стой! Не уйдешь из сети – Александр Устинович Порецкий (1819–1879) «Ах, попалась птичка, стой…»
Иртьшов – одно из главных действующих лиц романа Сергеева-Ценского «Обреченные на гибель», большевик-подпольщик.
С. 126 Разрывать до основанья, а затем – неточная цитата из «Интернационала».
В 1834 году Белинский отважно написал вздор о XVIII веке в «Литературных мечтаниях»… – КХ Тынянов, «Промежуток». В кн.: «Архаисты и новаторы», «Прибой», 1929.
«…знакомые все лица…» – Грибоедов, «Горе от ума», действие четвертое, явление 14.
С. 129 …чуть не взвод… над собой расправу учинил… – Маяковский, «Сергею Есенину», неточная цитата.
С. 130 …В краину милу – Шевченко, «Заповiт».
С. 132 …охота к перемене мест… – Пушкин, «Евгений Онегин», глава восьмая, XIII.
С, 137 Русь моя, жизнь моя..» Блок» первая строка неозаглавлениого стихотворения.
С. 138 …пожилая певица готовится к выступлению в концерте Глеб Алексеев имел в виду рассказ Бунина «Благосклонное участие».
Я читал статью Горбова… – имеется в виду статья Горбова «Мертвая красота и живучее безобразие».
С. 139 Недолгое его выступление дало мне больше премногих томов – намек на строки Фета из стихотворения «На книжке стихотворений Тютчева»:
Вот эта книжка небольшая Томов премногих тяжелей.С. 140 Я как будто родился заново, – начало стихотворения Яшина «По своей орбите».
Страшно недруга боготворить… – Яшин» «Страшно любить и быть нелюбимым…»
Чье сердце смягчил? – Яшин, «Переходный возраст».
Спешите делать добрые дела – Яшин, первая строка неозаглавлениого стихотворения.
…беречь друг друга… – Яшин, «Все можем».
…сердечной теплоты..? – Яшин, «Неулыбчивому человеку».
…с «казенным слогом» он «не уживался»… – так сказал о себе Яшин в стихотворении «Опять я целый день негодовал…»
С. 148 Не послушествуй на друга своего свидетельства ложна – Исход, 20, 16.
…не «создан для блаженства»… – Пушкин, «Евгений Онегин», глава четвертая, XIV.
С. 150 …раб судьбу благословил… – Пушкин, «Евгений Онегин», глава вторая, IV.
С. 153 Блажени есте… – Евангелие от Матфея, 5, 11 и 12.
С. 156 Довлеет дневи злоба его – Евангелие от Матфея, 6, 34.
С. 157 …сделавшие свое дело «мавры» – Шиллер, «Заговор Фиеско в Генуе» (действие третье, явление 4), неточная цитата.
С. 158 Лжи на свете нет меры… – А. П. Сумароков, первая строка из неозаглавленной песни.
С. 160 …гимн радости… – гимн Шиллера носит название «К радости».
С. 161 …страсти роковые….…от судеб защиты нет – Пушкин, «Цыганы».
…Волынский, разбирая «Бесов»… – имеется в виду исследование A. Л. Волынского «Книга великого гнева». Вошло в книгу Волынского «Достоевский».
С. 162 Меж нами ничто не рождало споров, но все влекло к размышлению – ср. Пушкин, «Евгений Онегин», глава вторая, XVI, неточная цитата.
С. 166 …однажды обмолвился Пастернак, что его душе нечего делать на Западе – имеется в виду строка из неозаглавлениого стихотворения Пастернака «Весеннею порою льда…»
С. 167 Горький… непочтительно возвращает… билет на «светлый праздник народов» – ср. Достоевский, «Братья Карамазовы», книга пятая, часть четвертая, IV, «Бунт»; слова Ивана: «…слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему… столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно… Не Бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительно возвращаю».
Если враг не сдается, – его уничтожают – Горький, заглавие статьи.
С. 170 Пожар пугачевский – Василий Каменский, название главы из поэмы «Емельян Пугачев».
C. 179 .„стихи Огарева… – «Арестант»,
С. 181..лающего Христова утешения… – заупокойная ектенья.
…у певца древнего хаоса и последнего катаклизма… – имеется в виду Тютчев.
С. 182 Третья книга воспоминаний Андрея Белого – «Между двух революций».
С. 183 Коль любить, так без рассудку… – первая строка из неозаглавленного стихотворения А. К. Толстого.
Рембрандтова правда в поэзии наших дней – название статьи Андрея Белого о Ходасевиче.
…обрушился на Щепкину-Куперник... – в «На рубеже двух столетий».
Вот он разглагольствует о диалектике… – в «Между двух революций».
С. 184 …хватит про всякого. – Некрасов, «Дядюшка Яков».
И Богоматерь в переулок… – Андрей Белый, «Первое свидание», 4.
Красные кони… – Бальмонт» «Агни», первая строка.
Переварив дары природы… – Андрей Белый, «Первое свидание», 4.
С. 186 Грабеж, убийства и пожары… – Федор Сологуб, «Вблизи колодца…» – неопубликованное стихотворение, заключительная строфа.
С. 195...Вседержителя, Творца небу и земли… – Символ веры.
Прощание с Севером
Эпиграф из стихотворения Максимилиана Волошина «Северо-восток».
С. 199 …про разбойника Чуркина… – роман Николая Ивановича Пастухова (1822–1811) «Разбойник Чуркин» печатался в издававшейся и редактировав» шейся им газете «Московский листок» в 1883–1885 гг.
Синее Домино – псевдоним Александры Ивановны Соколовой (1836–1914), автора уголовных романов, печатавшихся в газете «Новости дня».
С. 200…взявшие меч от того же самого меча и гибнут – неточная цитата из Евангелия от Матфея, 26, 52.
…а судьи кто? – Грибоедов, «Горе от ума», действие второе, явление 5.
С. 206…дельный разговор вели между собой – Крылов, «Прохожие и Собаки».
Кровавый буран
С. 210…беззаконной кометой в кругу расчисленных светил – Пушкин, «Портрет», не совсем точная цитата.
С. 218 Тайна же сия велика есть… – Послание святого апостола Павла к Ефесянам, 5, 32, неточная цитата.
С. 219…в глухой тюрьме тихонько задавить… – Пушкин, «Борис Годунов», картина первая, «Кремлевские палаты», неточная цитата.
С. 232…яко рыба безгласный… – сравнение взято из акафистов: «Ветия многовещанная, яко рыбы безглаеныя…». См., например, икос 9 акафиста Казанской Божей Матери.
С. 246 «Ценнейшими крупнейшим теоретиком партии» t «любимцем всей партии» Ленин назвал Бухарина в письме в съезду (24 декабря 1922 года).
С. 250 …миновала тебя чаша сия?.. – Евангелие от Матфея, 26, 39; от Луки, 22, 42; от Марка 14, 36, неточная цитата.
С. 251 Своя своих не познаша?.. – это выражение восходит к Евангелию от Иоанна (I, 10–11).
C. 256 бысть тоя нощи… – Сказание о Мамаевом побоище.
С. 259 Болъши сея любве… – Евангелие от Иоанна, 15, 13.
С. 260 Несть бо власть, аде не от Бога – Послание к Римлянам Святого апостола Павла, 13, 1.
Самоубийца
Эпиграф – Островский, «Горячее сердце», действие третье, явление четвертое.
С, 266 …диалектику учили не по Гегелю… – Маяковский, «Во весь голос».
С, 270 …из блоковских Ванюх и Петрух – имеется в виду поэма Блока «Двенадцать».
С. 272 …как выразился Достоевский… – см. «Дневник писателя», 1877, январь, глава вторая, II.
С. 274 «В поезде с юга» – заглавие рассказа Сергеева-Ценского.
С. 275 Брак незаконный – Сергеев-Ценский, «Обреченные на гибель», название одной из глав.
…спускаются внезапно… – Сергеев-Ценский, «Обреченные на гибель», глава «Облако счастья».
Смерть песне, смерть! – Случевский, «Ты не гонись за рифмой своенравной…», заключительная строфа.
…все, чего им не взвесить… – А. К. Толстой, «Пантелей-целитель».
С. 276 память сердца… сильней… – Батюшков, «Мой гений», неточная цитата.
С. 278 Спокоен и угрюм, дорогою свободной… – Пушкин, «Поэту».
С. 280 Смысл всей усиевической философии – это выражение восходит к стихотворению Гейне «Думы и грезы» в переводе Вейнберга: «Вот смысл философии всей».
С. 284 Декадентская отрава – это выражение употребил Георгий Иванов в стихотворение «Летний вечер…»: «Берегись декадентской отравы…»
…отношение к людям такое же «хорошее» как и к лошадям – ироническое переосмысление заглавия стихотворения Маяковского «Хорошее отношение к лошадям».
С. 288 Слава в вышних Богу… – Великое славословие; входит в чинопоследование всенощного бдения.
С. 292 Теперь вы – цыц! – А. К. Толстой, «Царь Федор Иоаннович», действие третье, «Покой царя Федора», неточная цитата.
С. 294 Читательское сочувствие давалось ему воистину как благодать… – Тютчев, «Нам не дано предугадать…», неточная цитата.
С. 295 Брак законный – Сергеев-Ценский, «Обреченные на гибель», название одной из глав.
С. 300 …нечто от любви кукушки к петуху… – имеется в виду басня Крылова «Кукушка и Петух».
…Твоя от Твоих Тебе приносяще… – начало возгласа священника на литургии св. Иоанна Златоуста при возношении Святых Даров.
С. 303 …я ждал бури – Пушкин, «Русалка» («Берег Днепра. Мельница»), неточная цитата,
С. 304 …нравы в советском городе были еще не столь жестоки – Островский, «Гроза», действие первое, явление третье, неточная цитата.
Тянет гарью
С. 308 Эпиграф к первой подглавке – Есенин, «Русь советская»,
С. 309 Эпиграф к второй подглавке – Чехов, «Три года», XIII.
С. 311 Дайте мне мантилью… – Козьма Прутков, «Желание быть испанцем».
С. 316 «Mein lieber Augustin» вытеснял «Марсельезу» – Достоевский, «Бесы», часть вторая, глава пятая, «Пред праздником», I, намек на музыкальную композицию Лямшина.
С. 318 Первый эпиграф к третьей подглавке – Случевский, «Где только есть земля…»
Второй эпиграф к третьей подглавке – Анна Ахматова, «Тот голос, с тишиной великой споря…»
С. 321 …рыдают с такою силой по пустякам… – А. К. Толстой, «Вонзил кинжал убийца нечестивый…», неточная цитата.
С. 323 …страха ради иудейска… – Евангелие от Иоанна, 19, 38.
С. 327 В 21-м явлении третьего действия «Горя от ума» Фамусов говорит: «Покойница с ума сходила восемь раз».
С. 328 Выйдем с тобой побродить… – Фет, «В лунном сиянии».
С. 334…мысли, которые и не снились нашим мудрецам – театроведам – ср. Шекспир, Гамлет, в переводе Вронченко;
Есть многое в природе, друг Горацио, Что и не снилось нашим мудрецам. (Действие первое, сцена 5).С. 336 Пугать меня! – Островский, «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский», сцена пятая.
С. 340 Мадонна Рафаэля – Андрей Белый, «Первое свидание», 3: «Она – Мадонна Рафаэля!»
…за «Маски» – Горький… – Морозов имел в виду статью Горького «О прозе» (впервые напечатана в альманахе «Год шестнадцатый», Советская литература, М., 1933).
Прав Достоевский… – см. «Братья Карамазовы», часть первая, книга третья, III.
Золотому блеску верил… – Андрей Белый, «Друзьям».
С. 345 …рвачей и выжиг… – Маяковский, «Во весь голос»,
…и рубля не накопили строчки… – там же.
…с трибуны докладал… – Михалков, «Гигант и цитата», неточная цитата.
…автор сопрягает слишком уж далековатые идеи… – Ломоносов, «Риторика».
С. 350 …книга Анны Ахматовой – «Из шести книг».
С. 351 Были святки кострами согреты… – Анна Ахматова, «Поэма без героя», часть первая, глава третья.
С. 361 Лысый, с белой бородою… – Никитин, «Дедушка».
С. 368 Эпиграф к четвертой подглавке – Тютчев, «Из края в край, из града в град…»
С. 370 Кто живет без печали и гнева… – Некрасов, «Газетная».
С, 379 Что нам первый ряд подкошенной травы?.. – Есенин, «Пугачев», I,
«Появление Пугачева в Яицком городке».
Сухая гроза
Первый эпиграф – А. К. Толстой, «Смерть Иоанна Грозного», действие первое.
Второй эпиграф – Михаил Булгаков, «Дни Турбиных», действие первое, картина вторая.
Третий эпиграф – Блок, две начальные строки неозаглавленного стихотворения.
Четвертый эпиграф – Гоголь, «Записки сумасшедшего».
С. 390 …в тюрьмах и шахтах сырых… – М. Л. Михайлов, «Смело, друзья!»
С. 391 Не от хорошей жизни… – это выражение восходит к словам одного из персонажей рассказа Ивана Федоровича Горбунова «Воздухоплаватель»: «…от хорошего житья не полетишь…»
С. 395 Рассудку вопреки, наперекор сообщению… – Грибоедов, «Горе от ума», действие третье, явление 21, неточная цитата.
С. 397 …таится погибель его… – Пушкин, «Песнь о вещем Олеге», неточная цитата.
С. 404 Второй эпиграф ко второй подглавке – Некрасов, «Рыцарь на час».
Третий эпиграф ко второй подглавке – Анна Ахматова, «Последний тост».
Четвертый эпиграф к второй подглавке – Анна Ахматова, «О, есть неповторимые слова…»
С. 412 Не лжесвидетельствуй, Не убий – Исход, 20, 16, 13,
С. 413...расстреливать своих же несчастных… по… темницам – Есенин, «Я обманывать себя не стану…», неточная цитата.
…еще одну ветхозаветную заповедь… – имеется в виду «Не кради» (церковнослав. «Не укради»), Исход, 20, 15.
Не прелюбодействуй – (церковнослав. «Не прелюбы сотвори»), Исход, 20, 14.
У Блока в «Двенадцати»:
С юнкерьем гулять ходила — С солдатьем теперь пошла?С. 424 Все расхищено, предано, продано… – Анна Ахматова, первая строка неозаглавленного стихотворения.
С. 426 …от них же первый есмь аз – Св. Иоанн Златоуст, молитва перед причащением: «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты если воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от них же первый есмь аз».
С. 428 …к Чижову больше ни ногой… – ср.: Крылов, «Демьянова уха»: «К Демьяну больше ни ногой».
С. 429 …у Господа милость… – Псалтирь, 129, 7.
С. 431 …смотреть с тоской, как печально камин догорает… – П. И. Баторин, неточная цитата из его популярного до революции романса «Ты сидишь одиноко и смотришь с тоской…»
С. 432 Пишите оды, господа! – Пушкин, «Евгений Онегин», глава четвертая, XXXII.
С. 436 …чем старе, тем сильней – Пушкин, «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»).
Мое рыдающее горе… – Андрей Белый, «Первое свидание», 4.
С. 441 …с корабля на бал… – Пушкин, «Евгений Онегин», глава восьмая, XIII.
С. 443…о «матерьях важных»… – Грибоедов, «Горе от ума», действие четвертое, явление 4.
C. 444 .„Не хотел вмешивать свой голос в эренбуржий вой… – ср.: Маяковский, «Хорошее отношение к лошадям»: «Лишь один я голос свой не вмешивал в вой ему».
С. 450 «Восковая персона» – название повести Ю. Тынянова.
С. 443…рабского, слепого подражанья.„ – Грибоедов, «Горе от ума», действие третье, явление 22.
„.Вольтер и Дидерот – А. К. Толстой, «История государства Российского».
Критикуя роман Тынянова «Пушкин», Слонимский имел в виду главным образом главу вторую (2) первой его части и главу четвертую (1) второй части.
С. 453 Нахулиганил Соколовский. „ – Слонимский имеет в виду песню В. И. Соколовского «Русский император…»
С. 454 „.проявлял удивительную прозорливость, как с Достоевским… после «Бедных людей»… – Слонимский имеет в виду рецензию Белинского на «Петербургский сборник» («Отечественные записки», № 3 за 1842 г.). В рецензии Белинский писал о Достоевском: «Много, в продолжение его поприща, явится талантов, которых будут противопоставлять ему, но кончится тем, что о них забудут именно в то время, когда он достигнет апогея своей славы».
„.хлестать в ус да в рыло… – Денис Давыдов, «Современная песня», неточная цитата.
С. 458 – „.за прежние вины – А. К. Толстой, «Царь Федор Иоаннович», действие третье, «Покой царя Федора», слова Годунова.
С. 462 Эпиграф к шестой подглавке – Вл. С. Соловьев, «Дракон».
В ледяных потьмах
С. 464 Второй эпиграф – М. Л. Михайлов, «Памяти Добролюбова».
С. 464 Третий эпиграф – Достоевский, «Братья Карамазовы», часть первая, книга шестая, III.
С. 465 .„они… первые были бы страшно несчастливы… – Достоевский, «Бесы», часть первая, глава четвертая, «Хромоножка», IV.
С. 466 …город славы и беды… – Анна Ахматова, «Ведь где-то есть простая жизнь и свет…»
С. 469...руководством для действия… – в статье «Две тактики» Ленин цитирует Энгельса: «Наше учение не догма, а руководство для действия».
С. 470 Не пишите, да не описуемы будете… – ироническое переосмысление цитаты из Евангелия от Матфея, 7, I: «Не судите, да не судимы будете».
Славься, славься… – Глинка, опера «Жизнь за царя» (либретто Розена), гимн.
С. 471 Карантина на прорву не было – Маяковский, «Во весь голос», неточная цитата.
„.были ли эти два мальчика? – Ср.: Горький, «Жизнь Клима Самгина», часть первая, глава I. Имеется в виду ставшая крылатой фраза: «Да – был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?»
С. 474 Правит бал – Гуно, «Фауст», ария Мефистофеля.
…суд глупцов – Пушкин, «Поэту», неточная цитата.
С. 477 Я хочу быть понят моей страной… – Маяковский, «Домой!»; строфа, не вошедшая в окончательный текст стихотворения.
С. 478 Приказ по армии искусств – Маяковский, заглавие двух стихотворений.
Примечания
1
Курсив мой. – Н. Л.
(обратно)2
«Чертухинский балакирь».
(обратно)3
«Сахарный немец».
(обратно)4
«Князь мира».
(обратно)5
«Чертухинский балакирь».
(обратно)6
«Чертухинский балакирь».
(обратно)7
«Сорокоуст».
(обратно)8
«Чертухинский балакирь».
(обратно)9
«Сахарный немец».
(обратно)10
«Сахарный немец».
(обратно)11
«Князь мира».
(обратно)12
«Чертухинский балакирь».
(обратно)13
«Чертухинский балакирь».
(обратно)14
Двоюродную сестру моей матери Елизавету Александровну Орлову и ее сына Владимира.
(обратно)15
Озорнике (фр.)
(обратно)16
Здесь многоточие в тексте Пуришкевича.
(обратно)17
Перевод мой.
(обратно)18
«Литературное наследство». Горький и советские писатели. Неизданная переписка. М., 1963. С. 301.
(обратно)19
Курсив всюду мой.
(обратно)20
Курсив везде В. 3. Розанова. «Опавшие листья», короб первый.
(обратно)21
«Уединенное».
(обратно)22
«Опавшие листья», короб второй.
(обратно)23
«Опавшие листья», короб первый.
(обратно)24
В. Шульгин. – «1920 год».
(обратно)25
«Уединенное».
(обратно)26
«Опавшие листья», короб второй.
(обратно)27
«Опавшие листья», короб первый. Курсив и разрядка везде В. В. Розанова.
(обратно)28
«Правда» от 12 января 27-го года.
(обратно)29
В «Правде» от 16 января 1935 года под заголовком «В прокуратуре Союза ССР» указывается» что первоначально дела Зиновьева Г. E., Евдокимова Г. Е», Каменева Л. Б. и Федорова Г. Ф. были направлены на рассмотрение Особого Сове «щаыия НКВД. Но в связи с показаниями Бакаева и Сафарова, «сообщившего следствию ряд фактов» об их «подпольной контрреволюционной деятельности», их дела переданы на рассмотрение Военной Коллегии Верхсуда Союза ССР.
(обратно)30
«Правда» от 12 января 26-го года.
(обратно)31
«Знамя коммунизма».
(обратно)32
Здесь и дальше курсив мой.
(обратно)33
«Бывшим» (фр.).
(обратно)34
Из резолюции объединенного заседания Политбюро ЦК и президиума ЦКК по внутрипартийным делам от 9 февраля 1929 года:
«1) т. Бухарин в сопровождении т. Сокольникова во время июльского пленума ЦК (1928 года. – Н. Л.) вел без ведома и против воли ЦК и ЦКК переговоры с Каменевым по вопросам об изменении политики ЦК в составе Политбюро ЦК; 2) т. Бухарин вел эти переговоры с ведома, если не с согласия тт. Рыкова и Томского, причем эти товарищи, зная об этих переговорах… скрыли от ЦК и ЦКК об этом факте…»
(обратно)35
См. его заметки в «Известиях» от 11 и 24 августа 1937 года.
(обратно)36
«Новый мир», № 9, 1936.
(обратно)37
Он тебя рисует (фр)
(обратно)38
Это ответ на мое сообщение, что Малый театр готовит инсценировку «Войны и мира».
(обратно)39
Для разнообразия (фр.)
(обратно)40
Газеты от 30 ноября 37-го года сообщили» что вместо Чернова Наркомземом назначен Эйхе.
(обратно)41
В 1905 году – «Поросль», в 1912 – «Наследники».
(обратно)42
Всероссийского общества драматургов, писателей, авторов кино, клуба, эстрады.
(обратно)43
Полную волю (фр-)
(обратно)44
Анализ поэтики Сергеева-Ценского см. в: Н. Любимов. Несгораемые слова. М., 1988. С. 271–288.
(обратно)45
В вышедшем под моей редакцией двухтомнике произведений Сергеева-Ценского («Художественная литература», 1975) я почти везде восстановил опущенное или измененное в последнем прижизненном собрании его сочинений (1955–1956 гг.)» чего мне не удалось сделать в собрании его сочинений, вышедшем под моей редакцией в издательстве «Правда» (1967).
(обратно)46
Все эти факты приведены в автобиографии 45-го года.
(обратно)47
Цитирую по изданию: «Павел Антокольский. Стихотворения и поэмы». Издательство писателей в Ленинграде, 1934.
(обратно)48
Цитирую по книге стихов Антокольского «Большие расстояния». «Художественная литература», 1936.
(обратно)49
Цитирую по книге стихов Антокольского «Пушкинский год». «Художественная литература», 1938.
(обратно)50
Цитирую по той же книге.
(обратно)51
Шутливо-буквальный перевод на французский язык русского выражения «У черта на куличках».
(обратно)52
Смирнова Н. А. Воспоминания. М.: Всероссийское театральное общество, 1947.
(обратно)53
Надежда Александровна играла в Малом театре в его пьесе «Профессор Сторицмн».
(обратно)54
Брюсов В, Далекие и близкие.
(обратно)55
Пяст В. Встречи.
(обратно)56
См. т. 1, с. 360–408.
(обратно)57
Здесь я далее разрядка Вяч. Полонского.
(обратно)58
«Вручила рукам» (!).
(обратно)59
Почему Вяч. Полонский не обратил внимание на «горящие нити»? Что проку было бы от них дарю? Горящая нить мгновенно сгорает, и, кроме дыма и неприятного запаха, от нее ничего не остается.
(обратно)60
Что значит «час событий»?
(обратно)61
Из стихотворения «Александру Блоку.
(обратно)62
Здесь и далее курсив мой. – Я. Л.
(обратно)63
«Потаенный сад» – название сборника стихотворений Сергея Клычкова (Москва, Книгоиздательство «Альциона», 1913).
(обратно)64
Так у Городецкого. – Н. Л.
(обратно)65
Так у Городецкого, – Н. Л,
(обратно)66
Так у Городецкого. – Н. Л.
(обратно)67
Теперь уже наименование поста, занимавшегося Риббентропом, в знак особого почтения «Известия» пишут с большой буквы. Ну чем не Московская Русь?
(обратно)68
Характерна эта иерархия сокращений: «тов.» и «т.».
(обратно)69
Районного отделения.
(обратно)70
Тульской области.
(обратно)71
Подпись неразборчива.
(обратно)72
Подпись неразборчива.
(обратно)73
Его книга очерков так и называется: «На холодном фронте».
(обратно)74
См. т. 1, с. 163–224.
(обратно)75
См. т. 1, с. 56 – 125.
(обратно)76
В подлиннике места, отмеченные у меня курсивом, подчеркнуты.
(обратно)77
В апреле 39-го года моя мать выступала на суде в защиту Анны Николаевны. Анну Николаевну оправдали.
(обратно)78
О доброте Калинина см. воспоминания Александры Львовны Толстой.
(обратно)79
Мать имеет в виду мое первое письмо ей в лагерь под Калугой.
(обратно)80
Председатель Военной коллегии Верховного суда СССР.
(обратно)81
Мать имеет в виду Михаила Соломоновича Фельдштейна и Глеба Васильевича Алексеева, лишенных права переписки.
(обратно)82
От фр. ecrire (писать).
(обратно)83
Здесь – тяготу (фр.).
(обратно)84
Отверженных поэтах (фр.)
(обратно)85
Опояз – Общество изучения поэтического языка.
(обратно)86
С. А. Венгеров.
(обратно)87
Глава шестьдесят седьмая.
(обратно)88
В 49-м году Капустина расстреляли по «Ленинградскому делу».
(обратно)89
«И у акмеистов, и у “Серапионовых братьев” общим родоначальником являлся Гофман, один из основоположников аристократически-салонного декадентства и мистицизма».
(обратно)90
Статья В. Ермилова была напечатана в «Правде» 4 сентября 1946 года.
(обратно)91
Изд. «Художественная литература», 1976.
(обратно)






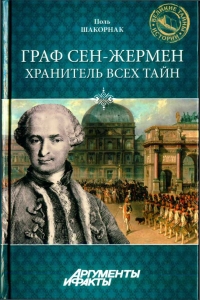
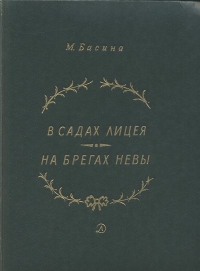
Комментарии к книге «Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 2», Николай Михайлович Любимов
Всего 0 комментариев