Мне уже 95 лет. Я — мать шестерых детей (двое из них отдали жизнь в Великой Отечественной войне), бабушка многих внуков, правнуков и даже одного праправнука. Я принадлежу к тому поколению партийцев, которое участвовало в большевистском подполье, Октябрьской революции и гражданской войне (была членом подпольного Иркутского губкома во время колчаковщины), боролась с голодом и разрухой, трудилась в годы первых пятилеток. Закончив Московский промышленно-экономический институт, несколько лет была на хозяйственной работе, а с 1933 года перешла на партийную.
В апреле 1936 года состоялась партийная конференция недавно созданного Свердловского района Москвы. Меня избрали первым секретарем райкома партии. В его состав вошло много известных товарищей: М. И. Ульянова, В. Р. Менжинская, П. С. Жемчужина и другие. В аппарате райкома работало немало участников Октября и гражданской войны.
Каждое утро секретари райкомов собирались у секретаря МК Н. С. Хрущева. Он рассказывал нам, какие накануне получил указания от Сталина. В них особое место уделялось повышению бдительности, усилению борьбы с врагами народа.
Иногда на этих совещаниях присутствовал Л. М. Каганович. Однажды он пришел, когда обсуждался ход подписки на заем. В Москву в ту пору понаехало много крестьян на заработки. Деревня жила плохо, бедно, и приехавшие берегли каждую копейку, чтобы послать что-либо родным. Агитировать таких рабочих было очень трудно — обычное задание было подписать всех не менее чем на трехнедельный заработок. Подходит агитатор с подписным листом, а ему прямо в глаза: «Что грабите, у меня в деревне семья голодает, а тут вынь да положь им заем. Нет у меня денег!» Категорически отказывались.
Услышав о таком, Каганович предложил: «Дайте им пару тумаков — поймут». Я не выдержала и сказала: «Как это бить, мы же самая цивилизованная страна в мире и вдруг вместо убеждений пустим в ход кулаки?»
Каганович ответил: «Товарищ Сталин говорит, что это правильное средство. Ведь фашисты наших бьют, а мы что? По головке гладить будем? Деньги нужны стране, и план займа должен быть выполнен любыми средствами».
Все молчали. Помню лишь, что зашедшая Е. А. Стасова слушала его слова с ужасом.
В партии, в стране все больше распространялись подозрительность и доносительство, и это всячески поощрялось. На тех же утренних совещаниях хвалили за активность в разоблачениях и корили тех, кто «отставал». Особенно резко ситуация обострилась после февральско-мартовского Пленума ЦК партии 1937 года, на котором Сталин выдвинул тезис об обострении классовой борьбы по мере приближения к коммунизму. Повышение бдительности сразу стало главной задачей, и ее отсутствие рассматривалось как «государственная измена». Проявление «бдительности» превращалось в политическую услугу партии. Охотников оказывать такие услуги насчитывалось все больше и больше.
Для некоторых доносительство стало средством сделать карьеру, иных «сигнализировать» заставлял страх за себя, многих принуждали и запугивали. В райком приходили родственники и отказывались от своих близких, арестованных как враги народа. Жены отрекались от мужей, дети от родителей, друзья от друзей. Но были и такие, которые, презрев опасность и угрозы, рискуя всем, отчаянно боролись за честь своих мужей, жен, родителей, товарищей.
Если до марта 1937 года райкомы еще имели какую-то возможность отстаивать бездоказательно обвиненных членов партии, то после сталинского тезиса это стало практически почти невозможным. Бюро райкома заседало чуть ли не каждый день, рассматривая дела партийцев, обвиняемых в дружбе или связи с арестованными или прямо в контрреволюционной деятельности.
На заседании бюро начальник районного управления НКВД Белышев стал садиться за моей спиной и говорить потихоньку: «Этого надо сегодня исключить обязательно, иначе ночью возьмем его с партбилетом». Вскоре исключение превратилось в формальность: людей арестовывали с партбилетами, и потом НКВД лишь сообщало об этом райкому, пересылая изъятые документы. Мы исключали механически, никаких сомнений в обоснованности ареста не возникало. Наоборот, нередко тут же на заседании выдвигались обвинения против работавших вместе с арестованными: «Они же знали, а не разоблачили! Значит, помогали. Надо разобраться с ними». «Разобраться» — значит, заводить новое персональное дело…
Я была подавлена происходящим, терялась в попытках объяснить себе причины ареста людей, хорошо известных многолетним пребыванием в партии, боевыми заслугами, честной работой. Газеты каждый день сообщали о новых разоблачениях, пестрели заголовками вроде «Гнусный предатель», «Фашистский наймит» и т. п. Круто усилился нажим на райкомы, от которых требовали ведущей роли в разоблачениях, и нас, секретарей, осыпали упреками в недостаточной бдительности, ставя в пример тех, кто проявлял особую рьяность и подозрительность. Заступаться за кого-либо стало почти невозможным. Сразу возникало обвинение в утрате бдительности, и это было в лучшем случае, чаще тут же обвиняли в связи с врагами.
Наш райком не отличался от других. Лишь в нескольких случаях я смогла помочь попавшим в беду товарищам, которым верила и которых знала много лет.
Совершенно растерянная пришла ко мне в райком Елена Усиевич. Дочь известного российского и международного революционного деятеля Феликса Кона. Член партии с 1915 года, будучи в эмиграции в Швейцарии, она стала женой Григория Александровича Усиевича. Партиец с 1907 года, он бежал из сибирской ссылки в канун начала первой мировой войны, оказался в австрийской тюрьме. После освобождения приехал в Цюрих. Здесь тогда жили В. И. Ленин и Н. К. Крупская. Елена с мужем часто бывали у Владимира Ильича и Надежды Константиновны, дружили с ними. В 1917 году Усиевич был одним из руководителей борьбы за Советскую власть в Москве, членом ВРК. Погиб он в Сибири от рук белогвардейцев. В 1918 году Елена с огромным трудом сумела бежать из Омска и по тылам противника добралась к нам в Тюмень, где мы уже считали ее погибшей. Она воевала в 1-й Конной армии. Стала видным литературоведом и критиком. Отличительной чертой ее характера была нетерпимость ко всякой лжи, это был человек редкой искренности и порядочности. Но очередь дошла и до Елены, в Союзе писателей ее обвинили в утрате бдительности, и ей угрожало исключение из партии. С большим трудом мне удалось убедить партком Союза писателей снять с Усиевич все подозрения и прекратить травлю. В годы Отечественной войны Елена Феликсовна вместе с Вандой Василевской участвовала в создании Войска Польского.
Пришел ко мне секретарь парторганизации «Заготзерно» и сообщил, что руководитель учреждения проводит в работе антипартийную линию. Спрашиваю: «В чем дело? Он ведь старый член партии, воевал в гражданскую, ничем не опорочен. Расскажите толком». И слышу злобный ответ: «Во-первых, он сочувствует меньшевикам и думает как меньшевик. Во-вторых, он хочет, как только немного успокоится обстановка, продать за миллионы наше зерно немцам и улизнуть в Германию».
«Позвольте, — говорю, — откуда вы знаете, что он так думает? Какие у вас есть доказательства? То, что вы наговорили на старого члена партии, выдумка и клевета».
Выпроваживаю его, а он, уходя, заявляет: «Смотрите, я вам сигнализирую, а вы не принимаете мер». И пошел с жалобой на меня в МК к Хрущеву. Тот выслушал его и тоже выставил за дверь.
Удалось защитить Юрия Константиновича Милонова, члена партии с 1911 года, профессора Московского архитектурного института. Очень эрудированный, с широким кругозором, он и в институте и в районе пользовался большим и заслуженным авторитетом. Но в 1921 году Милонов разделил взгляды «рабочей оппозиции», и теперь это ему припомнили и поставили в вину, не принимая во внимание ни его последующую работу, ни его безупречное партийное прошлое.
Но помогла моя защита ненадолго. Спустя несколько месяцев в институте снова возбудили его «дело». Меня в районе уже не было, помочь теперь Милонову было некому. Его исключили из партии и арестовали,
Феодосия Ильинична Драбкина (в подполье товарищ Наташа) — старейшая большевичка, не раз выполнявшая задания В. И. Ленина. Теперь парторганизация издательства «Иностранная литература» исключила ее из партии за то, что в Киеве исключили ее дочь Лизу. Феодосию Ильиничну с трудом удалось отстоять. А Лизу арестовали, она провела долгие годы в лагерях и ссылках, но выжила. И ныне многие художественно-мемуарные книги писательницы Елизаветы Драбкиной широко известны в стране, особенно «Черные сухари» и «Зимний перевал», где воссозданы первые годы Советской власти, встречи с В. И. Лениным и его соратниками.
Трагедией стал для меня арест Самуила Гдальевича Чудновского, друга и товарища по подполью в Иркутске в годы колчаковщины. Теперь он работал председателем Ленинградского областного суда и членом коллегии Верховного суда и довольно часто, раза два-три в месяц, приезжал в Москву. Каждый раз мы с ним встречались и откровенно разговаривали обо всем происходящем. Когда мне стало известно об арестах в Ленинграде, я спросила его: «Что это у вас делается в судах?» Он ответил: «Сам не понимаю что…»
«Слушай, Самуил, — я удивилась, — ты говоришь какую-то чепуху. Ведь через тебя должны проходить все судебные дела. Как же ты не знаешь, в чем обвиняете людей? Ведь это старые партийцы. Как на это реагирует твой друг Крыленко?»
Чудновский не выдержал моих настойчивых расспросов: «Да пойми ты, Ксения, эти дела ведет НКВД, и нас к ним не подпускают, что называется, и на пушечный выстрел. Крыленко пробовал ставить этот вопрос, но каждый раз ему говорили: «Это вас не касается, занимайтесь своими делами». Он и сам на ниточке держится. Думаешь, я твердо держусь?» — «Но почему ты не напишешь товарищу Сталину?» — «Брось наивничать, он все знает, а через НКВД и Вышинского управляет всем сам…»
Это меня оглушило, я не могла поверить, что Сталин руководит арестами. Искала оправдания: если руководит, значит, считает их обоснованными. И я продолжала верить Сталину.
Вскоре Чудновского арестовали. Узнав об этом, я тут же написала письмо Н. С. Хрущеву с просьбой дать мне возможность встретиться с работниками НКВД, чтобы доказать им, что Чудновский честнейший коммунист и его неправильно арестовали. Никита Сергеевич взял мое письмо, прочитал, разорвал на мелкие клочки и бросил их в разные корзины. Я поняла, что он сам боится.
Судьба Чудновского мне известна: он покончил самоубийством в тюрьме. В 1956 году вместе со старым членом партии А. А. Ивановой мы добились его посмертной реабилитации, а вот семью его я так и не смогла разыскать.
Пришла ко мне Лия Шумяцкая, жена Бориса Захаровича Шумяцкого, члена партии с 1903 года, председателя Центросибири, председателя Совета министров Дальневосточной республики. Побывал он и полпредом СССР в Иране, а в последние годы руководил «Союзкино», главным управлением кинопромышленности, был заместителем председателя Комитета по делам искусств при СНК СССР. Мы дружили, часто встречались. Лия рассказала, что накануне ареста Сталин пригласил Бориса на застолье, устроенное в связи с выпуском картины «Агроград», очень ему понравившейся. Заметив, что Шумяцкий не притрагивается к бокалу, Сталин спросил: «Ты почему не пьешь, считаешь недостойными наших гостей и, конечно, критикуешь нас?» Борис ответил, что вообще не пьет и вся семья не пьет. Сталин резко сказал: «Ты считаешь, что мы недостойные люди, и критикуешь нас, дескать, вот какие мы все непринципиальные». Вернувшись домой, Борис все рассказал жене и добавил: «Сталин этого мне не простит». И вот суток не прошло…
В те трудные времена были люди, предупреждавшие партию о преступных делах Сталина. Они оставались самими собой, называли вещи своими именами, рискуя жизнью, поступали не так, как было бы выгодно в данный момент, а как велела их человеческая и партийная совесть. Но их голоса не доходили до нас. Лишь в конце 80-х годов стало широко известно содержание платформы группы старых членов партии во главе с Мартемьяном Никитичем Рютиным. Я находилась в то время на хозяйственной работе, и нас информировали о решении по «делу Рютина» без изложения сути обвинений в адрес Сталина. Как ни горько сейчас говорить об этом, но я, как и сотоварищи по работе и партии, безоговорочно поверила авторитету постановления решения ЦКК. Его убийственные формулировки имели магическую силу. И я не могу сейчас уверенно сказать, что даже если узнала бы содержание «платформы» Рютина с критикой сталинщины, поверила бы ей. Слишком верила в непогрешимость Сталина, поддерживаемого к тому же всем ЦК. Как и почти всем другим, надо было на себе, на собственной шкуре испытать сталинщину, чтобы избавиться от этой веры.
Совестью партии тогда называли Арона Александровича Сольца, члена партии с 1898 года, крупного подпольщика, участника революций 1905–1907 годов, Февральской и Октябрьской. С 1920 по 1934 год он был членом ЦКК партии, членом Интернациональной Контрольной комиссии Коминтерна, с 1936 года — членом Верховного суда СССР. Авторитет у А. А. Сольца был исключительный: он отличался большой принципиальностью, прямотой и исключительной сердечностью к товарищам по партии.
Вот характерный для Сольца эпизод. Приехав по делам в один город и увидев транспаранты со словами «Да здравствует товарищ Сольц!», «Ура товарищу Сольцу!», он возмутился и потребовал все это немедленно убрать. Расстроенное городское начальство решило как-то загладить промах и организовало обед. Стол был уставлен деликатесами. Пообедав, Арон Александрович подозвал официанта: «Сколько я должен?» Официант в растерянности посмотрел на городских руководителей. Те заулыбались: «Ну что вы, Арон Александрович, все уже оплачено». Сольц побагровел: «Кто вам дал право транжирить казенные деньги?» Принесли счет, он расплатился, то же были вынуждены сделать и все остальные.
И мне Сольц преподал урок. В середине 20-х годов на всю страну прошумело «дело» председателя правления Промбанка СССР А. М. Краснощекова, обвиненного в бытовом разложении и служебных преступлениях. «Дело» приобрело особую окраску, так как Краснощеков являлся участником социал-демократического движения с 1896 года, был председателем Дальневосточного крайисполкома, затем председателем правительства Дальневосточной республики. Вместе с ним арестовали и Бориса Николаевича Бурсака, хорошо знакомого мне еще по иркутскому подполью. Под впечатлением от шумихи, поднятой вокруг этого «дела» (в Театре Революции была даже поставлена пьеса о нем — «Воздушный пирог»), я перестала бывать в доме у Бурсаков.
Но однажды Сольц спросил меня, навещаю ли я семью Бурсака. Я ответила: «Нет». Он посмотрел на меня так, что я до сих пор помню это, и сказал: «Ты же работала вместе с ним, он был твоим другом, как же ты могла поверить нелепейшим басням? Как можно в такое трудное время не поддержать его семью? Может быть, его дети голодают, а ты…» С этого дня я стала часто бывать в семье Бурсака и помогала ей, как могла. Бурсака, как и Краснощекова, вскоре освободили. Однако в 1937 году и Краснощеков и Бурсак были репрессированы.
Особенно резко Сольц выступал против Прокурора СССР А. Я. Вышинского. В 1937 году на конференции Свердловского районного партактива по вопросам критики и самокритики я, просматривая список желающих выступить в прениях, увидела, что записалось 80 человек, среди них Арон Александрович. «Значит, без баталии не обойтись, будет опять бить Вышинского и подвергнет себя опасности», — подумала я и отодвинула Сольца в конец списка.
Вдруг Сольц кричит с места: «Чудинова, почему не даешь мне слова?» Я объясняю, что слово будет предоставлено в порядке очереди. Арон Александрович встает с места, идет к трибуне и обращается к собранию с просьбой дать ему высказаться. Зал бурно аплодирует, многие кричат: «Дать слово, дать слово товарищу Сольцу!»
Небольшого роста, лохматый и небрежно одетый, Сольц решительно поднялся на трибуну. Он говорил о том, что на актив собрались, чтобы обсудить недостатки в партийной работе и в работе советского аппарата. Это правильно и своевременно. Однако при создавшемся в партии положении у нас нет настоящей критики и самокритики. У нас сложилась практика критиковать только нижестоящих, а начальников, чиновников разных учреждений, особенно крупных, без команды никто критиковать не осмеливается. Возьмем, например, Молотова. Ошибок и партийно неправильных действий у него, как у руководителя, много, и принципиального порядка. Но попробуйте его покритиковать — неизвестно, где завтра окажетесь.
Я пытаюсь остановить Сольца, а он говорит: «Чудинова, что ты нервничаешь? Предыдущий докладчик правильно говорил, что критиковать надо невзирая на лица, но в том-то и беда, что это только слова, а в действительности так не делается. Это недопустимо в партии, это и есть двурушничество, и мы сами его насаждаем. Здесь много говорили о бдительности, о демократии, а посмотрите, что делается у нас в прокуратуре. Наша прокуратура не следит за действительным проведением в жизнь законов Советской власти. Ее задача — не допускать произвола, жесточайшим образом бороться с нарушителями закона, в каком бы учреждении они ни сидели. А у нас закон подменяется чрезвычайными комиссиями, которые за судьбу народа не отвечают. В прокуратуре Вышинскому глубоко чужды интересы нашей партии. Ему важно выслужиться. Как Прокурор СССР, он должен проверять правильность работы судебных органов и НКВД, а он старается осудить как можно больше старых членов партии. У нас не будет порядка, пока отъявленный меньшевик правит прокуратурой…»
В зале поднялся шум, я остановила Сольца…
В МК мне попало от Хрущева: «Распускаешь людей, он же сумасшедший, а ты ему трибуну дала…» Сольц выступил на объединенном партсобрании Прокуратуры СССР и Верховного суда с обвинением Вышинского во враждебном отношении к старым большевикам. Вскоре Сольца изолировали в психиатрическую больницу.
Не доверяла Вышинскому и Мария Ильинична Ульянова. Когда в состав райкома обсуждалась его кандидатура, Вышинский подчеркнул, рассказывая свою биографию: «Товарищи! В давно прошедшие времена я стоял на несколько иных позициях, но я давно порвал со всем этим и, как всем известно, получил орден за борьбу с контрреволюцией». Сказал и уверенно пошел на свое место. Мы были возмущены его словами. Мария Ильинична очень нервничала: «Подумайте, ни слова не сказал, что был меньшевиком, активно боролся с Советской властью. Видно, нутро у него так и осталось меньшевистским. Надо обязательно сказать ему, что выступил он не по-партийному».
В перерыве, когда мы с Марией Ильиничной пили чай в комнате президиума, Вышинский подошел ко мне и спросил, понравилось ли мне его выступление. Я ответила: «Вы очень нескромно говорили о своих заслугах, о своем ордене и очень скромно — о своих ошибках». Вышинский высокомерно ответил: «Мои ошибки — это всего лишь мои личные ошибки, а мои заслуги — это капитал партии». Мария Ильинична сказала: «Перед партией всегда надо быть предельно искренним и честным. Меньше надо было говорить о заслугах, больше о том, как вы освободились от враждебных партии взглядов».
Надо сказать, что время это для Марии Ильиничны было трудным. После вынужденного ухода из «Правды» она возглавила Бюро жалоб Комиссии советского контроля, привлекла к контрольно-ревизионной деятельности многих общественников, создала четко работающий аппарат и наладила обязательный контроль всех дел, проходящих через Бюро. После февральско-мартовского Пленума ЦК 1937 года, когда возникло недоверие к общественности, работать в Бюро стало очень трудно. Бюро жалоб находилось в помещении Дома Совета Народных Комиссаров на первом этаже. Кабинетом Марии Ильиничны был угол, отгороженный от общего зала тонкой фанерной перегородкой. Сюда к ней ежедневно приходили люди со своими бедами.
В 1937 году я часто видела Марию Ильиничну в подавленном настроении от всего происходящего в партии и очень усталой. В годовщину смерти Владимира Ильича я попросила ее выступить с воспоминаниями на районном торжественном собрании. Она долго отказывалась и, наконец, согласилась. На трибуне она очень волновалась, а закончив, спросила меня: «Я никаких глупостей не наговорила? — и добавила невыразимо грустно: — Знаете, я совсем не выступаю и боюсь говорить, вдруг, думаю, скажу что-нибудь не то». Опасения ее были не напрасными. Когда мне удалось в другой раз уговорить ее выступить, она, увлекшись воспоминаниями о Ленине, стала рассказывать, какой замечательный человек Николай Иванович Бухарин, как любил его Ленин и как всегда радовался ему. Зал притих… Имя Бухарина тогда уже было достаточно одиозным. Я, пытаясь привлечь внимание Марии Ильиничны, кашляла, стучала карандашом, но она не замечала ничего. Наконец Мария Ильинична посмотрела на меня, побледнела и сошла с трибуны, не закончив фразы.
На Московской объединенной партийной конференции атмосфера была очень напряженной и тревожной. Перед самым началом вечернего заседания, запыхавшись, вошла в зал Мария Ильинична, села рядом со мной и сказала: «Я очень боялась опоздать, всю дорогу бежала, а сейчас кружится голова». Обстановка на заседании накалялась с каждой минутой. Ораторы один за другим сообщали об арестах новых «врагов народа» — известных старых большевиков. Много говорили о самоубийстве любимого военными начальника Главного политуправления Красной Армии Яна Гамарника, о процессе Тухачевского, Уборевича, Якира и других.
К вечеру я обратила внимание на состояние Марии Ильиничны: глаза блестят стальным блеском, лицо и шея покрылись пятнами. Было видно, что она изо всех сил подавляет внутреннее возбуждение. Я стала уговаривать ее поехать домой, она отказывалась. Тогда я сказала, что обращусь в Президиум, чтобы вызвали врача сюда. После этого Мария Ильинична согласилась уйти. Я попросила секретаря парторганизации Комиссии советского контроля Петрова, сидевшего от нее слева, проводить Марию Ильиничну. После окончания заседания я пошла в райком, куда мне позвонил Петров и сказал, что отвел Марию Ильиничну в Бюро жалоб и в своем кабинете она упала без чувств. 12 июня, так и не придя в сознание, Мария Ильинична умерла. Убеждена, что обстановка 1937 года ускорила смерть Марии Ильиничны. Она тяжело переживала аресты, нагнетание страха и свое бессилие что-либо изменить.
Летом 1937 года арестовали моего бывшего мужа, отца моих троих детей Димитрия Константиновича Чудинова. Разойдясь, мы сохранили добрые отношения. Человек глубоко принципиальный, преданный партии, Чудинов не боялся открыто высказывать свое мнение и защищать его, не терпел неправды. В 1921 году он опубликовал в журнале «Сибирские огни» статью «Голод и кризис крестьянского хозяйства» с резкой критикой тогдашнего отношения к крестьянству. Против него в том же журнале выступил Е. М. Ярославский. Статья его, написанная совместно с Р. Г. Тумаркиным, называлась «Неверный компас, неверный путь» и требовала у Димитрия Константиновича отказа от своей позиции. Но тут как раз партия приняла решение о переходе к новой экономической политике, и отказываться ни от чего Чудинову не пришлось.
Спустя года три, когда развернулась дискуссия с троцкистами, Чудинов был ближе к ленинскому курсу, особенно в вопросах отношения к крестьянству, троцкистскую платформу назвал демагогической и не поддержал. Однако кто-то из работников индустриального техникума, где он тогда был директором, выкрал из его стола книжку с текстом троцкистской платформы и передал ее в контрольную комиссию. Возникло дело, которое разбирал Ярославский. Он хорошо знал, что Димитрий не троцкист, но за отказ сообщить, кто дал ему «платформу», настоял на исключении на полгода из партии «за неискренность». Уже как беспартийного специалиста-плановика Чудинова послали работать в Казахстан, а спустя полгода восстановили в партии. В 1937 году Наркомпрос перевел Димитрия директором техникума в Краснодар. По дороге туда, прямо в поезде, его арестовали, а ехавшего с ним сына отправили ко мне в Москву. После XX съезда партии Димитрия Константиновича посмертно реабилитировали и восстановили в парии.
Узнав об аресте, я написала заявление в МК и отнесла его Н. С. Хрущеву. Он сказал: «Сиди. Ты не имеешь к этому делу никакого отношения и нечего разводить ужасы. Тебе что, вожжа под хвост попала?» Но я настаивала на освобождении меня от работы секретарем и разрешении созвать для этого пленум райкома. Хрущев позвонил Маленкову, и тот дал согласие. Пленум состоялся на следующий день. Пришедший на пленум секретарь горкома Братановский (позднее он погиб в застенках НКВД) поставил вопрос о переброске меня на работу начальником управления зрелищных предприятий Московского Совета. О причинах он не сказал, и пленум подавляющим большинством голосов отверг перемещение. Тогда я сама объяснила фактическое положение дел. После этого мою просьбу удовлетворили, но не вывели из состава райкома, осталась я и в составе горкома партии.
Работы в управлении было очень много, я увлеклась ею. Вечера обычно проводила в театрах, домой приходила очень поздно. Вскоре нагрянула новая беда. Мой второй муж, Роман Иванович Млиник, член партии с 1918 года, профессор педагогики, преподавал во Всесоюзном коммунистическом институте политпросвещения, когда его исключили из партии «за потерю бдительности» и арестовали. В тот вечер я возвращалась домой поздно ночью и была удивлена тем, что все окна квартиры освещены. Дверь мне открыл человек в форме НКВД. Спрашиваю: «В чем дело?» — «В вашей квартире обыск». — «У меня?» — «Нет, у вашего мужа, Млиника».
Захожу в комнату. Роман сидит на диване, обнявшись с дочками Наташей и Элей. Из письменного стола все вывалено, большой деревянный ящик с рукописями мужа об известном чешском педагоге-гуманисте Яне Амосе Коменском перевернут. Полный разгром с книгами, а у нас их много — несколько тысяч. Швыряют на пол носильные вещи. Потом комнату мужа опечатали, предложив предварительно мне забрать свои вещи, повесили на двери замок. Трудно передать мое состояние в эти минуты. Когда мужа уводили, мы с ним горячо расцеловались, девочки повисли у него на шее. Слез у меня не было, были отчаяние и ужас.
Когда дверь за ним закрылась, мне еще предстояло объяснить младшим детям происшедшее. Во время обыска они спали, в комнату к ним я энкаведешников не пустила. Утром я сказала детям, что папа уехал в командировку. Самый младший, восьмилетний Лева, увидев запечатанной комнату, сказал: «Мама, а может, он уехал в такую же командировку, как папа Лени Рабиновича?»
Давид Рабинович, помощник Н. С. Хрущева, незадолго перед этим был арестован (как и все работники секретариата Хрущева), и от него выбивали против Никиты Сергеевича показания. Комната его, как и у нас, была опечатана, на дверях висел замок. Лева бывал у Лени, жившего этажом выше, и видел это.
Мне надо было искать другую работу, на идеологической оставаться нельзя. Секретарь Свердловского райкома Аникеева решила вынести вопрос на пленум для «соответствующих выводов». На пленуме меня, как полагается, «проработали», но этим и ограничились, не вывели даже из состава пленума. Участвовавший в заседании Вышинский — он был членом райкома — упрекнул меня в неискренности за то, что ранее не сообщала о том, что муж был когда-то эсером. Я ответила: «Не думаю, что ваша жена, когда ее куда-нибудь выбирают, объясняет, что ее муж — бывший меньшевик».
Н. С. Хрущев к тому времени уехал на Украину, его в МК сменил А. И. Угаров. Пошла к нему. Он уже знал о происшедшем и сказал, что из состава горкома меня выводить не будут, а работу сменить надо.
Близкая моя подруга по иркутскому подполью Люба Литвина работала инструктором Краснопресненского райкома и помогла мне устроиться председателем небольшой швейной артели в их районе. Правда, пришлось согласовывать это с председателем Центрального правления промысловой кооперации Михаилом Семеновичем Чудовым. Его, работавшего ранее вторым секретарем Ленинградского обкома партии, сместили после убийства С. М. Кирова вроде как за потерю бдительности и послали в промкооперацию. Вскоре, правда, и его арестовали и расстреляли. Реабилитирован Чудов и восстановлен в партии только после XX съезда КПСС.
Итак, я председатель артели швейников. Артель помещается в полуподвале, страшно грязном. На столах и верстаках почти у каждого рабочего места рядом с утюгом бутылка водки и стакан. Работают почти все навеселе, но дело знают. Многие откуда-то уволены за пьянку. Заказы, как правило, выполняются не в срок. Смотрю, и мне стыдно, что люди так живут, так опустились. Предлагаю: «Давайте устроим субботник и уберем нашу мастерскую». Привели мужчины своих жен, и мы все вместе навели чистоту. Потом договорились, чтобы бутылок на столах не было. Мастерская вдруг превратилась в чистую, даже симпатичную. Затем общими усилиями начали ликвидировать задолженность заказчикам. У каждого мастера было несколько вещей, которые лежали месяцами. Легковерный заказчик приносил бутылку и давал задаток. Бутылка опустошалась, деньги пропивались, а вещь лежала. Постепенно мы добились того, что задаток брали в кассу и выдавали деньги только по мере выполнения заказа. Вскоре работу мастерской оценили как хорошую, а я даже получила премию от Центрального правления промысловой кооперации.
Материально мне жилось тяжело. Зарплату в маленькой артели получала более чем скромную, а на руках была большая семья. Зная об этом, кое-кто из старых друзей добился через Московский комитет откомандирования меня в Наркомат торговли, где я была назначена заместителем начальника Управления торговли. Оргбюро ЦК утвердило это назначение. С деньгами стало лучше, не приходилось каждый день думать, на что купить хлеб.
Я немного успокоилась и не ожидала уже каких-либо новых бед, тем более что Сокольнический район стал посылать меня с докладами на предприятия. Но прошло месяца два или три, как ко мне на квартиру пришли проверять паспорт. Я в эту ночь дома не ночевала, узнала о приходивших утром, позвонив детям, и поняла, что приходили арестовать. Позвонила на работу, что не приду, и отправилась домой. Ждать…
Потом, взяв с собой Наташу и старшего сына Костю, пошла к Бурсакам договориться, чтобы позаботились о детях. Борис и его жена Мура обещали, и Борис, как уже имевший опыт, посоветовал взять с собой побольше вещей, особенно теплых. «И сходи прямо от нас в баню, — сказал он. — А то может случиться, что не скоро туда попадешь». Свое обещание заботиться о детях Борис и Мура выполняли, пока Бурсака не арестовали вторично.
Сходила я в баню, потом собрала вещи, уложила их — по совету Бурсака же — в чемодан и стала ждать.
Часов в 10 утра 10 апреля 1938 года позвонили из наркомата, что приехали какие-то товарищи, спрашивают, когда я приеду. Я ответила, что пусть едут ко мне домой. Минут через 40 они явились. Младших детей я отправила в школу, не хотела, чтобы они видели предстоявшее повторение ужаса ареста мужа. А зашедшие за Наташей ее подружки по мединституту Вера Антонова и Нина Шарова не успели уйти и теперь притаились где-то в углу, потрясенные происходящим. Все же я уговорила старшего из приехавших отпустить девушек. Обыск длился долго, несколько часов, и младшие вернулись из школы. Все теперь происходило при них, знавших свою мать как честного человека, никогда не говорившего неправды. Теперь они видели: мать уведут в тюрьму. До сих пор перед глазами их растерянность и горе, их рыданья. Говорю: «Не верьте ничему, я ни в чем не виновата, меня скоро выпустят…» Вдруг старший из приехавших спрашивает: «Где ваши сбережения?» Отдаю сберкнижку, на счету 49 рублей. Все, с чем остается семья.
Страшно рыдала Наташа, ей уже 18 лет, она все понимает, бросается мне на шею, плачет. «Талочка, будь мужественной, на тебя остаются все дети. Что бы со мной ни случилось, знай, что я ни в чем не виновата», — говорю я, едва сдерживая слезы. Горло перехватывает. Она кивает головой и снова рыдает. Когда меня вывели к машине, ожидавшей у подъезда, я успела оглянуться: дети прильнули к окну тесной кучкой. Я помахала им рукой и, собрав силы, улыбнулась.
На допросах меня стращали, угрожая арестовать детей. Я отвечала, что давать предательские показания не буду, клеветать на себя и товарищей по партии и работе не стану. Следователи обзывали меня контрреволюционеркой, сволочью, материли, продолжали свои угрозы, стуча кулаками по столу. Стремились запугать, сбить с толку, измучить и ослабить. Правда, не били. Но угрозы расправы с детьми были невыносимы, устоять было очень трудно. Стискивая зубы, едва сдерживая слезы, я держалась.
В камере Внутренней тюрьмы НКВД на Лубянке среди обитательниц я оказалась единственной — большевиком, бывшим партработником. Преобладали бывшие эсерки, меньшевички, была одна баронесса. Поначалу сокамерницы относились ко мне с нескрываемым презрением. Одна из эсерок даже сказала: «Нам больше пяти лет не дадут, а вот с вами неизвестно, что будет. Можете и не вернуться». Но постепенно отношения вошли в норму. Сблизила общая судьба. Мы вместе ухаживали за возвращаемыми избитыми с допросов, как могли, помогали друг другу. Почти все говорили, что ни в чем не виноваты, но уже подписали «признания» либо собирались их подписать, чтобы избавиться от издевательств и избиений.
Я пытаюсь убедить женщин не делать это, доказываю, что ложные показания лишь усугубят их судьбу. Не знаю, влияли ли мои внушения. Но на одном из допросов следователь сказал: «Придется как следует проучить вас, чтобы не вели контрреволюционной агитации в камере».
Допрашивали меня, как и других, главным образом, ночами, и это очень тяжело, так как днем спать не разрешалось. Но мы старались обмануть надзирателей: женщины садились рядом, загораживая от «волчка» вернувшуюся с допроса, и она, сидя, спала, хоть немного.
Однажды во время такого «воровского» сна я проснулась оттого, что все от меня отскочили: открылась дверь. В камеру вошла маленькая худенькая женщина с узелком в руках, и я узнала Евгению Соломоновну Коган, секретаря Московского горкома партии, с которой я повседневно встречалась как секретарь райкома. Она бросилась сразу ко мне: «Боже мой, и ты, Ксения Павловна, здесь!»
Е. С. Коган рассказала, что ее обвиняют в том, что она является активным членом и одним из организаторов «московского правотроцкистского центра». Говорю ей, что и меня в этом же обвиняют, но я ничего не подписала. Она стала меня умолять: «Дорогая Ксения, прошу тебя, как лучший друг, как лучший товарищ, не подписывай клеветы. Это ужасно, но я не выдержала мук и подписала. Теперь все кончено. В вашу камеру меня привели случайно. Утром, вероятно, мне объявят приговор».
«Организатор центра» оказалась голодной, мы накормили ее. В тюрьме Евгения Соломоновна находилась больше 10 месяцев, взяли ее без всяких вещей, и на ней была изодранная кофта и поверх спорок подкладки с пальто. Тут же мы договорились, чтобы она не подписывала приговор без очков, которые у нее забрали.
Ночью ее увели, но быстро вернули, и она успела сказать, что приговор ей зачитали: 15 лет в тюрьме строгого режима. Она попросила очки, и ее вернули за ними: очки находились у коменданта тюрьмы. Почти сразу ее снова увели, и больше я о ее судьбе ничего не знаю. Исключительно тяжелое впечатление произвел рассказ Евгении Соломоновны о том, что ее дочь Галя (от В. В. Куйбышева) отказалась выйти из своей комнаты проститься. Мать оправдывала дочь: «Я ведь сама воспитывала ее в слепой вере в обоснованность арестов. Если наши органы кого-то берут, то наверняка есть основания».
Просидела я во Внутренней тюрьме несколько месяцев, и все время шли активные допросы. Меня хотели сделать не только троцкисткой, но и членом «московского правотроцкистского центра», но я ни одного обвинения не подписала. Энкаведешники называли меня неразоружившейся и лишили права на прием передач от семьи. Дети нигде не могли что-либо узнать обо мне и тщетно искали по всем московским тюрьмам. А ведь денежные передачи были единственной весточкой, благодаря которой можно было хоть знать, что дети живы и находятся дома. Запрет передач был очень тяжелым наказанием.
И все же мне удалось передать детям весточку о себе. С нами в камере находилась балерина Большого театра Кудрявцева. По чьему-то доносу ее обвиняли в намерении убить Сталина из оружия, которым она пользовалась на сцене. Многие догадывались об абсурдности клеветы — оружие было бутафорским. Это и вселяло надежду на освобождение балерины. Когда Кудрявцева в ходе допросов поняла, что дело благополучно заканчивается, она взялась зайти к моим детям и рассказать, что я жива и здорова. Свое обещание она выполнила.
Из Внутренней тюрьмы меня перевели в Таганскую. Там условия были хуже: тесно, спали все вповалку на полу. Хуже было и питание. Но зато там заключенные больше общались — камера куда более населенная, чаще меняется состав обитателей. Здесь я встретилась с Бетти Глан, директором и художественным руководителем Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, очень популярного в Москве центра досуга и многих массовых мероприятий. Участница гражданской войны, комсомольский вожак, сотрудник аппарата исполкома КИМа, она скрашивала нашу жизнь талантливыми рассказами, но пробыла в камере недолго. Вскоре ее отправили в лагерь. Б. Н. Глан была реабилитирована и восстановлена в партии в 1955 году.
После некоторого перерыва снова возобновились допросы и стали почти ежедневными, иногда вызывали по два-три раза за ночь. Один допрос был особенно злобным. Примерно в час ночи меня взяли уже в третий раз. Не успела я войти и сесть, как следователь заорал: «Рассказывай, как работала в Сибири и почему чехи освободили тебя из тюрьмы?»
Уже в который раз рассказываю о подполье у белочехов, о погибших товарищах, о нашей очень трудной работе в Иркутске. Недослушав, следователь снова закричал: «Говоришь, честно? А нам все известно! Зачем с контрреволюционером Зеленским ездила в машине, где и когда он тебя завербовал?»
Я говорю, что действительно один раз ездила на машине с тогдашним секретарем Московского комитета партии и членом ЦК Зеленским. И снова он, недослушав: «Говори, какие у тебя были отношения с Хрущевым?» Я возмутилась: «Вы не смеете оскорблять Хрущева, он член Политбюро и честный партиец. Вот знал бы он правду о ваших издевательствах…» — «Хватит рассказывать сказки! Здесь дураков нет! Тут тебе не МК и не ЦК!» Тогда я не выдержала: «Мальчишка, сопляк! Да как ты смеешь партию оскорблять!»
Он тоже что-то кричал, в это время открылась дверь, в комнату вошло несколько человек, и один, видимо старший, спросил: «Что тут происходит?» Я ответила: «Этот мальчишка, сопляк, смеет оскорблять партию. Он только что мне сказал — тут тебе не МК и не ЦК, здесь дураков нет, это там уши развешивают. Ваш следователь — контрреволюционер».
Начальник что-то сказал следователю, тот быстро ответил: «Я не говорил ЦК».
Вызвали конвой, и меня увели в камеру. Что было дальше там, я, конечно, не знаю. На два дня меня оставили в покое, и я отдохнула. Когда на третий день вызвали, там был уже другой следователь. Человек, по первому впечатлению, вроде спокойный, и я попросила сказать, что с моими детьми, где они. «А вам очень хочется узнать это? — спросил следователь. — Подпишите хоть одно обвинение, и я вот по этому телефону соединю вас с вашими детьми».
Как всегда, я ответила, что подписывать подлости и клевету не буду, чего бы это мне ни стоило. Зашел заведующий каким-то следственным отделом и спросил у следователя: «До каких пор эта героиня будет врать и изворачиваться, сволочь такая?» Я не выдержала и сказала: «Сам сволочь».
Меня немедленно вывели и затолкнули в карцер.
Там можно было только стоять. Из карцера я вдруг ясно услышала будто голос моей Наташи, вроде как она говорила: «Отпустите маму, мы с ней уедем в деревню. Мамочка, родная, скажи ты им, что им нужно, и мы будем вместе». Сначала я поверила, что это Наташа, но затем какое-то материнское чувство подсказало, что это не она, что меня провоцируют.
Потом следователь сказал, что мои дети якобы не хотят со мной разговаривать, потому что я не сознаюсь. Но я продолжала верить в Наташу и остальных детей. Но как мучительно было не знать, что с ними, как они живут. Это нестерпимая пытка для каждой матери. Тяжелым физическим пыткам меня не подвергали, хотя я этого ожидала и внутренне к этому готовилась.
Еще на Лубянке два дня в нашей камере пробыла женщина, обвиненная в шпионаже. Я сначала отнеслась к ней с подозрением, почему-то подумала, что подсадили нам «утку», доносчицу. Как потом выяснилось, она то же подумала про меня и не хотела разговаривать. Но один раз, когда я вернулась в очень тяжелом состоянии с допроса, молчунья помогла мне, и мы разговорились. Она рассказал, что ей довелось сидеть в одной камере с Варварой Николаевной Яковлевой, членом партии с 1904 года, замечательной революционеркой, энергичным и исключительно волевым человеком. Секретарь Московского областного бюро ЦК партии, она в октябре 1917 года была членом Партийного центра. Во время борьбы с колчаковщиной и за освобождение Сибири от белых и интервентов Варвара Николаевна руководила Сибирским бюро ЦК РКП (б). Председателем Сибревкома был тогда Иван Никитич Смирнов, и вот неожиданно я услышала их имена от Эрны — так звали мою собеседницу (фамилию, к сожалению, я уже забыла). Она рассказала, что Варвару Николаевну допрашивали ежедневно, вернее, каждую ночь и с допросов ее приводили в очень тяжелом состоянии. Руки у нее были забинтованы, и через бинты сочилась кровь. Ей загоняли металлические иголки под ногти. Так палачам удалось сломить ее и заставить выступить свидетелем на процессе Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова и других, участвовать в этом подлом спектакле, произведшем ужасное впечатление на весь мир, а нас склонившем еще больше поверить в Сталина. Для меня, хорошо знавшей Варвару Николаевну, это было особенно ужасно, в голове не укладывалось все, что она говорила на процессе. Ничего не зная о пытках, я, читая газеты, и верила и не верила ее словам о подготовке уничтожения «левыми коммунистами» в 1918 году Ленина, Сталина и Свердлова. И вот в камере я узнала истинную подоплеку этих «показаний».
Наконец допросы прекратились, я так никаких «признаний» и не подписала, и в одну из несчастных ночей меня отправили вместе с группой заключенных в большом фургоне в Бутырскую тюрьму. Там мы сразу оказались в большом помещении, которое более опытные из нас назвали «вокзалом». Оно действительно было похоже на вокзал, переполненный серыми, истощенными заключенными. Среди нас оказалось несколько московских партработников, и мы старались быстро рассказать друг другу, в чем каждого обвиняют и кто еще проходит по делу.
Вскоре открылась дверь в небольшую комнату, и туда стали вызывать по фамилиям. Почти все выходившие из нее плакали, сообщая решение — приговор Особого совещания НКВД. Но кажется, все были довольны тем, что больше не придется подвергаться изматывающим допросам, надеялись, что из лагеря смогут писать в ЦК и другие места просьбы о пересмотре дела.
Назвали и мою фамилию. Я бодро вскочила с лавки, и, уверенная, что меня вызвали для освобождения, вошла в черную дверь. Человек с большими нашивками довольно вежливо предложил мне сесть, вытащил из папки какую-то бумагу и сказал, что меня отправляют в лагерь на восемь лет по статье 58 пункты 10 (агитация против советской власти) и 11 (действия в сообществе). Я не хотела расписываться в прочтении, конце концов подписала, когда он сказал, что тогда подпишут свидетели объявлени приговора. Написала, что с приговором не согласна.
Как и другим, мне разрешили написать открытку обещали дать свидание. Но увидеть детей мне не довелось. Все наши сборы на этап свернули в два дня и раньше времени пригнали на запасные пути Казанского вокзала, где уже стоял эшелон из теплушек. Старший охранник скомандовал: «Немедленно освободить чемоданы!» Куда вещи девать? Мы попытались запротестовать, но старший и слушать не стал: «Вы что, на курорт собрались?! Освобождай чемоданы, а то штыками выбросим ваше барахло».
Некоторые из нас успели получить свидания со своими близкими, им принесли необходимые зимние вещи, а тут забирают чемоданы. Догадались, что можно использовать как мешки юбки, наволочки, рубахи, и кое-как под окрики конвоя стали распихивать свои пожитки.
Простояли мы у эшелона несколько часов, то и дело нас пересчитывали по головам, пока, наконец, не погрузили в теплушки. Здесь мы торопливо настрочили коротенькие записки, сложив их треугольниками. Я написала: «Передайте по адресу это письмо. Нас срочно отправили, и мне не удалось связаться с детьми. Спасибо Вам». В лагере узнала, что письмо не дошло.
В Сызрани нас выгрузили и повели в пересыльную тюрьму. Проходили через большую площадь с огромными лужами. Когда мы оказались в самом грязном месте, старший по конвою вдруг скомандовал: «Ложись!» Мы даже не поняли сразу эту команду, остановились и стояли на месте. «Ложись, мать-перемать!» Больше половины опустились на колени в глубокую грязь, но остальные стояли неподвижно. Ко мне подбежал конвоир и замахнулся прикладом, но другой закричал: «Не тронь ее, отвечать будешь!» — и тут же скомандовал: «Поднимайсь! Шагом марш!»
В Казахстане, куда нас привезли, я вместе с товарищами по этапу сначала оказалась на распределительном пункте Карабаз. Отсюда нас назначили в крупное хозяйство «Бурма» — большой сельскохозяйственный лагерь, сочетавший растениеводство с овцеводством, молочным хозяйством и огородничеством. Имелись здесь различные подсобные мастерские. Работало в «Бурме» больше тысячи заключенных. Меня включили в овощеводческую бригаду, состоявшую почти полностью из политзаключенных и лишь нескольких уголовников. Как и в остальных бригадах, бригадир и учетчики — из урок. Они поощряли безделье своих друзей, ставили им полную выработку за счет политических. Нам же записывали ее не полностью. Бороться с этим практически было невозможно.
Привели нас на поле с еще не убранным горохом. Он перерос, стручки, как ножи, впивались в руки. Бригадир посмотрел и сказал: «Ну, это пусть троцкисты убирают». Потом развел по делянкам и, показав мне заданный участок, сказал: «Замаливай свои троцкистские грехи». День был очень жаркий. Я работала в кофте с короткими рукавами и старалась изо всех сил. Вообще надо сказать, что политические всегда работали добросовестно. К вечеру норму я перевыполнила, но руки были в крови по локоть, изрезанные острыми стручками. Спали мы в бараке-сарае на соломе, прямо на земле.
В один из дней меня отправили на переборку картофеля в овощехранилище. Кладовщицей там оказалась коммунистка из Киева, профессор-историк. В перерыве она сварила нам немного картофеля, это показалось нам царской едой.
Так шли дни. Вскоре я заболела цингой. Лежу на своем матрацнике, и злость берет: больше года в тюрьме пробыла на казенном пайке, этапы прошла, а здесь, на воздухе, подхватила эту страшную болезнь. Спасли меня товарищи, приносившие зелень. Старый профессор Нашиванко подкармливал меня настоем каких-то корней. Он занимался в лагере выведением новых сортов картофеля, добивался приспособления их к местным условиям. Некоторые из политических уже получали посылки из дома и делились ими. Неожиданно и я получила небольшую продуктовую посылочку от своих. Все это помогло преодолеть цингу.
Спустя некоторое время меня перевели в лаготделение «Батык» и назначили так экономистом. Начальник отделения Мишин оказался отзывчивым человеком, относился к заключенным хорошо, не допускал издевательств. Это не прошло ему даром: вскоре его самого посадили.
В «Батыке» я встретилась и подружилась с Зиной Салганик, женой расстрелянного секретаря Фрунзенского райкома партии Москвы Захара Федосеева. С Зиной Салганик и Соней Зильберберг, старой большевичкой, мы сплотили небольшую группу москвичек-партработников. Ашхен Степановну Налбандян хорошо знала еще по Москве, она работала в Мос-комитете партии. Ее муж погиб, а их сын, известный теперь всему миру поэт Булат Окуджава, перенес все невзгоды сына «врагов народа». Не могу не привести здесь его стихотворение:
Ты сидишь на нарах посреди Москвы. Голова кружится от слепой тоски, На окне — намордник, воля — за стеной, Ниточка порвалась меж тобой и мной. За железной дверью топчется солдат… Прости его, мама, он не виноват. Он себе на душу греха не берет — Он не за себя ведь — он за весь народ. Следователь юный машет кулаком. Ему так привычно звать тебя врагом. За свою работу рад он попотеть… Или ему тоже в камере сидеть? В голове убогой — трехэтажный мат… Прости его, мама, он не виноват, Он себе на душу греха не берет — Он не за себя ведь — он за весь народ. Чуть за Красноярском — твой лесоповал. Конвоир на фронте сроду не бывал. Он тебя прикладом, он тебя пинком, Чтоб тебе не думать больше ни о ком.Из «Батыка» я раз в месяц ездила в Долинку, где помещалось управление Карагандинских лагерей. То с отчетом, то с наметками плана. Мое экономическое образование помогало в этой работе. В Долинке довелось среди большого числа женщин — чсиров (членов семей «изменников родины») встретить знакомых: Аню Сумецкую — она работала врачом в зоне, Евгению Шистер — бывшего секретаря парткома завода «Красный богатырь» в ту пору, когда я была секретарем Сокольнического райкома. Каждый раз по моем приезде товарищи старались угостить меня чем-либо вкусненьким. Один раз накормили прекрасными котлетами. Но лишь потом сказали, что приготовили их из собачьего мяса.
Одна поездка в Долинку уже во время Великой Отечественной войны едва не закончилась для меня трагически. Как обычно, я и сопровождавший меня конвоир приехали на железнодорожную станцию Батык заранее. Прихода нашего поезда надо было ждать весь вечер и ночь, и мы устроились внутри станции. Народу там было много, почти все зеки, их узнаешь легко. Пробравшись в самую гущу людей, мы уселись. Мой солдат, держа в руках винтовку, оперся на нее и тут же уснул. Задремала на скамейке и я. Вдруг меня разбудили два типа в военном: «Ты, барыня, чего тут разлеглась, вставай, пойдем да поворачивайся побыстрее». Я как-то растерялась, встала и пошла с ними. Они ведут, ругаются самыми последними словами и говорят, что сейчас за сараем пустят в расход. На мои слова, что они за это ответят, они лишь усмехнулись: «Ничего нам не будет, идет война, и троцкистов надо бить». В это время сзади раздался крик: «Стой, стрелять буду!» Это мой страж, разбуженный соседями-зеками, побежал за мной и выручил.
Из «Батыка» меня перевели в «Просторное». Как мне сказал начальник «Батыка» Мишин, он возражал против перевода, но начальство разъяснило, что есть указание не держать меня подолгу на одном месте. В «Просторном» я заболела азиатской малярией. Каждый день в 2 часа температура поднималась до 40 градусов и опускалась только вечером. Перенесла там и экссудативный плеврит. Врачи хотели было дать мне инвалидность, но начальник лагеря не разрешил: «Не для этого она сюда послана».
После «Просторного» оказалась в «Гзел-Тау». Лагерь как лагерь. Начальник малограмотный, а жена его, зоотехник вмешивается во все. Она давала неверные указания, я их не выполняла, но считалась хорошим экономистом, была нужна, и оба они это понимали. Жили, в общем, нормально, как вдруг пришел наряд на отправку меня в Норильск. Долгим этапом доставили в Красноярск, на пересылку. Здесь предстоял врачебный осмотр, и товарищи предупредили: «Тебя будут тянуть с осмотром, пока не дашь взятку врачу, а дашь — отправят тебя в сельхозлагерь, так что соображай».
Я и верю им и не верю. Но на осмотр меня пока не вызывают и ежедневно гоняют в порт на разгрузку грузов, доставленных по Енисею из Норильска. Работа очень тяжелая: из трюма баржи надо выносить на горбу слитки меди весом в 50 килограммов и больше. И не просто вынести, а подняться по лестнице на палубу и там сбросить в общую кучу. Для меня эта работа, как вообще для женщин, непосильна. Но не будешь таскать — получишь пайку. Так две недели я и таскала слитки 50 килограммов, пока не поставили на выгрузку еще более тяжелых. Сделав две ходки, я в третий раз кое-как поднялась наверх, где, сбрасывая груз, упала вместе ним и сильно разбилась. Больше меня на выгрузку не посылали, а через день или два нарядчик вызвал меня на медосмотр. Врачом оказался знакомый мне Маргулис. В 20-е годы мы оба были членами ЦК профсоюза работников медсантруда, он — от Украины, я — от Сибири. Он даже осматривать меня не стал: «Товарищ Чудинова, как это вы ходили на такую работу? Вам ни в коем случае нельзя ехать в Норильск. Ни климат, ни работа там… для вас. Мы вас сактируем и ближайшим этапом отправим в сельскохозяйственный лагерь». Вот так иногда распоряжается судьба! Через несколько дней меня действительно этапировали в Тайшетлаг, где сначала была на общих работах, а затем товарищи помогли устроиться на кухню центральной лагерной больницы.
Здесь я находилась до конца срока. Он, правда, заканчивался еще в апреле 1946 года, но освободили меня лишь в январе 1947-го. При этом объявили, что подлежу ссылке на пять лет, а в дальнейшем паспорт будет выдан со статьей 39, то есть без права проживания в крупных городах. Кстати говоря, в приговоре Особого совещания этого не было.
В деревне Суетихе я нашла работу нормировщиком на строительстве гидролизного завода. Там и поселилась и раз в неделю ходила за 12 километров в Тайшет отмечаться у оперуполномоченного НКВД. Он предупредил, что никуда без его разрешения отлучаться нельзя, за нарушение снова водворят в лагерь. Но куда б я стала «отлучаться»? Ведь эта «воля» была почти счастьем после лагеря. А тут еще и огромная радость: приехала дочка Вера с маленькой внучкой Иринкой, поселились мы вместе. Кое-как налаживали жизнь.
Подружились мы с местным доктором Олей, совсем молоденькой девушкой. Вдруг ее стали вызывать в Тайшет к оперуполномоченному. Каждый раз, возвращаясь, Оля плакала и однажды рассказала Вере, что ее подолгу допрашивают обо мне и Вере, кто у нас бывает, о чем говорят, как живут материально, но она отвечает лишь, что любит бывать у нас. Кончились эти вызовы тем, что Ольга покончила с собой. Все мы считали, что она не захотела стать осведомителем и, не видя выхода, решила уйти из жизни.
Более или менее спокойная жизнь в Суетихе неожиданно прервалась летом 1949 года, когда меня и большую группу ссыльных снова арестовали и, помытарив в тюрьме, этапировали в Красноярск. Там, выгрузив из вагон-зака, привезли на «черных воронках» в какой-то большой двор с очень высоким забором и вооруженной охраной. Столпилось во дворе человек 200, если не больше. Все подавлены, не знаем, что с нами будет дальше. И когда какие-то люди стали предлагать всем подписывать договоры о работе в краевой геологической экспедиции МВД, все категорически отказались, опасаясь обмана и подвоха.
Затем нам выдали кирзовые сапоги, ватники, рукавицы, снова водворили в «воронки» и, привезя на речную пристань, погрузили в баржи. Плыли сначала вниз по Енисею до Стрелки, потом вверх по Ангаре. В Мотыгине высадили, сняли конвой и объявили постановления Особого совещания о пожизненной ссылке в Удерейский район Красноярского края как ранее репрессированных. В Мотыгине находилась крупная база геологической экспедиции МВД, в чье распоряжение мы и поступили.
Меня и еще несколько человек, в том числе женщину с восьмилетним ребенком, назначили в Усово, километрах в 30 от Мотыгина. Здесь геологи открыли выходы железной руды и построили свой поселок: бараки с нарами, маленькие домики для служб: конторы, лаборатории. Еще не было бани и пекарни. Кругом глухая тайга, сплошное бездорожье, болота.
Каковы же были мои удивление и радость, когда в конторе вдруг встретила Макса Розенберга. Я знала его по Октябрьскому райкому, кандидатом в члены которого он был в начале 30-х годов. Оказалось, что Макс отбыл свой срок и теперь работает заместителем начальника краевой экспедиции уже по вольному найму. Я, вероятно, никогда не забуду эту короткую встречу. Максу надо было улетать по каким-то срочным делам. Но он тут же оформил нас всех на работу, устроил с жильем, выписал аванс, в котором все очень нуждались. Так я стала сначала нормировщиком в механической мастерской, а через некоторое время — агентом по снабжению.
Жизнь в Усове зависела от самолетов, которыми доставлялось все: продукты, материалы, детали для мастерской. Почти ежедневно я летала на У-2, что-либо доставляя. Должна добрым словом вспомнить летчиков, все они были в прошлом участниками войны, смелыми мужественными людьми. Полеты были нелегкими — над тайгой, сопками и болотами, сесть в случае нужды негде. В Усове аэродрома не было, садились на крохотную площадку, становившуюся видимой лишь за несколько минут до посадки. К нашему брату, ссыльному, летчики относились как к людям, попавшим в беду не по своей вине.
Особенно заботлив был командир эскадрильи, обслуживавший геологов, Вячеслав Александрович Валлентэй. Военный летчик, он был сбит немцами, попал в плен, несколько раз бежал, но неудачно. После войны прошел все полагавшиеся проверки и работал в гражданской авиации. Прошлого никогда не скрывал, но это не помешало в 1950 или 1951 году арестовать его и посадить якобы «за измену родине». После XX съезда Валлентэя реабилитировали.
С одним из этапов привезли Якова Борисовича Шумяцкого (однофамилец Б. 3. Шумяцкого), хорошо мне знакомого также по иркутскому подполью. Член партии с 1908 года, он до ареста был членом Верховного суда и заместителем председателя Общества старых большевиков. В 1935 году это общество по указанию Сталина ликвидировали (как и Общество бывших политкаторжан), а в дальнейшем репрессировали большинство его членов.
С Яшей мы дружили и в Москве, он и на партучете состоял в Свердловском районе. Вместе с ними мы купили в Мотыгине домишко — комнатка с кухонькой — и, великое дело, с огородиком, уже засаженным картошкой. Хозяина — немца внезапно освободили от ссылки, он торопился уехать и уступил свое «владение» дешево. Приехала ко мне дочь Вера. Здесь она нашла свою судьбу, выйдя замуж за политического ссыльного. В нашу хатку стали часто приходить близкие товарищи.
Чаще других приходил Георгий Самойлович Иссерсон. Бывший прапорщик, он летом 1918 года добровольно вступил в Красную армию, прошел в ней путь от бойца до генерала, стал одним из крупнейших военных специалистов-теоретиков. Работал вместе с Тухачевским, много нам о нем рассказывал, ценил его чрезвычайно высоко. В последние годы перед войной Иссерсон был начальником кафедры оперативного искусства Академии Генерального штаба, одним из ведущих участников разработки теории современного ведения войны. Теорию эту после ареста Тухачевского объявили вредительской, а немцы именно ее и использовали в развернутой войне с нами. Иссерсон уцелел от ареста, когда были репрессированы Тухачевский, Якир и другие. Взяли его только летом 1941 года.
«Представляете, я был очень занят срочным делом, — рассказывал Георгий Самойлович, — когда позвонил сам Иосиф Виссарионович и попросил немедленно к нему приехать. Тут же я собрался, недоумевая, чем это вызвано. Приехал, доложили ему, что я прибыл, он тут же принял. Повел к карте, разостланной на большом столе, и говорит: «Рассмотрите этот план, он особенный». Я углубился в изучение плана наступления, расчерченного на карте, и, наконец, говорю: «Товарищ Сталин, кто вам представил этот план? Это не план, а филькина грамота, это же глупость!» Не успел я произнести последние слова, как он рассвирепел и грозно сказал: «Вон отсюда!»
Иссерсона арестовали и отправили на 10 лет в лагерь. Провел он их по большей части на общих тяжелых работах, затем оказался в ссылке. В 1955 году его полностью реабилитировали. Вернувшись в Москву, он, уже в отставке, сотрудничал в «Военно-историческом журнале», участвовал в работе кафедры оперативного искусства Академии Генерального штаба. Умер в 1976 году.
Когда в марте 1953 года по радио сообщили о смерти Сталина, Иссерсон был у нас. Заиграли траурный марш. Георгий Самойлович встал во фронт и скомандовал: «Встать, хороним вождя!» Яша, продолжая лежать на койке, ответил: «Да пошел ты к черту!»
В Мотыгине я встретилась с Александром Николаевичем Грампом, с которым познакомилась случайно на одной из пересылок, когда меня этапировали в лагерь. Мы тогда пробеседовали чуть ли не всю ночь напролет, сидя прямо на земле и обсуждая положение в партии и стране, раздумывая о роли Сталина в событиях. И вот новая встреча спустя восемь лет.
Грамп совсем юным стал большевиком, участвовал в гражданской войне, затем несколько лет находился на комсомольской работе в Москве, был делегатом съезда партии. По окончании рабфака и Московского института инженеров железнодорожного транспорта остался на научной работе в этом же институте.
В 1930 году в составе большой группы молодых инженеров его послали в Америку учиться. Там он защитил диссертацию, стал магистром технических наук, женился на американке. Последние годы руководил в НКПС всеми учебными и научно-исследовательскими заведениями наркомата, был награжден орденом, получил нечастое в ту пору звание «Почетный железнодорожник». Александр Николаевич рассказывал, что Каганович часто хвалил его, ставил в пример работникам наркомата на заседаниях коллегии и сам же… подписал ордер на его арест.
Лагерь и ссылка не сломали Грампа. Он продолжал верить в лучшие времена, оставался таким же преданным партии коммунистом. Срок же отбывал в Норильске, где созданная им бригада прославилась как лучшая на этой огромной стройке. После освобождения Грамп остался в Норильске по вольному найму, В 1950 году его снова арестовали и отправили в пожизненную ссылку. Сюда к нему на постоянное жительство приехали жена с сыном.
После ареста Грампа его жене Гертруде предлагали вернуться в США, звали ее туда и родные, но она категорически отказалась, заявив, что верит мужу, а СССР стал для нее второй родиной. Ей довелось перенести много тягот и лишений. Лишь после смерти Сталина она с Сашей смогла вернуться в Москву. Прожили же они вместе 50 лет. Грамп умер в 1983 году. Гертруда только на год пережила мужа.
Забурлил наш поселок в дни смерти Сталина. Что теперь будет с нами? Как отразится на нашей судьбе его смерть? Тризной или поворотом к лучшему? Одни надеялись на такой поворот, другие сомневались. Я также терялась в догадках. Но шли недели и месяцы, и никаких изменений не происходило.
Как-то уже летом 1953 года зашла в контору, где увидела, как начальник, сняв портрет Берии, выбежал с ним на крыльцо и стал топтать ногами. Тут же собрался митинг, и начальник объявил: «Товарищ Берия оказался врагом народа». Раздался общий хохот.
Обстановка в поселке стала меняться. Но все еще никакой уверенности, что изменятся и наша жизнь и обстановка в стране, у нас не было. Работала я в Мотыгине нормировщиком-экономистом в местной артели «Победа», занимавшейся пошивом всякой одежды.
По делам артели я ездила в Красноярск и там встретила Ашхен Налбандян. Она повела меня к Ольге Шатуновской. Это было великой радостью и счастьем. Ольгу я знала по ее работе в Московском горкоме партии. Это удивительный человек, сплав воли, коммунистических убеждений, любви к людям, порядочности и скромности. Член партии с 1915 года, Ольга совсем юной работала в Баку в подполье. В 1954 году, еще до общей отмены ссылки, Шатуновскую вызвали в Москву, где сразу реабилитировали и восстановили в партии. После встречи с Н. С. Хрущевым ее направили работать в Комитет партийного контроля. Здесь она всемерно стала помогать скорейшему освобождению и полной реабилитации очень многих товарищей.
В Москве Ольга сразу занялась и моим делом. Предложила моей старшей дочери Наташе и ее мужу Алексею написать заявление в ЦК. Включился и Яша Шумяцкий, которого также до общей отмены ссылки вернули в Москву и восстановили в партии. В ЦК мое дело Хрущев поручил замзаворготделом В. Золотухину, который вместе с прокуратурой установил клеветнический характер и полную необоснованность приговора. Меня в Мотыгине вскоре вызвал оперуполномоченный и сообщил о снятии с меня ссылки. Получив справку, я с первым пароходом отправилась в Красноярск. Затем — Москва, реабилитация, восстановление в партии. Все это было, как в калейдоскопе. Собрав всех детей, я получила квартиру. Тот, кто не пережил всего этого, не сможет понять моего счастья… Вскоре посмертно реабилитировали и мужа Романа Млиника.
В числе группы вернувшихся из ссылки товарищей я получила гостевой билет на XX съезд партии. Сидим вместе на балконе: Берта Ратнер, работавшая перед арестом в ЦК, бывший секретарь Коминтерновского райкома Москвы Михаил Рутес, бывший секретарь Харьковского обкома Александр Осипов, бывший помощник секретарей МК Хрущева и Марголина (погибшего на Украине, куда его перебросили в 1937 г.) Иван Алексахин, Ашхен Налбандян, еще несколько человек. Обнимаем друг друга, целуемся, вспоминаем погибших.
Рядом со мной Полина Семеновна Жемчужина, жена Молотова. Она крепко держит меня за руку, и слезы непрерывно льются из ее глаз. Слушаем отчетный доклад ЦК, в котором Н. С. Хрущев рассказывает о преступлениях Берии, и я не понимаю, почему он ничего не говорит о роли Сталина. В перерыве Полина рассказывает мне свою историю. В конце 40-х годов в СССР должна была приехать Голда Меир, одна из руководителей недавно созданного государства Израиль, с официальным визитом. Жемчужину вызвал Сталин и поручил как члену правительства (она была тогда министром пищевой промышленности) сопровождать Меир: «Ты подружись с ней, старайся не отходить, не оставлять одну с разными представителями. Ты должна понять, что это важное правительственное поручение». После отъезда Меир Жемчужину стали обвинять во враждебной деятельности против СССР и начали сажать посещавших ее евреев.
Полину Семеновну вызвали в КПК и обвинили в преступной связи с Меир. Она ответила, что все, что делала, куда ходила, что говорила, знали Берия и Сталин. Тем не менее ее исключили из партии. Из КПК она не пошла домой, понимала, что муж все знает, вопрос, вероятно, стоял на Политбюро. Перебралась к сестре, а на следующий день Молотов официально с ней развелся. Затем Жемчужину арестовали и обвинили в выполнении шпионских заданий Голды Меир, в том, что она якобы сама состоит в еврейской контрреволюционной организации «Джойнт», создает его группы в разных городах. Берия заявил на допросе, что она еврейская шпионка. Закончилось дело тем, что Полину Семеновну выслали в Минусинск, поселив там на окраине города под охраной. Раз в неделю ей разрешали ходить с охранником на базар за продуктами. Там однажды на нее накинулись с криками: «Это жидовка, она в Ленина стреляла! Бей ее!» После этого она больше на базар не ходила.
В январе или феврале 1953 года Жемчужину отвезли в Москву, где готовился процесс против «Джойнт» с Полиной в качестве подпольного руководителя. Начались грубые, оскорбительные допросы, она уже считала себя обреченной на смерть, как вдруг ее… повели в баню — и там после мытья она увидела в предбаннике на лавочке свое домашнее белье и платье.
«Я подумала, — рассказывала Полина Семеновна мне, — что это меня пожалел Вячеслав Михайлович, решил дать умереть в своей одежде. Но из бани меня вернули в камеру, а там — на кровати новое одеяло, на столе, покрытом белой скатертью, какая-то вкусная еда и даже бутылка с вином. Снова решила, что Вячеслав скрашивает мой последний день. Прилегла было отдохнуть, как вызвали на допрос и привели в кабинет Берии».
Он сидел за большим столом в огромном кабинете, Полина пошла к нему по широкой красной дорожке. Берия вышел из-за стола навстречу, обнял ее со словами: «Ты, Полина, героиня». Тут она потеряла сознание, а когда очнулась, увидела: рядом с диваном на коленях стоит Молотов и говорит: «Успокойся, мы едем сейчас домой». Случилось это в день похорон Сталина, о смерти которого она не знала.
Мне и сейчас трудно понять мотивы, по которым Полина Семеновна вернулась после всего пережитого к Молотову. Но знаю, что сделала она это искренне.
В один из послесъездовских дней ко мне пришел незнакомый молодой человек, поразивший своими усами, настолько длинными, что концы их были завернуты за уши. Видя мой недоуменный взгляд, он представился: «Я сын Льва Семеновича». С его отцом — Львом Семеновичем Сосновским, членом партии с 1903 года, я встречалась, когда он был редактором органа ЦК партии газеты «Беднота», весьма популярной в 20-е годы. Я близко знала по Сибири его жену Ольгу Даниловну Гержеван-Лати, участвовавшую в нашем подполье. В Москве знакомство возобновилось, и я много раз видела их сыновей — двух мальчишек. Сосновский был одним из виднейших журналистов, много лет работал в «Правде», его статьи и особенно фельетоны гремели на всю страну, обычно они печатались на первой странице. Ими зачитывались, а бюрократы боялись их как огня. Его высоко ценил Ленин, давал ему поручения, советовался по деревенским вопросам, которые Лев Семенович очень хорошо знал благодаря огромному количеству писем, приходивших в «Бедноту».
В середине 20-х годов Сосновский присоединился к троцкистской оппозиции, был исключен из партии. Кажется, в 1927 году его арестовали, а в 1934-м или 1935-м освободили и восстановили в партии. Получать партбилет он пришел в Свердловский райком, где я в ту пору была секретарем. После восстановления (стаж ЦК ему восстановил с 1931 года) он активно и плодотворно работал в «Известиях», а в 1937 году был вновь арестован и расстрелян. Погибла и его жена Ольга. Детей отправили в детприемник, откуда старший сбежал. Вырос он в цыганском таборе. Конечно, я не могла признать в лихом цыгане мальчика, каким помнила. Я обратилась в ЦК и прокуратуру с письмом о реабилитации Л. С. Сосновского. Его реабилитировали, хотя в партии не восстановили. Но дети смогли теперь жить уже без страшного клейма. А. И. Микоян помог им с получением жилья.
Вскоре после XX съезда были созданы специальные комиссии ЦК партии и Верховного Совета, каждой из которых поручалось выехать в один из лагерей и на месте решить вопрос об освобождении необоснованно осужденных. В состав каждой комиссии включался и один из старых партийцев, по большей части из недавно реабилитированных. В такую комиссию вошла и я.
Комиссия имела полную возможность ознакомиться с делом каждого заключенного и сверить обвинения с его личными объяснениями. Наша комиссия работала в Каргопольском лагере и проверила дела 383 политических заключенных, в нем находившихся. Состав лагеря значительно отличался от тех, где мне довелось находиться. Среди осужденных по статье 58 были бывшие полицаи, участники карательных отрядов, участники банд, орудовавших на освобожденных от гитлеровцев территориях и убивавших коммунистов и советских работников. Но было и немало осужденных, по сути не являвшихся врагами Советской власти.
Так, например, литовка Нарашавичуте, мать двоих маленьких детей, получила 25 лет за то, что накормила зашедших к ней из лесу. А Урбатаите дали 10 лет, хотя в «деле» не оказалось ничего конкретного и сама она не знала, за что осуждена. Неграмотную Совицкайте осудили на 25 лет за то, что она перешла из подсобного армейского хозяйства батрачить к одному из местных жителей. Учительницу Радзявичуте отправили в лагерь за хранение учебников, изданных в буржуазной Литве, и национального флажка на 25 лет! Всех их и осужденных за аналогичные «преступления» комиссия освободила.
В лагере содержались и осужденные в послевоенные годы по обвинению в антисоветской агитации. Пятидесятилетний Шаргородский получил 10 лет: в его стихотворении, посвященном Сталину, была строка: «Он один не спит, и трубка его погасла». Погасшая трубка была расценена как упадочные настроения и клевета на Сталина. 10 лет получил слесарь Сибирев «за восхваление иностранной техники». За это же и такой же срок дали Федосову. А Баширов-Оглы был признан террористом, ибо в 1946 году написал письмо Сталину с жалобой на руководителя Азербайджана Багирова за его грубое отношение к рабочим. Как известно, Багиров после XX съезда был расстрелян после открытого процесса как активнейший пособник Берии. Характерно «дело» Черкашина, комсомольца, старшины морского катера. Во время занятий в политкружке он задал вопрос о наших отношениях с Югославией. За это его обвинили в «оправдании предательской политики Тито, возведении поклепа на одного из советских руководителей, дискредитацию мер Советской власти, направленных на построение коммунизма». Черкашин рассказал, что его сильно избивали, а он отрицал все обвинения. В «деле» Логинова, осужденного Особым совещанием в 1950 году за антисоветскую агитацию, вообще не оказалось никаких материалов, подтверждающих хоть как-либо обвинение, но 10 лет он получил.
В результате проверки наша комиссия освободила 261 человека. Из осужденных в 1937–1938 годах в это время в лагере уже никого не осталось. Но было много несовершеннолетних, осужденных кто за хулиганство, кто за соучастие в кражах или разных бытовых преступлениях. Более 200 из них комиссия освободила сразу, а 150 снизила срок наказания. Главное же заключалось в том, что мы убедились, что заключение несовершеннолетних в общей лагерь разлагает их, что урки подчиняют их себе и это происходит при попустительстве (а нередко и при содействии) лагерной администрации и охраны. Свои наблюдения об этом и выводы я изложила в подробной докладной записке.
На склоне лет я оглядываюсь на пережитое в те страшные годы, нанесшие такой тяжкий урон партии и всему нашему делу. Перед глазами снова встают сотни товарищей, не вернувшихся из тюрем и лагерей, и я низко склоняю свою давно уже седую голову перед их памятью. Как же их не хватает сейчас, в наши дни…
ЧУДИНОВА Ксения Павловна родилась в 1894 году в Ишиме Тобольской губернии. С 16 лет участвовала в подпольных кружках. Член партии с 1914 года. Подвергалась арестам и высылке. После Февральской революции — заместитель председателя Богородского уездного комитета партии, после Октября — уездный продкомиссар. В 1918–1919 годах на подпольной работе в Сибири. Дважды арестовывалась. По окончании гражданской войны — заместитель уполномоченного Наркомздрава по Сибири, заместитель председателя Сибирской чрезвычайной комиссии по помощи детям. С 1924 года в Москве на хозяйственной работе. Закончила промышленно-экономический институт. Председатель Общества потребителей Октябрьского района. В 1933–1938 годах секретарь Октябрьского, Сокольнического, Железнодорожного райкомов, первый секретарь Свердловского райкома партии. В 1938 году репрессирована и находилась в лагерях и ссылках до реабилитации в 1954 году. Автор двух книг воспоминаний.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



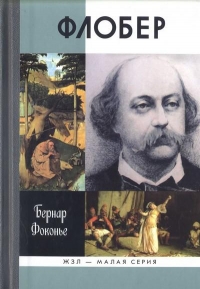
Комментарии к книге «Памяти невернувшихся товарищей», Ксения Павловна Чудинова
Всего 0 комментариев