«Молодая гвардия», 2009
Вступление. КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ
Бывает редко нам даровано судьбой
Благое совершать с безгрешною душой.
Корнель. Гораций[1]
История соединила Шарлотту Корде и Жана Поля Марата, убийцу и жертву, жертву и убийцу. Убив Марата, Шарлотта Корде пожертвовала собственной жизнью. Сколько людей стали жертвами кровожадных призывов Марата, не знает никто. Безумие, по словам Максимилиана Волошина, заключалось в том, «что палач Марат и мученица Шарлотта Корде с одним и тем же сознанием подвига хотели восстановить добродетель и справедливость на земле».
Шарлотта мнила себя Брутом, разящим тирана, и была уверена, что, подобно Бруту, она, совершая это убийство, входит в историю. Приняв смерть от руки красавицы Корде, чудовище Марат, чья популярность к этому времени неуклонно шла на убыль, обрел сотни новых почитателей и стал культовой фигурой революции. Если бы не кинжал Шарлотты Корде, вряд ли имя Марата в истории Французской революции было бы столь громким. (Ретиф де ла Бретон высказал эту мысль сразу после гибели Марата.) Не встань Шарлотта на путь тираноубийства, проложенный героями Древней Греции и Древнего Рима, история не сохранила бы для нас ее имя. Изменил ли поступок Шарлотты Корде ход революции? Нет. Скорее, оказал моральное воздействие — как и смерть Марата.
«Есть нечто ужасное в священном чувстве любви к отечеству; оно столь исключительно, что заставляет пожертвовать всем, без сострадания, без страха, пренебрегая мнением людей во имя общественного блага», — писал прозванный «ангелом смерти» Сен-Жюст. Фанатик Марат верил, что спасает «глупый» и «легкомысленный» народ, призывая его рубить как можно больше голов. Живущая помыслами героев Плутарха и Корнеля. Шарлотта Корде пошла на убийство Марата, уверенная, что спасает отечество и освобождает республику от тирана.
«Казалось, Провидение желало противопоставить один другому два рода фанатизма: под отвратительными чертами народной мести, олицетворенной в Марате, и небесной красотой любви к отечеству в лице новой Жанны д'Арк, поборницы свободы; — размышлял Ламартин, — но и тот, и другая, однако, совершили одно и то же преступление — убийство, и, к сожалению, имеют, таким образом, сходство между собою перед потомством если не по цели, то по средству; если не по лицу, то по нанесшей удар руке; если не по душе, то по пролитой крови». Пытаясь примирить восхищение и ужас перед поступком Шарлотты, он назвал ее «ангелом убийства».
Она не видела иного способа выразить свой протест против опасности, грозившей Франции. Не будучи ни философом, ни политиком, Шарлотта руководствовалась собственными переживаниями; анархия виделась ей царством разъяренной толпы, расправившейся с хорошо известными ей людьми — Бельзенсом и Байе, а тирания — властью Марата, натравливающего эту толпу на истинных республиканцев. Какой представляла Шарлотта республику и этих самых истинных республиканцев? Наверное, неким собранием законодателей, облаченных в белые тоги, которые обсуждают справедливые законы, а потом глашатай на площади объявляет эти законы народу, идиллическому сообществу земледельцев и ремесленников. В сущности, примерно такой же виделась республика и Сен-Жюсту, и Робеспьеру, ибо идеалы в эпоху Французской революции искали в Античности. Празднества, шествия, костюмы — всему старались придать античный облик.
Более двух сотен лет отделяют нас от событий той далекой революции, но историки еще долго будут спорить об этом времени, находить новые документы, подтверждающие правоту одних и опровергающие гипотезы других. Историки политических учений продолжат изучать жизнь и труды Марата — чудовища, тирана, Друга народа. Красавица Шарлотта Корде будет пробуждать воображение поэтов и трогать сердца своим трагическим величием. Отыскать новые документы, проливающие свет на подробности жизни мадемуазель Корде, надежды крайне мало; остается лишь восхищаться ее мужеством и скорбеть о том, что орудие преступления даже в руках добродетели остается орудием преступления. Наверное, именно поэтому судьба Шарлотты Корде более всего вдохновляла драматургов, ибо поступок ее вызывал (и по-прежнему вызывает) вечный вопрос: в борьбе добра и зла где проходит граница дозволенного?
Образ Шарлотты всегда являл собой загадку. В эпоху, когда слово ценилось едва ли не превыше всего, когда оно, вырвавшись наружу, становилось оружием, красавица Шарлотта пребывала одинокой и молчаливой, не поверяя никому своих потаенных мыслей. Когда говорили везде — на собраниях, заседаниях, на улицах, в клубах, когда живое слово звучало в бесчисленных газетах, листовках, брошюрах и афишах, Красавица ни с кем не делилась ни своими политическими пристрастиями, ни тем, что творилось у нее в душе. Наверное, сказывалось монастырское воспитание. Возможно, она вела дневник, но об этом никто не знал. Незадолго до смерти она уничтожила все свои бумаги. Во время суда она была немногословна. Хотя воспитанная на трагедиях великого Корнеля и, очевидно, знавшая наизусть немало героических стихов (о чем свидетельствуют ее письма), она вполне могла произнести речь, ибо слова ее не лишали.
Почему Шарлотта остановила свой выбор на Марате? Видимо, потому, что подстрекательские лозунги в его газете «Друг народа» снискали ему множество почитателей, но еще больше врагов. Слово, избранное Маратом в качестве оружия, становилось смертоносным. За это не только противники, но и многие соратники называли его чудовищем. В газете Марата не было площадных ругательств, как в газете «Папаша Дюшен», не было простонародных шуточек; написанные литературным, порой даже тяжеловесным языком, статьи Марата внушали страх и одновременно указывали средство против этого страха: «Отрубите голову…» Поэтому, несмотря на невеликие тиражи газеты, ее знали все: те, кто ее читал, делились тревогами и советами доктора Марата с соседями, на улице, на заседаниях комитетов и секций. Магия террористического слова принесла известность Марату. Когда в Конвенте встал вопрос о привлечении Марата к суду, многие депутаты признавались, что никогда не держали в руках его газету, но все без исключения знали, о чем пишет «Друг народа». Выступая в защиту Марата, Робеспьер сказал, что «хотя призывы Марата к уничтожению предателей и заговорщиков и могут показаться противоречащими закону, сам он не убил ни одного предателя и ни одного заговорщика». Но Робеспьер — Неподкупный — недооценил действенности слова журналиста. Марат развязал словом Террор. Робеспьер возвел Террор на уровень закона. Шарлотта Корде, вонзив кинжал в грудь Марата, совершила, говоря современным языком, «террористический акт против журналиста за публикацию экстремистских статей». Все трое вошли в историю, и каждый из них оставил в ней свой кровавый след.
Марат и Шарлотта Корде… Как сказочных Красавицу и Чудовище, их связало очень сильное чувство — любовь, любовь к свободе. Только свободу они понимали по-разному. Поэтому история Красавицы и Чудовища времен Французской революции получилась трагическая…
Глава 1. ДОЧЬ ВЕЛИКОГО КОРНЕЛЯ
Блаженства полного никто вкусить не может:
В счастливейшие дни нас что-нибудь тревожит;
Всегда волнение каких-нибудь забот
Довольству нашему дорогу перебьет.
Корнель. Сид[2]
Двадцать седьмого июля 1768 года, в самом сердце Нормандии, на ферме Ронсере, что в приходе Сен-Сатюрнен-делиньери близ Вимутье, у Жака Франсуа Алексиса де Корде д'Армон и его жены Мари Жаклин, урожденной де Готье де Мениваль, родилась дочь, названная Мари Анной Шарлоттой. Наличие у родителей множества частиц «де» свидетельствовало о знатности супругов, а название семейного гнезда — увы! — о терниях[3], кои по причине бедности устилали житейский путь четы Корде.
Согласно обычаю мужчины из рода Корде находили себе жен в нормандских семьях. «Мы — чистокровные нормандцы», — говорили они с гордостью. Жак Франсуа Алексис не стал исключением и в феврале 1764 года предложил руку мадемуазель де Готье де Мениваль. Невеста, родом из тихой нормандской деревушки Мениль-Валь, была крива на один глаз, но могла гордиться несколькими поколениями знатных предков и имела виды на приданое. Ее мать происходила из семейства Шезо, ведущего свой род от Балиолей, потомков шотландских королей, и, как пишет Анри д'Альмера в своей книге о Шарлотте Корде, обладала королевским даром исцелять золотушных. Вряд ли этот брак был заключен по любви — скорее, по необходимости, причем не только для невесты, но и для жениха, ибо ни тот, ни другая удачными партиями считать себя не могли. Правда, два брата Мари Жаклин Шарлотты обещали выплатить сестре десять тысяч ливров приданого и обеспечить ее рентой в пятьсот ливров каждый.
Дворянство рода Корде восходило к XI веку: в 1077 году рыцарю Роберу Корде вручили дворянскую грамоту. Деревня же Корде, принадлежавшая означенному рыцарю, появилась значительно раньше, и Жак Франсуа Алексис мог с полным основанием утверждать, что Корде — не чета каким-то там Бурбонам, из рода которых, как постепенно уяснила для себя маленькая Шарлотта, происходил их нынешний король. Разумеется, мы не знаем, так ли категорично высказывался месье де Корде д'Армон или же несколько мягче, но его недовольство многими феодальными обычаями, которые укоренились в Нормандии, хорошо известно. Третий сын в семье, где, помимо него, было еще семеро детей (три сына и четыре дочери), он не мог рассчитывать на наследство, так как в соответствии с майоратом оно переходило к старшему отпрыску мужского пола, и его отец, Жак Адриан де Корде де Ковиньи, нарушать сей обычай не собирался.
Величественный родовой герб Корде — лазоревый щит с тремя золотыми шевронами, увенчанный графской короной, с девизом Corde et Ore, «Сердцем и словом», — тешил фамильную гордость, но не приумножал состояния. Отправлявшиеся служить в армию кадеты Корде могли претендовать только на низшие офицерские должности, ибо купить себе чин, а с ним полк или роту средств не имели. И далеко не всегда знатному, но небогатому семейству удавалось собрать достойное приданое, поэтому женщины Корде чаще становились милосердными сестрами и почтенными тетушками, нежели матерями.
В армии отец Шарлотты быстро устал от дисциплины, подал в отставку и вернулся домой, не побывав ни в одном сражении. Жизнь в отцовском доме, каменной цитадели, покрытой аспидного цвета сланцевой черепицей, молодому человеку без видов на будущее радости не доставляла, а идти по стопам младшего брата, посвятившего себя церкви, он не хотел. Какое еще поприще, приличествующее его сословию, мог выбрать бедный провинциальный дворянин, которому придворная служба заказана? Во второй половине XVIII столетия дворяне постепенно переставали считать зазорным занятия, способствовавшие процветанию государства, и родовитые семейства уже не чурались своих отпрысков, заседавших в административных или судебных советах, пробовавших свои силы в коммерции или естественных науках. Но для такого рода занятий у Жака Франсуа Алексиса не было ни знаний, ни призвания, ни начального капитала. Оставался традиционный путь — женитьба и ведение собственного хозяйства.
Молодой человек, получивший от родителей только крышу над головой, а именно добротный одноэтажный дом в Ферм-де-Буа, с просторным чердаком и раскинувшимся вокруг яблоневым садом, рассчитывал на приданое супруги. Поняв, что братья жены обещания выполнять не собираются, он вновь почувствовал себя глубоко уязвленным — таким же, каким он ощущал себя в ту минуту, когда со всей ясностью осознал, что не получит от отца ничего только потому, что не является старшим сыном.
Отразилась ли обида на родственников жены на его отношении к самой Мари Жаклин? Одни биографы уверяют, что между супругами царило полное взаимопонимание, другие — что Жак Франсуа Алексис относился к жене как к вещи, необходимой главным образом в спальне и в домашнем хозяйстве. Впрочем, в эпоху, когда в аристократических кругах любовь в браке считалась нонсенсом, а поклонение, обожание, деньги и почести доставались любовницам, прагматическое отношение к жене удивления не вызывало. Но в случае с Корде д'Армоном проблема, наверное, заключалась не в интрижках на стороне, а в его тяжелом характере, сложившемся под влиянием никогда не покидавшего его гнетущего чувства обделенности.
К моменту рождения Мари Анны Шарлотты в семье было уже двое детей: сын Жак Франсуа Алексис, родившийся 17 июля 1765 года, и дочь Мари Шарлотта Жаклин, родившаяся в 1767 году. Появившаяся на свет в 1766 году девочка скончалась, прожив всего несколько часов. В 1770 году родится еще одна девочка, Жаклин Жанна Элеонора, а в 1774 году — мальчик, Шарль Жак Франсуа. Поэтому, когда дом в Ферм-де-Буа стал тесен для постоянно увеличивавшейся семьи, Корде д'Армон собрал все возможные средства и купил ферму в Ронсере — двухэтажный дом с прилегавшими к нему пятью гектарами земли, где он, засучив рукава, принялся трудиться вместе с крестьянами: пахать, ухаживать за скотиной, подрезать яблони. Дворянин, по рождению принадлежавший к провинциальной элите, он вел жизнь, мало чем отличавшуюся от жизни крестьянина. Вернувшись домой после тяжелого трудового дня, съедал тарелку супа и засыпал за столом. А мадам Корде отправляла детей на улицу, чтобы они не мешали отцу отдыхать. Считал ли Корде д'Армон себя бедным? На этот вопрос отвечает сохранившееся до наших дней его высказывание: «Среди окрестных дворян мы самые бедные, но ничьей помощи мне не нужно». Нищие бродяги семью Корде бедной не считали, так как хозяйка дома всегда была готова поделиться тем, что имелось в доме: хлебом, сыром, яблоками, а иногда даже и одеждой. А вот служанка Фаншон Маржо, взяв в руки метлу, гнала всех попрошаек от порога прочь.
Время от времени отец Шарлотты напоминал — правда, всегда безрезультатно — братьям жены о невыплаченном приданом, и отношения между родственниками становились все хуже и хуже. Видимо, отсутствие видов на будущее побудило Жака Франсуа Алексиса начать воспитывать в детях привычку обходиться самым необходимым, дабы ни у кого из них не возникло стремления к роскоши, свойственной дворянскому сословию[4]. В доме имелся ящик, куда складывали деньги; ящик этот никогда не запирался, и отец Корде, призвав детей, открывал его и, пересчитав хранившуюся в нем наличность, принимался объяснять, куда и на что предстоит ее потратить. Но дети и без его скучных нравоучений понимали, что семья небогата, а Шарлотту, как предполагают, даже обижало, что средства, выделенные на образование детей, предназначались только мальчикам. Воспитанием девочек занималась мать, но так как времени у мадам Корде из-за хлопот по хозяйству оставалось немного, то большую часть времени дети были предоставлены самим себе и резвились на воле.
В статье «Народ», предназначенной для знаменитой «Энциклопедии», Луи Жокур вывел образ идеального крестьянина: «Крестьянин скромен, справедлив и великодушен. Кола женится на Колетте, потому что любит ее. Колетта кормит грудью детей без устали и отдыха. Люка учит детей обрабатывать землю. Он умирает, завещая детям поделить его поле. Если бы Кола был знатен, он бы завещал все старшему». Сельский аристократ Корде д'Армон хотя и вел трудовую жизнь, не соответствовал образу представителя народа — не только потому, что не получил даже части «отцовского поля». Корде не хотел, чтобы его дети обрабатывали землю. Да и некоторые феодальные замашки, кажется, были ему не чужды: когда родилась Шарлотта, сеньор де Корде велел крестьянам по ночам бить палками по воде, дабы кваканье не нарушало сон матери и младенца. Но, возможно, Корде д'Армон такого приказа не отдавал, и эта история является одним из коротеньких апокрифов, которыми изобилует жизнеописание Шарлотты Корде.Высокая, розовощекая выдумщица Шарлотта выделялась среди сестер — слабой здоровьем и умом Жаклин и горбуньи Элеоноры. Стройная, грациозная, с блестящими глазами цвета морской воды, которые, в зависимости от настроения, становились то серыми и прозрачными, то гневно сверкали зелеными переливами, она верховодила над старшей сестрой и покровительствовала младшей. Свобода, постоянная близость к природе помогли развиться впечатлительности, энергии и страстности характера Шарлотты.
В любимом красном платье маленькая Шарлотта мелькала среди зелени садов и лугов, напоминая резвого мотылька; утомившись, она устраивалась вздремнуть в густой траве, и если бы не алое платье, ни мать, ни служанка не смогли бы ее найти. Впоследствии одна из женщин, прислуживавших в доме Корде, утверждала, что, глядя на девочку, которая не только цветом платья, но и по характеру своему напоминала огонек, ей казалось, что Шарлотту ожидает необыкновенная судьба, и алый цвет сыграет в ней роковую роль. Действительно, красный балахон стал последним платьем Шарлотты — в нем она дождливым июльским вечером взошла на эшафот. Впрочем, о своих предчувствиях служанка рассказывала уже после трагической гибели Шарлотты, когда первые ее биографы пытались по крупицам собрать сведения о безвестной провинциальной девушке, отважившейся во имя спасения страны на героический и страшный поступок.
В 1744 году семью постигло горе — умерла Жаклин. Не отличавшаяся крепким здоровьем мадам Корде тяжело перенесла потерю старшей дочери. Шарлотта начала сама, без понуждения, помогать матери по хозяйству и вскоре стала надежной ее опорой. Рассказывают, что однажды, выходя из церкви, девочка сильно поранила ногу, но, не желая волновать мать, превозмогая боль, молча добралась до дома. Неизвестно, насколько самоотверженное поведение Шарлотты сблизило ее с матерью.
Самыми радостными событиями для Шарлотты были поездки в Мениль-Имбер, где ее с радостью встречали дед и бабка с отцовской стороны, а также сестра отца, старая дева, души не чаявшая в племяннице. В старинном доме девочке отводили отдельную комнату, чистенькую, с выбеленными стенами и скромной деревенской обстановкой, состоявшей из сундука и кровати за занавесками. Из окон дома Корде в Мениль-Имбере можно было любоваться величественным замком Глатиньи, настоящим дворянским гнездом. Замок, возведенный в VI веке и перестроенный в XVII веке, принадлежал более состоятельной ветви рода Корде. Родственники из Глатиньи охотно приглашали к себе Шарлотту и отводили ей комнату еще красивее, чем в доме у деда и бабки. Но в душу девочки никогда не закрадывалась зависть к состоятельной родне. Она искренне наслаждалась обществом многочисленных кузенов и кузин и, как и дома в Ронсере, становилась заводилой ребяческих забав.
Забота, где достать денег, постоянно терзавшая сеньора де Корде, самым негативным образом отражалась на его характере. Угрюмый от природы, он становился желчным и раздражительным, а чтение философских и юридических трактатов лишь усугубляло обиду на родственников, главным образом на братьев жены, упорно не желавших отдавать ему обещанного приданого. Проштудировав местное законодательство, Корде разорвал отношения с коварными родственниками супруги и подал на них в суд. И чтобы лично следить за тяжбой, вместе с семьей на время перебрался в Кан, город, который, по словам маркизы де Севинье, был «самым привлекательным» и «самым радостным» в Нормандии.
Многие, кто побывал в те времена в Кане, восхищались его красивыми домами и улицами, его церквями, его величественным крепостным замком, построенным Вильгельмом Завоевателем, очаровательными речными пейзажами и зелеными лужайками, а некоторые даже утверждали, что город мог вполне соперничать с Парижем. Здесь были основанный в XV веке университет, типография, морской порт, способствовавший развитию торговли и ремесел. В новых городских кварталах была проложена закрытая канализация. Впрочем, известны и иные отзывы: Кан называли унылым, дремучим, провинциальным захолустьем…
Городские мануфактуры обеспечивали работой не только коренных горожан, но и тех, кто приходил в Кан в поисках лучшей доли; для бродяг построили работный дом, окруженный рвом, больше напоминавший тюрьму, где 6 тысяч человек чесали и пряли шерсть. Население города, увеличивавшееся за счет притока из деревень молодых мужчин, ищущих работу, требовало все больше съестных припасов, так что молока и овощей, привозимых на рынок жившими в округе крестьянами, постоянно не хватало. В шутку говорили, что в Кане на завтрак проще выпить стакан водки, нежели стакан молока.
В свой первый приезд в Кан Шарлотта города толком не увидела, ибо ни водить ее на прогулки, ни заниматься ею было некому. Сидя в маленьком тесном доме на городской окраине, девочка мечтала только о том, как бы поскорее вернуться в деревню.
Процесс отец Шарлотты проиграл, и семья вернулась домой. Крушение надежд де Корде д'Армон воспринял болезненно, но прекращать борьбу не собирался. Однако для дальнейших демаршей требовались средства, которыми он не располагал, тем более что пришло время позаботиться об образовании детей. Старшего сына отправили в школу в Бо-мон-ан-Ож, а восьмилетнюю Шарлотту предложил взять к себе младший брат отца Шарль Амедей, кюре прихода Вик. Понимая, что девочкам надо дать хотя бы начатки образования, де Корде тотчас принял предложение брата заняться с Шарлоттой чтением, письмом, географией, латынью и, разумеется, катехизисом и священной историей.
Гостеприимный кюре с радостью встретил племянницу. Она с удовольствием разместилась в его просторном доме. По сравнению с отцом Шарль Амедей, живший на доходы от церковной десятины, возможно, даже показался Шарлотте богачом: в его конюшне содержались две не очень резвые лошадки, которых запрягали в маленький экипаж.
Приходской священник собрал неплохую библиотеку, где на почетном месте красовались томики великого драматурга Пьера Корнеля, который, как узнала Шарлотта, приходился ей прапрапрадедушкой. Вечно озабоченный поиском денег, а затем увязший в судебных тяжбах Жак Франсуа Алексис вряд ли вспоминал о знаменитом, но не родовитом предке. Поэтому только в доме дяди в сознании Шарлотты прочно утвердилось ее родство с великим классицистом. Героические трагедии, написанные звучным александрийским стихом, стали первыми книжками впечатлительной восьмилетней особы, привыкшей к привольной жизни среди полей. Некоторые утверждали, что именно на стихах Корнеля юная Шарлотта выучилась читать.
А так как Брут тебе — пример для подражанья, Ты должен, как и он, не ведать колебанья[5].Вместе с Корнелем в жизнь девочки вошли доблестные герои, исполненные чувства долга, ради которого они в любую минуту готовы и разить врага, и принять смерть.
Великий, грозный гнев во мне неукротим. Я гибелью своей тебя достойна, Рим, И ты во мне признать захочешь, без сомненья, Героев кровь, во мне текущую с рожденья[6].В жилах Шарлотты текла кровь создателя этих возвышенных строк, воспевшего героев, готовых ради общественного блага вонзить кинжал в грудь и врага, и друга. «Убить моей руке приказывала честь», — разбирала по слогам девочка, и в ее хорошенькой головке постепенно складывался идеал достойной гибели во имя долга.
Есть основания полагать, что время, проведенное у дяди, сыграло решающую роль в становлении характера и пристрастий Шарлотты. Тридцатилетний Шарль Амедей привил девочке не только любовь к произведениям Корнеля, которые сам он ценил чрезвычайно высоко, но и к учению, процесс которого он как наставник сумел сделать ненавязчивым и увлекательным. Возможно, именно тогда Шарлотта впервые задумалась о том, почему ее отец никогда не находил времени для занятий с детьми, и поэтому после возвращения домой между дочерью и отцом пробежала первая черная кошка, а впоследствии и вовсе пролегла непреодолимая пропасть.
Относительно взаимоотношений Шарлотты с отцом существуют две версии: «между отцом и дочерью царило дружеское взаимопонимание» и «между отцом и дочерью царили отчуждение и непонимание». Вторая версия, на наш взгляд, более соответствует действительности. Хотя девушка всегда отдавала дань уважения отцу, создается впечатление, что она чтила, скорее, образ, занимающий почетное место в устоявшейся системе человеческих взаимоотношений, нежели конкретного господина де Корде д'Армона. С отцом, судя по ее поспешному бегству из дома, куда ей пришлось вернуться после закрытия аббатства Святой Троицы, где она воспитывалась, Шарлотта не смогла ужиться. Иначе разве написала бы она перед казнью: «Я могу отдать отечеству только свою жизнь, и я благодарна Небу за то, что в состоянии свободно распорядиться ею»?
Но время выбора и поступка для Шарлотты еще впереди. Пока же девочка упивалась стансами рыцаря Родриго, получившего за доблесть прозвище «Сид», оправдывала Горация, заколовшего свою сестру, проявившую недостойную римлянки слабость, и, стяжав славу, погибала следом за разрушителем языческих идолов Полиевктом. Интересно, находила ли она себе товарищей, чтобы разыгрывать пьесы знаменитого предка? И какую роль в этих играх выбирала она для себя? Женщины в трагедиях Корнеля исполняли свой долг наравне с мужчинами и наравне с мужчинами жертвовали жизнью во имя принципов, так что, скорее всего, Шарлотте было все равно, кем представлять себя: Эмилией, готовой вонзить кинжал в грудь Августа, или Цинной, готовым встать на путь мести из любви к Эмилии. Именно благодаря Корнелю в голове девочки прочно утвердилась мысль о героическом равенстве полов.
Во время революции героического равенства потребует от законодателей Олимпия де Гуж[7]. По ее мнению, если женщина может наравне с мужчинами взойти на эшафот, она имеет право подняться и на трибуну. Но революционное правительство не уравняет женщин в правах с мужчинами, и политическая карьера для них по-прежнему останется закрытой. На эшафот женщин станут отправлять наравне с мужчинами, и зачастую по совершенно нелепым обвинениям — как, например, мадам Шальгрен, приговоренную к смерти за присвоение 20 фунтов свечей. Но подлинной причиной ее гибели назовут отказ ответить на нежные чувства знаменитому художнику Давиду, начавшему писать ее портрет…
Жан Жак Руссо, на чьих трудах воспитывались будущие вожди революции, утверждал, что женщина постоянно пребывает в детстве и не способна видеть дальше домашнего круга (то есть собственного носа), ибо сама природа завещала ей пребывать в этом кругу вечно. Единственной наукой, к занятиям которой следовало поощрять женщину, являлась наука о чувствах, применять достижения коей ей предписывалось только для пользы супруга. Женщинам дозволялось читать в сердцах мужчин, право же философствовать о человеческом сердце, равно как и обо всем остальном, отводилось исключительно мужчинам. И ученики следовали заветам своего учителя.
Шарлотту, которую, не рискуя ошибиться, можно назвать духовной дочерью Корнеля, наука «сердцеведение» не привлекала никогда. Неизвестно даже, был ли у нее возлюбленный. Правда, после ее смерти, когда биографы кропотливо восстанавливали каждый шаг Шарлотты, возникло немало слухов и легенд о ее любовных романах; практически каждый мужчина, когда-либо промелькнувший в окружении девушки, рассматривался как кандидат в воздыхатели. Но подруги мадемуазель Корде единодушно уверяли, что она всегда высказывалась против замужества.
Возможно, если бы Шарлотта встретила своего избранника, ее любовь была бы столь же героической, жертвенной и отрешенной от всего земного, какой представала она в трагедиях ее великого предка. Страстные характеры героев Корнеля были далеки от повседневности, ситуации, в которые драматург ставил своих героев, отличались накалом страстей. Повинуясь долгу защищать родовую честь, Родри-го убивал отца своей возлюбленной Химены, нанесшего оскорбление старому отцу Родриго, а влюбленная в Родриго Химена, исполняя долг мести, требовала наказать Родриго:
Жестокое желанье! К отмщенью правому жестокое призванье! Кровавого суда мне страшно торжество: В день казни я умру, и я гублю его![8]Любовь, как и все чувства у героев Корнеля, подчинялась разуму, разум требовал исполнения долга, и ради исполнения этого долга влюбленные с готовностью шли на гибель, ибо любви достоин только тот, кто исполняет долг. Трагический заколдованный круг. Месть становилась священной обязанностью, чувством не иссушающим, но возвышающим душу…
Но можно ль слезы лить, идя дорогой верной? Любую цену тут нельзя считать безмерной, Убийцу поразив отмстительной рукой, Пристойно ль рассуждать, какой он пал ценой?[9]Героев Корнеля нельзя было судить как простых смертных: они действовали на благо государства, общества, высших целей, поэтому автор оправдывал их даже тогда, когда по закону их следовало бы осудить. Гораций, победитель альбанцев, в сражении убивал альбанца Куриация, жениха своей сестры Камиллы. Вернувшись с победой в Рим, триумфатор Гораций, услышав, как сестра, оплакивая жениха, проклинает вражду двух государств, но более всего Рим, в порыве патриотического пафоса убивает сестру — за то, что горе ее оскорбило его чувства римлянина. За свой поступок Гораций приготовился предстать перед судом царя и с честью встретить приговор. Но никто не собирался осуждать победителя.
Не преступление — порыв слепой и страстный; И если правый гнев его одушевлял, Не кары этот пыл достоин, а похвал, —говорил отец Горация, отец победителя, и ему вторил римский царь:
Царей оплот и мощь в решительные дни — Закону общему подвластны ли они? Живи, герой, живи. Ты заслужил прощенье. В лучах твоих побед бледнеет преступленье[10].Идея убийства, совершенного во имя высшей цели, а потому неподсудного утвержденным людьми законам, уже в детстве поселилась в сердце Шарлотты.
Теченье времени не раз узаконяло То, в чем преступное нам виделось начало…[11]Лишенные человеческих слабостей, герои Корнеля с готовностью жертвовали собой ради благородных идей и общественного блага. Мир высоких принципов стал для Шарлотты ее миром, царящие в нем законы стали определять ее поступки. Корнель убедил Шарлотту, что величие и благородство не передаются по наследству, а зависят от личных качеств человека, что помимо сословной и родовой гордости есть еще гордость за совершенный поступок.
Возможно, если бы мадемуазель Корде родилась мальчиком, она бы стала полководцем или революционным трибуном. «У нее никогда не просыпались сомнения, неуверенность. Приняв решение, она больше не сомневалась. Из нее наверняка получился бы прекрасный командир полка», — напишет впоследствии один из дальних родственников Шарлотты.
Но XVIII век не воспринимал женщину полноправной участницей общественной жизни, свобода позволялась в тени мужчины — мужа или любовника. Девушкам внушали, что жизнь — это борьба, и победить можно, только найдя себе супруга или хотя бы покровителя. Тем не менее образование, которое получали девушки, причем не только из аристократических слоев общества, пробуждало в них сознание собственного достоинства, стремление к независимости и решимость встать вровень с мужчиной.
Во все времена девушки влюблялись в благородных героев. Для Шарлотты герой не был ни мужчиной, ни женщиной; для нее он являлся живым воплощением долга. Похоже, ни в одной из пьес своего великого предка Шарлотта не заметила любовной интриги. Возможно, потому, что в трагедиях Корнеля любовь подчинялась общественным обязанностям. «Я из рода Эмилии и Цинны!» — гордо заявляла Шарлотта. Впрочем, эту фразу вполне могли приписать ей биографы. От персонажей Корнеля Шарлотта шагнула к героям Древней Греции и Древнего Рима: «Сравнительные жизнеописания» Плутарха на всю жизнь стали любимой книгой духовной дочери Корнеля.
В своих пристрастиях к героической патетике Шарлотта была не одинока. В столь же юном возрасте прониклась возвышенными принципами и ее старшая современница Мари Жанна Флипон, более известная как мадам Ролан[12]. В девять лет Манон (так звали Мари Жанну дома) брала в церковь томик «Сравнительных жизнеописаний» и, не в силах оторваться, клала любимую книгу перед собой на пюпитр вместо молитвенника. О себе мадам Ролан писала, что Корнель сделал ее героиней, школа — христианкой и примерной супругой, а Плутарх — республиканкой. Если исключить из этой триады «примерную супругу», то же самое могла сказать о себе и мадемуазель Корде. Имена Шарлотты Корде и мадам Ролан часто ставят вместе, ибо в их духовном развитии много общего. Обе, по словам братьев Гонкуров, несли на своем ясном челе добродетели Древнего Рима, не проявляли слабости и не боялись смерти.
К «добродетельным римлянкам» можно причислить и уроженку Арраса (родного города вождя революции Робеспьера) Луизу де Керальо, первую женщину, выступившую в тревожные революционные дни на поприще издателя газеты. 13 августа 1789 года в Париже она основала скромную, как и большинство революционных изданий, газету «Журналь д'эта э дю ситуаен» (Journal d'Etat et du citoyen), выходившую раз в неделю и продержавшуюся почти полгода. Затем Луиза создала газету «Меркюр насиональ э этранже» (Mercure national et etranger), в которой в декабре 1790 года предложила заменить аристократическое «вы» демократичным «ты». Эта идея так понравилась обществу, что ее пожелали закрепить законодательно[13].
Корнель, Плутарх, Руссо, Вольтер, аббат Рейналь — авторы, вдохновлявшие юных дев и молодых людей, пробуждавшие в них гражданские чувства, стремление обустроить мир согласно законам справедливости и порядка. В десятилетие, предшествовавшее революции, многие стали задумываться, не пора ли внести изменения в существующее государственное устройство, тем более что перед глазами был пример Англии, где произвол монарха ограничивал двухпалатный парламент. Но еще более просвещенные умы возбуждали образы Античности, воспринимавшейся во Франции XVIII столетия не столько как период древней истории, сколько как определенный образ мышления, миропонимания и даже бытия. Это мироощущение поддерживалось повсеместным изучением латыни и ораторов древности. Будущих юристов и полководцев учили держать речи, как в римском сенате, и постигать премудрости ведения Галльской войны, отчасти забывая, что большинству из них придется говорить в суде не о судьбах государства, а решать конкретные житейские вопросы, и на поле боя сражаться не с дикими германцами, а с вымуштрованными прусскими солдатами. Восхищение доблестями римлян стало во время революции неотъемлемой частью гражданского сознания.
На революцию, а особенно на период якобинской диктатуры, пришелся пик увлечения Античностью. К этому времени сформировался античный пантеон «хороших» — республиканцев, список которых возглавил Брут, и «плохих» — тиранов, олицетворением коих стал Цезарь. Определяющую роль в оценке деятелей Древней Греции и Древнего Рима во многом сыграли «Жизнеописания» Плутарха.
Плутарх напоминал политикам, что они обязаны воспитывать народ, и это напоминание воспринимали все партии. Апеллируя к гражданским доблестям древних, ораторы и журналисты оперировали не столько подлинной римской или греческой историей, сколько определенными представлениями о свободе, законности, республике и гражданине.
Идеальный гражданин античной республики был безукоризненно добродетелен, жил интересами государства, не замыкался в узком кругу и вместе с другими гражданами непосредственно осуществлял суверенное коллективное правление. Свобода для него мыслилась только вместе со своими согражданами, и ради этой коллективной свободы гражданин был готов пожертвовать личными интересами, гарантиями собственной безопасности и даже жизнью.
Тираноборец Брут, возглавивший заговор против Цезаря, без преувеличения, стал самым популярным античным героем французских республиканцев, его чаще всего упоминали в речах — к месту и не к месту. С его образом ассоциировались определенная система политических взглядов, определенная мораль и модель поведения. По словам Плутарха, Брут усовершенствовал свой нрав тщательным воспитанием и философскими занятиями, прекрасно сочетавшимися с его природными качествами — степенностью и сдержанностью. «Вдумчивый и строгий от природы, он откликался не на всякую просьбу, и не вдруг, но лишь по здравому выбору и размышлению, а убедившись, что просьба справедлива, принимал решение раз и навсегда, от намеченной цели не отступал и действовал, не щадя трудов и усилий». Поэтому, как свидетельствует Антоний, «один лишь Брут выступил против Цезаря, увлеченный кажущимся блеском и величием этого деяния, меж тем как все прочие заговорщики просто ненавидели диктатора и завидовали ему». Питая ненависть к пороку и к тиранам, Брут нанес удар кинжалом Цезарю ради общей свободы, преследуя единственную цель — вернуть римлянам прежнюю республику. Даже такое тяжкое обвинение, как предательство друга и спасителя, коим Цезарь выступал по отношению к Бруту, не смущало принципиальных поборников республиканских добродетелей. И восторженные почитатели Брута пролистывали те страницы, где Плутарх ставил под сомнение необходимость совершенного им поступка. В частности, греческий историк писал: «Власть Цезаря только при возникновении доставила много горя, потом же для тех, кто принял ее и смирился, сохраняла лишь имя и видимость неограниченного господства, и ни в одном жестоком тираническом поступке виновна не была; мало того, казалось, будто само божество ниспослало жаждущему единовластия государству целителя самого кроткого и милосердного. Вот почему римский народ сразу же ощутил тоску по убитому и проникся неумолимой злобой к убийцам».
Принципиальный Брут являл собой образцовую модель тираноборца, героя, утверждавшего законность ценой собственной жизни. Полагая узурпацию власти Цезарем незаконной, он низверг тирана непосредственно в сенате, месте, где создавались законы. Безукоризненная добродетель Брута, не получавшего никаких личных выгод от убийства Цезаря, приравняла его поступок к подвигу во имя свободы, а его смерть — Брут закололся мечом в преддверии неминуемого поражения — возвеличила образ тираноборца, готового пожертвовать жизнью во имя закона.
Отчего образы суровых героев Античности стали столь притягательными для юной мадемуазель Корде? Отчего вместо романов она с упоением читала «Философическую и политическую историю обеих Индий» аббата Рейналя? «Природа не награждает нас одними и теми же способностями и средствами защиты, между людьми изначально существует неравенство, и ничто не может исправить его. Оно будет вечно, но посредством хорошего законодательства можно добиться если не разрушения сего неравенства, но воспрепятствования злоупотреблений, из него проистекающих», — писал Рейналь, и эта похвала справедливых законов была созвучна героической законопослушности героев античных республик. Отчего от дяди-священника домой вернулась не прилежная прихожанка — как следовало бы ожидать, — а юная республиканка, которую уроки катехизиса и священной истории, похоже, оставили совершенно равнодушной? Потому что книги, которые она прочла у него в доме, произвели на нее столь сильное впечатление, что вытеснили все остальные помыслы? Или же в силу цельности характера, независимого, целеустремленного, способного пылать только одной страстью? А может, потому, что, привыкнув жить в мире фантазий, она превратила свой мир воображаемого в мир героической древности, населенный величественными образами, мир, где место христианских идеалов заняли гражданские добродетели и законы?
Этой девушке, ставшей, по ее собственным словам, «республиканкой задолго до революции», наверное, надо было родиться в героические времена Афин, Спарты и Рима. «Прекрасные времена древности являют нам великие и великодушные Республики! Тогдашние герои не были людьми обыденными, как в наши дни; они хотели свободы и независимости для всех людей! Все для отечества и только для отечества!» Слова Шарлотты вполне могли звучать в устах героев ее великого предка. Ее подруги в воспоминаниях своих с восхищением и изумлением писали про возвышенный образ мыслей мадемуазель Корде, поражавшей их своей увлеченностью и постоянной готовностью цитировать древних.
«Самая отважная героиня Французской революции, мстительница Шарлотта Корде принадлежит к числу потомков Корнеля. Если бы кто-нибудь пожелал дать в дочери великому Корнелю девушку более достойную, он вряд ли смог бы найти таковую. А если бы кто-нибудь захотел найти для Шарлотты Корде более прославленного и более достойного предка, вряд ли он смог бы его отыскать», — написал Жюль Жанен и заключил: «Воистину, в ее жилах текла кровь Эмилии и Паулины»[14].
Глава 2. ПОД МОНАСТЫРСКИМИ СВОДАМИ
…Не должна я
Смущать вас, мрачностью унылой докучая.
А душу, что больна от тысячи невзгод,
К уединению печальному влечет.
Корнель. Гораций
Об отношениях между супругами Корде мнения биографов Шарлотты расходятся. Одни пишут, что в семье всегда царили согласие и взаимопонимание, другие — что мир в семье достигался прежде всего тем, что мадам Корде добровольно сделалась рабой своего раздражительного супруга, ни в чем ему не перечила и безропотно выдерживала инвективы, адресованные ее братьям, отказавшимся выплатить обещанное за ней приданое. (Отметим, что сестре ее приданого от братьев также недосталось…) Вину братьев мадам Корде старалась искупить послушанием и усердным трудом по хозяйству. Гнетущее чувство не могло не отразиться отрицательно и на ее здоровье, и на атмосфере в доме. Шарлотта старательно помогала матери по хозяйству, особенно когда оказалось, что сорокашестилетняя мадам Корде вновь ждет ребенка и не в состоянии более хлопотать по дому.
В ночь с 7 на 8 апреля 1782 года случилось непоправимое: супруга Корде скончалась от тяжелых родов, а следом за ней и явившийся на свет слабенький младенец. Дети, отправленные в самый дальний от спальни роженицы угол дома, всю ночь со страхом прислушивались к доносившимся оттуда глухим звукам. А когда наконец наступила тишина, четырнадцатилетняя Шарлотта первой поняла, что произошло. Одни биографы пишут, что Шарлотта считала виновником смерти матери отца, заставившего супругу рожать несмотря на слабое здоровье, и эта смерть подспудно стала еще одной причиной, по которой мадемуазель Корде не испытывала симпатии к мужчинам и резко отрицательно относилась к браку. Другие же, напротив, утверждают, что после смерти матери Шарлотта сблизилась с отцом, и в доказательство приводят стихи, написанные ею в период траура по матери, ко дню рождения отца:
Мой милый папочка, Когда за тостом тост звучит во славу Вам, И все наперебой спешат благодарить, Почувствуйте мой пыл, пусть мне не по годам Пока ни рифмовать, ни складно говорить. Я сердце, как букет, с любовью Вам отдам — Что может Вам еще ребенок подарить?[16]После смерти жены перед Корде встала задача: как обустроить жизнь? Занятый судебными тяжбами, Жак Франсуа Алексис не привык заботиться ни о себе, ни тем более о детях, ибо этим всегда занималась жена, а когда та практически перестала вставать с кресла, ее обязанности легли на плечи старшей дочери.
Постепенно все как-то устроилось. Корде окончательно обосновался в городе. Детей на некоторое время согласились принять родственники. Сын Шарль Франсуа отправился в ту же военную школу, где учился его старший брат, благодаря блестящим успехам которого младшего приняли бесплатно. Желая куда-нибудь определить дочерей, Корде д'Армон вспомнил о пансионе Сен-Сир, основанном маркизой де Ментенон для благородных, но бедных девиц из семейств, отличившихся перед королем. Дядя девочек, де Мениваль, в свое время удостоился ордена Святого Людовика, учрежденного Людовиком XIV за военные и гражданские заслуги перед троном. Но сам де Корде д'Армон наград не имел, а великий Корнель, во-первых, не был дворянином, а во-вторых, служил не королю, а музам, так что юным провинциалкам Корде в приеме в Сен-Сир отказали.
И тут отец Гомбо, священник, проводивший в последний путь мать Шарлотты и ее новорожденного младенца, напомнил господину Корде, что в Кане, в бенедиктинском аббатстве Святой Троицы монахини принимают к себе на воспитание и пансион пятерых знатных, но бедных девиц. Расходы по обучению и содержанию сих девиц брала на себя королевская казна. В восторге от такой перспективы Корде д'Армон принял необходимые меры. В то время должность коадъютрисы (помощницы матери-настоятельницы) исполняла мадам де Понтекулан, дальняя родственница семьи Корде, согласившаяся стать ходатаем за осиротевших девочек. Среди монахинь также нашлась родственница — мадам де Луваньи, и обе женщины совместными усилиями добились, чтобы дочерей Корде д'Армона приняли на воспитание за казенный счет.
Женский и мужской монастыри города Кана, как и обнесенный высокой крепостной стеной замок в центре города, восходили к временам нормандского герцога Вильгельма Завоевателя, который в 1066 году высадился на Британских островах и завоевал Англию. Вильгельм любил Нормандию и часто подолгу жил в построенном для него замке. История же обоих аббатств связана с женитьбой Вильгельма на дочери графа Фландрии Матильде. Впервые явившись к гордой красавице, Вильгельм получил отказ. Как и пристало грозному норманну, Вильгельм отправился воевать, но забыть Матильду не смог. Тогда он снова прибыл в замок графа, но уже не как проситель руки его дочери, а как разбойник, и оттаскал строптивицу за волосы. Граф Фландрский хотел отомстить наглецу, но Матильда остановила его и сказала, что согласна выйти за буйного герцога. Брак оказался на редкость счастливым, но так как Вильгельм и Матильда приходились друг другу дальними родственниками, во искупление этого греха супруги построили два монастыря, соответственно, мужской и женский, где они и были похоронены: Матильда в 1083 году, а Вильгельм в 1087-м. Прах Вильгельма история не сохранила, останки же Матильды до сих пор покоятся в церкви женского монастыря.
Раскинувшееся на склоне холма, аббатство, основанное могущественной Матильдой, выглядело мрачно и сурово. Здание, построенное в характерном для здешнего края англонормандском стиле, окружали обширный сад и огород, обнесенные оградой с высокими угловыми башнями. Настоящая феодальная цитадель, монастырь некогда владел плодородными землями и несколькими деревнями. Но когда под его высокие своды вступили сестры Корде, процветание монастыря уже отошло в прошлое. Тем не менее настоятельница мадам де Бельзенс де Кастельморон делала все возможное для поддержания престижа обители. Величественная и суровая с виду, она требовала к себе особого уважения, соблюдала старинные обычаи и старалась набирать послушниц исключительно из родовитых семей. Из находящихся под ее началом тридцати четырех монахинь к дворянскому сословию не принадлежали только четверо. В ее глазах родство с Корнелем и наличие дяди — кавалера ордена Святого Людовика существенно повышало престиж сестер Корде.
Настоятельница благосклонно встретила двух облаченных в траур сирот. К этому времени в монастыре уже проживати две воспитанницы — мадемуазель де Прекорбен и мадемуазель Александрии де Форбен д' Оппед, приходившаяся настоятельнице племянницей, а сестрам Корде — дальней родственницей. Шарлотта быстро подружилась с Александрии: с ней ей было легче находить общий язык, чем с собственной сестрой.
Дома Шарлотта привыкла к привольной жизни, не скованной никакими правилами; в монастыре ей пришлось подчиняться строгому распорядку, постоянно прислушиваться к гулкому звону колокола, созывавшему монахинь и пансионерок на молитву. «Какая суровая жизнь началась у сестер Корде! Окруженное болотами аббатство утопало в туманах. С раннего утра под дребезжащие звуки колокола молчаливая вереница монахинь направлялась под мрачные стылые своды церкви; нескончаемые службы, торжественные, с монотонным пением молитв; вдобавок в аббатстве использовали любой повод продлить церемониал богослужения. Для Шарлотты, независимой девушки, почти дикарки, привыкшей к просторам, свободе и чистому воздуху нормандской деревни, такая жизнь превращалась в каждодневную муку», — писал Р. Тренциюс. Но, похоже, он излишне сгустил краски. Из других источников следует, что мадемуазель Корде не удручали даже мрачные своды подземной часовни, расположенной под монастырской церковью, куда монахини спускались каяться и давать обеты. По строгим монастырским галереям бесшумно скользили сестры-бенедиктинки: в черном облачении с широкими рукавами и белыми нагрудниками, они напоминали девочке больших птиц. В церкви взор Шарлотты часто устремлялся вверх, к резным капителям, украшенным изображениями загадочных чудовищ. Величественная и суровая архитектура аббатства, исполненная холодной гармонии, находила отклик в душе Шарлотты, а размеренная жизнь вполне соответствовала рациональному складу ее ума. Когда же в погожие дни из-за туч выглядывало солнце и сложенные из песчаника стены становились совсем светлыми, словно светящимися изнутри, все четверо воспитанниц радостно выбегали во двор и начинали резвиться, как самые обыкновенные дети. В шалостях Шарлотта не отставала от подруг: известен случай, когда она, желая подшутить над сестрами, привязала к ноге колокольчик, и монахини очень долго не могли отыскать источник мелодичного звона, пока, наконец, одна из них не догадалась приподнять край длинного платья девочки.
С детства пристрастившаяся к чтению, в монастыре Шарлотта полюбила учиться, тем более что монахини-аристократки прекрасно разбирались в светских науках. Литературе девочек обучала мадам де Понтекулан; им преподавали историю (от Античности до царствования Людовика XII), географию, латынь, итальянский, испанский, учили рисовать, музицировать, шить, вышивать гобелены и плести кружева. Шарлотте нравилось все, чему учили сестры. Единственной наукой, никак не дававшейся Шарлотте, являлась орфография; впрочем, ей пансионерок обучить особенно и не старались. Упорство и пыл мадемуазель Корде, с которыми она предавалась тем или иным занятиям, изумляли настоятельницу. Стремясь добраться до абсолютной истины, дотошная ученица задавала сестрам множество вопросов, нередко ставивших их в тупик. По воспоминаниям одной из монахинь, юная Корде отличалась страстностью, гордостью и упорством, переходящим в упрямство. Мадам де Понтекулан говорила: «Эта девочка сурова прежде всего по отношению к самой себе; она никогда не жалуется, даже когда она больна, предоставляя другим догадываться о ее недуге; она готова терпеть самые мучительные страдания». Однажды Шарлотта вернулась к себе в келью в одном лишь синем платье пансионерки: всю остальную одежду она отдала проходившей мимо аббатства нищенке. Так мадемуазель де Корде исполнила долг по отношению к страждущим, о котором им накануне рассказывала одна из сестер.
В 1780-е годы далеко не все монастыри являлись оплотами обскурантизма; философия и свободомыслие активно проникали за монастырские стены, и не только воспитанницы, но и сами сестры имели возможность читать Руссо и Вольтера. Настоятельница не возражала против книг в комнатках повзрослевших воспитанниц, и на полочке у Шарлотты выстроились томики Корнеля, «Общественный договор» Руссо, труды Дидро и Вольтера, «История обеих Индий» Рейналя и, разумеется, настольная книга — «Жизнеописания» Плутарха. Раз сформировавшись, вкусы Шарлотты более не менялись, и из сочинений просветителей она воспринимала только близкие ее сердцу возвышенные мысли и стоические идеалы, отбрасывая все то грубое и циничное, что привлекало в этих произведениях многих ее современников. Шарлотта не читала романов, затейливый вымысел и придуманные переживания не интересовали ее — ей вполне хватало собственных фантазий. Свободолюбие, стойкость, мужество, готовность пожертвовать всем ради великих принципов — вот добродетели, которыми были наделены герои Шарлотты и которые она находила у Брута, Корнелии, Катона. Но отыскать идеал в жизни надежды практически не было, и, возможно, поэтому, мадемуазель Корде часто пребывала в задумчивости, отчего многие считали ее угрюмой. Чувства и мысли уносили девушку далеко от окружавшего ее мира, она легко погружалась в созерцательное настроение и столь же легко впадала в экзальтацию. По свидетельству современников, когда с ней заговаривали, Шарлотта нередко вздрагивала, словно очнувшись от сновидения. Ей очень импонировала мысль Рейналя: «На небесах слава принадлежит Богу, а на земле — добродетели».
Несмотря на привлекательную внешность, Шарлотта не интересовалась противоположным полом, и, как писала в своих воспоминаниях мадам де Маромм, «ни один мужчина никогда не произвел на нее ни малейшего впечатления; мысли ее витали совсем в иных сферах <…> …она менее всего думала о браке». В монастыре Шарлотта имела возможность познакомиться с молодым человеком по имени Луи Гюстав Дульсе де Понтекулан, племянником мадам де Понтекулан. Будущий депутат Законодательного собрания и Конвента (от департамента Кальвадос) обратил внимание на новую пансионерку, поразившую его своей кротостью и серьезностью. Не обладавшая ни каплей женского кокетства, всегда сдержанная и спокойная, девушка читала только серьезные философские труды и мягко, но твердо отвергала романы, а тем более фривольные сочинения. Беседу она поддерживала только на возвышенные темы, но более всего любила слушать, как молодой человек рассказывал настоятельнице и ее близкому окружению о том, что происходило за стенами аббатства. «Она кажется ужасно одинокой», — сказал однажды Дульсе де Понтекулан о Шарлотте.
Романа между молодыми людьми не случилось. Впоследствии, когда судьи предложат Шарлотте выбрать себе защитника, и она назовет имя гражданина Гюстава Дульсе (как к тому времени станет называть себя депутат), выбором ее будут руководить, скорее, сентиментальные воспоминания юности и желание, чтобы кто-нибудь из тех, кто знал ее прежде, увидел ее на вершине славы.
Естественная красота девушки, не приученной ни белить лицо, ни пудрить волосы, привела в восхищение молодого сочинителя Лекавелье. Правильный овал ее лица, густые темные волосы, большие выразительные глаза, оттененные длинными ресницами и темными бровями, прямой нос, небольшой рот с пухлыми губами, кроткий взор, соединивший в себе бесконечную доброту и неизбывную грусть, «ангельский голос», звучавший по-детски звонко, побудили Лекавелье посвятить Шарлотте стихи под названием «Любимой». Само стихотворение затерялось, но сохранился ответ девушки:
«Не знаю, сударь, как выразить вам свою признательность за то небольшое сочинение, кое вы соблаговолили назвать Любимой; оно снискало аплодисменты и похвалы, однако автор его пребывал неизвестным, и мне не без труда удалось узнать, кого я обязана благодарить за доставленное удовольствие. Эти трогательные стихи наипрекраснейшим образом передают ваши чувства. Примите же, сударь, мои уверения в совершеннейшем к вам почтении и признательности; остаюсь смиренной и почтительной слугой сочинителя Любимой.
Корде».
Судя по записке, светские манеры, которым девушек обучали в монастыре, Шарлотта усвоила, но о чувствах речь по-прежнему не шла.
Несколько амурных историй о Шарлотте Корде сочинил и плодовитый литератор Ретиф де ла Бретон, записав в поклонники девушки не только аристократов, но даже одного епископа. Но эти писания Ретифа всерьез никто не воспринимал.
Серьезная и сосредоточенная, мадемуазель Корде казалась старше своего возраста, поэтому мадам де Понтекулан, ставшая настоятельницей после смерти мадам де Бельзенс, сделала ее своей помощницей и, несмотря на нелады девушки с орфографией, нередко поручала ей вести деловую переписку монастыря. Сохранилась записка, адресованная некоему Алену, негоцианту, проживавшему на улице Дофин в Париже. В этой записке Шарлотта по поручению мадам де Понтекулан благодарила адресата за подношения и просила поскорее подписать вексель, по которому настоятельница сможет получить деньги для аббатства. Мадам де Понтекулан также поручила своей помощнице обучать девочек из приходской школы плетению кружев, и Шарлотта успешно справилась с этой задачей.
Несмотря на многочасовые молитвы, размеренная жизнь в аббатстве, занятия, чередовавшиеся с помощью страждущим, постоянное дружеское общение с Александрии устраивали Шарлотту гораздо больше, чем жизнь дома, подле вечно озабоченного отца, продолжавшего судиться с родственниками жены[17]. Выносить педантизм и резонерство отца для Шарлотты было значительно труднее, чем соблюдать монастырские порядки; у младшей сестры Элеоноры ее устремления отклика также не находили. Поэтому каждый раз, вернувшись из дома после очередных «каникул», девушка с наслаждением погружалась в ставшую для нее привычной обстановку благочестия. По словам Ламартина, восприимчивая душа и пылкое воображение приводили Шарлотту в «состояние мечтательного созерцания, во время которого кажется, что видишь Бога». Как писала в своих «Мемуарах» мадам Ролан, также получившая воспитание в монастыре, подобные ощущения легко переходили в горячую веру и подвиги благочестия.
Шарлотта охотно внимала речам сестер о Боге, о непорочности, об абсолютной божественной любви, и мысль посвятить себя служению Господу не вызывала у нее отвращения. Ее подруга Александрии де Форбен не менее страстно пылала огнем божественной любви и с удовольствием посвящала себя делам милосердия; впрочем, семья давно определила Александрии для служения Церкви, и оставалось только радоваться, что это решение не противоречило желаниям самой девушки[18].
Впечатлительная Манон Ролан описала, в какой неизбывный ужас поверг ее обряд принятия монашеского сана, во время которого молодую послушницу, произносившую слова обета, накрывали саваном: эта церемония символизировала расторжение всех уз, связывавших сестру Христову с миром. Стремясь понять, что чувствует послушница, навсегда прощаясь с привычным образом жизни, Манон представила, что это ее саму сейчас разлучат со всем, что ей дорого, и разрыдалась. Обряд же первого причастия, напротив, заворожил Манон: чувствительная девушка усмотрела в нем приобщение к «источнику вечного счастья», из глаз у нее полились слезы, ноги подкосились, и только с помощью одной из сестер она сумела приблизиться к алтарю.
В отличие от мадам Ролан, изложившей свои впечатления о жизни в монастыре на страницах «Мемуаров», мадемуазель Корде, являвшаяся монастырской пансионеркой около десяти лет, воспоминаний не оставила; о чувствах и мыслях, обуревавших ее в это время, приходится в основном догадываться, используя в качестве подсказок немногие сохранившиеся свидетельства. Так, например, известно письмо от 24 сентября 1788 года, адресованное Шарлоттой ее дальней родственнице мадам Дюовель. Судя по содержанию, письмо это явилось ответом на просьбу мадам Дюовель рассказать ей житие святой Аглаи, чтобы она могла пересказать его дочери, получившей свое имя в честь этой святой[19].
«Имею честь, сударыня, поблагодарить вас за то, что не забываете меня. В поисках сведений о покровительнице моей маленькой кузины мне пришлось просмотреть все жития святых; но я нашла житие св. Аглаи и сейчас коротко перескажу его вам.
В Риме, около 300 года, жила знатная женщина по имени Аглая; она владела несметными богатствами и вела жизнь беспутную и неблагонравную. Добрых качеств она имела всего три: гостеприимство, щедрость и сострадание. Долгие годы Аглая жила неправедно, но потом на нее снизошла милость Господня и она обратилась в христианство. Тогда она велела своему управляющему Бонифацию, который тоже обратился в христианство, отправиться туда, где претерпевают страдания святые мученики, и доставить ей мощи этих мучеников, дабы она могла похоронить их и оказать им почести и таким образом заслужить отпущение грехов. А Бонифаций, словно в шутку, ответил ей: "Если я найду мощи святых, я их привезу, а если вам, сударыня, принесут мои останки, примите их, ибо сие будет означать, что я стал мучеником". И Бонифаций отправился в путь. По дороге он совершал поступки, достойные святых, его приговорили к смерти и отрубили голову, после чего слуги принесли его тело Аглае. Тут к Аглае явился ангел и сказал: "Тот, кто прежде был вашим слугой, теперь стал вашим братом; примите его как подобает и окажите почести его телу. Тогда заступничество его возымеет силу и грехи вам будут отпущены". В сопровождении священников Аглая пошла к святым мощам и поклонилась им, а потом приказала построить для упокоения мощей великолепную часовню, где случились многие чудеса. Затем Аглая навсегда отреклась от мирской жизни и раздала свои богатства бедным. Она прожила еще тринадцать лет в примерном благочестии, и кончина ее была кончиной святой. Ее похоронили в часовне, которую она построила в честь святого Бонифация, а день благостной кончины ее стал церковным праздником[20].
Вот, сударыня, что я могу рассказать о святой покровительнице моей маленькой кузины, которой я желаю благочестивой жизни, и целую ее нежно, равно как и ее сестру. Мне сообщили, что вы завершили дела, связанные с разделом земли. Искренне поздравляю вас, сударыня, ибо всегда приятно точно знать, на что можешь рассчитывать. У меня же пока радостей мало, тем более что меня не оставляет предчувствие, что вскоре вы от нас уедете, а мне бы хотелось в грядущем году повидаться с вами. Примите, сударыня, уверения в моем живейшем к вам почтении; обнимаю мою дорогую кузину. Ваша смиренная слуга Корде.
P. S. Сестра просит меня от ее имени засвидетельствовать вам почтение и передает тысячу приветов вашим детям».
Судя по этому письму, девушка, во-первых, читала не только философов и Плутарха, а во-вторых, не порывала отношений с родственниками и охотно исполняла их просьбы.
Многие биографы предполагают, что в жизни Шарлотты был некий «период благочестия», когда все помыслы ее устремились к Богу и она всерьез обдумывала возможность пострижения. Возможно, именно в этот период к ее любимым языческим героиням — Эпихариде, Порции, Кле-лии — добавилась библейская Юдифь, добровольно взявшая в руку меч, дабы сознательно нанести смертельный удар вражескому военачальнику Олоферну. Говорят, в Библии, принадлежавшей Шарлотте, были подчеркнуты строки: «я выйду для исполнения дела»[21]. А в личной тетрадке пятнадцатилетней Шарлотты записана молитва, обращенная к Иисусу:
«О, Иисус, смирившись и исполнившись скорби, я стою перед тобой в свой последний час, дабы вручить тебе свою душу, дабы ты позаботился о ней после того, как она покинет бренную свою оболочку…
Когда предсмертная испарина растреплет волосы на голове моей, помилуй меня…
Когда мои щеки побледнеют и их мертвенная белизна станет внушать стоящим рядом страх и ужас… помилуй меня…»
Что навевало юной Корде мысли о смерти? Предчувствие или охватившее ее желание умереть для мира? Можно предположить, что ей, как и юной Манон, довелось присутствовать при обряде принятия монашеского обета, который, по свидетельствам современников, часто производил на неокрепшие души мрачное впечатление. А может быть, не видя в миру достойного для себя поприща и смутно осознавая, что в расшатанной монархии Людовика XVI ее героические устремления вряд ли найдут применение, она решила избрать подвижнический путь Полиевкта, героя одноименной христианской трагедии Корнеля? Но как следовать по пути подвижницы веры в понимании своих любимых героев, Шарлотта не понимала. У Корнеля новообращенный христианин Полиевкт, презрев идеал христианского смирения, разрушал языческих идолов, чтобы обрести мученический венец и вместе с ним бессмертие и славу:
А смерть дарует нам венец и благодать, Которых никому за гробом не отнять![22]Подобно античному герою, Полиевкт исполнял долг во имя высшего принципа. Но во имя какого принципа, на каком поприще могла геройски реализовать свои духовные устремления воспитанница монастыря? Если бы в это время Шарлотта встретила любовь, возможно, она отдала бы этому чувству весь пыл своей души. А если бы не случилась революция, Шарлотта, скорее всего, приняла бы постриг и впоследствии стала бы образцовой настоятельницей образцового монастыря. Если бы…
Несмотря на орфографические ошибки, Шарлотта любила писать. Она сочиняла молитвы, по просьбе монахинь охотно копировала списки церковных праздников и текущих дел, сочиняла стихи, стараясь подражать александрийскому стиху своего великого предка. Известно пространное наставление семнадцатилетней Шарлотты ее старшему брату, Жаку Франсуа Алексису. Напомнив брату о краткости земного бытия, восторженная воспитанница сестер-бенедиктинок советовала ему не омрачать сей миг забвением Господа, а служить Ему с самых первых шагов сознательной жизни.
Мне ты явился, брат; и здесь, в глуши моей, Видения сего нет для меня милей. Давай же закрепим до гроба наш союз, Ведь единенье душ сильнее кровных уз. В беседах дружеских, подаренных судьбой, По-братски мыслями делилась я с тобой; Но все же главное осталось мне сказать. Едва расстались мы, спешу тебе писать. Ты честно, преданно долг исполняешь свой, Ни зависть, ни корысть не властны над тобой, И справедливости повсюду ищет ум, Есть благородство фраз и благородство дум; Твои таланты, брат, известны мне давно. Но мир ведет им счет, а Богу все равно. <...> Так вот Он, Бог Живой, распятый словно вор, Он видит нас насквозь, вниз простирая взор. Не думай, что тебя полюбит нежно, — нет, Когда придешь к Нему иссохшим как скелет, Когда на лбу твоем судьбина проскребет Морщины как следы печалей и забот И путь неверный свой забудешь ты, слепец, И будет волновать не путь, а лишь конец. Остановись, прошу, ни ночью и ни днем Ты с юности, Корде, не забывай о Нем… <...> Отдай Ему всю жизнь: свой труд и свой досуг; Без Господа, поверь, все тщетно, милый друг. Беги от всех красот, что соблазнят стократ: Господь, один Господь достоин сердца, брат… Вот я пишу тебе, так помни же о Том, Кто вдохновил меня, водил моим пером. Пусть добрые скорей исполнятся мечты, Пусть больше, чем мечтал, исполнить сможешь ты[23].Когда увлеченность монастырской жизнью прошла и многие обязанности сделались тоскливыми и неинтересными, Шарлотта тем не менее не помышляла покинуть монастырь, ибо дома ее ожидали еще более скучные хозяйственные хлопоты, возможно, попытки пристроить ее замуж и отсутствие родственной души. В 1787 году любимая подруга Александрии де Форбен по желанию родителей отправилась в монастырь в Троарне, чтобы занять там место канониссы. Младшая сестра Элеонора, которую одни считали умной и утонченной, а другие не слишком сведущей и малообразованной, в отличие от старшей сестры находила общий язык с отцом. «Мне кажется более привлекательным подчиняться уставу, который выбрала я, нежели воле того лица, которое выбрали для меня», — размышляла Шарлотта. Наверное, исправное исполнение повседневных монастырских обязанностей для обуреваемой неясными и возвышенными устремлениями Шарлотты в то время являлось настоящим подвигом.
В 1786 году в Нормандии начался кризис, порожденный опрометчивым договором о товарообмене с Англией и рядом неурожайных лет, приведших к упадку промышленности и обнищанию сельского населения. На рынках часто возникали скандалы, нищие сбивались в банды и нападали на путников в лесах и на дорогах. Весной 1789 года, когда рабочие столичного Сент-Антуанского предместья громили дом крупного промышленника Ревельона, в Руане беднота разбивала ткацкие станки местных фабрикантов. Нормандские крестьяне поджигали замки, а в городах народ требовал твердых цен на продовольствие. Королевский двор лихорадило, король то увольнял, то возвращал на пост генерального контролера финансов умеренного реформатора Неккера, но никакие меры не помогали: государство постепенно соскальзывало в финансовую пропасть. Созванная Людовиком XVI Ассамблея нотаблей казну пополнить не сумела, и король решился на крайний шаг — объявил созыв Генеральных штатов, представительного собрания всех трех сословий, не созывавшегося с 1614 года. Перед всеми провинциями встал острый вопрос — составление наказов депутатам и выборы в Генеральные штаты, назначенные на май 1789 года. Процедура составления наказов, охватившая всю страну, привела к практически поголовной политизации общества.
Просветители просвещали душу, готовили ее к превратностям судьбы и учили уважать ближнего; сентиментальные руссоисты уповали на чувства и призывали вернуться в «естественное состояние», не очень хорошо представляя, какое состояние считать «естественным». Тяга к всеобщим переменам порождала тайные организации, способствовавшие обострению мистического воображения самых широких слоев населения. В масонских ложах дворяне сидели рядом с выходцами из третьего сословия. Общество попало под обаяние чудесного, замешанного на сентиментальности и античных добродетелях. Масоны проповедовали социальные идеи равенства и братства, в их речах звучала будущая терминология революции. Постепенно формировалась новая сила — общественное мнение, которой, по словам Луи Себастьяна Мерсье, сопротивляться было невозможно. Увеличивались тиражи провинциальных «Афиш» (Affiches): эти листки объявлений постепенно заполнялись разнообразной информацией — сначала бытового характера (кулинарные рецепты), а потом и социально-политического.
Проникнувшись новыми веяниями, Дульсе де Понтекулан, принимавший активное участие в составлении наказов, отказался баллотироваться в депутаты от дворянства и выставил свою кандидатуру от третьего сословия. Отец Шарлотты, исполнявший в это время обязанности синдика в приходе Мениль-Имбер, на волне всеобщего воодушевления быстро составил и подал записку в поддержку пропорционального налогообложения состояний:
«Надобно, чтобы налоги, идущие на общую пользу, вносили в казну все без исключения.
Надобно, чтобы размер взимаемого налога был сообразен размеру состояния.
Наконец, надобно, чтобы налоги определяли люди знающие, которым известны наши интересы, наши нужды и потребности, и которые могли бы определить вклад каждого в общую казну, а затем и проследить, дабы налоги сии пошли на цели, определенные заранее, а не неизвестно куда».
Вопрос о равенстве, отравивший жизнь Корде д'Армона, в надвигавшейся революционной буре вставал очень остро. Правда, волновал он не столько дворянство, сколько пробудившееся третье сословие, выдвигавшее на первое место требование гражданского равенства. А дворянин Корде д'Армон, несостоявшийся офицер и малоимущий землевладелец, законно обделенный наследством и незаконно — приданым супруги, ратовал за равенство в сфере распределения. Выступая оппонентом некоего де Фрондевиля, опубликовавшего брошюру в защиту майората, Корде, вооружившись «Общественным договором» Руссо, писал: «В приходе, где я проживаю, имеется около сорока дымов; пять шестых этой земли принадлежат восьмерым хозяевам, а на долю оставшихся тридцати приходится всего лишь одна шестая часть». Маленькие участки земли обрабатывать удобнее, а потому и пользы от них больше; пусть каждый возделывает свой личный садик, и это будет справедливо, считал отец Шарлотты, «друг Платона, но более всего друг истины», как подписал он одну из своих брошюр. 4 августа 1789 года Законодательное собрание торжественно поддержало благородный порыв дворянства отказаться от привилегий. Приветствуя это решение и полагая его законным и справедливым, Корде д'Армон тотчас взялся за перо: на этот раз главной темой его опусов стала критика неравенства при распределении наследства. Автор отстаивал права младших сыновей и дочерей на долю семейного имущества. «Согласен, — отвечал он своим оппонентам, — наши дочери возьмут с собой свою долю, и она станет достоянием наших соседей. Но и вы признайте, что дочери соседей, выйдя замуж за ваших сыновей, вернут вам утраченное». Таким образом — возможно, сам до конца не осознавая значение своих предложений — Корде д'Армон выступил поборником женского равноправия при разделе наследства. Когда же 15 марта 1790 года приняли закон об отмене майората, Корде испытал истинное удовлетворение: ведь он тоже внес свою лепту в борьбу против ненавистного пережитка прошлого! Правда, в ряде провинций, в том числе и в Нормандии, вместе с отменой майората от дележа наследства отстранили лиц женского пола.
Шарлотта была в курсе полемических выступлений отца. Предполагают даже, что она иногда помогала ему составлять крамольные для феодального порядка брошюры. Однако несмотря на готовность обоих к переменам, общего языка со старшей дочерью отец не находил. Именно поэтому ряд биографов утверждает, что помощником и секретарем месье Корде стала его младшая дочь, Элеонора, хотя она — по сравнению с сестрой — хуже усваивала премудрости наук. Приверженностью к республиканским идеалам месье Корде никогда не отличался: его вполне устраивала конституционная монархия. Шарлотта же в отмене привилегий видела первый шаг к установлению республики, идеального государства, прочно занявшего место в ее воображаемом мире.
Ряд биографов утверждают, что недолгое время Шарлотта состояла в переписке с Ипполитом Бугон-Лонгрэ, энергичным молодым человеком, принявшим активное участие в революционных преобразованиях в департаменте Кальвадос: в 1791 году Бугон-Лонгрэ стал генеральным секретарем департамента, а в 1792 году — прокурором-синдиком. Талантливый, красивый, с изысканными манерами, он живо интересовался литературой, на почве которой и возникла его переписка с мадемуазель Корде. Но при личных встречах они чаще говорили о политике, чем о литературе: будучи в гуще событий, молодой человек мог ответить на многие вопросы любознательной девушки. Считается, что именно он вызвался стать проводником Шарлотты по дебрям философии. Беседы с Бугон-Лонгрэ доставляли ей искреннее удовольствие, а главное, давали пищу для размышлений. Говорят, незадолго до гибели Бугон-Лонгрэ показывал своему другу пачку из примерно двадцати писем Шарлотты — исключительно на литературно-политические темы. Письма эти затерялись (если вообще существовали), как затерялось и письмо Шарлотты, проданное в 1868 году на Лондонском аукционе и якобы адресованное ее возлюбленному. Доктор Кабанес пишет, что в записке к матери, написанной Бугон-Лонгрэ накануне казни[24], говорится о его сердечной склонности к Шарлотте. Но встретила ли эта склонность ответное чувство, остается только гадать.
Известие о взятии Бастилии[25] всколыхнуло народное движение по всей стране. В Кане и окрестностях участились мятежи, манифестации и грабежи. В провинции настало время «большого страха», повсюду ходили слухи об ужасных разбойниках, подкупленных аристократами, жаждущими отомстить восставшему народу. Обстановка в стране, раскалившаяся со времени созыва Генеральных штатов, способствовала мятежам, поджогам замков, нападениям на склады и обозы. Крестьяне заставляли сеньоров сжигать феодальные архивы, сеньоры тряслись от страха, эмигрировали, мстили. Известен случай, когда некий де Кенсей «пригласил жителей своей деревни на праздник в честь собрания трех сословий, а когда все вышли в сад, под ногами приглашенных отверзлась пропасть и все туда упали. Окрестные жители с огнем и железом в руках побежали мстить…». Пытаясь справиться с паникой и беспорядками, энергичные представители третьего сословия брали власть в свои руки и, вытеснив из муниципалитетов дворян, создавали революционные комитеты и формировали отряды самообороны, ставшие впоследствии отрядами Национальной гвардии.
В Париже первой жертвой восставших стал комендант Бастилии Делонэ: насадив его голову на пику, толпа долго носила ее по городу, наводя ужас на сторонников законности и порядка. В Кане народный гнев обрушился на убежденного роялиста Анри де Бельзенса, прибывшего со своим полком в конце февраля для охраны транспортов с зерном и провиантских складов. Невоздержанный на язык Бельзенс словно нарочно делал все, чтобы вызвать к себе ненависть революционно настроенных горожан: появлялся на народных собраниях вооруженный до зубов, пообещал сшить своим солдатам «штаны из кожи женщин Кана», насмехался над недавно созданной в городе Национальной гвардией. А когда 11 августа из столицы в Кан прибыли участники штурма Бастилии, Анри де Бельзенс посулил своим людям награду, если они сорвут с «мятежников» памятные медали и отберут у них портреты Неккера. Произошла драка, собрались люди, выступившие в защиту вершителей революции, солдаты Бельзенса отступили, а разогретая стычкой и сидром толпа окружила казармы и выставила караулы. Ночью офицеры попытались выбраться из казарм, но их остановили; произошла перестрелка. Ранним утром в городе забил набат, и двадцать тысяч горожан, взбудораженных слухами о том, что полк Бельзенса хочет истребить всех патриотов, двинулись на штурм казарм. Чтобы избежать кровопролития, офицеров во главе с Бельзенсом под охраной национальных гвардейцев отправили в ратушу. Муниципальные советники приняли благоразумное решение удалить полк из города, а в ожидании, пока толпа успокоится, арестовали Бельзенса и препроводили его в крепость — для его же безопасности. Но разъяренная чернь выломала дверь камеры, вытащила заносчивого аристократа на улицу и буквально разорвала его на куски, а голову, как и голову несчастного коменданта Бастилии, надела на пику и с воплями пронесла мимо стен аббатства — кто-то вспомнил, что бывшая настоятельница также носила фамилию Бельзенс. В отчете о гибели несчастного Бельзенса говорилось, что сердце его было вырвано и съедено разъяренной гражданкой Седель.
Двадцатилетний аристократ Бельзенс, действительно, приходился дальним родственником настоятельнице монастыря и, как считают некоторые, не раз приезжал в Кан повидаться с теткой. Возможно, он познакомился с Шарлоттой, и та не просто увлеклась им, а даже — по утверждению мадам Рибуле — собралась за него замуж. Интересно, что впервые имена Шарлотты и полковника Анри де Бельзенса соединил общественный обвинитель Фукье-Тенвиль в письме Комитету общественной безопасности: он предположил, что убийство Марата явилось местью за гибель Бельзенса. «Меня только что известили о том, что убийца, это чудовище в женском обличье, являлась подругой Бельзенса, полковника, убитого в Кане во время восстания, — писал грозный обвинитель Революционного трибунала. — С тех пор она таила ненависть к Марату, и ненависть эта ожила в ней в тот самый момент, когда Марат разоблачил родственника Бельзенса, а Барбару использовал преступный умысел, который эта девица вынашивала против Марата, и подтолкнул ее к ужасному убийству». Но многие опровергают эту версию, полагая, что Марат не мог писать о Бельзенсе, так как тот погиб на месяц раньше, чем вышел первый номер «Друга народа». Если же верить мадам Маромм, то Шарлотта хотя и была знакома с Бельзенсом, но «никогда его не любила и смеялась над его женственными манерами».
Но даже если мадемуазель Корде не питала сердечной склонности к Анри де Бельзенсу, даже если она не была с ним знакома, его страшная смерть потрясла ее. Останки несчастного молодого человека Шарлотта могла видеть собственными глазами, и зрелище это повергло ее в ужас. В голове Шарлотты закипело множество неведомых прежде мыслей. Слепая ненависть толпы, потерявшей человеческий облик, не имела ничего общего с праведным гневом античных героев, жертвовавших собой во имя республиканских добродетелей. Рассчитанная жестокость аристократов не имела ничего общего с мудростью добродетельных законодателей. Неужели долгожданные реформы обязательно должны сопровождаться столь страшными взрывами самых низменных человеческих страстей? Как мог благородный лозунг «Свобода, равенство, братство» породить такое кровавое варварство? Впоследствии жирондист Верньо назовет революционное равенство «равенством отчаяния», ибо дарует его страшный уравнитель — смерть.
В день гибели Бельзенса Шарлотта впервые подумала о том, что и она сама, и ее близкие могут стать жертвами необузданного гнева черни.
Ее опасения оправдались. Однажды известный в округе браконьер, кузнец Беллоне, часто стрелявший зайцев буквально у порога дома Корде, встретив отца Шарлотты, возвращавшегося к себе домой в Мениль-Имбер, стал придираться к нему как к дворянину и упрекать его за ношение оружия. Кузнец был сильно пьян, Корде д'Армон давно уже имел зуб на кузнеца за незаконную охоту на его землях… Словом, у них вышла ссора и могучий кузнец, вооруженный толстой палкой с обитым железом концом, полез в драку. Худощавый, преклонных лет, Корде вытащил из трости клинок (тот самый, про который прознал кузнец) и, обороняясь, задел острием нападавшего. Разъяренный кузнец бросился на противника, и Корде пришлось спасаться бегством. С трудом добравшись до дома, отец Шарлотты решил, что инцидент исчерпан; но он ошибся. Вскоре кузнец, подкрепив силы горячительным, явился к дому обидчика с ружьем и стал угрожать ему, обещая пристрелить при первой же возможности. На следующий день Корде подал жалобу на кузнеца, однако действия она не возымела: в такое тревожное время никто не решился встать на сторону дворянина против доброго санкюлота. Во избежание печальных последствий этой ссоры Корде д'Армон перебрался на жительство в Аржантан, крошечный городок неподалеку от Кана, жители которого выступали «на стороне порядка».
Ветры революции неумолимо проникали за прочные стены аббатства, свистели в длинных галереях, порождая неуверенность и страх в сердцах монахинь. Но Шарлотта не собиралась покидать монастырь. Холодная и спокойная во всем, что касалось ее личных чувств, и страстная во всем, что касалось ее убеждений, она, скорее всего, пребывала в состоянии раздвоенности, которое обычно очень плохо переносят цельные и целеустремленные натуры. Став «республиканкой задолго до революции», она с горечью убеждалась, что пока Франция нисколько не напоминает образцовую античную республику добродетелей, великодушных и возвышенных поступков, порядка и законности. «Прекрасные времена древности!» — восклицала она. «Герои древности стремились к свободе и независимости, одна лишь страсть обуревала их: все для отечества, и только для отечества! Наверное, французы не достойны ни понять, ни создать истинную республику», — с горечью говорила Шарлотта подругам. Ей вторила мадам Ролан. «Смелая рука Брута напрасно освободила римлян», — писала она в своих «Мемуарах».
Вот почему у нас немыслима свобода — Гражданских войн она причина для народа[26].Предчувствовала ли мадемуазель Корде, что монастырь, долгое время служивший ей островком мира и покоя, вскоре утонет в волнах революции, и ей придется искать свой путь, выбирать, как жить дальше в республике, оказавшейся такой далекой от ее идеала?
С первых дней революция обратила взоры на духовенство, сословие, объединенное службой одному сеньору — Господу Богу, но разнородное как по имущественному цензу, так и по социально-политическим убеждениям. Осенью 1789 года Национальное собрание без всякого выкупа отменило церковную десятину. Вставший следом вопрос о церковном имуществе разрешился изданием 2 ноября 1789 года декрета о передаче церковного имущества нации, которая, в свою очередь, принимала на себя обязательство «подобающим образом заботиться о доставлении средств для надобностей богослужения и для содержания священнослужителей». Отменили дискриминацию протестантов и иудеев, провозгласили свободу вероисповедания. Рад декретов 1790 года привел к созданию Гражданской конституции духовенства, закрепившей превращение служителей культа в чиновников, находящихся на жалованье у государства и, разумеется, отвергнувших юрисдикцию папы римского. Монашествующее духовенство упразднялось, а неприсягнувшие священники лишались права занимать общественные должности. Стремление светской власти подчинить себе служителей культа привело к тому, что большинство священников оказались в стане противников революции. «Мой оракул», как называла его Шарлотта, аббат Рейналь, опечаленный «беспорядками и преступлениями», обратился «к народу и к его представителям», дабы указать им на грозящую опасность. «Как можете вы, законодательно закрепив свободу верований, допускать, чтобы священники, не согласившиеся с вашими религиозными постулатами, подвергались преследованиям? Пора прекратить анархию, она доведет нас до полного отчаяния…» Увы, среди депутатов «Обращение» вызвало бурю негодования, а Робеспьер, не принявший его всерьез, сказал, что всеми уважаемый и почитаемый аббат Рейналь в силу преклонных лет впал в старческий маразм. И правительство приняло еще целый ряд постановлений, направленных против неприсягнувшего духовенства: неприсягнувших помещали под надзор местных властей, лишали пенсий и зачисляли в «подозрительные». Когда же весной 1792 года приняли декрет о высылке неприсягнувших священников, фактически любого служителя культа, не принявшего присягу, можно было арестовать, обвинить во всех смертных грехах и предать суду. А революционное правосудие не любило долгих разбирательств и выносило в основном смертные приговоры.
Дядя Шарлотты, кюре Шарль Амедей, приветствовал революционные преобразования, однако присягать государству отказался, полагая, что священник — слуга Господа, а не правительства. Подвергшись нападению рьяных санкюлотов прямо в собственном приходе, он с трудом вырвался из их рук и, опасаясь за свою жизнь, бежал из дома и вскоре эмигрировал.
Двенадцатого июня 1790 года, в соответствии с антиклерикальными декретами, в аббатство явился представитель революционной власти и опечатал монастырский архив. Следом появился Ипполит Бугон-Лонгрэ и известил обитательниц монастыря о закрытии обители (ряд биографов утверждает, что его знакомство с Шарлоттой Корде произошло именно при этих обстоятельствах). Отныне монахиням и их настоятельнице предстояло пополнить стотысячную армию упраздненного монашества, составлявшего едва ли не две трети всего французского духовенства. Но несмотря на нараставшие антирелигиозные настроения жителей Кана, выражавшиеся в появлении на воротах монастыря непристойных надписей, женская община прожила в монастырских стенах до начала 1791 года. Покидая аббатство, ставшее ей настоящим домом, Шарлотта Корде с грустью обернулась и прочитала на воротах надпись: «Национальная собственность».
Итак, в двадцать два года Шарлотте предстояло в буквальном смысле начать жизнь заново. Имущество, которое она забирала с собой из монастыря, состояло из пары платьев, шкатулки с иголками и нитками, стопки тетрадок и связки любимых книг. Гораздо весомее был ее духовный багаж, и именно он тяжким грузом ложился ей на сердце. Тележка доставила нехитрые пожитки девушки в отцовский дом, где ей предстояло окунуться в суету бытия. Но что делать, если слово «отечество», словно пепел Клааса[27], постоянно стучит в сердце? Куда, кому отдать рвущиеся из души героические устремления, если никакой другой жизни, кроме монастырской, ты не знаешь и единственным поприщем для подвига видится религиозное подвижничество? Кан, который пришлось покинуть Шарлотте, стал столицей вновь образованного департамента Кальвадос, и девушке казалось, что там она смогла бы разобраться в том, что за революция свершилась в далеком Париже и где в этих событиях ее место.
Шарлотта своими глазами видела, на какие зверства способна подогретая сидром и ловкими ораторами толпа. Из разговоров с отцом, с Ипполитом Бугон-Лонгрэ, из писем подруги Александрии она получила представление о катаклизмах, вот уже третий год сотрясавших Францию. Но одно дело — обсуждать события, сидя под отцовским кровом или в приемной монастыря, а другое — каждый день выходить на улицу, где ты в любую минуту рискуешь сама стать участницей революционного действа, иначе говоря, оказаться в наэлектризованной экзальтированными ораторами толпе, приветствующей своих героев, толпе, идущей громить церковь или вершить собственное «правосудие».
Шарлотта решила не задерживаться под отцовским кровом, чтобы не подчиняться чуждым ей порядкам и не тратить время на хозяйственные хлопоты. Деятельная душа и холодный разум влекли ее обратно в Кан, где кипела жизнь и куда быстрее всего доходили вести из Парижа. А так как с отцом оставалась Элеонора, сразу же взявшая бразды правления хозяйством в свои руки, то Шарлотта покидала Аржан-тан с легким сердцем. Не распаковывая пожиток, мадемуазель Корде объявила, что возвращается в Кан, где поселится у дальней родственницы, мадам де Бретвиль.
Глава 3. РОЖДЕНИЕ КУМИРА
Его язык — клеймо железное, и в венах
Его не кровь, а желчь тенет.
Андре Шенье. Ямбы[28]
«Почести и слепое доверие есть тирания. Ни одного человека нельзя чествовать и славить перед лицом Собрания, ибо свободный народ и Национальное собрание не созданы для того, чтобы кем-либо восхищаться», — говорил Сен-Жюст. Но революции не обходятся без кумиров.
Кропотливый строитель, по кирпичику возводящий фундамент законов, в кумиры не годится: он не бросается словами и много сомневается. Кумир красноречив, не испытывает сомнений, и у него на все готов простой и понятный ответ. Бесспорным кумиром Французской революции 1789 года стал Жан Поль Марат, швейцарский эмигрант (как сказали бы сейчас), врач, писатель и журналист. «Божественный» Марат, как его иногда называли. Из современников Марата столь возвышенного титула удостоился только маркиз де Сад[29].
По словам французских историков, во французской историографии никогда не было «маратистов» — в отличие от «робеспьеристов», «жирондистов» и других «истов». У многих современников личность Марата вызывала откровенную антипатию: Бриссо Марат напоминал обезьяну, Редереру — хищную птицу, Арману (из Меза) — гиену, Левассеру — насекомое, Буало — тигра, мадам Ролан — бешеную собаку. Но всех превзошел Баррас, назвавший своего оппонента припадочной рептилией. Подобные сравнения порождала не столько внешность (о вкусах, как известно, не спорят) Марата, сколько его кипучая жажда истреблять «врагов» и «заговорщиков», к которым в любую минуту мог быть причислен каждый. Однажды «божественный» Марат перепутал депутата Салля с Садом, и эта путаница доставила «божественному маркизу» немало неприятных часов.
Когда в начале 1791 года Шарлотта Корде вышла из монастыря, она, без сомнения, ничего не знала о докторе Жане Поле Марате, родившемся 24 мая 1743 года в маленьком городке Будри неподалеку от Невшателя, в северо-западной части Швейцарии. Его отец, тоже Жан Поль (как записали его в Швейцарии), уроженец Сардинии, выступал на поприще рисовальщика, преподавал иностранные языки, знал медицину. Мать, Луиза Каброль, происходила из семьи французских протестантов, во времена гонений эмигрировавшей в Женеву. Марат, старший в семье, где, кроме него, было еще пятеро детей — две сестры и три брата, покинул дом в шестнадцать лет. Какое-то время Марат поддерживал отношения с семьей, но потом остался дружен только с сестрой Альбертиной, которая была моложе его почти на семнадцать лет. Она обожала Жана Поля. Наверное, сама судьба распорядилась, что в роковой для Марата день сестры не оказалось рядом. После смерти Марата Альбертина не вышла замуж, решив посвятить себя служению памяти брата и приведению в порядок его неизданных рукописей. Необычная судьба была уготована Давиду, младшему брату Марата, уехавшему в 1784 году гувернером в далекую Россию, где он впоследствии под именем Давыда Ивановича Будри стал профессором французской словесности в Царскосельском лицее.
В начале 1793 года Марат опубликовал статью под названием «Портрет Друга народа, нарисованный им самим», своего рода публичную исповедь, которой, по его словам, он хотел послужить общественному делу. Сложно сказать, насколько признания личного характера оказали воздействие на почитателей Марата, внимавших любым словам кумира как заклинаниям. Но для его биографов они, несомненно, очень ценны, ибо в них Марат сам признавался в иссушавшей его душу страсти, ради которой он шел на мошенничество в научных опытах. Страсть эта — жажда славы. «Единственная страсть, пожиравшая мою душу, была любовь к славе, но это был еще только огонь, тлевший под пеплом», — писал он и через несколько строк повторял: «Моей главной страстью была любовь к славе: она определяла выбор моих занятий; она постепенно заставляла меня отбрасывать каждый предмет, который не обещал мне прийти к настоящим, большим результатам (…) а ныне я добиваюсь славы принести себя в жертву отечеству». Воспитанный на трудах Цезаря, Плутарха и Светония, Марат не остался равнодушным к подвигам античных героев, получавших в награду поклонение народа. Жаждавший общественного признания, во время выборов в Генеральные штаты он издал брошюру, состоявшую из нескольких речей, адресованных третьему сословию. Желая выделить свой труд и подчеркнуть его значимость, он дал ему торжественное название «Дар отечеству». Однако сочинения, авторы которых бичевали пороки министров и уповали на справедливость короля, в кипучее время выборов и составления наказов переполняли книжные лавки. Брошюра Марата ничем особенным от них не отличалась, а потому осталась незамеченной. Всеобщую известность снискал памфлет аббата Сийеса «Что такое третье сословие», ставший подлинным знаменем борьбы третьего сословия за свои права. Накануне созыва Генеральных штатов у всех на устах были знаменитые слова Сийеса: «Что такое третье сословие? — Всё. — Чем оно было до сих пор? — Ничем. — Чем оно желает быть? — Быть чем-то». Из своих смелых для того времени постулатов Сийес делал вывод о необходимости превратить представительство третьего сословия в Учредительное национальное собрание.
Трудно не согласиться с утверждением, что поборником равенства Марат стал из-за бешеного стремления к славе: он не терпел, когда кто-либо в чем-либо его превосходил. Он нападал на аристократов с такой же яростью, с какой до революции обрушивался на Лаланда, Д'Аламбера и Лавуазье, не желавших признавать его научные достижения, на Вольтера и Дидро, отказавших ему в звании великого писателя. Возможно, в свое время и на жирондистов[30] Марат ополчится также отчасти по «старой памяти»: в 1759 году он прибыл в Бордо, где два года прослужил гувернером в доме богатого арматора Поля Нерака; в гостиной Нерака он вполне мог встречать кого-нибудь из родственников будущих депутатов или даже самих депутатов. И не исключено, что они не сумели правильно оценить таланты молодого учителя…
Марат, без сомнения, был человеком одаренным и вдобавок всесторонне образованным, знал несколько иностранных языков, считался хорошим врачом, читал лекции по оптике, разбирался в физике. Но ни одно из избранных им занятий не снискало ему желанной славы, он по-прежнему оставался одним из многих интеллектуалов, живших своим умом и своими знаниями, каковых эпоха Просвещения множила в достатке. А ему хотелось «возделывать свой сад», слыша со всех сторон восхищенные отзывы о талантах садовника. Что бы Марат ни делал, он все время как бы оглядывался по сторонам, ища признания и подтверждения собственной гениальности. Говорят, незадолго до революции он тяжело заболел только из-за того, что не встретил достойной, по его мнению, оценки своих трудов. Доктор Кабанес, посвятивший Марату ряд своих трудов, писал, что по истерическому складу характера Марат напоминал женщину. Замечательный французский историк XIX столетия Мишле тоже считал, что, обладая повышенной чувствительностью и постоянно подверженный нервным срывам, Марат поведением своим был более женщиной, нежели мужчиной.
Оставив поприще гувернера (ходили сплетни, что его выгнали из дома из-за попытки соблазнить жену Нерака), Марат отправился завоевывать Париж. Довольно скоро он убедился, что таких, как он, молодых людей, живущих в мансардах и одетых в потертые фраки, в столице очень много, и все они, усердно штудируя труды мэтров и оттачивая перья, стремятся к деньгам и славе. К деньгам Марат не стремился и в дальнейшем не раз являл пример готовности презреть бытовые удобства ради высшей цели. Его друг Панис считал Марата пророком и уподоблял его библейскому Иезекиилю, неподвижно пролежавшему на боку более года. Марат во время революции подолгу жил в подполье и был способен писать статьи в самых неудобных позах; он говорил, что это помогает работе мысли. Потому-то его коллеги доктора и утверждали, что Марат опроверг латинскую поговорку Mens sana in corpore sano, «В здоровом теле — здоровый дух»: постоянная ипохондрия, неврастения, неудовлетворенность, порождавшая озлобленность, подорвали здоровье Марата.
О первых трех годах столичной жизни Марата практически ничего не известно. Скорее всего, Париж остался равнодушен к честолюбивому швейцарцу, и он решил покинуть этот город. В 1765 году Марат отправился в Англию, где провел почти двенадцать лет, изучая искусство врачевания. Работал врачом и ветеринаром в Ньюкасле и Дублине, в 1775 году в Эдинбургском университете святого Эндрю получил звание доктора медицины. Специализировался на лечении глазных болезней, написал труд по офтальмологии, имел обширную клиентуру и, судя по всему, жил вполне безбедно. В Лондоне у него был недолгий роман с будущей известной художницей Анжеликой Кауфман, переживавшей в то время глубокую душевную драму.
Медицина позволила Марату занять независимое место в обществе, но славы она ему не принесла. Хотя, как пишут многие, Марат являлся скорее целителем, чем врачом, ибо не столько лечил, сколько лихорадочно убеждал больных в своей правоте, приправляя доводы безграничными фантазиями. Впрочем, главное — пациенты получали облегчение, иначе вряд ли доктор смог бы жить за счет врачебной практики. В Англии, по словам современников, доктор Марат считался «джентльменом с хорошей репутацией». Доктор издавал за собственный счет свои многочисленные произведения, которые он успевал писать благодаря невиданной энергии и трудолюбию. Похоже, для увлеченного наукой и жаждавшего славы Марата вполне мог подойти путь искрометных шарлатанов, яркие примеры которых дали Сен-Жермен, Калиостро и Месмер, использовавшие науку, философию и оккультизм для завоевания почитателей и извлечения — немалых! — доходов. Тем более что ни страстью, ни яростью, впоследствии ярко проявившихся в революционном детище Марата — газете «Друг народа» (L 'Ami du people), молодой Марат обделен не был. В век интеллектуального авантюризма страсти и таланты не хранили под спудом. Возможно, если бы ход Истории оказался иным, из Марата в конце концов и вышел бы второй Месмер, а может, и Калиостро. Людей, готовых в то время поверить в чудо, особенно если обставить это чудо надлежащими декорациями, насчитывалось немало. Вспоминается маркиза д'Юрфе, поклонница оккультных наук, безропотно оплачивавшая авантюристу Казанове «магические» процедуры по ее перерождению в мужчину. И толпы народу, ожидавшие у дома Месмера своей очереди подержаться за железные ручки чана, наполненного намагниченной водой, железными опилками и битым стеклом. Писали, что теории Марата в области физики электричества близки теориям Месмера.
Но чтобы прославиться, как Месмер, Калиостро или Казанова, требовался недюжинный артистизм, а Марат таковым не обладал. К тому же ему хотелось академического признания. И Марат читал, штудировал, писал… Слава писателя не могла не притягивать Марата словно магнит: имена Ричардсона, Стерна, Макферсона гремели не только в Англии, но и на континенте. Решив попробовать себя на почве беллетристики, Марат написал роман в письмах (модный в то время жанр) под названием «Приключение молодого графа Потовского», с двумя подзаголовками: «Роман сердца» и «Польские письма». До печати дело не дошло: поставив точку, автор понял, что литературный вымысел — не его стихия. Однако охваченный жаждой литературной славы, Марат более не выпускал пера из рук. Во время работы над романом, где, по единодушному утверждению биографов, самыми удачными пассажами явились рассуждения политические, Марат ощутил в себе призвание общественного писателя. Не откладывая замыслы в долгий ящик, он продолжил писать, соединяя в своих трудах философию, политику и науку, и вскоре издал за собственный счет толстенный трехтомный трактат «О человеке» (анонимно и на английском языке). В Англии трактат не превознесли. Во Франции, когда Марат издал его уже на французском и под собственным именем, Вольтер отозвался на него пренебрежительной критической заметкой. Марат критики не принял и на Вольтера обиделся. А так как издатели не боролись за право получить рукопись Марата, и те несколько изданий, которые она выдержала, оплачивались из кармана автора, есть основания полагать, что выдающимся трактат Марата назвать было нельзя. Подобных сочинений в то философствующее время было в избытке.
Критика не смутила Марата, он ощущал в себе невиданную энергию, чувствовал, что не исчерпал себя на писательском поприще, где он, наконец, ухватит за хвост призрачную птицу славы. В 1774 году в Англии Марат написал политический трактат под названием «Цепи рабства», сочинение, как впоследствии указал сам автор, «призванное раскрыть черные происки государей против народов, употребляемые ими сокровенные приемы, хитрости и уловки, козни и заговоры с целью сокращения свободы, а также кровавые действия, сопровождающие деспотизм». Проникнутая руссоистским духом, рукопись — на английском языке — была издана на средства автора. Издатель, напечатавший трактат, отказался его распространять, и Марат отправил тираж, вышедший накануне парламентских выборов, на север страны, в политические клубы демократического направления, с которыми он поддерживал контакты. Широкого общественного резонанса, на который рассчитывал Марат, трактат не получил, но привлек к иностранному доктору пристальное внимание властей. Желая избежать неприятностей, Марат на время покинул Англию и совершил небольшое путешествие в Голландию.
В Голландии, и в частности в Амстердаме, Марат посещал заседания масонской ложи и, возможно, даже исполнял некое поручение Великой ложи, членом которой в июле 1774 года он стал в Лондоне; вскоре он получил звание мастера. Впоследствии, переехав в Париж, Марат какое-то время посещал собрания Общества всеобщей гармонии, поддерживавшего тесные связи с масонами.
«Слава — благодатный источник великих и прекрасных деяний людских во все времена», — писал Марат, размышляя над тем, к какому источнику следует припасть, чтобы наконец добиться всеобщего признания хотя бы на одном из освоенных им поприщ. Англия явно не хотела видеть честолюбивого швейцарца властителем своих дум, и в 1776 году Марат возвратился на континент и поселился в Париже, в большой квартире на улице Старой Голубятни, где оборудовал медицинский кабинет и несколько лабораторий. Он по-прежнему возлагал надежды стяжать славу как ученый-естествоиспытатель.
Не исключено, что у Марата имелись и более приземленные причины покинуть островное королевство. По некоторым косвенным сведениям, в Англии у Марата была семья, которую он бросил, ибо она препятствовала его научным занятиям. Принимая во внимание, что книги свои Марат писал не для того, чтобы поправить материальное положение, не исключено, что помимо доходов от докторской практики он располагал некой суммой, полученной в приданое. В качестве кандидатуры в гипотетические супруги называли дочь профессора Айкинса, к которой сватался Марат. Несколько человек утверждают, что Марат совершил кражу из музея Эшмолин в Оксфорде; но большинство биографов Марата опровергают этот слух, возникший, по их словам, из-за путаницы в написании его имен и фамилии. Обвинение в краже кажется действительно нелепым, — Марат был слишком честолюбив и обладал слишком беспокойным характером, чтобы из него мог выйти ночной грабитель. А в женитьбу ради денег верится: брак по расчету никогда не считался преступлением, тем более в философическом XVIII столетии, когда объяснения всему находили виртуозные. В одном, пожалуй, биографы единодушны: источники доходов Марата до конца ясными никогда не были. Впрочем, Марат, как и многие в те времена, мог пользоваться поддержкой масонов, в том числе и материальной. Но это всего лишь предположения…
Прибыв в Париж, Марат помимо врачевания продолжил опыты, в том числе и над животными, пытаясь отыскать душу под оболочками головного мозга. Многие считали, что именно в то время началось рождение Марата-головореза, который во время революции станет требовать все больше и больше смертей — во имя революции. Из его лаборатории постоянно доносился визг заживо препарируемых животных, из-под двери струйками стекала кровь, а сам он выходил к посетителям, вытирая о фартук окровавленные руки. Парижский литератор Луи Себастьян Мерсье очень хотел познакомиться с Маратом, но, увидев его выходящим из лаборатории, испугался и убежал. Анахарсис Клоотс[31], признавая, что Марат «обладал многими талантами, хорошо писал и был прекрасным анатомом», подчеркивал, что от «постоянного рассекания зверей ради постижения организации живого организма сердце его зачерствело». Впрочем, существовало мнение, что Марат был настолько чувствителен, что когда страдал, невольно заставлял страдать других. «Чувствительная душа, но слишком нервный», — сказал о Марате самый молодой вождь революции Сен-Жюст.
Сомнительно, что Марату доставляло удовольствие вскрывать живых овец и баранов. Скорее всего, в своем одержимом стремлении выделить нервную или «электрическую» жидкость, которую он считал своего рода связующим звеном между материей и духом, он просто не замечал, что исследуемый им «материал» — живые существа. А когда его упрекали в жестокости, отвечал, что «врач может снискать известность только многочисленными вскрытиями, ибо только так врач познает, как устроен человек». Пишут, что в дом к Марату привозили из больниц даже человеческие трупы, чтобы он мог производить вскрытия. Соседям научные занятия Марата докучали: в жаркие дни «лабораторный материал» привлекал тучи мух. Но Марат не обращал внимания на злопыхателей и упрямо продолжал работу.
Исцеление признанной безнадежной одиннадцатилетней девочки, которой он вернул зрение посредством лечения электричеством, диетами и кровопусканием, заставило заговорить о Марате как о будущем медицинском светиле. Брат короля граф д'Артуа предложил ему стать своим придворным врачом, и Марат согласился. Исцеленная Маратом маркиза де Лобеспин рассталась с супругом, чтобы подарить доктору свою любовь. Как пишут современники, в это время Марат жил в прекрасной квартире, обставленной роскошной мебелью, хорошо одевался, носил парик, претендовал на графский титул и запечатывал письма и записки печаткой с дворянским гербом. Многие из будущих вождей революции в молодости превращали свои фамилии в дворянские: Дантон подписывался д'Антон, Робеспьер и Фукье-Тенвиль приставляли к своим фамилиям частичку «де». Впрочем, дворянский титул Марату давать никто не собирался. В стране, неумолимо двигавшейся к революции, аристократы по-прежнему не упускали случая доказать свое превосходство силой. Кардинал Роган приказал слугам побить палками Вольтера. Недовольный результатами и счетом за лечение своей любовницы, граф Забьело приказал своим слугам поколотить доктора Марата, и тот, побитый и со сломанной шпагой, с трудом вырвался из рук двух дюжих молодцев и убежал. Считая, что профессия врача призвана исцелять недуги, а не причинять их, Марат подал на обидчика жалобу в суд, но действия эта жалоба не возымела.
Несмотря на то, что от пациентов у Марата отбоя не было, он уделял им все меньше времени, сосредоточив свое внимание на физических опытах, полагая, что именно поприще ученого-естествоиспытателя принесет ему всемирную славу, поставив на одну ступень с Ньютоном. Борьбу за признание своих научных трудов и открытий Парижской академией наук Марат вел буквально не на жизнь, а на смерть. Но, несмотря на упорство исследователя, издавшего на собственные деньги восемь томов своих научных сочинений, победа осталась за академией: она не приняла его в свои ряды. Ускользнуло и обещанное место президента Испанской академии наук — по убеждению Марата, из-за интриг парижских академиков. На тот факт, что выдающиеся ученые того времени, среди которых был и Кондорсе, не признали его открытий и опровергли чистоту его опытов, Марат не обратил внимания. Зато запомнил, что вместе с другими членами комиссии Кондорсе назвал его если не шарлатаном, то дилетантом. Впоследствии, когда Кондорсе войдет в состав революционного правительства, Марат станет его злейшим врагом. Не признавая никакой критики, Марат отвечал оппонентам как памфлетист, и эти ответы были более яркими и образными, чем запутанные рассуждения Марата-естествоиспытателя. Доктор Марат обладал темпераментом полемиста, но не терпением ученого.
Желая доказать свою правоту, Марат в течение полугода выступал с публичными лекциями и физическими опытами, причем опыты удавались ему гораздо лучше, чем публичная речь, что в век острословов считалось недостатком. Марат это сознавал и раздражался еще больше. Тем не менее его лекции снискали ему поклонников, среди которых в первую очередь следует назвать его будущего политического оппонента Бриссо, чьи ученые достижения также не были признаны академией. Бриссо восхищался Маратом-естествоиспытателем, безоговорочно поддерживал его борьбу с официальной наукой и считал занятия медициной слишком мелкими для человека такого масштаба, как Марат. Между Бриссо и Маратом завязалась дружеская переписка. Лекции доктора Марата по оптике с восторгом слушал еще один будущий его непримиримый противник — Жан Шарль Мари Барбару. К сожалению, значительная часть «Мемуаров» Барбару была уничтожена во время Террора — владелец рукописи не хотел попасть на гильотину за хранение воспоминаний «контрреволюционера».
Чем больше Марат гнался за славой, тем хуже становилось его материальное положение: отказываясь лечить больных, он тем самым отказывался от гонораров, а за научные труды ему платить никто не собирался. «Равнодушный к гастрономическим изыскам и прочим приятным сторонам жизни, он все свои средства тратил на физические эксперименты, занимаясь ими и днем и ночью; ради удовольствия унизить членов Академии наук он был готов сидеть на хлебе и воде. Его обуревала страсть разрушать и уничтожать репутации знаменитых людей», — вспоминал Бриссо. Самая гуманная профессия оказалась для честолюбивого экспериментатора слишком скромной, а ее главную заповедь «не навреди» он вскоре забудет окончательно. В самозабвенной борьбе за место среди великих Марат словно откликнулся на слова нелюбимого им Д'Аламбера, призывавшего философов жить в целомудрии и нищете.
В это время, видимо, начал складываться будущий облик Марата-кумира: потрепанная грязная одежда, сальные волосы, нездоровый цвет лица, расчесанные от экземы и черные от грязи руки. И только живые карие глаза, смотревшие с подозрением и вопросом, говорили о том, что за неказистой (чтобы не сказать страшноватой) внешностью скрывался живой, острый, энергичный и едкий ум. Пренебрежение к одежде и элементарным правилам гигиены, постепенно входившее у доктора в привычку, стало частью его образа, говоря современным языком, имиджа, причем с приставкой «анти-». Своим обликом Марат бросал вызов не только пудреным парикам и кружевным жабо аристократов, но и революционным соратникам, многие из которых с полным правом могли считаться модниками. Дантон, например, говорил, что патриотизм не мешает ему носить галстук, белую рубашку и мыть руки. А Робеспьер и вовсе отличался приверженностью к старорежимным пудреным парикам и штанам-кюлотам.
Драматург Жорж Дюваль, которому к началу революции исполнилось двенадцать лет, оставил воспоминания о том бурном времени и, в частности, описал свое впечатление от встречи с Маратом, состоявшейся — подчеркнем — до 10 августа 1792 года. Иначе говоря, когда основной задачей революции еще являлась борьба с монархией и сторонники абсолютного монархического принципа противостояли и сторонникам ограничения власти короля, и республиканцам. Вот каким запомнился юному Дювалю революционный кумир, явившийся без приглашения на обед к Дантону: «Росту в нем было четыре фута и восемь или девять дюймов. Шея слегка отклонялась влево, как у Александра Македонского. Ноги кривые, кожа желтая, выщербленное оспой лицо, серые бегающие глаза, покрасневшие веки и почти столь же красные белки глаз, отчего казалось, что зрачки плавают в крови. Когда-то давно в библиотеке церкви Святой Женевьевы можно было увидеть гипсовый слепок с лица Картуша[32]; так вот, Картуш очень походил на Марата; сходство поистине поразительное. Наряд же на нем был вот какой: шляпа "а ла андроман" с большущей трехцветной кокардой; вытершийся до ниток фрак каштанового цвета, казалось, полученный им по завещанию от адвоката Патлена[33]; сине-бело-красные полосатые чулки; башмаки с веревочками вместо пряжек или лент. Его прямые черные волосы, казалось, приклеились к вискам, сзади торчал замотанный шнурком короткий хвостик. За стол он сел, не вымыв руки, кои были черны, как руки слесаря после рабочей недели. Такой же черной была и его рубашка». Если расценивать костюм как социальный маркер, Марат выглядел как самый отпетый представитель преступного парижского дна.
Но если бы доктор Марат только щеголял в нестираной рубашке, он вряд ли бы вызывал столь сильную неприязнь. Отрицательное отношение к внешности Марата явилось следствием его деятельности на поприще журналистики. Слава пришла к Марату в кровавом платье Революции. В таком же алом, кровавом платье Шарлотта Корде взошла на эшафот, обессмертив не только свое имя, но и имя Марата. «Кинжал юной девушки сделал из него мученика», — писал о нем Тьер.
Не будь тираноборческого кинжала мадемуазель Корде, не было бы картины художника Давида, не было бы культа Друга народа, и слава, которой одарила его История, наверняка была бы не столь громкой. «Кто был бы Марат без Шарлотты Корде? Не боясь ошибиться, могу сказать, что Марат прожил бы еще несколько месяцев, во время которых его деятельность стремительно пошла бы на убыль», — писал доктор Жюскьевенски, высоко ценивший достижения Марата-врача. Сжав в руке перо, Марат взял на себя роль возбудителя спокойствия, формирующего общественное мнение в духе крайнего экстремизма, подстегивающего самые низменные инстинкты толпы «ради спасения революции». Дантон называл Марата человеком «вулканическим, упрямым и необщительным», Тэн — «прозорливым и чудовищным безумцем». Но, несмотря на присущую ему прозорливость, у Марата не было рецептов, как сделать народ счастливым. Даже таких прозаических, как у маркиза д'Аржанса, полагавшего, что человек может быть счастлив, «не совершая преступлений; довольствуясь тем местом, куда его поместило небо, и наслаждаясь здоровьем». Возможно, именно болезнь превратила Марата в чудовище. Он сам признавался, что из-за болезни в нем рождались неистовство, буйство и ярость. Когда врач Марата Бурдье находил в очередном номере газеты своего пациента «склонность к красному», он делал ему кровопускание. В текстах Марата кишели патологические сравнения, болезненные метафоры и лихорадочное стремление видеть всех вокруг глупыми, развращенными, больными, а потому не готовыми для наступившей свободы. Он обвинял Марию Антуанетту в подорожании белых лент: «она раздала своим сторонникам столько белых кокард, что белые ленты вздорожали на 3 су за локоть». Убеждал разбить табакерки с изображением Лафайета, чтобы отыскать нити заговора. Серьезно предлагал патриотам отрезать большие пальцы у всех «бывших» и языки у священников. Уже упоминавшийся якобинец Анахарсис Клоотс писал, что Марат «с самого начала революции выказывал намерения самые варварские; он говорил, что следует отсечь 300 тысяч голов, прежде чем будет установлена свобода. Эти отвратительные слова расценивались как пророчество».
* * *
Отринув многовековой феодальный гнет, Франция стремительным шагом двинулась по дороге к республике. Священный лозунг «Свобода, равенство, братство» вдохновлял народ, выступивший в едином порыве против одряхлевшей монархии. Но пока законодатели ощупью прокладывали путь революционным преобразованиям, охваченный энтузиазмом народ требовал решительных мер. Каких? Прежде всего тех, которые бы улучшили его тяжелое положение, справились с продовольственным кризисом и дороговизной. Однако ответить на вопрос, что для этого надо сделать, по сути, не мог никто: вожди революции не были сильны в экономике. Они обладали блестящими ораторскими талантами, их речи воодушевляли, народ буквально носил их на руках. В едином порыве депутаты Национального собрания расчищали феодальные завалы, один за другим возникали политические клубы и общества, отмена цензуры повлекла за собой появление многочисленных газет самого разного толка.
При взятии Бастилии Марат вовсе не довольствовался ролью наблюдателя. В эти славные июльские дни ему удалось задержать отряд драгун, двигавшихся в сторону королевской тюрьмы. Вот как представил эту сцену Карлейль: «Большеголовый, похожий на карлика субъект, бледный и прокопченный, выходит, шаркая, вперед и сквозь голубые губы каркает не без смысла: "Спешивайтесь и отдайте нам ваше оружие!" Говорят, это был месье Марат». Возбужденный Марат написал пространную заметку о том, как он спасал Париж, но газетные издатели отказались ее публиковать; ее взял только давний почитатель Марата Бриссо и, основательно сократив, напечатал в своей газете «Французский патриот» (Patriote français). Марат обиделся и решил издавать собственную газету. Оратора из него не вышло: у него не было ни громогласности Мирабо, ни неумолимой логики Робеспьера. Опыт же политического писателя, как называл себя Марат, у него имелся. Почитая себя жертвой Старого порядка — это же королевская академия отказалась признать его научные заслуги! — в газете он получал возможность расквитаться со всеми, кто отказал ему в славе. Накаленная атмосфера революционного Парижа заряжала Марата поистине электрической энергией.
Девятого сентября 1789 года вышел первый номер газеты Марата «Парижский публицист» (Le Publiciste parisien) с эпиграфом из Руссо « Vitam impendere vero» — «Посвятить жизнь правде». С 16 сентября газета стала выходить под названием «Друг народа» (Ami du peuple). Забегая вперед скажем, что осенью 1792 года название газеты изменилось на «Газету Французской республики» (Journal de la Republique française), а с марта 1793 года она стала называться «Публицист Французской республики» (Le Publiciste de la Republique française).
Эпиграфом нового издания были слова: «Ut redeat miseris abeat fortuna superbis» — «Деньги богатых — неимущим», отражавшие один из рецептов доктора Марата по установлению всеобщего равенства: забрать все у богатых и поделить поровну… Марат буквально слился со своим детищем, его газета стала страстным, исступленным монологом, продолжавшимся из номера в номер. В других газетах печатали заметки самых разных жанров (например, можно было узнать о начале ледохода на Неве), газета Марата являла собой одну сплошную передовицу, на все восемь страниц форматом в]/s листа. Менее чем за четыре года из-под пера Марата вышло почти десять тысяч страниц, около тысячи газетных номеров. Иногда он публиковал письма читателей с вопросами, обращениями и даже доносами. А в декабре 1790 года Марат сам предложил учредить общество наблюдателей и доносчиков, чтобы выслеживать и доносить на правительственных чиновников. (Предложение отклика не нашло.) Иногда редактор сам сочинял письма читателей, чтобы иметь предлог поговорить на интересующую его тему. Он никого не допускал в свою газету. Напечатал несколько статей Фрерона — пока считал его своим учеником. Но когда Фрерон и Демулен предложили Марату помощь в издании газеты, он ответил: «Орел всегда летает один, только индюк идет в стаде». Но орел Марата больше напоминал стервятника. «Что значит несколько капель крови, пролитых чернью во время нынешней революции для того, чтобы вернуть себе свободу, в сравнении с потоками крови, пролитыми каким-нибудь Нероном?» — писал он в конце 1789 года. «Две-три кстати отрубленные головы надолго останавливают общественных врагов и на целые столетия избавляют нацию от бедствий нищеты, от ужасов гражданских войн», — вещал он в начале 1790 года. И далее: «Пятьсот-шестьсот отрубленных голов обеспечили бы вам покой, свободу и счастье; фальшивая гуманность удержала ваши руки»; «Снесите пятьсот-шестьсот голов, и вы обеспечите себе покой, свободу и счастье»… В декабре 1790 года он напомнил: «В прошлом году хватило бы 500—600 голов, чтобы сделать вас счастливыми. Через несколько месяцев придется, возможно, снести уже 100 тысяч. Ибо для вас не наступит счастье, пока вы не истребите врагов отечества. Всех, до последнего выродка». Марат первым заговорил о казнях врагов свободы, первым начал обвинять членов Национального собрания в пособничестве врагам свободы. Вот как он отзывался о Национальном собрании — «однодневный зародыш, которого народ не создавал», «загробное детище деспотизма», «недостойным образом составленная корпорация, в которой так много врагов революции и так мало друзей отечества».
«Великая цель, к которой должны стремиться его (то есть народа) защитники, должна состоять в том, чтобы постоянно поддерживать народ в состоянии возбуждения», — утверждал Марат и прекрасно справлялся с ролью общественного возбудителя. Роль защитника давалась ему хуже: постоянно подстрекая народ к расправам, он подготавливал его к принятию Террора, закон о котором был встречен рукоплесканиями уже после гибели Марата. Друг народа убеждал народ согласиться с истреблением самого себя, ведь под ярлыком «подозрительный» на гильотину одинаково отправляли аристократов и бедняков, священников и монахинь, ремесленников и ученых, генералов и солдат, женщин и детей. Известен случай, когда приговор вынесли даже собаке, дерзнувшей укусить народного представителя «при исполнении обязанностей»: контрреволюционного пса казнили на месте.
«Перестаньте терять время на придумывание средств защиты — у вас остается только одно средство, то самое, которое я столько раз вам рекомендовал: всеобщее восстание и народные расправы. Начните же с того, что обеспечьте за собой короля, наследника и королевское семейство; возьмите их под сильную охрану, и пусть головы караула отвечают за все события. Срубите затем без колебания голову генерала, головы контрреволюционных министров и бывших министров, мэра и членов муниципалитета; расправьтесь со всеми парижскими штабами, со всеми черными сутанами и министерскими приверженцами в Национальном собрании, со всеми известными приспешниками деспотизма. Повторяю, у вас остается только одно это средство спасения отечества. Шесть месяцев назад пятьсот-шестьсот голов было бы достаточно для того, чтобы отвлечь вас от разверзшейся пропасти. Теперь, когда вы глупо предоставили своим непримиримым врагам составлять заговоры и приводить их в исполнение, понадобится, быть может, срубить их от пяти до шести тысяч. Но даже если пришлось бы срубить двадцать тысяч голов, нельзя колебаться ни одну минуту».
Кругом царят заговоры, мошенничество, предательство, пороки, мерзости, ложь, узурпация, адские планы, враги покушаются на свободу, совершают коварные демарши, лицемеры засели в министерствах — вот темы статей доктора Марата. Осознавая «необходимость формирования общественного сознания для обеспечения свободы», Марат был уверен, что этой задачей должны заниматься общественные или политические писатели, как он именовал газетчиков.
Народу же предлагалось «составить об агентах власти такое мнение, которое ему следует иметь», иначе говоря, какое ему подскажет Марат, ибо народ, по определению Марата, глуп, слеп, болтлив и тщеславен. Поэтому главное зло заключается не в наличии врагов свободы, а в упорном нежелании народа замечать их. Народ легковерен и предпочитает пребывать в летаргии, поэтому необходим Марат — недремлющее око народа. «Бедные французы! Вас грабят, вас обкрадывают, вас угнетают и продают ваши избранники. Вы — взрослые дети, которые никогда не смогут ходить без помочей», — пророчествовал Марат. И давал рецепт, как завоевать свободу: «…единственный способ установить свободу и обеспечить себе покой заключается в том, чтобы беспощадно уничтожить предателей отечества и утопить вождей заговорщиков в их собственной крови». Провозгласив «деспотизм свободы», он печатал на страницах своей газеты имена «врагов свободы», понимая, что тем самым обрекает их на смерть; печатал списки неугодных ему политиков и «советовал» народу не выбирать их в Конвент. Пожалуй, неприкасаемым для Марата был только Робеспьер. Оба недолюбливали друг друга, но открыто нападать не решались, ибо вряд ли кто-либо мог с уверенностью сказать, за кем осталась бы победа. И все же когда депутат Марат защищал себя в суде, он в запале обругал Робеспьера «мерзавцем». Ответа со стороны Неподкупного не последовало, а официальная пресса — газета «Монитер» (Moniteur) — инцидент замолчала.
И хотя, по образному выражению Мишле, газета Марата исполняла роль колокола, звон которого всегда возвещал смерть, она хорошо расходилась среди задавленного нищетой парижского люда, жаждавшего перемен. Трущобные жилища и подвалы, где Друг народа скрывался от преследования властей, его нарочито небрежная одежда делали его «своим» для парижского плебса. А некоторые граждане и вовсе полагали, что Марат — это вымышленный персонаж, вроде папаши Дюшена[34], от имени которого издавал свою газету Эбер. В 1791 году сомнения в существовании «воображаемого и неуловимого» Марата высказал один из будущих лидеров жирондистов Горса, издатель газеты «Курье де департемен» (Courrier des departements). Став журналистом, доктор Марат в буквальном смысле все реже выходил на свет, его «Друг народа» создавался в подполье, где автор был вынужден скрываться от преследования властей, которым его нападки — нередко бездоказательные — становились поперек горла. До 10 августа 1792 года, когда восставший народ Парижа сверг монархию, Марат несколько раз подвергался судебным преследованиям и, скрываясь, некоторое время жил в Англии. Склонный видеть все в черном свете, оторванный от жизни, часто не имея возможности общаться с внешним миром, Марат «будоражил революционное сознание»: призывал к чисткам Учредительного собрания и муниципалитетов, развенчивал тогдашних кумиров — Лафайета и Мирабо, требовал перераспределения собственности, а в качестве лекарства от всех социальных недугов предлагал гильотину. «Нужно ожидать, что революция немного уменьшит население столицы; земли потеряют в своей стоимости, в особенности в кварталах, наиболее отдаленных от центра», — писал доктор Марат о последствиях применения своего «лекарства».
Требуя жертвоприношений на алтарь революции, Марат постепенно становился рупором революционного Молоха. В образе Чудовища Марат предстал пред мысленным взором Шарлотты Корде, и она ужаснулась. Хотя, как написал тогдашний парижский хроникер Ретиф де ла Бретон, «если бы она узнала его ближе, она наверняка бы полюбила его и встала на его защиту». Трудно согласиться с таким заявлением, хотя одна общая черта у мадемуазель Корде и доктора Марата, несомненно, была: уверенность в справедливости разящего кинжала Брута.
Кинжал, классическое оружие тираноубийцы, также числился среди «революционных» рецептов Марата. «Дайте мне две сотни неаполитанцев с кинжалами, я пройду с ними всю Францию и совершу революцию», — как-то сказал он еще до революции в беседе с Барбару. После 14 июля Марат требовал нового Сцеволу, готового вонзить кинжал в грудь Лафайета, к которому, если судить по тому, с какой частотой упоминается его имя на страницах «Друга народа», политический писатель питал особую ненависть. Бриссо в своих воспоминаниях приводит высказывание Марата: «Мы ошибались, когда считали, что французы должны воевать ружьями; кинжал — единственное оружие, приставшее свободным людям. Хорошо заточенным ножом можно сразить своего врага и в батальоне, и на углу улицы. Национальное собрание еще может спасти Францию, если примет постановление, согласно которому все аристократы обязаны носить на рукаве белые банты. А если аристократы будут собираться больше двух, их надо немедленно вешать, фельянов[35] и аристократов убивать следует прямо на улицах во время шествий». На замечание Бриссо о том, что так нетрудно и ошибиться, Марат ответил: «Ерунда! Если на сотню аристократов придется десять невинно павших патриотов, это не важно! Всего-то десять за девяносто! Главное, безошибочно нападать на тех, у кого экипажи, слуги, шелковое платье». «Мне бы никогда не поверили, что эти слова принадлежат Марату, если бы в своей газете он не высказывал подобные же мысли», — заключал Бриссо. В последнем — от 13 июля 1793 года — номере «Публициста Французской республики» Марат также напоминал о кинжале и упрекал комиссара Конвента Карра, вернувшегося с фронта от генерала Дюмурье, за то, что тот, находясь в плену, не заколол прусского короля: «Так что же ты делал? Разве так поступали римские консулы, которым ты так рвешься подражать? Где был кинжал Брута?»
Нашлась женщина, полюбившая Марата и вставшая на его защиту — двадцатипятилетняя Симона Эврар, с которой Марат познакомился в 1790 году. Сестра Симоны, Катрин, была замужем за рабочим, трудившимся в типографии, где печатали газету «Друг народа». Вряд ли Марат увлек девушку, почти в два раза моложе его, своими смертоносными революционными призывами. Скорее всего, она единственная увидела в этом тяжело больном человеке, страдавшем от чесотки, вызванной дерматозом, и презревшем ради сомнительной славы пророка все материальные потребности собственного тела, крохотную частичку души, задавленную постоянно пылающим умственной лихорадкой мозгом. Бредовые разрушительные мысли Марата она приписывала заблуждениям сердца.
Симона Эврар стала не только подругой Марата, она стала его домоправительницей (с ней он обрел дом!), сиделкой, нянькой, прачкой, рассыльным. Трудно предположить, что она полюбила его за образ мыслей, скорее, она увидела его слабости, ибо только в слабостях исчезало политическое Чудовище и появлялся человек со своими страхами, горестями и тщеславием. После смерти Марата Симона называла себя его вдовой, хотя формально брак они так и не заключили. Сохранилась записка Марата, в которой он в духе Руссо перед лицом Солнца брал на себя обязательство жениться на своей подруге:
«Прекрасные качества девицы Симоны Эврар покорили мое сердце, и она приняла его поклонение. Я оставляю ей в виде залога моей верности на время путешествия в Лондон, которое я должен предпринять, священное обязательство — жениться на ней тотчас же по моем возвращении; если вся моя любовь казалась ей недостаточной гарантией моей верности, то пусть измена этому обещанию покроет меня позором.
Париж, 1 января 1792 года. Жан Поль Марат, Друг народа».
Говорят, когда во время суда подошла очередь гражданки Эврар отвечать на вопросы судей, на бесстрастном лице Шарлотты Корде единственный раз отразилось сострадание — она не хотела причинять зла этой охваченной искренним горем женщине.
По мнению Марата, неугодных депутатов следовало побивать камнями. Приспешников деспотизма и членов бывших привилегированных сословий истреблять. Бдить, чтобы ни один «враг свободы» не ушел от народной расправы. Надзирать за частными лицами, ибо частное лицо развращено a priori, а истинный патриот и республиканец всегда добродетелен. «Чтобы оценить человека, мне не надо знать о его поступках, мне достаточно знать о его бездействии или молчании, когда свершаются великие события», — писал Марат в мае 1791 года Камиллу Демулену. Под пером Марата доносительство превращалось в добродетель. По его словам, истинный патриот, этот народный обличитель и народный цензор, обязан непрерывно бодрствовать для блага народа и, отказавшись «от радостей, от нежности, от отдыха, жертвовать всем своим временем в поисках несправедливостей и преступлений, происков и заговоров, козней и измен, угрожающих спокойствию, свободе и общественной безопасности». Но куда идти «народному цензору», обнаружившему происки, заговоры и измены? Кончено, в Клуб мстителей закона. В начале 1791 года прозорливый Марат, словно предвосхищая создание в 1793 году комитетов революционной бдительности, предлагал основать клуб, целью которого будет «карать все преступления, посягающие на общественную или личную безопасность и свободу и препятствующие спасению народа». Это «возвышенное», по словам Марата, учреждение, должно было состоять из подлинных патриотов, способных представить доказательства своей сознательности и цивизма, иначе говоря, гражданских добродетелей, а также обладающих даром красноречия, дабы выступать против обвиняемых и добиваться для них должного наказания. В качестве учредителей такого клуба
Марат выдвигал Робеспьера, Дюбуа-Крансе и Ребеля. Интересно, что примерно в это же время Робеспьер предлагал отменить смертную казнь, но его предложение поддержки не нашло. А через два года Робеспьер вошел в состав Комитета общественного спасения, возглавил его, и комитет, став фактически верховным органом власти, развязал Террор. Авторами большинства чрезвычайных декретов о проскрипциях и казнях стали Робеспьер, Кутон и Сен-Жюст, которых на античный манер именовали триумвирами. Идеи Марата оказались пророческими.
Марат предугадал не только создание комитетов (судов, клубов), выносящих приговоры на основании не законов, а революционного чутья и революционной добродетели. И в 1791-м, и в 1792-м, и в 1793-м он неоднократно указывал, что для спасения народа необходим диктатор, трибун или триумвират как разновидность диктатуры. «Трибун, военный трибун — или вы безнадежно погибли!» «О, французы! Если бы у вас было достаточно здравого смысла, чтобы назначить трибуна для расправы с врагами!» «Думаю, я был первым политическим писателем и, быть может, единственным во Франции после революции, предложившим диктатора, военного трибуна, триумвират, как единственное средство уничтожить изменников и заговорщиков».
Претендовал ли сам Марат на роль диктатора или триумвира? Возможно, где-то в глубине души он и не исключал для себя возможности выступить в роли «диктатора, подлинного патриота и государственного мужа», но ни высказываниями своими, ни своим образом жизни он не давал повода для обвинения его в стремлении к диктатуре. Ибо и диктатор, и триумвиры («члены тройки») становились у врученного им (добытого ими) руля государственной власти, в то время как Марат при всех сменах власти выступал как маргинал — и по образу жизни, и по образу мыслей. Даже когда после провозглашения Республики Марата 420 голосами из 758 голосовавших избрали депутатом Конвента, он не часто удостаивал этот орган государственной власти своим посещением. Позиция властителя дум, зловещего, словно ворон, хрипло предрекающего беды и несчастья «слепому народу», который так и останется слепым, если не прислушается к голосу пророка, устраивала его гораздо больше. Он не хотел ни демонстрировать красноречие, ни плести интриги, ни советоваться с соратниками, ни появляться в приличном костюме, в конце концов. Он не был государственным человеком, его вполне устраивала позиция стоящего над всеми пророка. Иногда кажется, что он, призывая отсекать сотни голов, не сознавал, что его слова оборачиваются настоящей, а не бумажной кровью. Кажется, что для него все эти жуткие цифры — сплошная гипербола, извлеченная из вечно кипящего, неудовлетворенного мозга, чтобы запугать народ и заставить его идти дальше, дальше, дальше, разрушая все на своем пути, пока есть что разрушать. Умерить людоедский пыл Марата попытался «прокурор фонаря» Демулен, назвавший «собрата по перу» «драматургом среди журналистов». «Ничто не может сравниться с твоими трагедиями, дорогой Марат, но не переусердствовал ли ты? Ведь у тебя гибнут все поголовно, включая суфлера!» На замечание Демулена Марат ответил: «Послушай, мой так называемый каннибализм — всего лишь риторический прием». И формально он был абсолютно прав.
Марат лично не участвовал в восстании парижан 10 августа, не добивал швейцарских гвардейцев, которым забыли отдать приказ сложить оружие, не рубил головы и не расстреливал жертвы сентября. Скрываясь где-нибудь в погребе или подвале, где, скрючившись, плохо очинённым пером он выводил очередное кровожадное воззвание, он прекрасно понимал, что если его арестуют, то смогут обвинить всего лишь в подстрекательстве. Понимал ли он, чувствовал ли, что совершает убийства руками толпы, руками возбужденного его кровожадностью народа?
В ответ на свержение монархии армия контрреволюционной коалиции перешла в наступление и вскоре стала грозить Парижу. Призывая граждан дать отпор врагу, Дантон произнес свои ставшие знаменитыми слова: «Чтобы победить, нужна смелость, смелость и еще раз смелость!» Когда первые отряды добровольцев покинули Париж, разнесся слух, что заключенные в тюрьмы аристократы и неприсягнувшие священники раздобыли оружие и готовят заговор, чтобы перебить оставшихся в столице женщин и детей, когда все мужчины уйдут на фронт. Три дня — 2, 3 и 4 сентября — взволнованная, напуганная и озлобленная толпа вырезала, расстреливала и истребляла узников парижских тюрем, не задумываясь о том, кого она приносит в жертву своему страху — аристократа или лавочника, монахиню или несчастного безумца. Спаслись немногие. Мадемуазель де Сомбрей, умолявшей пощадить ее престарелого отца, предложили выпить стакан человеческой крови. Девушка выполнила поставленное условие и тем спасла отца. Поощряя расправы, члены Коммуны пускали с аукциона вещи жертв, а убийцам выдавали специальные чеки для виноторговцев, дабы те рассчитывались с ними натурой. Редкие депутаты делали попытки спасти от разъяренной черни хотя бы нескольких узников. Народный трибун Дантон, бывший в то время министром юстиции, обязан был предотвратить расправу, но он ничего не сделал. Робеспьер 1 сентября посоветовал Коммуне Парижа не противиться народному гневу и исчез со сцены. Марата в эти дни также никто не видел, но из подполья звучал его постоянный призыв: «Истреблять!» 3 сентября он выпустил обращение, адресованное провинциям: «Братья и друзья, Коммуна Парижа спешит уведомить своих братьев во всех департаментах, что народ совершил справедливый акт правосудия и умертвил большую часть кровожадных заговорщиков, содержавшихся в тюрьмах. Этот акт правосудия оказался неизбежным, чтобы сдержать легион предателей, спрятавшихся в стенах города в тот момент, когда народ отправился на войну с врагом. Долгая череда предательств, поставившая всю нацию на край пропасти, должна прибегнуть к этому средству как к необходимому для спасения общества, и тогда все французы вместе с парижанами воскликнут: "Мы идем на врага, но мы не оставим позади этих разбойников, чтобы они убили наших женщин и детей…"» После сентябрьских событий Петион назвал Марата сумасшедшим. Ретиф де ла Бретон писал: «10 августа обновило и завершило революцию; 2, 3, 4 и 5 сентября набросили на нее покров мрачного ужаса. О, сколь злобен человек непросвещенный!»
Циркуляр, подписанный Маратом, быстро распространили по всем департаментам. Достиг он и Кана — вместе с рассказами о сентябрьских убийствах.
«Какая несправедливость! Неужели непонятно, что я хочу отрезать совсем немного голов, чтобы спасти множество?» — писал Марат.
Глава 4. ВДАЛИ ОТ ПАРИЖА
И как бы ни был он велик в народном мненье,
Здесь все кругом твердит о страшном преступленье.
Корнель. Сид
Солнечным июньским днем 1791 года Шарлотта Корде вошла во двор дома номер 148 на улице Сен-Жан, главной улице города Кана. В этом доме жила ее троюродная тетка, мадам де Бретвиль-Гувиль. Прибытие «племянницы» стало для почтенной дамы настоящим потрясением. «Эта молоденькая родственница, которую я никогда в глаза не видела, свалилась на меня буквально с неба, — жаловалась она своей подруге, мадам Луайе. — Она приехала с одним чемоданом, заявила, что у нее в городе дела и она пока поживет у меня». Уверенность Шарлотты, казалось, даже не предполагавшей, что ей могут отказать от дома, более всего поразила мадам де Бретвиль, и она покорно отвела девушку на третий этаж, в маленькую комнату, обставленную старой мебелью. Возможно, она подумала, что присутствие пусть незнакомой, но молодой родственницы развеет ее одиночество; но она ошиблась. Племянница не отличалась разговорчивостью, читала толстые скучные книги и часто сидела у окна с отсутствующим видом. Словом, в компаньонки мадемуазель Корде явно не годилась. Одна из подруг почтенной дамы даже утверждала: «Мадам де Бретвиль однажды пожаловалась, что ей все время кажется, что ее молчаливая племянница замышляет "что-то страшное"».
Шарлотте, напротив, в доме у тетки нравилось все. Несмотря на узкое окно и покрытые плесенью потолочные балки, ее вполне устраивала комната. Устраивало, что старая дама не навязывала ей свое общество и не требовала развлекать ее. Собственно, приехала она к ней только потому, что жить собственным домом в Кане она не имела средств, да и приличия не позволяли. А направляясь к тетке, она надеялась, что та еще помнит ее: когда Шарлотта была совсем маленькой, мать, взяв с собой девочку, нанесла родственнице визит. Но, разумеется, мадам де Бретвиль об этом визите давно позабыла. Некоторые говорят, что, собираясь в город, Шарлотта письмом предупредила тетку о своем приезде, но ответа дожидаться не стала, так как опасалась, что одинокая и боязливая мадам де Бретвиль не согласится ее принять.
Никаких дел у Шарлотты в Кане не было. Революция вырвала девушку из замкнутых стен монастыря, где так или иначе она сумела найти некое равновесие между реальностью и своими героическими устремлениями. Очутившись в открытом всем ветрам мире, взбудораженном революцией, она приветствовала этот мир, ей была близка революционная риторика. Франция виделась ей в образе афинской демократии и республиканского Рима. Прекрасная суровая Республика в белой тоге, карающая мечом тиранов и награждающая лавровым венком добродетельных граждан. Но повседневность, с которой ей пришлось столкнуться, была далека от идеала. Свобода выражалась в притеснении священников, в ругани базарных торговок, поносивших аристократов, в безнаказанных расправах, учиняемых возбужденной и часто пьяной толпой. Возможно, если бы Шарлотта умела слушать не только голос разума, но и голос сердца, ей было бы легче переносить ее теперешнее положение. Возможно, если бы она была парижанкой, как Манон Ролан, она нашла бы для себя отдушину в политической деятельности. Если бы, как Олимпия де Гуж, поняв, что не создана для семейной жизни, стала бы добиваться славы с пером в руках, наверное, на душе у нее было бы не так тяжело. От внутренней неустроенности она в то время была очень разной — то веселой и энергичной, то мрачной и молчаливой, то равнодушной и целиком поглощенной какими-то неведомыми заботами.
Неведомой беды я чувствую дыханье, И стынет в жилах кровь, и никнет упованье…[37]Внутренние искания Шарлотты не могли не отразиться на ее отношениях с мадам де Бретвиль, и, видимо, поэтому, пишут о них очень разное. Кто-то считает, что тетка робела перед своей задумчивой и решительной племянницей, кто-то, наоборот, уверяет, что она в ней души не чаяла. Горестная, бесцветная жизнь без любви и страсти сделала мадам де Бретвиль затворницей. Дочь Огюста Лекутелье де Бонбоска, старого скряги, у которого даже в мыслях не было обеспечить дочь, она, как и Шарлотта, рано лишилась матери и едва не осталась старой девой. Ибо, встречая очередного претендента на руку дочери, господин Лекутелье немедленно сообщал ему ту смехотворную сумму приданого, которую он готов был дать за нею, и претендент немедленно ретировался. В сорок лет мадемуазель Лекутелье все же вышла замуж — за разорившегося государственного казначея, привлеченного не столько невестой, сколько видами на приданое. Через год, в 1768-м, у супругов родилась дочь, а вскоре подагра приковала мужа к инвалидному креслу. Тем временем господин Лекутелье, несмотря на возраст, чувствовал себя прекрасно, продолжал заводить любовниц и кутить в свое удовольствие. Инвалид проявлял нетерпение, его супруга плакала, а господин Лекутелье в восемьдесят шесть лет вступил в брак со своей семидесятишестилетней любовницей Мари Соланж Бургиньон, с которой состоял в отношениях почти 50 лет. В 1788 году скончалась двадцатилетняя дочь мадам де Бретвиль, а следом и супруг, так и не дождавшийся наследства жены. Несчастная дама осталась одна, с кошкой и собакой, практически без средств к существованию. Но умер ее отец, и она получила, наконец, причитавшуюся ей половину наследства, выразившуюся в 40 тысячах ливров дохода и большей части семейных бриллиантов. Так буквально в одночасье мадам де Бретвиль превратилась в богатую и одинокую вдову.
Наверное, постепенно Шарлотта все же заменила мадам де Бретвиль ее рано умершую дочь. «Я не могу больше жить без нее. В ней какая-то чарующая смесь энергии и кротости. Это сама доброта в соединении с правдивостью и тактом», — передают ее слова современники. Но не исключено, что они просто домысливали за мадам де Бретвиль. По настоянию подруги, мадам Луайе, тетка купила племяннице несколько модных платьев, кое-какие необходимые вещи, вывела ее в свет и познакомила с тем узким кругом, с которым сама поддерживала отношения. Она даже попыталась привлечь в этот круг молодых людей, которые могли бы составить партию Шарлотте. Но пожилая дама получила наследство, а с ним и положение уже на закате жизни, а потому не обзавелась ни новыми привычками, ни новыми друзьями; ее обеды не отличались изысканностью, гости — остроумием, дом не блистал ни роскошью, ни удобством, а доставшиеся ей семейные драгоценности она надевала очень редко. Одно время она, кажется, даже хотела завещать Шарлотте свое состояние, хотя племянница никогда особенно не сближалась с теткой, относилась к ней ровно, сильных чувств не испытывала. Впрочем, для родных Шарлотта всегда оставалась «вещью в себе».
В сущности, вся короткая биография Шарлотты Корде, вплоть до роковой недели, каждый день которой стал ступенью, ведущей на вершину славы и бессмертия, соткана из сплошных предположений. «О ней сохранилось весьма мало исторических данных. Она появляется на сцене истории подобно метеору и также быстро исчезает от ослепленных взоров зрителя. Весь духовный образ ее облечен таинственностью, делающей ее неотразимо привлекательной», — утверждает Н. Мирович в романтической биографии Шарлотты Корде. Современники, оставившие воспоминания о Шарлотте, писали о ней, находясь под влиянием совершенного ею подвига, а потому невольно подчеркивали те черты ее характера, которые, на их взгляд, предвещали ее будущую героическую жертву. А при жизни Шарлотты о ней наверняка судили и рядили точно так же, как о ее подругах, и перешептывались за ее спиной, гадая, отчего такая красивая девушка никак не выйдет замуж. Возможно, жалели ее как бесприданницу, возможно, называли синим чулком — из-за пристрастия к серьезному чтению. Пишут, что она сама шила платья и даже собственноручно вышила свою амазонку из белого сукна. Однако относительно ее умения одеваться высказывали сомнения. Говорят, она любила строгие серые платья (сказывалось влияние монастыря). Мадам де Маромм вспоминает: «Моя матушка решила привить ей хороший вкус, и мне нередко приходилось преодолевать сопротивление Шарлотты, когда я хотела причесать ее и украсить ее волосы лентами. Матушка лично выбрала фасон ее платьев, и в них мадемуазель д'Армон совершенно преобразилась, несмотря на то, что она по-прежнему не уделяла должного внимания своей внешности». Известно, что мужчины восхищались ее густыми волосами, которые она носила распущенными или перехваченными лентой. У нее был прекрасный цвет лица, и, кажется, она столь же охотно носила розовые платья. Так кто же она: элегантная кокетка или синий чулок?
Пишут, что ее энтузиазм, порожденный романтическим восприятием подвигов героев древности, проистекал от слепой веры в слова и неумения анализировать факты. Воспитанная в монастырских стенах, она всерьез воспринимала тирады о добродетелях и патриотизме, забывая о том, как легко вчерашние рабы становятся тиранами. Впрочем, женщины всегда, даже в век философов, склонялись более к чувствам, нежели к разуму. Когда события вокруг порождали взрывы неконтролируемых страстей, когда политические страсти накалялись и проигрыш в политическом споре становился равнозначным смерти, в груди с виду спокойной и уверенной в себе Шарлотты кипели нерастраченные страсти. Какой стороне отдать пыл души?
Собственно, именно для ответа на этот вопрос Шарлотта и приехала в Кан, а вовсе не для того, чтобы снискать расположение пожилой родственницы. Девушке очень понравилось ее новое жилище: дом мадам де Бретвиль располагался в центре города, напротив стремила в высь готические шпили церковь Сен-Жан, подальше виднелась крыша особняка интендантства на улице Карм, где в июне 1793 года расположится штаб бежавших из Парижа жирондистов. Таким образом, даже сидя у окна, Шарлотта оказывалась в центре событий.
Мадам де Бретвиль и ее круг, вполне резонно, были приверженцами монархии. Шарлотта сопровождала тетушку в церковь, в собрания, но везде скучала, ибо всякий раз, когда она пыталась завести разговор об общественном благе, возможном только при республиканском строе, когда начинала цитировать любимого ею Плутарха, собеседники либо испарялись, либо переводили разговор на никчемные, по ее мнению, темы. К счастью, девушка давно уже не нуждалась ни в чьем обществе, черпая энергию и силы в собственных убеждениях. Рассказывают, как однажды за столом она заспорила с обедавшим у мадам де Бретвиль генералом. Когда генерал стал возражать девушке, она, сжимая в руке нож, заявила, что при иных обстоятельствах она бы заколола его вот этим самым кинжалом. Об этом случае поведала приятельница Шарлотты, мадам Готье де Вилье, но была ли она действительно свидетельницей столь патетического финала политической дискуссии или он сложился у нее в голове из обрывков воспоминаний уже под влиянием поступка Шарлотты, неизвестно.
В письме без даты и адреса, впервые опубликованном спустя более семидесяти лет со дня смерти мадемуазель Корде в «Газет дез Абонне» (Gazette des Abonnes) от 19 апреля 1866 года, Шарлотта, обращаясь к одной из подруг, без обиняков выступала против монархии:
«Упреки, которые делает мне господин д'Армон и вы, друг мой, очень меня огорчают, ибо мои чувства совершенно иные. Вы — роялистка, как и те, кто окружают вас; у меня нет ненависти к нашему королю, напротив, я уверена, что у него добрые намерения; но, как вы сами сказали, ад тоже полон добрых намерений, но от этого он не перестает быть адом. Зло, причиняемое нам Людовиком XVI, слишком велико… Его слабость составляет и его, и наше несчастье. Мне кажется, стоить ему только пожелать, и он был бы самым счастливым королем, царствующим над любимым народом, который обожал бы его, с радостью наблюдая, как он противостоит дурным внушениям дворянства… Ибо это правда — дворянство не хочет свободы, которая одна может дать народу спокойствие и счастье. Вместо этого мы видим, как наш король сопротивляется советам добрых патриотов и какие от этого проистекают бедствия. А ведь впереди бедствия еще большие — после всего, что мы видели, уже нельзя питать иллюзий. Вспомните, что произошло в Риме во времена Тарквиния. Не царь был причиной ниспровергшей его революции, а его племянник. То же самое во Франции. Говорю вам, друзья погубят короля, так как он не имеет смелости отстранить своих дурных советников… Все говорит о том, что мы приближаемся к страшной катастрофе… Но не станем предрекать конец, а зададимся вопросом: можно ли после этого любить Людовика XVI?.. Его жалеют, и я его жалею, но не думаю, чтобы такой король мог составить счастье своего народа.
Вот что я думаю о нашей монархии. Поэтому перестаньте, моя дорогая, осыпать меня упреками, кои совершенно несправедливы; вы сами видите, что убеждения мои опираются на достаточные основания. Что же касается жестких слов, сказанных мне месье д'Армоном, я их тем более не заслужила. И вовсе не из духа противоречия я не разделяю точку зрения наших друзей и родственников, просто совесть диктует мне иное, отличное от того, что они думают. Объясните это ему как следует, чтобы он не считал меня упрямой девчонкой, упорствующей в своих мнениях. И заверьте его, что я его уважаю и люблю, как мне сие подобает. На сегодня все; я страдаю от скуки, от воспоминаний и вдобавок от страха, что не сумею еще раз обнять вас.
Мари»[38].
Из письма следует, что сторонник реформ 1789 года Корде д'Армон не одобрял радикальных идей, носившихся в воздухе 1791—1792 годов. Поддержав решение сыновей эмигрировать, что для молодых офицеров, в сущности, означало вступить в армию коалиции, угрожавшей Франции, он, видимо, пытался убедить дочь пересмотреть свои республиканские взгляды, но не сумел этого сделать. Шарлотта осталась верна себе.
Свои антимонархические настроения Шарлотта высказывала неоднократно, не намереваясь считаться с взглядами ни родственников, ни друзей. А близких людей вокруг становилось все меньше — дворяне-роялисты и придерживавшиеся монархических убеждений выходцы из третьего сословия, предчувствуя надвигавшийся республиканский террор, уезжали в эмиграцию. Живя у мадам де Бретвиль, Шарлотта подружилась с Армандой Луайе, дочерью давней тетушкиной подруги. Арманда, в замужестве мадам де Маромм, оставившая пространные воспоминания о мадемуазель Корде, восхищалась гордой и независимой Шарлоттой. К сожалению, вместе с семьей она вскоре покинула город: семья отправилась в Руан, где, по мнению мадам Луайе, жители отличались мудростью и умеренностью, в то время как в Кане от фанатично настроенной черни можно было ожидать чего угодно. Мадам Луайе звала с собой и тетку Шарлотты, но та не отважилась на это.
По случаю отъезда друзей мадам де Бретвиль устроила торжественный обед, пригласив на него отца Шарлотты вместе с Элеонорой и Шарлем Жаком Франсуа. Младший брат Шарлотты хотел присоединиться к старшему брату, иначе говоря, отправиться в эмиграцию в Кобленц. Пригласили также Шарля Турнели, молодого человека, ровесника Шарлотты, намеревавшегося покинуть Францию и вступить в армию принца Конде. Несмотря на желание Шарля эмигрировать, мадам де Бретвиль, давно знакомая с его семьей, видела в нем реального кандидата в мужья Шарлотты. Но, к великому ее сожалению, племянница не проявила к нему никакого интереса.
Возможно, среди приглашенных был и молодой офицер по имени Эмерик де Годфруа дю Менгре, чья семья, опасаясь преследований, в 1790 году бежала в Кан. Сестры дю Менгре были монахинями в монастыре Святой Троицы в то время, когда там жила Шарлотта, а значит, имели возможность с ней познакомиться, а та, соответственно, могла представить их тетушке. Соответственно, мадам де Бретвиль могла пригласить молодого человека как потенциального кандидата в женихи для племянницы. Но это всего лишь домыслы — как, впрочем, и любые рассуждения о сердечных привязанностях Шарлотты. Если молодые люди и были знакомы, то, скорее всего, роялистские убеждения офицера оттолкнули от него убежденную республиканку Шарлотту. Впоследствии дю Менгре эмигрировал, вступил в армию принцев, вторгшуюся в 1792 году во Францию, попал в плен и был расстрелян.
Обед назначили на День святого Михаила, отмечавшийся 28 сентября. По воспоминаниям мадам де Маромм, в тот день Шарлотта была необыкновенно хороша. «Глядя, как она причесывается и прихорашивается, я понимала, что она хочет произвести благоприятное впечатление на отца. Как сейчас вижу ее в платье из розовой тафты в белую полоску, под которое надета юбка из белого шелка. Этот костюм выгодно подчеркивал многочисленные достоинства ее фигуры. Вплетенная в прическу розовая лента гармонировала с цветом ее лица, розового от возбуждения по причине предстоящей встречи с семьей и, главное, с отцом; к сожалению, она не была уверена, с какими словами обратится к ней отец. В тот день она выглядела, поистине, прекрасно». Если судить по замечаниям подруги и по предшествующему письму Шарлотты, отношения между отцом и дочерью испортились не только на бытовой, но и на политической почве.
Но, видимо, за три месяца разлуки старшие и младшие члены семейства Корде успели соскучиться друг по другу. Отец искренне обрадовался встрече со старшей дочерью, не стал вступать с ней в дискуссии, и обед начался в веселой дружеской обстановке. Кандидаты в эмигранты, уверенные, что разлука с близкими долго не продлится, смеялись и строили планы на будущее[39]. Молодые люди воображали, как они победоносно вступят в Париж, а Шарлотта подшучивала над ними и называла их донкихотами. Все шло прекрасно, пока кто-то не предложил тост «за короля». Все встали, и только Шарлотта осталась сидеть, не притрагиваясь к бокалу. Господин Корде грозно уставился на дочь, а мадам Луайе ласково спросила ее, почему она не хочет выпить за здоровье доброго и добродетельного короля. «Я не сомневаюсь в добродетели короля, — отвечала Шарлотта, — но он слаб, а слабый король не может быть добрым, ибо у него не хватит сил предотвратить несчастья своего народа». — «Но ведь король — помазанник Божий, он избран самим Господом», — продолжала мадам Луайе, надеясь уговорить подругу дочери присоединиться к тосту. «Короли созданы для народов, а не народы для королей», — гордо ответила мадемуазель Корде, как и подобает убежденной республиканке. Она откинулась на спинку стула, и лицо ее приняло отсутствующий вид. Опустошив бокалы, гости сели, стараясь не смотреть на наполненный вином бокал Шарлотты.
К концу этого начавшегося радостно, а завершавшегося в напряженном молчании обеда случилось еще одно событие, позволяющее в какой-то мере понять характер Шарлотты. С улицы, где уже властвовали сумерки, в комнату ворвались шумные выкрики: «Да здравствует нация!», «Да здравствует наш конституционный епископ!» За окном замелькали факелы, раздался топот, цокот копыт по брусчатке и скрип колес: конституционный епископ Кальвадоса Клод Фоше въехал в город и под восторженные крики толпы проследовал к себе в резиденцию. Бывший проповедник короля, проникшийся революционными идеями, Фоше, о котором говорили, что он с саблей наголо принимал участие в штурме Бастилии, одним из первых присягнул Конституции духовенства и получил место епископа Кальвадоса, вытеснив бывшего епископа, отказавшегося принять присягу. Талантливый оратор, соединявший в своих проповедях революционную риторику со словом Божьим, он основал в городе Социальный кружок и издавал газету «Буш де фер» {La Bouche defer). Основной мишенью своих грозных речей Фоше сделал неприсягнувших священников. Внимая слову воинственного пастыря, революционно настроенные овечки шли громить дома неприсягнувших, и нередко столкновения оканчивались трагически. Именно такая разгоряченная толпа едва не прикончила дядю мадемуазель Корде, Шарля Амедея, отказавшегося принимать присягу. Шарлотта считала Фоше безнравственным и беспринципным, однако многие достойные люди уважали его и даже восхищались им.
Отношения Шарлотты с религией всегда были очень личными; ее республиканский стоицизм являлся для нее своего рода верой. Период пассионарного служения Богу остался в монастырском прошлом. В Кане она сопровождала тетушку в церковь; подняв взор к куполу, она смотрела на резные замковые камни, на великолепные витражи готических окон и быстро переставала понимать, отчего у нее кружится голова — от буйства каменных узоров или от мыслей, посещавших ее под церковными сводами. Не будучи ревностной прихожанкой, она тем не менее презирала и ненавидела присягнувших священников — возможно, потому, что свобода совести у нее всегда была неотделима от гражданской свободы. И, возможно, потому, что мы обычно сочувствуем преследуемым, а великодушное сердце Шарлотты возмущал даже призрак несправедливости. Ходил слух, что незадолго до отъезда в Париж она ездила в Мениль-Имбер, чтобы тайно причаститься у тамошнего неприсягнувшего кюре… Пока Шарлотта вынашивала намерение принять постриг, христианка брала верх над римлянкой, но когда монастырь закрыли, и она лицом к лицу столкнулась с бурлящей революционной повседневностью, она стала черпать силы и искать прибежище не в церкви, а в античных республиках.
Увидев на улице ликующую толпу, молодые люди подбежали к окну, и Шарль де Турнели во весь голос закричал: «Да здравствует король!» Из-за шума его не услышали, и он, распахнув окно, собрался повторить выходку, но тут Шарлотта, схватив его за руку, спешно увела его в глубь комнаты. «Неужели вы не боитесь, что ваше проявление чувств навлечет неприятности на ваших близких? К чему такая бравада?» — укорила она его. «Но, послушайте, мадемуазель, — ответил ей молодой человек, — разве не вы только что оскорбили чувства вашего отца, вашего брата, всех здесь присутствующих, отказавшись присоединиться к здравице в честь нашего короля, чье имя дорого сердцу каждого истинного француза?» — «Мой отказ, — ответила Шарлотта, — мог повредить мне одной, а вы без всякой определенной цели только что рисковали жизнью не только собственной, но и всех, кто вас окружает».
Арманда Луайе вместе с семьей уехала в Руан, договорившись с Шарлоттой часто писать друг другу. В своих воспоминаниях мадам де Маромм утверждала, что получила от Шарлотты больше дюжины писем, из которых, к сожалению, сохранилось только два, случайно положенных в отдельную шкатулку. Ибо после сообщения об убийстве Марата некой девицей «Корде де Сент-Арман», как сначала назвали Шарлотту газеты, мать Арманды вытащила из тайника письма подруги дочери и уничтожила их. По свидетельству Арманды, в уничтоженных письмах звучали печаль, сожаления о бесполезности жизни и разочарование ходом революции. Возможно, горечь мадемуазель Корде усугублялась еще и тем, что эмиграция постепенно забирала молодых людей, среди которых она смогла бы отыскать себе друга сердца. «Снедаемая потребностью любить, внушая и чувствуя иногда самые первые симптомы любви, она вследствие осторожности, зависимости и бедности всегда удерживалась от окончательного признания; она разрывала свое сердце, чтобы уничтожить узы, которые смогли бы связать ее. Ее любовь, отвергнутая таким образом рассудком и судьбой, изменила не свойство свое, а идеал. Она превратилась в смутную, но горячую преданность мечте об общем благе. Ее сердце было слишком обширно для того, чтобы вмещать в себя только одно личное счастье. Она хотела вместить в нем счастье целого народа. Страсть, которую она питала бы к одному человеку, она перенесла на отечество», — писал о Шарлотте Корде Ламартин.
Но революционное отечество проявляло не слишком много интереса к прекрасной половине своих граждан. Провозглашая всеобщее равенство, революционные законодатели имели в виду равенство мужчин и оставляли за бортом новых законов женщин. «Естественные права», о которых так много говорили философы XVIII столетия, оказывались присущими только мужчинам. О праве женщин участвовать в голосовании даже речи не шло. Хрупкие, подверженные постоянным недомоганиям, склонные к нервическим припадкам — разве можно допускать такие создания к выборам? Только Кондорсе пытался доказать гражданам, а главное, депутатам, что женщины достойны выступать на равных на политической арене, но голос его не был услышан. Единственным правом, полученным женщиной от революции, стало право на развод. Не желая мириться с таким положением, революционно настроенные гражданки объединялись в клубы республиканок, приносили клятвы не брать в мужья аристократов и, стремясь превзойти мужчин в гражданских добродетелях, требовали права вступать в армию наравне с мужчинами. Но власти, быстро спохватившись, вернули женщин на кухню, а Шометт, взявший себе звучное греческое имя «Анаксагор», подвел итог боевым устремлениям амазонок, заявив, что Жанна д'Арк была необходима только во времена Карла VII.
Огюстен Леклерк, управляющий, секретарь и казначей мадам де Бретвиль, пытался претендовать на роль наставника Шарлотты. Будучи в курсе новых веяний, он давал девушке читать Руссо и Вольтера, рассказывал о последних событиях во Франции и Нормандии, приносил газеты и, говорят, даже выдавал ей деньги на благотворительность. Правда, злые языки шептались, что повышенное внимание к мадемуазель Корде Леклерк проявлял прежде всего потому, что подозревал в ней конкурентку, претендующую на ключ от кассы тетки. Но Шарлотта никогда не поддавалась никакому влиянию; собственно, она даже не замечала, что на нее пытаются повлиять.
Шарлотта пристрастилась к чтению газет и брошюр, самой злободневной литературы того времени. Она подписалась на «Журналь де Перле» {Journal de Perlet), читала умеренные газеты: «Курье франсе» (Courrier français) аббата Понселена, «Курье универсель» (Courrier universet) Николя де Ладвеза, вполне могла читать роялистскую «Ла Котидьен» (La Quotidienne) и либеральную «Революции Франции и Брабанта» (Revolutions de France et de Brabant) Демулена, которые обычно читали в провинциях, а также «Курье де департеман» (Courrier des departements) жирондиста Горса и «Французский патриот», основанную Бриссо, а потом переданную им в руки своего соратника Жирей-Дюпре. Впоследствии на допросе она признала, что знакома с этими газетами. Газеты Горса и Бриссо пропагандировали демократические идеалы в духе жирондистов: приверженность к свободе, к республике, выборам и законам; Перле, аббат Понселен и де Ладвез поддерживали либеральную монархию. И всех упомянутых издателей сближало неприятие анархии, иначе говоря революционного беззакония, главным проповедником которого выступал Марат, чьи призывы к бдительности граничили с паранойей. Робеспьер пытался убедить Марата, что, окуная перо в кровь свободы, он своей чрезмерной яростью отталкивает от себя друзей свободы. Марат не внимал ничьим словам и продолжал писать о кинжалах, веревках и отрубленных головах, без которых невозможно построить царство свободы и равенства. Имя Марата становилось все больше на слуху, все чаще появлялось в газетах, и поборница свободы мадемуазель де Корде постепенно проникалась к нему ненавистью.
Тиран, посеявший боязнь и гнев в сердцах, Пожнет в свой день и час отчаянье и страх[40].Выборы в Законодательное собрание не успокоили, а только разожгли страсти. Депутатом от департамента Кальвадос избрали епископа Фоше. Отовсюду раздавались голоса, требовавшие отречения монарха и установления Республики. Из разных мест поступали известия об очередных бесчинствах вооруженных групп людей. Во время бандитского нападения на аббатство Троарн, где после закрытия монастыря располагалась больница, пострадали многие монахини. Подруга Шарлотты, канонисса Александрии де Форбен, написала, что боится оставаться в Троарне и уезжает в Швейцарию. Храмы больше не спасали прихожан. Религиозный раскол принимал политическую окраску. Прямо перед окнами дома мадам де Бретвиль, выходившими на церковь Сен-Жан, разыгралась ужасная сцена: члены Общества друзей конституции, проведав о том, что неприсягнувший кюре церкви Сен-Жан хочет втайне отслужить мессу, ворвались в церковь и принялись избивать прихожан и громить утварь. Завязалась драка, в ход пошли штыки и огнестрельное оружие, несколько человек были убиты; беспорядки выплеснулись на улицу, кое-кто бросился громить жилища аристократов. Охваченная революционным неврозом толпа не разбирала, где аристократы, а где случайные прохожие. В результате восемьдесят четыре человека были арестованы и препровождены в тюрьму. К счастью, то ли нашлись разумные головы, сумевшие остановить толпу, то ли холодные ветры остудили пыл рьяных патриотов, но тюрьму штурмовать не стали и разошлись по домам. Во время стычки пострадал де Мениваль, дядя Шарлотты с материнской стороны; напуганный, он в скором времени эмигрировал, сведя шансы отца Шарлотты получить причитавшееся ему приданое покойной жены практически к нулю. Надрывные, призывающие к кровопролитию пророчества Марата разносились по всей Франции. Голос почитаемого Шарлоттой аббата Рейналя, предупреждавшего, что «тирания народа» куда более опасна, чем тирания короля, звучал не в пример тише. «Когда невозможно жить в настоящем, когда нет будущего, надо уходить в прошлое и искать в нем тот идеал, который отсутствует в жизни», — размышляла Шарлотта. А когда кто-то из ее знакомых усомнился в величии античных Греции и Рима, она ответила: «Вы можете говорить все, что угодно, но только в Спарте и Афинах мы видим мужественных женщин!»
В отсутствие подруг Шарлотта рисовала, играла на клавесине и что-то писала, немедленно уничтожая написанное. Студент Фредерик Волтье, живший в то время напротив дома мадам де Бретвиль, вспоминал: «Я сотни раз видел ее в окне, встречал возле дома, но мне так и не представился случай побеседовать с ней. Мадемуазель де Корде была, несомненно, красива, но не так красива, как об этом говорили, и менее красива, чем ее изображают на портретах. Черты ее лица были, пожалуй, излишне резкими. Но что особенно поразило меня в ней, так это выражение спокойствия на ее лице, благопристойности и спокойствия». Однако спокойствие это явно внешнее, во многом объяснявшееся склонностью к раздумьям и сосредоточенному чтению. Возможно, Волтье был тем самым молодым человеком, который, по словам Ламартина, садясь за клавикорды, смотрел в окно, ожидая, когда раскроется окно дома напротив и в нем покажется мечтательное личико очаровательной девушки.
В марте 1792 года Шарлотта писала Арманде Луайе:
«Дорогая моя подруга, я была к Вам несправедлива, жалуясь на Вашу лень, в то время как Вы лежали, страдая от ветряной оспы, а потому не могли мне писать. Надеюсь, сейчас Вы уже в добром здравии и болезнь не оставила следа на Вашем милом лице. Обещайте, что, если Вас вновь посетит болезнь, Вы сразу сообщите мне об этом, ибо пребывать в неведении об участи своих друзей для меня мучительнее всего. Вы спрашиваете, какие у меня новости. Сейчас, на мой взгляд, в городе не происходит ничего; все, кто имели душу чувствительную, уехали; Ваши проклятия постепенно возымели действие, и если улицы еще не заросли травой, то только потому, что время еще не настало. Семья Фодоа[41] уехала, следом за ними отправили кое-какую принадлежавшую им мебель. Всеобщее запустение внушает нам спокойствие, ибо, чем меньше в городе останется народу, тем меньше вероятность мятежа. Будь моя воля, я бы всех отправила в Руан, но не потому, что на душе у меня тревожно, а чтобы быть с Вами, чтобы воспользоваться Вашими уроками. Ведь я, дорогая моя, тотчас бы попросила Вас давать мне уроки английского и итальянского, и уверена, под Вашим руководством я бы стала быстро делать успехи. Моя тетушка, мадам де Бретвиль, благодарит Вас за добрые пожелания; самочувствие ее не улучшается, хотя она и не питает страха перед грядущими событиями. Передайте мадам Луайе ее искреннюю признательность и заверения в самой нежной дружбе; ей очень не хватает вас обеих, однако мы обе убеждены, что Вы больше не вернетесь в город, который столь заслуженно вызывает у Вас презрение. На днях уехал мой брат, пополнив число странствующих рыцарей; возможно, они встретят по дороге ветряные мельницы. Наши знаменитые аристократы полагают, что им удастся без боя победоносно вступить во Францию, но я так не думаю, ибо нация располагает могущественным войском… Словом, я в тревоге: какая участь ожидает нас? Ужасающий деспотизм; а если удастся вновь поработить народ, мы снова окажемся между Харибдой и Сциллой, и нам снова придется страдать. Как видишь, дорогая моя подруга, я, сама того не желая, вновь пишу дневник, ибо все эти жалобы бессмысленны, и ни к чему не ведут, тем более что начинается карнавал. Еще одна печальная новость: я потеряла Ваше письмо, а вместе с ним и Ваш точный адрес; если мое послание до Вас дойдет, немедленно сообщите мне об этом. Мадам Мальмонте вместе с мадам Малерб уехали в деревню, и я даже не знаю, к кому обратиться, чтобы узнать Ваш адрес, поэтому письмо не подписываю. Ибо если оно попадет в чужие руки, мне бы не хотелось, чтобы посторонний знал имя автора этих корявых строк…
Несколько дней письмо лежало без движения, ибо все ожидали событий, и я вместе со всеми, чтобы потом рассказать Вам о них; но ничего не произошло, несмотря на карнавал, которого, впрочем, совершенно незаметно, ибо ношение масок запрещено; полагаю, Вы найдете это справедливым. Передайте мои изъявления признательности мадам Луайе. Прощайте, душа моя».
Карнавал в городе, действительно, происходил без масок. Помимо красных колпаков, которыми давно уже щеголяли санкюлоты и те, кто старались им подражать, в моду входили трехцветные кокарды, после 5 июля 1792 года ставшие обязательными для мужчин, а после 3 апреля 1793-го — и для женщин тоже. Под триколором, сменившим в сентябре 1790 года белое королевское знамя, по улицам Кана маршировали отряды, объединившие бывших членов местной Национальной гвардии, которых аристократы пренебрежительно называли «каработами»[42] (carabot по-французски означает грабитель, злоумышленник). Девизом отрядов каработов стал прозрачный ребус — «Законы или», а далее, вместо слов, мертвая голова. Они носили черные повязки на рукавах, где серебром поблескивал пиратский череп со скрещенными костями.
Происходили столкновения революционных фанатиков с неприсягнувшими священниками. В апреле 1792 года в маленькую деревню Версон неподалеку от Кана, где проживала родственница и подруга Шарлотты мадам Готье де Вилье, явился отряд из шестисот национальных гвардейцев под командованием Габриэля де Кюсси, аристократа, исповедовавшего передовые взгляды. Гвардейцам предписали арестовать тамошнего кюре Луазо, отказавшегося принести присягу конституции, о чем донес властям кто-то из местных жителей. Вовремя предупрежденный, кюре бежал, а разозленные солдаты набросились на племянницу священника и женщин, находившихся в доме. Избитых, раненых и ограбленных крестьян, изнасилованных женщин и кучку подгоняемых штыками пленных доставили в городскую тюрьму. Защитники порядка вели себя, как настоящие бандиты, а их начальник де Кюсси попустительствовал им. В мае 1792 года Шарлотта рассказала об этом случае в письме к Арманде Луайе: «Дорогая подруга, я всегда рада Вашим милым письмам, однако меня ужасно огорчает Ваше нездоровье. Скорее всего, это последствия перенесенной Вами болезни. Вам нужно хорошенько следить за своим здоровьем. Вы спрашиваете, душа моя, что случилось в Версоне. Отвечаю — возмутительное насилие: пятьдесят человек унижены, избиты, женщины подверглись оскорблениям; похоже, побоище произошло именно из-за женщин. Трое раненых через несколько дней скончались, а большинство несчастных еще долго оправлялись от нанесенных побоев. В пасхальный день жители Версона оскорбили национального гвардейца, поглумились над его кокардой: все равно что оскорбили осла в упряжке. По этому поводу начались шумные обсуждения: чиновников буквально силой заставили отправить отряд из Кана; в поход собирались почти два с половиной часа. Предупрежденные еще с утра жители Версона решили, что над ними посмеялись. В конец концов кюре успел спастись, бросив по дороге покойника, которого везли хоронить. Вы знаете, что тех, кто там присутствовал, арестовали, и в их числе аббата Адана и каноника церкви Гроба Господня де Лапалю, одного иностранного священника и молодого аббата из местного прихода; среди задержанных женщин племянница аббата Адана и сестра кюре, а также мэр. Они пробыли в тюрьме четыре дня. Один из крестьян, когда его спросили: "Вы патриот?", ответил: "Увы, да, господа! Все знают, я первым пришел, когда с аукциона распродавали имущество духовенства, и знают, что честные люди не дали мне приобрести его". Не знаю, какой философ смог бы ответить лучше, и даже судьи, обычно излишне суровые, не могли удержаться от улыбки. Что еще сказать Вам в завершение сей печальной главы? Приход тотчас преобразился в клуб; устроили праздник в честь новообращенных, которые выдадут своего кюре, если он к ним вернется.
Вы знаете народ — непостоянен он, То ненавидит вас он, то в вас влюблен.Но хватит о них; те, о ком Вы мне сообщаете, находятся в Париже. Сегодня честные люди, которые еще остались в городе, уезжают в Руан, и, в сущности, мы остаемся одни. Но что поделаешь, так уж получается. Я была бы рада, если бы мы поселились неподалеку от Вас, тем более что нам грозят скорым восстанием. Мы умираем только раз, к тому же в нашем ужасном положении меня успокаивает мысль, что, если меня не станет, никто ничего не потеряет, разумеется, кроме Вас, если Вы по-прежнему питаете ко мне дружбу. Возможно, душа моя, Вы удивитесь, узнав о моих страхах: но если бы Вы были здесь, Вы бы, без сомнения, разделяли их. Можно было бы рассказать Вам, в каком состоянии находится наш город и каково здешнее брожение умов. Прощайте, дорогая, я заканчиваю, ибо перо мое отказывается более писать. К тому же я и так запоздала с этим письмом: торговцы намерены выехать сегодня. Прошу Вас, передайте мадам Луайе мои самые почтительные и искренние уверения. Тетушка просит меня передать Вам и Вашей матушке, что воспоминания о Вас ей по-прежнему дороги. Не стану повторять, что и я по-прежнему нежно люблю Вас».
«Мы умираем только раз, к тому же в нашем ужасном положении меня успокаивает мысль, что, если меня не станет, никто ничего не потеряет». Арманда Луайе уверяла, что этими словами ее подруга выразила мысль об иллюзорности собственного существования. Вокруг шла борьба сил анархии и порядка, и Шарлотта видела, что гнев и ярость, охватившая народ, свергнувший власть короля, теперь порождают хаос и насилие. Восхищаясь героями древности, совершавшими подвиги во имя восстановления свободы и законов, попранных тиранами, Шарлотта не могла не видеть, что окружавшие ее «герои» предпочитали сбиваться в толпы и, возмущаемые подстрекателями, безнаказанно убивать и учинять погромы. Подобно персонажам Корнеля, она хотела жить высокими интересами государства, но где это государство?
Любовь к отечеству всегда была важна, Но благу общему должна служить она[43].В июле 1792 года в Париже, а потом и во всей Франции стал известен манифест герцога Брауншвейгского, в котором австрийский и прусский монархи выражали намерение положить конец «анархии во Франции» и восстановить власть короля. В ответ парижане потребовали низложения монарха. В начале июля Законодательное собрание приняло декрет «Отечество в опасности!», предложенный жирондистом Верньо, и объявило всеобщую мобилизацию. Отменили празднование очередной годовщины взятия Бастилии. Полки федератов, представителей провинций, прибывшие в Париж со всех концов страны на торжества, отправлялись на фронт, провожаемые братскими напутствиями парижан. Полк марсельцев принес с собой гениальную «Песню Рейнской армии», сочиненную Руже де Лилем и вошедшую в историю под названием «Марсельеза». Федераты, задержавшиеся в столице, вместе с парижанами приняли участие в восстании 10 августа, в результате которого ненавистный монарх был свергнут и вместе со всей семьей препровожден в превращенный в тюрьму замок Тампль. Назначили выборы в Национальный конвент.
Какие мысли обуревали в это время мадемуазель Корде? Скорее всего, она приветствовала падение монархии; наверное, в ней вновь проснулась надежда на возможность создания справедливой Республики, где правят мудрые законы, а не кровожадный охлос. Но вести, доходившие из столицы, становились все тревожнее. На политической сцене воздвигли машину для отсечения голов, придуманную доктором Гильотеном[44] из гуманных побуждений — дабы отменить жестокие средневековые способы казни. Гильотен был уверен, что его машина послужит совсем недолго, а потом добродетельная республика смертную казнь отменит вовсе. Он не мог предположить, что республика, основанная на добродетелях, а не на правах граждан, не сможет обходиться без истребления собственных граждан. «Революция подобна Сатурну: она пожрет своих детей», — с грустью заметил Верньо. Оружием против тирании становился деспотизм свободы.
Принятый 3 июня 1791 года декрет, предложенный якобинцем и просветителем Лепелетье де Сен-Фаржо, о казни «посредством отсечения головы» впервые реализовали посредством гильотины 25 апреля 1792 года на Гревской площади: в этот день привели в исполнение приговор, вынесенный грабителю и убийце Пеллетье. Созданный после 10 августа трибунал для расследования преступлений аристократов и монархистов велел перевезти гильотину на площадь Карузель, что напротив Лувра. По мнению судей, «эта площадь, бывшая театром преступления, теперь должна была стать местом искупления». 21 августа казнили первого политического преступника, аристократа Кольно д'Ангремона, а 23 августа — еще двоих: преданного королю Лапорта и монархически настроенного журналиста Дюрозуа[45]. Национальная бритва, как прозвали гильотину, стала, поистине, символом равенства, уравняв в смерти и короля, и нищего.
Марат пробудил в душе народа демона убийства, превратив чернила и типографскую краску в кровь бесчисленных врагов. Друг народа советовал щадить только «мелких должников», «воришек» и «зачинщиков потасовок». К Марату прислушивались, врагов казнили, а он стремительно отыскивал новых. Ибо если не будет изменников, не будет заговорщиков, с которыми надо бороться, как продолжать революцию? «В основе всех революционных суждений лежало понятие заговора. Существование заговора никто не доказывал, он был словно математическая аксиома, и соответственно, на ее основании, как вытекающее следствие, по закону были приговорены сто тысяч невиновных», — писал современник революционных событий Жан Франсуа Лагарп. Стратегию заговора принимали многие, а опытный политик Бриссо в одном из своих выступлений откровенно признался, что он боится только одного: «…что нас не предадут. Нам нужны великие измены, в них наше спасение. Великие измены опасны только для предателей; народу же они будут очень полезны». А для «великих изменников» Жюльен предложил соорудить гильотину, способную за один раз отсекать сразу семь голов — чтобы поскорее покончить с многоглавой гидрой контрреволюции.
Вокруг «мадам Гильотины» сложилось своеобразное «женское общество» — знаменитые «вязальщицы» Робеспьера. Они были везде — у подножия эшафота, в Конвенте, в клубах, на улицах. Они осыпали отборной бранью неугодных им депутатов, швыряли огрызки яблок в идущих на казнь аристократов. От них иногда пахло водкой, но они никогда не выпускали из рук вязания. Говорят, это было не просто вязание, а зашифрованные донесения, иначе говоря, доносы: количеством петель и особым узором вязальщицы «записывали» имена и приметы тех, кто казался им подозрительным, а потом доносили на них в Революционный трибунал. Парижская коммуна приплачивала им за оскорбления осужденных, возможно, платила и за доносы. Подобно тому как, по свидетельствам очевидцев, Национальная казна тайно платила тем, кто в трагические дни сентября убивал узников парижских тюрем, — по 12 ливров за человека.
Как воспринимала эти вести из столицы Шарлотта? Скорее всего, с ужасом, негодованием, отвращением и отчаянием. Теоретически, в это время Шарлотта могла прочесть какой-нибудь номер «Друга народа», хотя сама она нигде об этом не упоминала. Могла прочесть призыв Марата от 19 августа: «Убейте всех заключенных в тюрьме Аббатства, в первую очередь швейцарцев». Известно, что раскинувшаяся по стране сеть якобинских клубов занималась распространением особенно значимых воззваний, речей и выступлений, и мадемуазель Корде могла ознакомиться с адресованным провинции обращением Марата. Может быть, она даже узнала, что по совету жены министр Ролан отказался выдать Марату 15 тысяч франков на поддержку издания его газеты «Друг народа», мотивируя отказ тем, что эта газета носит исключительно экстремистский характер. В отместку Марат напечатал статью, разоблачавшую заговор, якобы организованный Роланом, с целью «истребить всех друзей свободы». Но самое большее, на что был способен в то время престарелый супруг «римлянки» Манон, — это прогнать из своего бюро всех, кто голосовал за казнь короля. Тогда Марат взял деньги у гражданина Эгалите, щедрыми подачками искупавшего свое королевское прошлое, и занес еще один минус в графу сведения счетов с жирондистами.
Не успела Шарлотта пережить страшные известия из Парижа, как трагические сентябрьские дни кровавым эхом стали отзываться в провинции. На юге, в Авиньоне узников, заключенных в одной из башен папского дворца, вырезали еще раньше, чем узников в Париже. В Версале, следуя примеру парижан, убили пятьдесят три узника. «Патриотизм», новое божество, требовало человеческих жертв. В Кане жертвой гнева «подлинных революционеров» стал бывший секретарь Неккера, прокурор-синдик Жорж Байе, обвиненный в сношениях с эмигрантами и поддержке неприсягнувших священников. Ни одно из обвинений доказано не было; впрочем, никто и не собирался ничего доказывать. В глазах местных экстремистов его вина состояла прежде всего в том, что он отпустил восемьдесят арестованных, участвовавших в стычке в церкви Сен-Жан и оказавших сопротивление революционно настроенным отрядам. Узнав об аресте мужа, мадам Байе, несмотря на поздние сроки беременности, помчалась в Париж и сумела добиться приказа о его освобождении. 6 сентября, согласно приказу, Байе отпустили из тюрьмы. Однако стоило ему выйти на площадь, как разъяренная толпа, ожидавшая там с самого утра, набросилась на него и, несмотря на поддержавших Байе национальных гвардейцев, зарубила его саблями, а потом, водрузив на пику голову несчастного, долго носила ее по городу. Убийство Байе произошло на глазах у его жены и двенадцатилетнего сына. Очевидцы пишут, что сын бросился к отцу, пытаясь защитить его, но мальчика оттащили силой. Толпа, без сомнения, прошла и по улице Сен-Жан, а значит, Шарлотта могла видеть это жуткое шествие. История с Бельзенсом повторилась. Но сейчас мадемуазель Корде казалось, что она знает, кто виноват в случившемся, — это кровожадный доктор Марат.
Какая б только кисть изобразить могла Кровавый этот мир и гнусные дела![46]После расправы с Байе в Кан привезли гильотину, и множество граждан потребовали немедленно испытать новый механизм. Поэтому когда из предместья Воксель пришло известие о гибели местного пьянчуги, соседа, убившего пьянчугу, схватили вместе с женой и обоих отправили на гильотину. Страшное зрелище понравилось одним и ужаснуло других. Первых оказалось больше, и вскоре казнили сразу пятерых преступников; пятому, приговоренному к галерам, отрубили голову «за компанию». Прошло немного времени, и на гильотине окончил свои дни неприсягнувший кюре Гомбо, который в свое время принял последний вздох матери Шарлотты. Кюре пытался скрыться, но отряд жандармов с собаками, посланный по его следу, поймал беглеца.
Шарлотта не ходила смотреть на «новую машину», с нее хватило рассказов Леклерка и Бугон-Лонгрэ. Ипполит Бугон-Лонгрэ, занявший прокурорское место погибшего Байе, продолжал поддерживать дружеские отношения с мадемуазель де Корде и наверняка обсуждал с ней последние события. Создается впечатление, что сложившаяся в городе обстановка постепенно превратила Шарлотту в затворницу: места народного ликования все чаще окрашивались кровью.
Двадцать первого сентября Конвент провозгласил Францию республикой, свободной от короля. Насколько это известие обрадовало Шарлотту? Она знала, что, например, в числе 13 депутатов, избранных в Конвент от департамента Кальвадос, оказались презираемый ею Фоше и виновник избиения в Версоне Кюсси, а парижане избрали в Конвент Марата и его друга Паниса, выставившего свою кандидатуру на выборы ради того, чтобы избежать преследований за растрату казенных денег. Правда, среди тринадцати депутатов Кальвадоса не было ни одного монтаньяра, а из 750 депутатских мандатов Конвента монтаньярам принадлежало менее ста, в то время как жирондистам — в два раза больше. Остальные — так называемое «болото», депутаты, не присоединившиеся ни к одной из двух главных противоборствующих партий. Жирондистов поддерживали федераты, те, которые ходили по улицам Парижа и распевали куплеты о том, что скоро настанет время, когда они потребуют головы Марата, Робеспьера, Дантона и их сторонников. Большинство куплетов целились в Марата, этот кровожадный фантом, скрывавшийся за газетным листом:
Марат, он бдит, — твердите вы, — Ведь он отечества отец… Упырь! Убийца он, увы, Голодный тигр пасет овец[47].Шарлотта сочувствовала жирондистам, полагая, что они способны установить в республике законность и порядок. Тем более что после 10 августа лидер жирондистов Бриссо заявил о необходимости прекратить революцию и начать вырабатывать законы. «Мы совершили революцию против деспотизма, революцию против монархии, теперь остается совершить последнюю — против анархии». В ответ Марат назвал жирондистов «злодейской кликой».
Наивные, страстные, красноречивые, отважные, молодые, жирондисты, по словам автора многотомной «Истории Французской революции» Луи Блана, являлись «людьми свободы», в то время как монтаньяры — «людьми равенства». Личная свобода жирондистов предполагала либеральную экономическую свободу в рамках закона и выборное правление, опирающееся на наказы избирателей. Общественная свобода монтаньяров, немыслимая без равенства, загоняла свободу в жесткие рамки государственных интересов и во имя этих интересов оправдывала подавление свободы отдельного гражданина. Как говорил Робеспьер, «при конституционном режиме достаточно защищать личность от злоупотребления властей; при революционном режиме общественная власть сама должна защищаться от нападок фракций». В общем, свобода и равенство, которые Руссо видел в образе двух обнявшихся сестер, у Робеспьера выступали, скорее, в облике пожирающих друг друга тигров.
В избранном всей Францией Конвенте борьба началась с первых же дней его существования. Главными вопросами, затрагивавшими интересы всех депутатов, всей страда, были вопросы ведения войны и судьба короля. В войне с интервентами революционная армия Франции 20 сентября 1792 года в сражении при Вальми нанесла первое поражение войскам коалиции, ставшее решающим, переломным моментом в военных действиях. Споры по поводу участи короля продолжались почти пять месяцев. Якобинцы, и в частности
Сен-Жюст, предлагали судить короля не за конкретные ошибки, а за то, что он был королем, ибо король — это враг, тиран, узурпировавший власть. А врагов, как известно, уничтожают. «Самым гнусным режимом является тот, который заставляет склонять головы перед королем. Природа никого не создавала специально для того, чтобы сей человек имел право диктовать свои законы обществу и распоряжаться жизнью и смертью своего ближнего. Суверенитет принадлежит только народу, и тот, кто захватывает высшую власть, тот — узурпатор», — вторили своему вождю монтаньяры. Жирондисты не желали казни Людовика XVI, понимая (или же чувствуя), что падение головы короля повлечет за собой новые и новые жертвы и создаст для страны внешнеполитические проблемы. Они предложили вынести вопрос об участи монарха на общенародный референдум, однако им не удалось провести это решение через Конвент, его отклонили 424 голосами против 287. Марат предложил устроить открытое поименное голосование, иначе говоря, предложил депутатам повязать друг друга кровью короля. И одновременно выявить «тайных сторонников деспотизма». Депутаты ощутили холодное дуновение смерти. Ни Марат, ни Робеспьер, ни Кутон никогда не признают истинным республиканцем того, кто не проголосует за казнь короля. В результате 387 депутатов высказались за казнь Людовика и 334 — против. Среди жирондистов Инар, Ребекки, Фонфред и Барбару голосовали за казнь, Петион Бриссо, Верньо — за казнь с отсрочкой, депутаты от Кальвадоса Фоше, Кюсси и Дульсе де Понтекулан — за изгнание, Салль, Кервелеган, Кюсси — за тюремное заключение. Поступок жирондистов, отдавших свой голос за казнь короля, Ламартин назвал «жертвой времени». 21 января 1793 года Людовик XVI был обезглавлен.
Пишут, что, узнав о казни короля, республиканка Шарлотта Корде «плакала, как ребенок», позабыв обо всех своих претензиях к монарху. Ей было нестерпимо жаль его. 28 января 1793 года она писала об этом своей подруге Розе Фужрон дю Файо, в замужестве мадам Рибуле:
«Добрая моя Роза, Вы знаете ужасную новость, и Ваше сердце, как и мое, трепещет от возмущения; вот она, наша добрая Франция, отданная во власть людям, причинившим нам столько зла! Одному Господу известно, когда все это кончится. Я знаю Ваши добрые чувства, а потому могу сказать Вам, что я думаю.
Я содрогаюсь от ужаса и негодования. Будущее, подготовленное настоящими событиями, грозит ужасами, которые только можно себе представить. Совершенно очевидно, что самое большое несчастье уже случилось. Я начинаю завидовать судьбе покинувших отечество родных, ибо почти не надеюсь на возвращение того спокойствия, о котором я еще недавно мечтала. Люди, обещавшие нам свободу, убили ее; они всего лишь палачи. Так оплачем же участь нашей бедной Франции!
Я знаю, Вы несчастны, и не хочу, чтобы Вы еще и лили слезы из-за рассказа о наших горестях. Всех моих друзей преследуют, а с тех пор как узнали, что тетушка дала пристанище Дельфену, когда тот направлялся в Англию, ее тоже всячески притесняют. Я бы последовала его примеру, но Господь удерживает нас здесь для иных целей.
Будучи проездом из Эвре, нас посетил капитан[48]. Он очень любезен и необычайно к Вам привязан, я уважаю чувство, кое он испытывает по отношению к Вам. Не знаю, где он сегодня. Когда Вы его увидите, напомните ему, что он обещал мне для брата рекомендательное письмо от Вашего родственника де Вейгу[49]. Мне бы хотелось, чтобы это письмо попало к брату как можно скорее. Мы здесь пребываем во власти разбойников, они никого не оставляют в покое, и если бы мы не знали, что "поступки людей не волнуют небеса", мы бы, наверное, возненавидели эту республику.
Словом, после ужасного события, всколыхнувшего весь мир, пожалейте меня, добрая моя Роза, как жалею Вас я, ибо нет сейчас ни одного чувствительного и благородного сердца, которое не плакало бы кровавыми слезами. Передаю Вам привет от всех родных; мы Вас по-прежнему любим.
Мари де Корде».
Возможно, после казни короля Шарлотта стала задумываться о том, способна ли женщина остановить кровопролитие, виновником которого она считала Марата. В своих воспоминаниях жирондист Бюзо писал о Марате: «Кажется, сама природа собрала в нем все пороки человеческого рода. Он уродлив, как преступление, у него уродливое тело, изъязвленное развратом, он похож на дикого зверя, хитрого и кровожадного. Он говорит только о крови, проповедует кровь, наслаждается кровью. Он чудовище. Его апофеоз когда-нибудь станет горькой сатирой на революцию 1793 года». Апофеоз Марата еще впереди, как впереди и решение Шарлотты спасти революцию от «чудовища».
Недолог ярости неистовый порыв, Но гнев, который в нас раздумье укрепило, С теченьем времени лишь набирает силу[50].Описывают случай: прогуливаясь в окрестностях Кана, Шарлотта встретила на берегу океана священника. Глядя на волны, мадемуазель Корде спросила: «Господь может укротить океан, но разве может он укротить океан людского возмущения?» Задумавшись, священник промолвил: «У моря людского нет преград». Тогда Шарлотта задала вопрос себе самой: «А вдруг это море остановится по мановению руки женщины?» Скорее всего, этого коротенького диалога никогда не было. От улицы Сен-Жан до океанского побережья путь неблизкий, и вряд ли мадемуазель Корде отважилась бы на столь дальнюю прогулку, тем более в одиночестве. Но образ грозного людского моря, несомненно, не раз возникал в ее мыслях. «Мы здесь пребываем во власти разбойников, и если бы мы не знали, что "поступки людей не волнуют небеса", мы бы, наверное, возненавидели эту республику». Этим строкам Шарлотты вторили слова Манон Ролан: «Революция омрачена негодяями, она стала отвратительна».
Глава 5. МАРАТ ПРОТИВ ЖИРОНДИСТОВ, ЖИРОНДИСТЫ ПРОТИВ МАРАТА (ЧАСТЬ I)
Да, Друг народа победил!
Напрасно завывает дико,
Стремясь собрать остатки сил,
Ролана бешеная клика.
Из куплетов, сочиненных Дедюи, другом Марата
Главным результатом революции 10 августа стало провозглашение республики. В ночь с 21 на 22 сентября 1792 года Париж танцевал, ликовал и восклицал: «Да здравствует республика!» Мадам Ролан, в гостиной которой по столь торжественному случаю собрались все ее друзья, радовалась, пожалуй, больше всех: почитательница античных авторов, наконец-то она сумеет пробудить в обществе великие добродетели древних!
Мари Жанна Флипон, ставшая в двадцать шесть лет супругой почтенного (далеко за сорок) провинциального чиновника Ролана де ла Платьер, с радостью откликнулась на революцию и, не имея возможности самой делать политику, вывела на политическое поприще мужа. С помощью умной и энергичной жены Ролан сначала стал депутатом, а после избрания в Конвент при поддержке жирондистов — министром иностранных дел. Представляя себя «просвещенной римлянкой или афинянкой», Манон создала салон, где собирались близкие ей по духу и образу мыслей депутаты Жиронды, и через друзей и мужа активно влияла на политику, проводимую правительством жирондистов.
Дружеские собрания в доме Роланов вызывали особенную озлобленность у монтаньяров: любое сообщество — это уже заговор! Газета «Папаша Дюшен» писала, что Манон Ролан, «эта интриганка, лысая и беззубая ведьма хочет околдовать народ, чтобы вновь поработить его и восстановить позорную королевскую власть», что «Цирцея должна умереть, тогда Республика будет спасена».
Многих лидеров Горы[52] зачастую объединяла только общая цель, а друг о друге они высказывались не менее резко. Особое недоверие вызывал кумир толпы Марат. Робеспьер опасался его, Кутон заявлял, что одно лишь имя Марата напоминает о преступлении. Чопорный Робеспьер, старавшийся держаться особняком, имел огромный штат личных шпионов, доносивших ему обо всех и вся, и друзьями считал только политических попутчиков. Дантон, чей темперамент и характер являли собой полную противоположность Робеспьеру, старался обзавестись не столько друзьями, сколько союзниками, особенно тайными — на всякий случай, ибо ему необходима была не только революция, но и деньги. Манон Ролан пыталась привлечь в свой салон и Дантона, и Робеспьера, но ей это не удалось.
Вечером знаменательного дня в гостиной мадам Ролан можно было увидеть Петиона, Бриссо, Гаде, Луве, Буайе-Фонфреда, Дюко, Гранжнева, Жансонне, Барбару, Верньо, Бюзо. Друзья разговаривали, строили планы на светлое будущее, радовались, что наконец-то они достигли цели, к которой шли так долго. Возможно, несколько мрачным выглядел Петион, избранный первым председателем Конвента: его мучили мысли о сентябрьских расправах, которые он, будучи мэром Парижа, был обязан предотвратить, но не сумел. В те дни он принес страшную жертву времени, равно как и страху и растерянности, охватившей тогда всех руководителей революции, включая народных кумиров Марата и Дантона.
Среди собравшихся был Луве де Кувре, блестящий литератор, автор фривольного романа «Похождения кавалера Фобласа»[53], издатель листка политических новостей под названием «Часовой» (La Sentinelle). «У него благородный лоб, в глазах всегда горит энтузиастический огонь, он умен, добродушен, в нем храбрость льва сочетается с детским простодушием», — писала о нем мадам Ролан, сравнивавшая Луве с Каталиной. Характером писатель часто напоминал расшалившегося ребенка. В январе 1792 года Луве, возмущенный повышением цен на сахар, выступил в Якобинском клубе с призывом не употреблять сахар до тех пор, пока спекулянты не вернут прежнюю цену — 20 су за фунт. Якобинцы подписали это воззвание и велели развесить его на улицах Парижа. Депутат Луве мечтал произнести в Конвенте речь, которая свергнет Робеспьера. Эта идея настолько его захватила, что когда он, наконец, поднялся на трибуну, его товарищи уже знали содержание его речи.
Особенно радовался установлению республиканского правления Гранжнев. Год назад, когда возникла угроза реставрации монархии, он и его друг Шабо решили ценой собственной жизни поднять народ на восстание. Для народа революция означает месть, считали они, а чтобы побудить народ на месть, надо указать ему жертву и ее убийцу. Следовательно, надо сделать так, чтобы убийцей считали двор. Поэтому должен найтись гражданин, который согласился бы пожертвовать собой у ворот дворца, дабы смерть его вызвала народный гнев. И Гранжнев стал убеждать Шабо заколоть его на ступенях Лувра. «Утром найдут мой труп. Вы обвините двор! Мщение народа довершит остальное!» Но у Шабо рука не поднялась убить друга. По другой версии, отказаться от этого страшного плана друзей отговорил Верньо, пообещав выступить в собрании с речью, обличающей монархию.
Верньо, избранный в 1791 году депутатом Законодательного собрания от департамента Жиронды, сразу получил признание как выдающийся оратор. Во многом благодаря его красноречию окружавшая его группа депутатов получила название жирондистов; Верньо стал ее вдохновителем. В июле 1792 года Верньо впервые поставил вопрос о низложении короля. После 10 августа собрание по докладу Верньо, являвшегося в то время его председателем, приняло декрет об отстранении короля от власти и созыве Национального конвента. Невысокого роста, не красавец, Верньо преображался, когда начинал говорить. По словам Ламартина, на лице его отражалась душа, а «фигура принимала выражение идеальное». Именно Верньо выступил с ответом Робеспьеру, когда тот обвинил его, а с ним и всех жирондистов, в отсутствии патриотизма и умеренности: «Я знаю, что во время революций мечтать успокоить своей волей народное волнение было бы таким же безумием, как если бы кто-то вздумал приказать утихнуть волнам, подгоняемым ветром. Обязанность законодателя — насколько возможно, предупреждать мудрыми советами бедствия, причиняемые революцией, и если для того, чтобы быть патриотом, придется объявить себя защитником насилий и убийств, то — да! — я умеренный!»
В дальнейшем он будет протестовать против создания Чрезвычайного трибунала, а когда его арестуют, откажется бежать, не станет принимать переданный ему яд и взойдет на эшафот вместе с друзьями.
Менее опытным в политической борьбе, но не менее пылким оратором был марселец Барбару, черноглазый и темноволосый красавец, с прической а-ля Брут. До революции Барбару, увлекшись электричеством, познакомился с доктором Маратом; наверное, поэтому накануне восстания 10 августа именно к Барбару напуганный Марат обратился с просьбой помочь ему бежать из Парижа в Марсель неузнанным (в одежде угольщика). В Кане, куда после разгрома Жиронды прибудут многие депутаты, Барбару произнесет слова, которые станут судьбоносными для Шарлотты Корде: «Без новой Жанны д'Арк, без освободительницы, посланной нам небом, без чуда Франция погибнет!»
Депутат Салль также частый гость в салоне мадам Ролан. Блестящий — как, впрочем, и вся когорта жирондистов — оратор, он первым посвятит свой литературный талант Шарлотте Корде. Скрываясь от преследований комиссаров Конвента, Салль, узнав о подвиге «девы Брута», начнет сочинять пьесу, посвященную Шарлотте. Будет писать александрийским стихом, соблюдая требуемое классицизмом единство места, действия и времени — как подобает трагедии, посвященной духовной дочери Корнеля. Первым читателем и критиком его труда станет Гаде, соратник Бриссо, адвокат, бывший председатель уголовного суда в Бордо, наделенный изысканным чувством юмора. На процессе против Марата Гаде выступит обвинителем. После разгрома жирондистов он вместе с Саллем будет скрываться на чердаке отцовского дома в Сент-Эмилионе. Он раскритикует пьесу Салля, где Шарлотта Корде погибает, а Робеспьер подсыпает яд в бокал Эро де Сешелю. Салль признает его критику, но времени ему не хватит исправить пьесу: вместе с Гаде он взойдет на эшафот в Бордо. Во время казни механизм гильотины даст сбой, нож остановится, палач начнет растерянно озираться, и тогда Гаде, водрузив на нос очки, объяснит, где произошла неполадка и как ее исправить. Друзей немедленно казнят. Вскоре на гильотине сложат головы семидесятилетний отец Гаде, его престарелая тетка и младший брат — за укрывательство объявленных вне закона жирондистов.
Среди собравшихся отпраздновать победу республики следует упомянуть Бюзо, имевшего самый долгий депутатский стаж — в первый раз его избрали в 1789 году в Генеральные штаты. Как и его единомышленники, он попал под обаяние мадам Ролан, и именно к нему Манон питала возвышенную и обреченную любовь. «Христианка и примерная супруга», она не могла позволить себе оставить «добродетельного Ролана», как называли ее супруга. Но она, наверное, как и остальные жирондисты, чувствовала, что вскоре они умрут — и «мудрый, как Сократ», Бюзо, и прекрасный, как Антиной, Барбару, и саркастический Гаде, и похожий на квакера Бриссо, и изысканный Валазе, и благородный Дюко, и пылкий Фонфред, и непреклонный Петион, и смелый, но недалекий Лоз Деперре.
Когда собравшиеся у мадам Ролан жирондисты сели за стол и подняли тост за республику, Манон, следуя примеру женщин античности, взяла букет роз и, обрывая лепестки, стала бросать их в стаканы гостей. Все выпили, и Верньо шепнул на ухо Барбару: «Не лепестки роз, а веточки кипариса надо бросать в вино, когда пьешь за республику, рождение которой запятнано кровью сентябрьских убийств». У многих в ту минуту мелькнула такая же мысль.
* * *
В избранном всей страной Конвенте у жирондистов сложились сильные позиции: вместе со своими сторонниками они составили большинство, множество журналистов разделяли их взгляды, и они чувствовали поддержку в буквальном смысле всей Франции — ведь за них голосовали департаменты. В Париже не избрали ни одного жирондиста. Поэтому несмотря на обширное «болото», Жиронда с самого начала решила повести наступление на «триумвират» — Марата, Дантона и Робеспьера, возложив на них ответственность за сентябрьские убийства и обвинив их — прежде всего Марата—в стремлении к узурпации власти, а следовательно, в измене республике. И хотя «добродетельный Ролан» и предлагал «набросить покрывало забвения» на сентябрьские дни, в Конвенте прошел слух, что Марату грозит обвинение в подстрекательстве к кровавым беспорядкам, ибо накануне сентября Марата ввели в состав Коммуны.
Марат поднялся на трибуну Конвента 25 сентября, когда большинство депутатов еще пребывали в эйфории от победы. В потрепанном фраке, расстегнутой рубашке, с огромным пистолетом за поясом, он, по отзывам современников, выглядел воинственно и ужасно. Черные космы спадали на лоб, из-под всклокоченных волос грозно сверкали черные глаза. Некоторые впервые видели Марата, до этого они только слышали о нем и, подобно многим, иногда сомневались в его существовании. Даже на монтаньяров он производил отталкивающее впечатление. Никто из членов Якобинского клуба не подписывался на газету Друга народа. «Этот одержимый фанатик внушал нам всем какое-то отвращение и ступор. Когда мне показали его в первый раз, когда он дергался на вершине Горы, я смотрел на него с тем тревожным любопытством, с которым смотрят на некоторых отвратительных насекомых. Его одежда была в беспорядке, в его бледном лице, в его блуждающем взоре было нечто отталкивающее и ужасное, что печалило душу. Все мои коллеги, с которыми меня связывала дружба, были со мной согласны», — вспоминал монтаньяр Левассер. Выхватив пистолет и приведя депутатов в смятение, Марат заявил: «В этом зале у меня много личных врагов». В ответ, охваченный ужасом, любопытством и гневом, зал громогласно воскликнул: «Все! Здесь все твои враги!» Тогда Марат приставил к виску пистолет и заявил, что, если против него будет выдвинуто обвинение, он пустит пулю себе в голову. Трудно сказать, насколько искренним было это заявление: сила Марата заключалась в слове, а не в умении владеть оружием.
Устами Марата красноречие насилия и произвола толпы вело наступление на красноречие революционной законности. В этот раз Другу народа удалось убедить Конвент в своей готовности пойти на уступки и доказать, что его выступления в поддержку диктатуры продиктованы исключительно желанием не допустить реставрации монархии. Теперь, когда в стране установлена Республика, он готов отдать все силы работе в Конвенте, депутатом коего его избрали добрые санкюлоты. «Желчная жаба, которую глупое голосование превратило в депутата», — ехидно шепнул кто-то на скамьях Жиронды. Выслушав патетическую тираду Марата, Кондорсе заметил: «Бывает, что мужественные с виду поступки на самом деле исключительно смешны. Вот так и господин Марат со своим пистолетом…» Многим запомнились яростные нападки Шабо, обвинявшего Марата в стремлении к диктатуре. Впоследствии беспринципный Шабо с таким же пылом станет метать громы и молнии в сторону Шарлотты Корде.
Появление в Конвенте Марата с пистолетом стало первым шагом в его ожесточенной борьбе против Жиронды. Ни о каком примирении и речи не шло, ибо, по мнению Марата, высказанному им в его газете, «зловредная клика Гаде-Бриссо» под руководством «усыпителя» Ролана плела заговор, чтобы уничтожить Друга народа и истребить всех друзей свободы. Анахарсис Клоотс писал с позиции стороннего наблюдателя: «Марат призывает к убийствам, Ролан к либерализму, но народ равно смеется над их выспренними речами и восхищается их добродетелью. С идеями Ролана невозможно реформировать основы нашего конституционного строя, с идеями Марата, на мой взгляд, равенство в правах на деле станет для нас настоящим бедствием. Поэтому я уповаю на мудрость народа, которая превосходит глупость отдельных его представителей». В борьбе Марата против Жиронды избиратели поддерживали своих представителей: Париж — Марата, провинция — Жиронду.
* * *
Опасаясь не очень-то дружественного к ним города, жирондисты попытались провести декрет о создании федеральной гвардии для охраны Конвента, но их немедленно обвинили в том, что они угрожают собранию народных представителей. Аналогичный отпор вызвало и предложение перенести столицу в провинцию или на крайний случай создать где-нибудь в Блуа или Туре своего рода «запасной» Конвент. Подобные предосторожности диктовала нестабильная обстановка на фронтах, однако жирондистов немедленно обвинили в федерализме, противопоставив их призывам лозунг, выдвинутый Кугоном: «Французская республика, единая и неделимая».
Двадцать девятого октября Луве, наконец, решил выступить с речью, которую его друзья успели прозвать «Робеспье-риадой». Небольшого роста, с редкими белокурыми волосами и бледным, меланхолическим лицом, Луве невыигрышно смотрелся на трибуне, однако в тот день он выглядел таким решительным, что даже со зрительских мест Горы не донеслось ни одного выкрика. Луве обвинил Робеспьера в стремлении к узурпации власти и в попустительстве сентябрьским убийствам, подчеркнув, что во главе убийц стояли офицеры в трехцветных шарфах, подчинявшиеся Парижской коммуне, членом которой являлся Робеспьер. «Робеспьер, я обвиняю тебя в клевете на патриотов! Обвиняю тебя в том, что ты позволил поклоняться себе как божеству! Ты стремишься к верховной власти!» Робеспьер, не обладавший талантом импровизатора, молча выслушал отточенные инвективы Луве и холодным от ярости голосом пообещал через неделю дать ответ. Оратор крайне разозлил Робеспьера — прежде всего тем, что будучи автором безнравственного романа, он с трибуны народного собрания дерзал говорить о добродетели. А для Робеспьера добродетель всегда являлась понятием священным. Строгость нравов на всех революционных виражах снискала Робеспьеру фанатичное обожание сторонников, благодаря которым он получил практически неограниченную власть в Конвенте и Якобинском клубе. Робеспьер вряд ли мог себе представить, что в личной жизни Луве не менее добродетелен, чем он сам: «безнравственный» автор всю жизнь был верен одной женщине, которую в шутку называл Лодоиской[54]. Однако, как в свое время заметил кардинал Ришелье, если человек хочет во всем оставаться добродетельным, ему лучше остаться частным лицом, а не заниматься политикой…
Желая закрепить успех своей партии, Барбару на следующий день тоже выступил с речью против Робеспьера, а министр внутренних дел Ролан даже напечатал ее для распространения в провинции. Но в Париже нападки на Неподкупного ни к чему не привели. 5 ноября Робеспьер, как всегда, спокойный и сосредоточенный, поднялся на трибуну Конвента и опроверг обвинения, выдвинутые в его адрес, умело обойдя роковой вопрос о том, где он находился в трагические сентябрьские дни. Конвент рукоплескал, якобинцы исключили из своих рядов Луве, а вскоре в клубе не осталось ни одного жирондиста. Забегая вперед отметим, что Якобинский клуб вскоре взял на себя роль высшего духовного органа страны, без одобрения которого фактически не проводилось ни одного решения; проект декрета, поддержанный в клубе, гарантированно утверждался в Конвенте.
Осенью 1792 года французские войска, одержавшие под командой генерала Дюмурье блистательные победы при Вальми и Жемаппе, разбили интервентов на территории Франции и перешли ее рубежи. Победа окрыляла французов, монарха свергли, при всеобщем подъеме прошли выборы в Национальный конвент, и мечта республиканцев, равнявшихся на античный Рим, оказалась совсем близко, рукой подать. Но воспитанники Вольтера жирондисты никак не находили общего языка с воспитанными Руссо якобинцами. Жирондисты хотели остановиться и начать пользоваться плодами завоеванной свободы. Выработать новую Конституцию, прописать в ней права граждан, закрепить принцип репрезентативного правления, защитить граждан от посягательств власти и тем самым не допустить возврата к тирании. Сделать политику «нравственной». «Надобно, чтобы закон входил и во дворцы вельмож, и в хижины бедняков, чтобы, падая на головы виновных, он был неотвратим, как смерть, и не различал ни рангов, ни титулов», — писал Инар. Не было еще ни совершенных законов, ни порядка, ни всеобщего благоденствия, но многим казалось, что почва для справедливых законов уже расчищена. Равенство виделось равенством перед законом, а братство воплощалось в дружбе.
В отличие от жирондистов, якобинцы выше власти выборной ставили власть завоеванную, то есть революционную, постоянно находившуюся в конфликте с частью общества, которая против этой власти злоумышляла. Революционная власть не могла существовать без врагов, под равенством подразумевала равенство социальное, а братством считала открытость поступков и жизни каждого гражданина. «Героический энтузиазм передается во время общественных манифестаций, переходит от человека к человеку, — писали тогдашние идеологи монтаньяров, — поэтому во время манифестаций легче обнаружить врагов свободы». Они хотели создать республику, где граждане живут исключительно общественными интересами. Для этого, считали они, следовало всего лишь вернуться к природной простоте нравов и побороть разврат. Уповая на природную неиспорченность человеческой натуры, якобинцы полагали, что, оздоровив нравы, они смогут построить справедливое, добродетельное общество. Но придумывая законы для новой республики гражданского равенства, они, видимо, забывали высказывание Жан Жака Руссо о великом таинстве законодателя: оно состоит не в том, чтобы «начертать хороший закон, который иногда может хорошо сочинить даже студент, а в том, чтобы узнать, превозможет ли сила закона, сим законодателем измысленного, над силою наклонности к пороку, без чего наилучший закон становится бесполезен и даже и вреден». И ни якобинские «деспоты от свободы», ни жирондистские мечтатели не знали, где найти для каждого тот клочок земли, на котором можно было бы в соответствии с идеалами Вольтера и Руссо возделывать свой сад и зарабатывать себе на хлеб. Как заметил один из французских историков, жирондисты давали народу фразы вместо хлеба, монтаньяры — головы вместо хлеба. Жестокая борьба, которую через двести с лишком лет изучают как противостояние идеологий и политических концепций, в те времена виделась соперничеством вполне конкретных личностей, духовный и физический облик которых наложил на борьбу идей зримый трагический отпечаток.
Для жирондистов воплощением анархического зла стал Марат, критиковавший любую власть, в том числе и ту, частью которой он стал, будучи избранным в Конвент. Марат, заявивший сразу после свержения монархии: «Для того чтобы примирить долг гуманности с заботой об общественной безопасности, я предлагаю вам казнить каждого десятого из числа контрреволюционных членов муниципалитета, мирового суда, департамента, Национального собрания. Если вы отступите, имейте в виду, вы ничего не сделаете для свободы». Марат, написавший во время выборов: «Мои дорогие соотечественники, вашим несчастьям не будет конца, покуда народ не истребит всех до последнего приспешников деспотизма, всех до последнего членов бывших привилегированных сословий». Марат, громче других требовавший голову Капета[55], а после его казни утверждавший, что «Конвент не сделал ничего, кроме того, что он использовал некие благоприятные обстоятельства, чтобы заставить свалиться голову тирана». Марат, предлагавший казнями бороться с дороговизной и укрывательством продовольствия: «…разграбление нескольких магазинов и повешение у их дверей перекупщиков должны положить конец злоупотреблениям». Марат, поддержавший гонения на «бешеных»[56] и выступивший за контроль над печатью, ибо «для ускорения возврата к Старому порядку достаточно, чтобы какой-нибудь ловкий мошенник у себя в газете сравнил цены на продукты питания при деспотизме и при Республике». Постоянно рвущаяся наружу ярость требовала врагов, и Марат, возможно, сам того не желая, стал для Горы прекрасным щитом против «бешеных», с которыми у него было гораздо больше общего, чем, например, с Робеспьером.
* * *
После казни Людовика XVI Франции, по словам Бриссо, «предстояло сражаться на суше и на море со всеми тиранами Европы». Необходимость вести войну почти на всех границах еще больше разобщила две главные фракции Конвента — жирондистов и монтаньяров. К этому времени Конституционный комитет, в состав которого из лидеров якобинцев попал только Дантон, завершил работу над новой республиканской Конституцией, автором проекта которой явился Кондорсе. Марат сразу же назвал предложенные в ней демократические процедуры безумием. Ни он, ни монтаньяры не приняли эту Конституцию, ибо она, во-первых, исходила от жирондистов, а во-вторых, новая Конституция означала новые выборы, в победе на которых монтаньяры уверены не были — в отличие от жирондистов, по-прежнему полагавшихся на поддержку департаментов, где многие граждане, действительно, стремились отмежеваться от якобинцев, ибо те «поддерживали каннибала Марата».
Но в Париже история вершилась не в пользу жирондистов. В марте стало известно об измене генерала Дюмурье, чье имя во многом благодаря стараниям Марата связывали с Жирондой. Хотя Дюмурье был дружен не только с Бриссо, но и с Дантоном, в заговоре и измене обвинили фракцию «государственных людей», как ехидно именовал жирондистов Марат. В Вандее, где всегда были сильны роялистские настроения, вспыхнул мятеж, поводом для которого послужил новый набор волонтеров для армии. Жирондистов обвинили в бездеятельности и нежелании подавить мятеж, стремительно перераставший в гражданскую войну.
Робеспьер постоянно намекал, что после провозглашения Республики многие республиканцы перестали быть таковыми, и выразительно смотрел на жирондистов. В Париже нарастал продовольственный кризис, очередь за хлебом занимали с ночи. Одна за другой в Конвент являлись народные депутации с требованиями установить контроль над ценами на продовольствие, а 10 марта несколько секций даже попытались поднять восстание, поддержанное «бешеными». Ни жирондисты, ни монтаньяры действия «бешеных» не одобрили, однако немедленно воспользовались предлогом и обвинили друг друга в подстрекательстве к беспорядкам. В Конвенте кипели страсти. Назвав противников интриганами и заговорщиками, Робеспьер в очередной раз обвинил жирондистов в умеренности и даже потребовал предать их суду. В скобках заметим, что эпитет «умеренный» становился все более опасным, а в эпоху Террора его, в сущности, приравняли к определению «контрреволюционный». Немедленно с ответом выступил главный оратор Жиронды Верньо. Его эмоциональная импровизация привлекла на сторону жирондистов большую часть «внефракционных» депутатов, так называемое «болото», ибо, несмотря на выпады в сторону якобинцев, ее лейтмотивом стало стремление к примирению. «О, да простят нам нашу умеренность! Если бы мы приняли вызов на бой, который нам неустанно предлагают здесь, я бы напомнил нашим обвинителям, что, как бы ни старались они навлечь на нас подозрения, какой бы клеветой ни осыпали нас, наши имена по-прежнему более уважаемы, нежели их, а потому из всех департаментов в столицу явились бы люди, одинаково враждебные и анархии, и тирании. И тогда и наши обвинители, и мы были бы истреблены огнем междоусобной войны!»
Страсти не утихали ни на улицах, ни в Конвенте. Возбуждение умов было столь велико, что во время заседания Деперре, тот самый, которому Шарлотта Корде передаст письма от его бежавших в Кан друзей-жирондистов, со шпагой в руке кинулся через трибуны на депутатов Горы. К счастью, инцидент обошелся без жертв, Деперре успокоился, принес свои извинения, и собрание простило его, приписав его вспышку гнева временному умопомрачению. По требованию секций, желавших покончить с изменами, о которых без устали твердил в своей газете Марат, Конвент принял решение о создании Революционного трибунала, который будет вершить суд над врагами народа и республики без права апелляции. Жирондисты, в большинстве своем бывшие служители Фемиды, голосовать за создание трибунала отказались и покинули зал. Наступала «странная эпоха, когда исполнение того, что тогда называли обязанностями гражданина, начало брать верх над всеми прочими занятиями».
Во имя «общественного спасения» в конце марта были образованы комитеты революционной бдительности, главные органы будущего Террора. Во имя «общественного спасения» Марат призывал разоблачить «дьявольскую клику», препятствовавшую работе Конвента. Кто более Ролана заслуживал эшафота? Разве только всякие Гаде, Верньо, Бриссо, Барбару, Луве, тайно подрывающие единство республики. И будучи избранным очередным председателем Якобинского клуба, Марат открыто потребовал «ниспровержения партии Ролана», «сообщников изменника Дюмурье». Борьба с Маратом становилась для жирондистов поистине делом жизни, ибо после учреждения Революционного трибунала проигравшего в политической игре ждала только смерть. И жирондисты пошли в наступление.
Взяв слово, Гаде связал измену Дюмурье со стремлением герцога Орлеанского, заседавшего в Конвенте на скамьях Горы под именем гражданина Эгалите, восстановить монархию. Зачитал инвективы Марата против жирондистов, произнесенные Другом народа у якобинцев. И, наконец, обращение Якобинского клуба к своим филиалам в провинции, где парижане призывали своих собратьев выступить против сторонников Жиронды: «К оружию! Грозные враги ваши сидят среди вас, контрреволюция гнездится в правительстве, в Конвенте; именно там преступные обманщики плетут сеть заговора, в который они вступили с ордой деспотов. Они готовы растерзать вас в сенате! Так вознегодуем же, республиканцы, и идем вооружаться!» В конце выступления Гаде потребовал привлечь Марата к суду за клевету. Страсти накалялись. Примкнувший к жирондистам депутат Вермон обвинил Марата в составлении списка новых жертв. Друг народа требовал отсечь еще 270 тысяч голов… Одержимый поисками заговорщиков, Марат мог причислить к «преступной клике» любого, поэтому даже фракция монтаньяров не решилась открыто поддержать его. Из якобинцев в поддержку Марата выступил только Тирион, но Друг народа горделиво отверг его помощь. В течение двух дней в Конвенте бушевал ураган, в результате которого 13 апреля при поименном голосовании 226 депутатов (92 голоса против, 46 воздержались) высказались за то, чтобы привлечь Марата к суду. «Уверен, большая часть парижан аплодисментами приветствует изгнание этого нечистого человека из храма свободы!» — воскликнул воодушевленный постановлением Бюзо. Кипение страстей было столь велико, что некий англичанин по фамилии Джонсон сначала выступил с разоблачением Марата, а потом в знак протеста против анархии закололся на глазах у потрясенного Конвента.
Возможно, за предание Марата суду проголосовало бы еще больше депутатов, если бы многие из тех, кто трезво смотрел на — пока еще словесные — баталии в Конвенте, не опасались, по выражению Дантона, создать прецедент, пробить брешь в депутатской неприкосновенности, ибо даже крошечная трещина в этой стене грозила превратиться во врата смерти.
«Дабы враги его не совершили преступления», Марат решил не подчиняться решению о своем аресте и в ожидании суда ушел в подполье, откуда продолжал громить «бесстыдную и преступную шайку», обвиняя ее во всех смертных грехах. Теперь его газета выходила без указания адреса типографии. Кто-то из современников рассказывал, как однажды в разговоре Марат заметил, что для нации с 30 или даже 25 миллионами населения 300 тысяч голов являются не слишком большой потерей: всего одна голова на сто… Наверное, поэтому из провинции депутатам поступали наказы: «…Снесите голову Марату, и отечество будет спасено… Очистите Францию от этого кровопийцы… Марат видит общественное спасение только в потоках крови. Так пусть же прольется его кровь, пусть упадет его голова, чтобы спасти двести тысяч голов… О, Марат!.. Кровожадный Марат…»
Двадцать четвертого апреля Марат, прокладывая путь среди восторженной толпы, вошел в здание суда и, поднявшись на трибуну, заявил: «Граждане, перед вами не преступник, а апостол и мученик свободы, которого травят враги отечества и преследует гнусная клика государственных людей». Защитительная речь Марата, в сущности, превратилась в обвинительную речь против жирондистов. Марата единодушно оправдали, а толпа, ожидавшая своего кумира возле выхода, увенчала его лавровым венком. Вот что написал о суде над Маратом Ретиф: «Марат — настоящий патриот. Женщины осыпали его цветами и ввели в зал, где слушалось дело. И там Марат сел, куда захотел, и отвечал, как хотел, и даже сам задавал вопросы судьям. Все, что он написал, отличалось глубокой мудростью; а что касается некоторых преувеличений, то действительность сама привела их в соответствие. С него сняли обвинение; ему вручили гражданский венок. Он вышел с триумфом и его носили по улицам как Мардохея[57]; еще немного, и его обвинителей постигла бы судьба Амана… но вскоре это случится… Ах, как можно простить газету "Журналь дю суар"[58], которая напечатала отчет о защите Марата, снизив его патриотический накал? Какое коварство со стороны издателя! Разве так служат делу патриотов?.. Я же посвящаю триумфу Марата целый абзац». Кому-то из современников запомнились голые ступни Марата, торчавшие из рваных сапог, когда Друга народа, усадив на стул, носили по улицам Парижа, кому-то — его пистолеты, заткнутые за пояс. Кто-то вспоминал братскую трапезу, устроенную вечером в честь триумфа Марата патриотами с улицы Кордельеров, где проживал Друг народа. Рассказывали об ужине в клубе кордельеров, где чествовали оправданного Марата. А кто-то, вслед за Клопштоком, про себя повторял: «Что же это за нация, если она сделала из отвратительного Марата настоящего бога?»
С провалом суда над Маратом гибель жирондистов была предрешена. По предложению депутата Конвента Бертрана Барера была создана Комиссия двенадцати, призванная примирить враждующие фракции, но примирение не состоялось. В комиссию вошли одни жирондисты, и деятельность ее тотчас стала мишенью для нападок Горы и Марата, ставшего рупором, флагманом и авангардом борьбы против Жиронды. В Париж приходили известия о выступлениях роялистов в Марселе и Бордо, о мятеже в Лионе, и Марат немедленно указывал на жирондистов как на их организаторов. Одно из воззваний, составленных по указке Марата, было зачитано в Конвенте: «Кто более Ролана заслуживает эшафота? Законодатели, угрожайте казнью! Монтаньяры Конвента, спасайте Республику! А если вы чувствуете себя недостаточно сильными для этого, признайтесь откровенно, и мы сами возьмемся за дело». Поднялся шум, однако кричали в основном противники Жиронды. Петион попытался усмирить депутатов, напомнив им, что еще недавно автор этого листка вызывал у присутствующих ужас. Дантон перебил его, заявив, что парижане, столько раз доказывавшие свою преданность революции, имеют право вывести своих врагов на чистую воду. Стремясь придерживаться буквы закона, Робеспьер высказался туманно, но в накаленной атмосфере Конвента любой упрек в сторону жирондистов звучал как обвинение в измене и заговоре.
За помощью жирондисты могли обратиться только к своим департаментам, а их противники в любой момент могли призвать на подмогу национальных гвардейцев. Во время ночных совещаний в гостиной у Роланов, начинавшихся после заседаний Конвента, Манон убеждала друзей добиваться ареста Робеспьера, Дантона и Марата и закрытия клубов. Но после провала проекта Конституции депутатов Жиронды охватило состояние политической апатии; словно уверовав в неминуемую гибель, они, казалось, готовились принять мученическую смерть. Сделав слабую попытку защитить себя от нападок, они арестовали издателя газеты «Папаша Дюшен» Эбера, являвшегося в те дни прокурором коммуны, и обвинили его в том, что он открыто призвал к свержению Жиронды. Немедленно в Конвент прибыла депутация от коммуны с требованием освободить любимого массами журналиста. В ответ взволнованный Инар, бывший в тот день председателем, заявил: «Если будет нанесен удар по национальному представительству, то я объявляю вам от имени всей Франции, что на берегах Сены скоро будут искать то место, где некогда стоял Париж!..» Этот вопль отчаяния парижане восприняли как угрозу; негодовали все — и те, кто находился в Конвенте, и санкюлоты, ожидавшие у входа своих делегатов. И 26 мая Марат призвал парижан пойти в наступление против Жиронды.
* * *
Можно сказать, что свержение Жиронды явилось делом рук Марата. Он открыто подготавливал восстание. Говорят, когда рано утром 31 мая 1793 года в Париже забил набат, это звонил сам Марат, забравшийся на каланчу. Вновь избранный командующий национальной гвардией Анрио вместе со своими солдатами и воинственно настроенными санкюлотами окружили здание Конвента, нацелив на него почти полторы сотни пушек. Парижане, преградив выход из Конвента, потребовали арестовать и выдать им «двадцать девять преступников», как теперь называли жирондистских депутатов. Изгнанников посадили под домашний арест: у восставших пока не поднималась рука на законных избранников народа.
При известии об аресте жирондистов в провинции начались выступления в их защиту: Нормандия, Бордо, Ним, Марсель выразили свое возмущение поведением парижан. Генеральный совет Кальвадоса отправил в столицу делегацию из десяти человек — защитить своих депутатов. Но нормандцы прибыли слишком поздно: их даже не пустили на трибуну Конвента. Вернувшись к себе, они поведали об охватившей столицу анархии, и Совет департамента, под впечатлением от их рассказов, принял решение «объявить вечную войну ажитаторам, подстрекателям, маратистам». Канские якобинцы порвали со своими парижскими собратьями. Граждане Кальвадоса обратились с воззванием ко всем французам:
«Оскорбленное отечество взывает к нам. Упившаяся кровью, погрязшая в золоте коммуна, состоящая сплошь из заговорщиков, удерживает под арестом наших депутатов. Окружив себя штыками, она осмелилась диктовать свою волю Конвенту. В результате действий этих дерзких мятежников тридцать два депутата, облеченных нашим доверием, не могут больше исполнять свои обязанности. Национального представительства более не существует.
Французы, наша свобода попрана. Свободные люди Кальвадоса не намерены мириться с таким оскорблением. Все как один они готовы умереть, лишь бы наказать разбойников. Так объединимся же в священном заговоре против разбойников, и отечество будет спасено.
Война королевской власти, война анархии, да здравствует республика единая и неделимая. Да здравствуют законы, безопасность граждан и собственности.
Свободу Конвенту, и пусть вся Франция поднимется вместе с нами, и пусть следом за нами повторяет наши клятвы! Дрожите, угнетатели свободы!»
* * *
Если судить по воззванию, в столице Кальвадоса падение жирондистов и последующее установление диктатуры монтаньяров восприняли как удар по революции. Какие мысли и чувства обуревали в это время Шарлотту Корде? Никаких записей она не оставила, подруги, с которыми она могла быть откровенной, находились далеко, а практиковавшаяся в те года перлюстрация частной переписки не позволяла безоглядно доверять бумаге мысли и чувства. Поэтому мы приведем написанные спустя несколько десятков лет строки Ламартина, которые, как нам кажется, созвучны чувствам, охватившим Шарлотту при известии о торжестве Марата и поражении республиканцев: «Отныне народное собрание перестало быть представительством: оно обратилось в правительство. Оно самостоятельно правило, судило, чеканило монету, сражалось. Это была сплотившаяся Франция: одновременно голова и рука. Эта коллективная диктатура имела перед диктатурой одного лица то преимущество, что она была неуязвима и не могла быть прервана или уничтожена ударом кинжала. Отныне перестали спорить, а начали действовать. Исчезновение жирондистов отняло голос у революции. Заседания проходили почти в молчании. В Конвенте водворилась тишина, нарушаемая лишь шагами проходивших за оградой батальонов, залпами вестовой пушки и ударами топора гильотины на площади Революции».
Наверное, если бы Шарлотта прочла эти слова, ей бы сразу бросились в глаза три слова: диктатура, кинжал, гильотина. Именно эта триада вскоре решит ее судьбу. Духовная дочь героев Корнеля уже готова взять в руку кинжал Брута и принести себя в жертву на алтаре отечества. Остается только определить имя диктатора. Вокруг много говорят о триумвирате, но слабая женская рука не в состоянии отсечь у дракона все три головы. Надо сделать выбор.
Пока монтаньяры были заняты формированием революционных батальонов, чтобы задержать двинувшиеся на защиту своих депутатов полки федератов, находившиеся под домашним арестом жирондисты пользовались относительной свободой: ходили друг к другу в гости, вместе обсуждали дальнейшие планы. «Клянемся вонзить наши кинжалы в грудь тиранов!» — в едином порыве восклицали они, но дальше клятв и речей дело не продвигалось. В Париже, где у них было слишком мало союзников, ждать помощи не приходилось ни от кого, на быструю поддержку провинций надеяться вряд ли стоило, тем более что монтаньяры, имевшие разветвленную сеть агентуры и многочисленные филиалы Якобинского клуба, сразу же после изгнания ненавистной Жиронды развернули активную агитацию в провинциях.
Жирондисты не могли поднять восстание. Республиканцы, всегда готовые воззвать к теням Брута и Катона, они не могли призывать к расправам без суда. Республика виделась им в образе прекрасной римлянки в белоснежной тоге и фригийском колпаке на гордо поднятой голове; римлянка простирала руки к своим мужественным защитникам, готовым вонзить кинжалы в грудь рвущихся к ее пьедесталу тиранов. Они не могли, подобно Марату, обещать всем скорое счастье ценой чужих голов. Они были готовы умереть, но не были готовы убивать. Наверное, они пребывали в мечтах и иллюзиях.
По словам Мишле, политика жирондистов сводилась к понятию «ждать», а революция ждать не могла. По словам Матьеза, жирондисты начинали, но не умели завершать: объявили войну загранице, но не сумели одержать победу над врагом; разоблачили короля, но не решились устранить его; требовали республику, но не сумели управлять ею; и так во всем. И даже воспевший Жиронду поэт-романтик Ламартин отказал своим героям в политическим чутье: «они делали революцию, не понимая ее; они управляли, не понимая, как это следует делать»; нерешительность жирондистов ослабляла республику и в конечном счете играла на руку роялистам. Водоворот Истории, вынесший жирондистов на поверхность, вскоре утянул их в бездну — навсегда.
Часть жирондистов, подчиняясь требованию Конвента, добровольно сложила с себя депутатские полномочия, надеясь, таким образом, избежать преследований. Узнав об этом, Барбару заявил: «Если моя кровь нужна делу свободы, я прошу вас пролить ее. Если делу свободы нужна моя честь, я готов пожертвовать ею: грядущие поколения сумеют правильно оценить мою деятельность! Если Конвенту необходимо, чтобы я сложил с себя свои права депутата, я подчинюсь его постановлению. Но как я могу сам сложить с себя свои полномочия, если они были вручены мне народом?
Как я могу считать себя подозрительным, если из своего департамента, и из трех десятков других, из сотен народных обществ, я постоянно получаю свидетельства доверия и утешения, и только здесь каждый день подвергаюсь нападкам? Нет! Не ждите от меня отставки! Я поклялся умереть на своем посту, и я сдержу клятву!» Воспользовавшись неопределенностью ситуации, некоторые депутаты бежали в провинцию, где надеялись найти убежище и возможность продолжить бороться с диктатурой. Страна оказалась расколотой на два лагеря, и было ясно, что оба лагеря вскоре двинутся друг на друга войной.
Глава 6. КИНЖАЛ БРУТА
Для блага всей страны нам смерть необходима
Того, в ком ничего не назовешь людским,
Кто тигром яростным родной терзает Рим.
Корнель. Цинна
В Кальвадосе Совет департамента еще в начале мая объявил войну «анархии» и принял постановление сформировать департаментскую армию и отправить ее в Париж для охраны Конвента. Присланных из столицы комиссаров Конвента Ромма и Приера мятежное собрание заключило в тюрьму и отменило отправку в Париж транспорта с продовольствием, тем самым нанеся сильный удар по парижанам, которым грозил голод. К арестованным якобинцам относились снисходительно, и Ромм, сидя в камере, разрабатывал республиканский календарь[60]. Неудачи отправляемых в столицу депутаций местные власти, как это свойственно нормандцам, воспринимали спокойно, решение формировать армию не отменяли, но и не спешили с его исполнением. Однако Бугон-Лонгрэ парижские неудачи, очевидно, огорчали. «Законодатели, будьте уверены, наши доблестные армии не позволят надеть на себя ярмо тирании. Мы посвятили наши жизни и наши руки свободе Республики, и наш последний кинжал сразит того, кто попытается установить верховную диктатуру», — убеждал он парижан, но те не стремились исполнять требования провинциальных депутатов. Прежде чрезвычайно активный, Бугон-Лонгрэ стал реже появлялся на собраниях, без него принимали резолюции и обращения. Говорят, в это время он часто встречался с Шарлоттой. Молодой человек рассказывал ей о Париже, а она засыпала его вопросами. Ведь мадемуазель Корде никогда не покидала родной Нормандии, а точнее, окрестностей Кана. И ее наверняка интересовали не только заседания Конвента, но и самые простые вещи: что носят в Париже, какие там дома и улицы. Вероятно, Бугон-Лонгрэ был талантливым рассказчиком, ибо когда Шарлотта приедет в Париж, она не почувствует себя ни растерянной, ни удивленной. И конечно же она не раз слышала из его уст ненавистное имя Марата.
Что происходило с Шарлоттой в то время, когда в Конвенте разворачивались баталии жирондистов против Марата? Возможно, до нее дошли слухи, что агенты Марата скупают в провинциях серебро… Жаклин Доксуа написала, что Шарлотта могла бы полюбить убийцу Марата… А вдруг мадемуазель Корде, действительно, решила взять кинжал Немезиды из рук того, кто пленил ее сердце? Увы, история любви Шарлотты Корде вряд ли будет написана, ибо мечтания свои она унесла с собой в вечность, и нам остается только гадать, был ли в сердце этой величественной Химе-ны образ неведомого нам Родриго. И вместе с Ламартином утверждать, что «страсть, которую она питала бы к одному человеку, она перенесла на отечество. Она все более и более погружалась в мечты, изыскивая, какую услугу она могла бы оказать человечеству. Жажда принести себя в жертву обратилась у нее в безумие, страсть или добродетель. Даже если бы эта жертва должна была быть кровавой, она все-таки решила принести ее. Она дошла до такого отчаянного состояния души, которое разбивает личное счастье не ради славы и честолюбия, как у госпожи Ролан, но ради свободы и человечества, как у Юдифи или Эпихариды. Ей недоставало только случая; она выжидала его, и ей казалось, что он уже близко».
Когда этот случай представился, когда прозвучал медный голос труб и вторящий ему погребальный звон колокола? Иначе говоря, когда Шарлотта приняла решение убить Марата? Многие полагают, что подтолкнувшим ее к действию событием явилась назначенная на 5 апреля казнь кюре Гомбо. Маловероятно, чтобы Шарлотта ходила на площадь Сенсовер, куда поставили страшную машину для отсечения голов. В паспорте, прошение о котором она подала на следующий после казни день, целью ее поездки указан Аржан-тан, городок неподалеку от Кана, где в то время жили ее отец и сестра Элеонора. Решение ехать в Париж возникло позднее.
В паспорте мадемуазель Корде значилось: «Родина. — Свобода. — Равенство Департамент Кальвадос. Дистрикт Канн.
Паспорт, выданный гражданке Мари Корде, родом из Мениль-Имбера, проживающей в Кане, муниципальном округе Кан, дистрикт Кан, департамент Кальвадос, возраст 24 года, рост пять футов один дюйм, волосы и брови каштановые, глаза серые, лоб высокий, нос прямой, рот небольшой, подбородок круглый, с ямочкой, лицо овальное.
Она направляется в Аржантан, просьба в случае необходимости оказывать ей помощь и содействие.
Выписан в доме коммуны города Кана 8 апреля 1793, 2-го года Французской Республики, нами Фоссе-старшим, муниципальным служащим.
Выдан нами, нижеподписавшимся секретарем, и подписанный означенной гражданкой Корде.
Мари Корде (подпись) Анри, секретарь (подпись)».
На обороте документа можно прочесть: «Выдано в доме коммуны города Кана для поездки в Париж.
23 апреля 1793, Второй год Республики».
Но 23 апреля жирондисты еще надеялись свалить Марата, суд над которым состоится только на следующий день, то есть 24 апреля, а значит, ни в Париже, ни тем более в Кане не знают о триумфе Друга народа и уповают на торжество правосудия. Зачем тогда Шарлотта собралась в Париж, где у нее нет ни друзей, ни знакомых? Вряд ли она собралась ехать в столицу «просто так», посмотреть «колыбель революции». Правда, кто-то из подруг Шарлотты сказал, что разрешение на поездку в Париж она взяла вместе с одной из своих приятельниц, «за компанию». Но до сих пор Шарлотта не была замечена в спонтанных поступках, напротив, все, что она делала, являлось результатом ее глубокой убежденности в своей правоте. Возможно, к мысли о поездке в Париж Шарлотта пришла после рассказов Ипполита Бугон-Лонгрэ, неоднократно посещавшего столицу по поручению администрации Кальвадоса. Какие столичные новости производили наибольшее впечатление на сосредоточенную девушку, спокойную с виду, но в душе исполненную героического энтузиазма, не находившего себе применения? Что потрясло ее настолько, что она решила ехать в незнакомый ей город? Знала ли она, что противники монтаньяров считали Робеспьера более опасным, чем Марат? Что газета Эбера «Папаша Дюшен» и по популярности, и по кровожадным призывам, и по тиражу превосходила издание Марата? Или она в самом деле давно хотела положить конец заклинаниям Друга народа? А Ипполит Бугон-Лонгрэ сумел столь живо описать ей кумира парижской толпы, что она решила действовать немедленно? Огюстен Леклерк однажды подобрал выпавший из кармана Шарлотты клочок бумаги, где ее корявым почерком было написано: «Сделаю ли я это или не сделаю?» Следовательно, в Париж Шарлотта намеревалась ехать, чтобы совершить поступок, достойный своих любимых героев? И она знала, что вход на заседания Конвента свободный.
…Как женщина слаба! В душе моей горит тревожная борьба![61]В первые дни июня в столицу Кальвадоса, открыто занявшего сторону побежденных, стали прибывать жирондисты: из первых двадцати девяти обвиненных депутатов восемнадцать нашли прибежища в Кане, жители которого решительно высказались против нарушения прав народных представителей. Беглецов разместили в особняке Интендантства на улице Карм, где раньше находилась муниципальная администрация, переехавшая в аббатство Сент-Этьен. Шарлотта почти каждый день приходила в Интендантство посмотреть и послушать парижских знаменитостей: Барбару, Луве, Бюзо, Гаде, Горса, Петиона Валазе, Кервелегана, Ланжюине, Салля.
Эти люди, сами о том не ведая, определят судьбу Шарлотты Корде, вовлекут ее в свой трагический круг, а, узнав о гибели отважной девы, перед тем, как сойти в могилу, воздадут ей хвалу.
Пытаясь понять или хотя бы представить себе, чем жила в эти дни Шарлотта и какие мысли рождались у нее в голове, мы вступаем в область догадок. «К оружию, граждане!» — читала она на расклеенных по городу листовках. «Верховная власть народа подверглась оскорблениям, она вот-вот перейдет в руки гнусных заговорщиков, жаждущих золота и крови. К оружию, или уже завтра все департаменты станут данниками Парижа!» Возможно, она уехала бы еще раньше, ибо давно считала Марата главным виновником несчастий отечества. Но прибытие в город мятежных жирондистов не могло не отложить ее отъезд.
Кан превращался в центр федералистского мятежа. «Париж отбирает суверенитет у департаментов, Париж выкачивает из департаментов золото, Париж, презрев единство и неделимость Республики, хочет возвыситься надо всеми департаментами!» — говорили в Интендантстве, на улицах, площадях, везде, где стихийно собирались граждане. Переодетые агенты монтаньяров, присланные для распространения «анархических принципов и ужасной доктрины Марата», безуспешно пытались восстановить народ против жирондистов. В соседнем с Кальвадосом департаменте Эр собрание постановило выявленных агентов, именуемых «маратистами», высылать за пределы департамента. В Кане на улице задержали человека, собиравшего пожертвования; когда граждане узнали, что он делает это «в пользу Марата», они накинулись на него с кулаками. Многие зажиточные горожане не смирились с принятым весной по предложению Марата постановлением о принудительном займе у богатых. Впрочем, Марат намеревался идти еще дальше: сначала взимать с богатых контрибуцию на военные и прочие нужды и таким образом разорить их, а оставшееся имущество поделить между санкюлотами. Отобрать и поделить…
В штабе жирондистов царила магия слов, и ей с восторгом внимали граждане и гражданки, приходившие в Интендантство посмотреть на тех, кого злоба Марата изгнала из Конвента и кто в их глазах являлся гарантами Республики и свободы. Воззвание, написанное Барбару, расклеили по всему городу и разослали в соседние дружественные департаменты:
«Французы, вставайте и идите на Париж! Призывая вас в поход, я зову вас не сражаться с парижанами, а защитить нацию от гнета тиранов, защитить единство, объединить Конвент, обеспечить его свободу и убрать меч, занесенный над головами изгнанных депутатов».Под воззванием стояла подпись: «Барбару из Марселя, депутат департамента Буш-дю-Рон в Национальном конвенте, изгнанный силой с того места, куда его определила воля народа».
Именно Барбару стал лидером оппозиции в изгнании. Петион много времени уделял десятилетнему сыну, которого он привез с собой. Бюзо пребывал в постоянной тревоге за госпожу Ролан, и эта тревога лишала его былой силы и энергии. Сочинявший прокламации Луве никогда не претендовал на ведущие роли, ибо считал себя прежде всего писателем. Для депутата же из Марселя политика давно стала делом жизни. Постоянный оратор Конвента, он, сам того не заметив, перенял кое-что от Робеспьера. «Республика не сможет существовать, если не восторжествует добродетель», — подобное высказывание вполне могло прозвучать в устах Неподкупного. Но, в отличие от Робеспьера, Барбару полагал, что добродетель заложена в самой природе человека, и не собирался насаждать ее при помощи гильотины. Живая южная красота Барбару, хотя и несколько потускневшая, по-прежнему привлекала к нему женские взоры, и, по свидетельству современников, несколько аристократок Кана перешли в стан республиканцев исключительно под влиянием чар марсельца. Говорят, у него была интрижка с некой графиней Зелией, скрывшей свое настоящее имя под псевдонимом, и с темноволосой красавицей Анной, которым он посвящал стихи и даже приходил под балкон вздыхать.
Некоторые утверждали, что Шарлотта также не осталась равнодушной к обаятельному депутату. Но в их словах есть основания усомниться: мадемуазель Корде не любила красавчиков. Личные интересы в эти тревожные дни для нее вряд ли существовали. Но ее ненависть к Марату выступления Барбару наверняка укрепили. В то время как в Париже властвовали «чудовища, фурии и убийцы», с балкона Интендантства выступали герои революции. Раньше Шарлотта только читала гневные обвинения в адрес кровожадного триумвира; она, скорее всего, даже не видела его портрета. Марат представлялся ей некой разрушительной стихией, грозящей истребить республиканцев и стать тираном. Теперь же, в речах изгнанников, которых недаром называли кудесниками слова, Марат предстал перед ней в зримом образе чудовища — уродливой головой Горы. «У него в душе проказа; он пьет кровь Франции, чтобы продлить свои отвратительные дни. И если Франция не избавится от этого чудовища, анархия со всеми ее ужасами пожрет детей нации», — говорил Барбару, и перед взором Шарлотты безликая стихия анархии обретала очертания жуткого существа, имя которому Марат. Наверно, чем больше голов требовал Марат во имя спасения Республики, тем меньше видел он людей, с чьих плеч скатывались эти головы. Головы отсекали от ветвистого древа зла, и чем больше их отсекали, тем больше их вырастало. Для Марата враги народа превращались в гигантскую тысячеголовую гидру, для Шарлотты ненавистная тирания и анархия воплотились в облике чудовища Марата. Человек не может уничтожить стихию, но может уничтожить чудовище.
Кто-то считает, что ненависть к Марату (внушенная или подкрепленная Барбару) стала причиной возникновения между Шарлоттой и Барбару чувства, близкого к дружбе. Взаимной симпатии. Некоторые, наоборот, говорят, что жирондисты украдкой посмеивались, глядя на экзальтированную провинциалку в нелепых платьях, являвшуюся как на работу в особняк Интендантства и молча с благоговением взиравшую на народных представителей. Возможно, глядя на Шарлотту, они ностальгически вспоминали мадам Ролан.
Но, несмотря на молодость, блистательный ораторский талант, на поддержку граждан и гражданок, как юных, так и матерей и отцов семейств, готовых идти за защитниками Республики, чтобы освободить столицу от ненавистного Марата и восстановить законность, среди жирондистов не нашлось никого, кто смог бы повести федератов на Париж. Ни епископ Фоше, ни Ларивьер, ни Кюсси, избранные от Кальвадоса, не обладали достаточной энергией для организации сопротивления; среди членов Административного собрания взять на себя руководство мог бы Бугон-Лонгрэ, но и он оказался нерешительным. В результате во главе повстанческой армии оказался участник войны за независимость Соединенных Штатов генерал Феликс Вимпфен, начальником штаба у которого служил маркиз де Пюизе, впоследствии переметнувшийся в лагерь роялистов и возглавивший отряды шуанов[62]. Вимпфена не без основания подозревали в сочувствии монархии, и республиканцы назначили его скрепя сердца. Но иных кандидатур под рукой не оказалось.
Девятнадцатого июня в церкви Сент-Этьен начали записывать волонтеров в армию федератов. В энтузиастическом порыве в список, возглавленный местным кюре, записалось почти полторы тысячи добровольцев. Когда же опьянение речами прошло, большинство волонтеров поспешили вычеркнуть из него свои фамилии. В конце концов стать «солдатами свободы» и идти на Париж сразиться с «тиранией разбойников, оскорбивших народ, вырвавших из его рук власть и растративших его достояние» выразили желание всего сорок пять добровольцев. Рассудительные нормандцы не хотели оказаться невольными пособниками роялистов. Ипполит Бугон-Лонгрэ, окончательно растерявшийся перед лицом надвигавшихся событий, с трудом заставил себя записаться в стремительно сокращавшийся список. Тем не менее Вимпфен пообещал, что поведет на Париж не менее шестидесяти тысяч человек. В Эвре начали свозить продовольствие и армейское снаряжение.
На улицах Кана царило лихорадочное оживление. Стихийные депутации приходили в штаб жирондистов, дабы поклясться в верности республиканским идеалам. Девушки подносили изгнанникам цветы и венки, перевитые трехцветными лентами. Жирей-Дюпре сочинял стихи и даже написал Нормандскую Марсельезу, положив на музыку Руже де Лиля новые слова:
О, гордый город наш, вперед! Настанет славы час для Кана; На знамени его увидят Девиз «Законы или Смерть».Жители с восторгом принимали строки, посвященные их городу, и во все глаза смотрели на известных депутатов. В атмосфере всеобщего оживления Шарлотта — к удивлению многих — все больше замыкалась в себе, а когда Леклерк спрашивал ее, когда они вновь пойдут в Интендантство, отмалчивалась и отпускала его. Воспитанная аббатисой-аристократкой, девушка не позволяла себе появляться в общественном месте без сопровождения, и Леклерк с одобрения мадам де Бретвиль исполнял роль компаньонки мадемуазель Корде.
Перестав посещать Интендантство и выходить на улицу, Шарлотта тем не менее пребывала в центре событий: в окно она видела шествовавших по городу «депутатов свободы», слышала их зажигательные речи и становилась еще мрачнее. Сомнений в том, кто главный виновник бед ее отечества, у нее больше не осталось. Пусть себе депутаты собирают армию — по мнению Шарлотты, чтобы сразить чудовище, армия не нужна. «Для него армии слишком много, он не заслуживает таких почестей; чтобы поразить его, достаточно одной женщины».Скорее всего, уединение понадобилось Шарлотте, чтобы разработать план убийства Марата. Полагают, сначала она хотела нанести ему удар кинжалом на трибуне Конвента, для чего, собственно, ей и понадобилось рекомендательное письмо к Деперре, ибо тот как депутат мог провести ее на место рядом с трибуной. Но, похоже, по дороге она отказалась от этого замысла, поняв, что таким образом «в сиянии славы» погибнет не только она, но и злейший враг, а его героическая гибель в ее намерения не входила. В том, что она погибнет сразу вслед за Маратом, разорванная на части его разъяренными почитателями, у нее сомнений не было — она помнила страшную гибель Бельзенса и Байе.
После долгих размышлений она, наконец, нашла повод попросить аудиенции у Барбару: ее подруга, канонисса Александрии де Форбен, вынужденная эмигрировать в Швейцарию, осталась без средств, а ей хотелось получать положенную ей небольшую пенсию. Почему Шарлотта решила ходатайствовать за подругу именно перед Барбару? Форбены родом из Авиньона, Барбару — из Марселя, и их семьи были знакомы, поэтому Шарлотта надеялась заинтересовать депутата судьбой подруги и под благовидным предлогом получить желаемые рекомендации.
Идем, покажем всем, что духом мы сильны, Что нам кумиры их противны и смешны![63]Двадцатого сентября 1793 года Шарлотта, как всегда, в сопровождении Леклерка, явилась в Интендантство и сразу попросила провести ее к гражданину Барбару. В «Мемуарах», написанных Луве, когда он скрывался в пещерах Юры от якобинского террора, можно прочесть: «В Интендантство, где мы все размещались, к Барбару явилась молодая девушка высокого роста, стройная, благовоспитанная, со скромными манерами. Во всем ее лице, во всей фигуре поразительным образом соединились кротость и достоинство, свидетельствовавшие о чудной душе. С тех пор, как эта девушка приковала к себе взоры всего мира, мы вместе вспоминали обстоятельства этого визита, ибо теперь ясно, что милость, просимая ею для кого-то из родственников, была всего лишь предлогом. Истинным мотивом ее посещения явилось желание познакомиться с некоторыми из основателей той Республики, ради которой она готовилась принести себя в жертву. И, возможно, ей хотелось, чтобы потом, когда ее не станет, кто-нибудь запечатлел у себя в памяти черты ее лица. Так вот, в моей памяти они пребудут вечно».
Шарлотта попросила у Барбару рекомендательное письмо к министру внутренних дел, чтобы ходатайствовать за лишившуюся пенсии подругу. Барбару внимательно выслушал ее и обещал помочь, но заметил, что рекомендация изгнанника может навредить ее делу. Тогда она спросила, нет ли у него среди нынешних депутатов друзей, которым он мог бы рекомендовать ее, дабы те могли ходатайствовать за нее перед министром. Со своей стороны, Шарлотта предложила передать письма изгнанных жирондистов их друзьям в Париж. Барбару с радостью согласился, так как пользоваться официальной почтой было рискованно, и попросил Шарлотту зайти через несколько дней.
Мадемуазель Корде впервые разговаривала с человеком, бросившим вызов Марату, но не сумевшему победить его. О чем еще они говорили, помимо обсуждения способов помочь Александрии? Впечатление, произведенное Барбару на Шарлотту во время этой встречи, оказалось более сильным, нежели когда девушка лишь издали внимала его речам. После личного общения ее, видимо, перестала отпугивать красота «располневшего Антиноя», как иронически называли в то время Барбару. Если бы Шарлотта не прониклась симпатией к Барбару, вряд ли она стала бы писать именно ему свое последнее письмо.
Вскоре Шарлотта засобиралась в дорогу. Казалось, она уезжала без надежды когда-либо вернуться. Она сожгла все хранившиеся у нее газеты и брошюры политического содержания и в том числе случайно попавший год назад в ее руки листок с куплетами под названием «Анти-Марат», высмеивавшими граждан, попавшихся на удочку Чудовища.
Девушка посетила бывшую настоятельницу монастыря мадам де Понтекулан и вернула ей взятые у нее когда-то книги. Раздала свои книги, оставив себе только любимого Плутарха (толстый том «Жизнеописаний» она возьмет с собой в Париж). Навестила мадам Готье де Вилье, и, подарив ей одну из своих любимых безделушек, со слезами расцеловала ее в обе щеки. Удивленная столь необычным для подруги проявлением чувств, мадам де Вилье спросила, в чем причина ее печали, но Шарлотта не ответила. Папку со своими рисунками, кисти и карандаши она отдала маленькому Луи Люнелю, сыну столяра, проживавшего по соседству. Раздала подругам немногие имевшиеся у нее золотые украшения. Всем, кто спрашивал ее, зачем она едет в Париж, Шарлотта говорила, что намерена хлопотать за подругу, оказавшуюся в стесненных обстоятельствах в Швейцарии. Услышав такой ответ, приятельницы недоуменно пожимали плечами: хлопотать за эмигрантку, пусть даже и вынужденную, было опасно и, в сущности, безнадежно. Но Шарлотту это не смущало: предлог найден, значит, никто не узнает ее истинной цели. Бродя по знакомым улицам, она часто останавливалась, вглядываясь в людей, в дома. Как-то раз, простояв несколько минут возле игроков в карты, она повернулась и, опустив голову, медленно пошла прочь, бросив изумленным мужчинам: «Вы играете, а отечество погибает!» В другой раз, проходя мимо сидевших на лавочке кумушек, она в сердцах воскликнула: «Нет, Марат никогда не будет править Францией, даже если у нас не останется ни одного мужчины!» Возможно, она вспомнила, как несколько дней назад мадам Граншан, под впечатлением рассказов о преступлениях парижской черни, воскликнула: «Как могли случиться все эти ужасы? Неужели во Франции больше не осталось мужчин?» И принялась охать и сокрушаться вместе с мадам де Бретвиль. Шарлотта в беседу подруг не вмешивалась, но если бы мадам Граншан задала свой вопрос ей, она бы с уверенностью ответила: «Нет, не осталось». И заплакала бы. А если бы мадам де Бретвиль спросила, что ее так разволновало, ответила бы: «Я плачу над Францией, над моими родными и над вами. Пока жив Марат, кто может быть уверен, что он будет жить?»
А так как Брут тебе — пример для подражанья, Ты должен, как и он, не ведать колебанья[64].Однажды Ипполит Бугон-Лонгрэ пригласил Шарлотту на обед к Левеку, председателю Административного совета Кальвадоса. Общество намеревались почтить своим присутствием наиболее видные жирондисты. Бугон-Лонгрэ полагал, что девушке будет интересно поближе познакомиться с вождями единственной, по его мнению, партии, способной спасти республику. К этому времени Шарлотта, скорее всего, уже была твердо уверена: без нее республика не будет спасена. Она видела, как провалился набор волонтеров в повстанческую армию, видела, какой малочисленный отряд прибыл в армию Вимпфена из Бретани, и поэтому, когда женщины Кана, ликуя, вручали волонтерам цветы, она стояла в стороне, с трудом сдерживая слезы. Она не обольщалась: до обещанной шестидесятитысячной армии генералу было еще очень и очень далеко. А пока редкие добровольцы медленно подтягивались к местам сборов, Париж окружил себя стеной штыков, и армия диктатора Марата готовилась выступить в поход. В воздухе Франции уже витал кровавый призрак надвигавшегося Террора, и Шарлотту одолевали исключительно грустные мысли. Во время ассамблеи она скромно сидела в углу рядом с застенчивым и робким Луи дю Буа (будущим восторженным биографом мадемуазель Корде), и оба внимали ораторам, призывавшим остановить Чудовище, которое существованием своим «позорит человеческий род». И Робеспьер, и Дантон в речах изгнанников оставались где-то в стороне, хотя они не могли не сознавать, что Неподкупный является для них гораздо более грозным противником. Впоследствии, когда жирондистов стали обвинять в том, что они направляли кинжал Шарлотты, Барбару ответил: «Если бы мы тогда знали о ее намерении и могли бы направить ее руку, то месть наша обрушилась бы не на Марата». Никто не сумел разгадать страшного замысла мадемуазель Корде, никто не понял, что в те дни она прощалась со всеми, кто был ей дорог, со всем, что привязывало ее к жизни. «Девушка юная, трогательная, очаровательная, скромная, естественная в движениях своих; взгляд ее отличался живостью, а облик кротостью; здоровый цвет лица, алые губы и пышные каштановые кудри придавали ее лицу восхитительное выражение» — такой увидел Шарлотту в тот вечер Луи дю Буа.
Через несколько дней в сопровождении верного Леклерка она вновь отправилась в особняк Интендантства — за рекомендацией, которую обещал ей Барбару, а также чтобы взять письма для парижских друзей марсельского депутата. В этот раз народу в коридорах особняка было больше — в воскресенье ожидался торжественный смотр повстанческой армии. Узнав мадемуазель Корде, галантный Петион подошел к ней и шутя спросил: что привело «прекрасную аристократку» в их скромную обитель? Неужели желание посмотреть на республиканцев? Поглощенная своими мыслями, Шарлотта на шутку не отреагировала и ответила, скорее, себе самой: «Вы судите обо мне, не зная меня. Но скоро вы обо мне услышите». Недоумевая, Петион поклонился и не стал продолжать разговор.
В тот день Барбару долго извинялся перед Шарлоттой, что не успел подготовить письмо, и поклялся прислать его «уже завтра вечером». Он напомнил ей об обещании написать ему из Парижа, как пойдут у нее дела. Кивнув, мадемуазель Корде молча покинула Интендантство. Опостен Леклерк следовал за ней в отдалении, уверенный, что мадемуазель Корде очень расстроена. Оба остановились возле дерева, к стволу которого было прикреплено воззвание генерала Вимпфена:
«Обманщики скажут вам: Феликс Вимпфен ведет армию против Парижа. Не верьте им. Я иду на Париж ради спасения Парижа, ради спасения Республики единой и неделимой, иду по велению населения большинства департаментов, по воле суверенного народа… Добрые граждане Парижа, объединимся в борьбе за общее дело… Братья, я протягиваю вам свою братскую руку, но тех, кто встанет на моем пути, я прикажу разить…»
Придя домой, Шарлотта достала старый чемодан и принялась складывать в него вещи. Полагают, что, старательно скрывая свой отъезд, она заранее, а именно 6 июля, отослала багаж на почтовую станцию. Содержимое чемодана станет известно после обыска гостиничного номера, где остановится мадемуазель Корде. По приезде в Париж девушка аккуратно разложит в номере свой нехитрый скарб, а полицейский комиссар составит его подробную опись: «В вышеуказанном комоде мы нашли серое, в полоску платье из полосатого канифаса без метки; нижнюю юбку из розового шелка, без метки; еще одну нижнюю юбку, из белой хлопчатой материи, без метки; две женские рубашки, помеченные буквами К. Д.[65], две пары простых чулок, одни белые, другие серые, без метки; короткий пеньюар без рукавов из белого полотна, помеченный двумя буквами Ш. К., четыре носовых платка, один из которых помечен буквами К. Д.; два батистовых чепчика; две батистовые косынки, косынка зеленая газовая, косынка шелковая с красными полосами и сверток лент разных цветов, а также несколько тряпок, не заслуживающих описания». Пучок лент и стопка косынок свидетельствовали, что мадемуазель Корде не была чужда невинного кокетства, а уложенные между косынками серебряный наперсток, нитки и иголки — о ее предусмотрительности: дорога предстояла длинная, и в пути одежда могла порваться.
* * *
В воскресенье, 7 июля, на эспланаде состоялся торжественный смотр Национальной гвардии города Кана. Светило солнце, ветер развевал знамена, блистали золотом парадные мундиры, среди которых темнели фраки жирондистских депутатов. Всюду звучали патриотические лозунги, женщины махали гвардейцам букетиками, перевязанными трехцветными ленточками. В жарком июльском воздухе плыл торжественный звон колоколов. Зрители радостно приветствовали каждого оратора: «Долой тиранию!», «Да здравствует Республика, единая и неделимая!» Стоя на возвышении, генерал Вимпфен призвал желающих записываться в батальон волонтеров, который после смотра отправится из Кана в Эвре, чтобы присоединиться к армии федератов. Добровольцев оказалось всего семнадцать. Среди них, как говорят, был и некий Франклен, молодой человек, якобы влюбившийся в мадемуазель Корде и в порыве записавшийся в добровольцы. Вернувшись после поражения в Кан и узнав там о казни Шарлотты, он якобы отправился в глухую деревню, где скончался от тоски. Впрочем, современники опровергали этот слух…
Шарлотта чуть не расплакалась с досады: с одной стороны, волонтеров для борьбы с тиранией чудовища явно не хватало, а с другой ей было ужасно жаль этих немногих, решивших пасть в неравной борьбе. «Из нашего пепла родятся новые Бруты, чтобы отомстить за нас», — успокаивала себя Шарлотта. Неожиданно, словно угадав ее мысли, кто-то вежливо коснулся ее локтя и приятный мужской голос произнес: «Не правда ли, прекрасная аристократка, вам будет жаль, если эти молодые люди погибнут в бою за Республику?» Она вздрогнула и резко обернулась. Возле нее стоял мужчина среднего роста с аккуратно подстриженной бородой. Депутат Петион! Он вновь пытался подшутить над ней! Но в последнее время Шарлотта не была расположена к шуткам. Ничего не ответив, она повернулась и быстро, едва ли не бегом, направилась домой.
Поднявшись к себе на второй этаж, она села на привычное место у окна и задумалась. Вещи для отъезда собраны, оставалось собрать только мысли. Точнее, сосредоточиться на одной-единственной: она должна помешать чудовищу залить кровью всю страну. «Пасть за отечество — счастливая чреда: умерший доблестно бессмертен навсегда» — звучали в голове строки Корнеля. Жребий брошен…
«Я обязана быть Вам послушной, дорогой папа, но я все-таки уезжаю без Вашего разрешения; уезжаю, не повидавшись с Вами, потому что после нашей встречи мне было бы слишком грустно. Я еду в Англию, ибо уверена, что во Франции еще долго нельзя будет жить спокойно и счастливо. Перед отъездом я отдам письмо на почту, и когда Вы его получите, меня уже не будет в этой стране. Небо лишает нас счастья жить вместе, как оно лишило нас многого другого. Быть может, оно будет более благосклонно к нашему отечеству. Прощайте, дорогой папа, поцелуйте за меня сестру и не забывайте меня. 9 июля.
Корде».
Прощальное письмо Шарлотты к отцу датировано днем отъезда, но на самом деле оно написано накануне. Мадемуазель Корде долго размышляла, ехать ли ей в Аржантан попрощаться с родными, и в результате не поехала. Возможно, она боялась, что грусть одолеет ее и заставит отказаться от задуманного. Или отец догадается об истинной цели ее поездки и удержит ее. И решила не рисковать. Почему она написала, что едет в Англию? Чтобы отец не беспокоился. К этому времени в Англии в эмиграции находились один из братьев Шарлотты и несколько родственников: для нормандских аристократов Лондон был ближе, чем Кобленц. Вдобавок Шарлотта хотела спасти родных от обвинения в соучастии и писала так, чтобы ни у кого не закралось ни малейшего подозрения, что отец мог быть ее сообщником. Тетку она предупредила, что собирается уехать на несколько дней — навестить родных в Аржантане.
Если согласиться с тем, что письмо от 9 июля — одно из двух сохранившихся писем Шарлотты отцу, получается, что, живя у тетки, Шарлотта не писала домой вовсе. Однако главный биограф Шарлотты Корде, Шарль Ватель, утверждает, что до отъезда в Париж Шарлотта написала отцу несколько писем, ибо в письме Барбару она укажет: «Если у отца найдут мои письма, знайте, в большинстве из них набросаны ваши портреты». Как отмечает Ватель, портреты депутатов, созданные Шарлоттой Корде, наверняка отличались от тех, которые приводит в своих «Воспоминаниях» Манон Ролан. Но, видимо, письма девушки утеряны навсегда.
Вечером Шарлотта получила пакет от Барбару. В нем были рекомендательное письмо депутату Деперре и несколько брошюр, предусмотрительно запечатанных в отдельном конверте; мадемуазель Корде бралась передать этот конверт Деперре, чтобы тот распространил брошюры среди сторонников жирондистов.
Письмо Барбару Деперре будет приложено к материалам дела Шарлотты Корде.
«Кан, 7 июля 1793, 2-й год Республики, единой и неделимой.
Мой дорогой и добрый друг, посылаю тебе несколько интересных сочинений, которые желательно распространить.
Наибольшее впечатление должно произвести сочинение Салля о Конституции; при первой же возможности я перешлю тебе побольше экземпляров этого сочинения.
Через Руан я уже отправил тебе письмо, где обратил твое внимание на дело, касающееся одной из наших гражданок; сейчас речь идет о том, чтобы извлечь из министерства внутренних дел кое-какие бумаги, которые ты перешлешь мне в Кан. Гражданка, которая передаст тебе письмо, очень заинтересована в этом деле; мне оно также показалось справедливым, и я без колебаний принял в нем участие. Прощай, обнимаю тебя и приветствую твоих дочерей, Марион и всех друзей. Здесь дело идет на лад, и скоро ты увидишь нас под стенами Парижа».
Взяв пакет, Шарлотта ответила коротенькой записочкой:
«Прощайте, дорогой депутат, я отправляюсь посмотреть в глаза тиранам». Привыкший к высокопарной риторике революционных речей, Барбару не придал словам Шарлотты особого значения.
* * *
Ни Барбару, ни Шарлотта не знали, что 8 июля на основании пространного доклада Сен-Жюста о жирондистах Конвент принял декрет, объявлявший «изменниками отечества» Бюзо, Барбару, Горса, Ланжюине, Салля, Бергуэна, Бирото и Петиона, «поднявших мятеж в департаментах Эр, Кальвадос, Буш-дю-Рон с целью воспрепятствовать установлению республики и восстановить королевскую власть», а также выдвинул обвинения против Жансонне, Гаде, Верньо, Мольво, Гардиена, «уличенных в сообщничестве с теми, кто бежал и поднял мятеж». Теперь рекомендательное письмо, которое увозила с собой Шарлотта, становилось опасной уликой, и если бы его случайно обнаружили, девушку арестовали бы. Но грозное известие до Кальвадоса еще не дошло.
Только через три дня изгнанники узнали, что Конвент объявил их вне закона, а узнав, немедленно ответили: «Терпение, господин кавалер Сен-Жюст, еще немного, и Вы и Ваши друзья из Комитета общественного спасения, а особенно Ваш Марат, будете уничтожены. Да, низкие злодеи, наступает час отмщения; всемогущий народ окружает Вас; топор готов!..» А 13 июля маленькую армию жирондистов под командованием Вимпфена и Пюизе рассеяли и разбили на подступах к городку Верной. Федералистское восстание в Кальвадосе провалилось. В этот самый день Шарлотта вонзила кинжал в грудь чудовища и, как пишет один из историков, искупила нерешительность и поражение Вимпфена.
К блаженству мстить хочу прибавить славу я, Пусть делу общему послужит смерть моя[66].Утром 9 июля Шарлотта попрощалась с теткой и, еще раз заверив ее, что едет погостить к отцу, в сопровождении Лек-лерка отправилась на почтовую станцию, держа под мышкой драгоценный сверток с документами: письмом и брошюрами. Помимо паспорта Шарлотта взяла с собой выписку из регистрационной книги, свидетельствующую о ее крещении:
«Двадцать восьмого июня тысяча семьсот шестьдесят восьмого года нами, приходским священником, была крещена Мари Анна Шарлотта, родившаяся вчера у Жака Франсуа де Корде д'Армона и его супруги, благородной дамы Мари Шарлотты Жаклин де Готье. Крестным отцом стал мессир Жан Батист Алексис де Готье де Мениваль, крестной матерью — благородная дама Франсуаза Мари Анна Левайан де Корде; на церемонии присутствовал отец ребенка; документ подписали:
Корде д'Армон, Левайан де Корде, Готье де Мениваль и Ж. Л. Полар, кюре в Линьери».
Позаботившись о документальном удостоверении своей личности, Шарлотта словно говорила всем: «Я не собираюсь скрываться, напротив, я готова ответить за свой поступок, ибо горжусь им».
Впоследствии, вспоминая об отъезде племянницы, мадам де Бретвиль рассказывала, что на столе у Шарлотты она нашла Библию, заложенную на десятой главе «Книги Иуди-фи», там, где говорилось о том, как «возложив на себя все свои наряды» и разукрасив себя, дабы прельстить глаза мужчин, которые увидят ее, Юдифь вышла из города и направилась к палатке Олоферна. «Когда они увидели ее и перемену в ее лице и одежде, очень много дивились красоте ее»[67]. Но, скорее всего, это одна из красивых легенд, которыми окружена короткая жизнь Шарлотты Корде. Вряд ли она уже в Кане знала, что Марат не выходит из дома и ей придется обманом проникать к нему.
Стояла июльская жара, дилижанс в Аржантан отходил в полдень, и Шарлотте удалось уговорить Огюстена Леклерка не дожидаться, пока он отправится. Попрощавшись, Шарлотта села в пока пустовавшую карету, но как только Лек-лерк скрылся за поворотом, вышла из нее и поспешила в здание станции — дожидаться дилижанса на Париж, отходившего в два часа дня. Станционный служитель помог ей перетащить чемодан и закрепить его на крыше почтовой кареты. Открытое лицо Шарлотты и приятные манеры вызывали доверие и внушали симпатию, поэтому она без особого труда находила людей, готовых услужить ей. Зная о парижской дороговизне, она взяла с собой все свои сбережения, но лишнего тратить не собиралась. Высокая, с «легкой, как у птички» (по выражению Эскироса), походкой, она сочетала в себе женское изящество и мужскую уверенность. В прозрачном чепчике с крылышками, в красной юбке и небесно-голубом корсаже она напоминала редкостный цветок, раскрывшийся под лучами летнего солнца. Правда, относительно платья, выбранного Шарлоттой для поездки в Париж, среди биографов существует разногласие, и многие считают, что практичная мадемуазель Корде надела в дорогу длинное коричневое платье и высокую черную шляпу с черными (или все же зелеными?) лентами. Прическу Шарлотты украшала лента ее любимого зеленого цвета.
* * *
Девятого июля 1793 года начался отсчет последних дней жизни Шарлотты Корде. Воспитанница монастыря, она ни разу не усомнилась в справедливости своего намерения преступить заповедь Христа: «Не убий». Наверное, потому, что не видела Марата-человека, именем «Марат» называлось Зло, Чудовище, готовое пожрать близких ей людей, горстку юных волонтеров, отправившихся сражаться за республику против тирании, изгнанных депутатов, неприсягнувших священников, вынужденных скрываться и подпольно служить мессы. Они были для нее живыми, а Марат — символом, сошедшим со страниц газет. В ее глазах Марат уподобился диктаторам древности, память о которых сохранила История.
От Кана до Парижа — 54 лье, шестнадцать почтовых станций; карета, запряженная шестеркой лошадей, преодолевала около двух лье в час. Первая остановка в пять вечера того же дня, в Лизье, маленьком старинном городке, сохранившем следы римского владычества. Дилижанс остановился в предместье Сен-Дезир, и Шарлотта направилась в гостиницу «Дофин», где ей отвели комнату на втором этаже, откуда открывался живописный вид на собор Сен-Дезир. Но у Шарлотты не было ни желания, ни времени осматривать город — на следующий день в шесть утра почтовая карета отправится в Эвре, где ей предстоит сделать пересадку и ночным дилижансом добираться до Парижа. Поэтому после ужина она пошла спать.
В Париже у Шарлотты мог быть только один знакомый — сьер Ален, торговец с улицы Дофина: будучи помощницей настоятельницы монастыря, она состояла с ним в деловой переписке. Она знала его адрес, но не намеревалась его беспокоить. Свою героическую смерть не хотела делить ни с кем. Тем более что еще не знала, каким образом приведет свое намерение в исполнение.
Красивая девушка, путешествующая в одиночестве, не могла не привлечь внимания попутчиков, тем более мужского пола. В письме Барбару, написанном в тюрьме Аббатства, Шарлотта подробно изложит свои дорожные впечатления:
«Я ехала в обществе добрых монтаньяров, предоставив им возможность говорить все, что им угодно, и строить любые предположения, какими бы глупыми они ни были; в конце концов, речи их меня усыпили; собственно, проснулась я уже в Париже. Один из путешественников, бесспорно, имеющий страсть к спящим женщинам, принял меня за дочь своих старых друзей, предположил, что я обладаю состоянием, которого у меня нет, приписал мне имя, которое я никогда не слышала, и в конце концов предложил мне руку и сердце. "Мы прекрасно разыгрываем комедию, — сказала я ему, когда мне наскучили его разговоры, — но досадно, что при таких талантах у нас нет зрителей; я схожу за нашими попутчиками, чтобы они приняли участие в спектакле". Я оставила его в дурном настроении. Ночью он распевал жалобные песни, располагавшие ко сну. В Париже я, наконец, с ним рассталась, отказавшись дать ему свой адрес, равно как и адрес моего отца, у коего он хотел просить моей руки; он покинул меня в скверном расположении духа. Но я отказалась удовлетворить его любопытство, твердо следуя правилу, выведенному моим дорогим и безупречным Рейналем: никто не обязан говорить правду своим притеснителям».
Наверное, попутчики и в самом деле надоели Шарлотте своими ухаживаниями, тем более что она сознательно не хотела ни с кем общаться — чтобы с ее именем не связали еще чье-нибудь.
Одиннадцатого июля в полдень Шарлотта прибыла в Париж, на площадь Виктуар Насьональ, где находилась почтовая станция, которой заправлял некий Ноэль. И Ламартин, и Ленотр пишут, что еще в Кане ей посоветовали остановиться в гостинице «Провиданс»[68], но скорее всего Шарлотте рекомендовал эту гостиницу посыльный Лебрен как ближайшую — туда он и отнес ее чемодан. Узнав у гостьи, откуда она приехала, хозяйка мадам Гролье спросила, как долго та собирается прожить в гостинице. Подумав, Шарлотта ответила: «Пять дней». Почему она назвала этот срок? Вряд ли она могла точно подсчитать, сколько времени потребуется ей, чтобы отыскать в незнакомом городе Марата. Наверное, просто почувствовала, что дальше силы у нее кончатся.
Шарлотте отвели комнату номер семь на втором этаже, куда швейцар Луи Брюно приказал рассыльному Франсуа Фейяру отнести чемодан. Комната Шарлотты особыми удобствами не отличалась — кровать с пологом, три стула, комод, письменный стол. Спустя шесть лет будущий писатель Шарль Нодье три недели прожил в номере, где останавливалась мадемуазель Корде, и оставил его описание:
«Комната Шарлотты Корде оказалась настоящей конурой. Обстановка ее вполне соответствовала жалкому виду гостиницы. Главным украшением комнаты являлась старая кровать с занавесками из зеленой саржи, вытертыми и запыленными, которые раскрывались на старинный манер, скользя по железному пруту; днем занавески зацепляли подхватами из той же ткани и, претендуя на элегантность, привязывали к двум трухлявым подпоркам. Рядом стоял сосновый столик довольно грубой работы, на котором еще сохранилось несколько чернильных пятен. Скорее всего, это были пятна от чернил, упавших с пера Шарлотты Корде, ибо трудно предположить, чтобы какой-нибудь другой грамотный путешественник когда-либо останавливался в этой конуре, рассчитанной на самых бедных путешественников. Неуклюжий стул с высокой спинкой, обитый желтым утрехтским бархатом, вытершимся и грязным, дополнял жалкое убранство номера». Правда, Ленотр утверждает, что Нодье ошибся: комната Шарлотты находилась на втором этаже, а номер, который снял Нодье, — на пятом. Но, судя по полицейскому протоколу осмотра комнаты мадемуазель Корде, номера в гостинице мадам Гролье мало чем отличались друг от друга.
Разместив вещи, Шарлотта велела приготовить себе постель: поездка утомила ее. Однако, поразмыслив, она передумала, не стала ложиться, а принялась расспрашивать хозяйку и швейцара, где находится Конвент и когда в нем выступает Марат. Привыкнув, что в Кане политическая жизнь протекала буквально у нее под окнами, она с удивлением обнаружила, что в столице граждане плохо осведомлены о работе депутатов. Тогда она выяснила, как пройти на улицу Сен-Тома-дю-Лувр, где жил Деперре, и отправилась по указанному на конверте адресу.
Каким показался Париж восторженной республиканке, приехавшей совершить подвиг всей своей жизни? Унылым, с заколоченными окнами особняков Марэ, брошенных хозяевами-эмигрантами? С пустыми лавками, безлюдными улицами, угрюмыми очередями? Возможно. Хотя, скорее всего, в те минуты для нее не существовало ничего, что могло бы отвлечь ее от цели. Она даже не заметила, как с приближением к Тюильри, куда в мае переехал Конвент со всеми его службами, улицы становились оживленнее, сновали разносчики и мелочные торговцы, и, если приглядеться, можно было увидеть необычайно элегантных гражданок с кокетливыми кокардами на шляпках.
Отыскав дом 45, Шарлотта постучала и попросила проводить ее к депутату Деперре. Однако депутата дома не оказалось, а дочери его сообщили, что отец прибудет из Конвента только вечером, к ужину. Шарлотта передала им пакет и предупредила, что зайдет позже. Вернувшись теми же улицами в гостиницу, она поднялась к себе и принялась коротать время, читая любимого Плутарха. Около шести она вновь отправилась к Деперре. Депутат ужинал вместе с семьей и несколькими товарищами. Шарлотта попросила принять ее наедине. Они прошли в гостиную, где девушка изложила свое дело и попросила проводить ее к министру внутренних дел Гара, дабы тот дозволил ей выправить необходимые для мадемуазель Форбен документы. Деперре был наслышан о семье Форбен и поэтому изъявил готовность помочь просительнице на следующий день. Деперре пообещал утром зайти за Шарлоттой в гостиницу. Попрощавшись, Шарлотта взялась за ручку двери, но вдруг остановилась и проникновенным голосом произнесла: «Гражданин депутат, ваше место в Кане! Бегите, уезжайте не позже завтрашнего вечера!» Пока изумленный Деперре соображал, что ответить, Шарлотта торопливо удалилась. В гостинице она поужинала и легла спать. Деперре же, вернувшись к друзьям, сказал, что, похоже, из Кана к нему прислали какую-то интриганку. «Странная девушка, — задумчиво произнес он. — С одной стороны, она просит меня об услуге, а с другой — гонит меня из Парижа».
В письме Барбару Шарлотта напишет: «Прибыв в Париж, я остановилась на улице Вьез-Огюстен, в гостинице "Провиданс", и тотчас отыскала вашего друга Деперре. Не знаю, от кого Комитет общественной безопасности получил сведения о сношениях Деперре со мной. Вы знаете твердость духа Деперре; он при допросе сказал всю правду, его показания подтвердились моими, и ему ничего не могут вменить. Но сама твердость духа его составляет преступление. Я ему предлагала бежать и присоединиться к вам, но он чересчур упрям и вдобавок тугодум». Действительно, когда на следующий день Конвент приказал изъять бумаги у депутатов, подозреваемых в сношениях с изгнанниками, Шарлотта еще раз предостерегла опального члена Конвента и посоветовала ему немедленно покинуть Париж. Но он ответил ей, что его место здесь.
По привычке Шарлотта проснулась рано утром и отправилась гулять по городу. Она вполне могла дойти до Тюильри, дабы своими глазами взглянуть на цитадель, скрывавшую чудовище. Но, возможно, от Деперре она уже знала, что Марат болен и редко появляется в Конвенте. Возможно, она просто бродила по улицам, размышляя, как осуществить свой замысел. Резоннее всего предположить, что она отправилась осматривать город, но оснований для такого предположения нет. Натура цельная и сосредоточенная, Шарлотта не могла позволить себе отвлекаться на мелочи, а все, что не было непосредственно связано с целью ее приезда, сейчас не имело для нее никакого значения.
К десяти она вернулась в гостиницу, вскоре пришел Деперре, и они отправились в министерство, на улицу Нев-де-Пти-Шан. Гара был занят, и им сообщили, что принимать он начнет только после восьми вечера. Неудача огорчила обоих. По дороге в гостиницу (Деперре вызвался проводить «гостью столицы») депутат, поразмыслив, сказал Шарлотте, что готов еще раз пойти с ней к министру, но ему кажется, что усилия их будут напрасны, ибо у мадемуазель Корде нет письменной доверенности от мадемуазель Форбен, и потому она не вправе официально хлопотать по делу подруги. Шарлотта попыталась еще раз убедить Деперре покинуть Париж, но тот, подозрительно взглянув на нее, сказал, что не намерен покидать Конвент, куда его избрал народ.
Во второй половине дня Деперре зашел к Шарлотте — сообщить, что по приказанию Конвента бумаги его опечатаны, он сам под подозрением, а потому не в силах помочь мадемуазель Корде; теперь знакомство с ним может лишь повредить ей. Деперре не знал, что про себя Шарлотта думала то же самое, но в отличие от Деперре не могла открыться ему, а потому, встревожившись, вновь принялась уговаривать депутата уехать. И вновь безуспешно.
Вряд ли Деперре приходил в гостиницу еще раз. Но если судить по письму, направленному гражданкой Гролье следователям из Комитета общественной безопасности после обыска, произведенного в номере у неблагонадежной постоялицы, Деперре несколько раз побывал у приезжей из Кана.
Вот это письмо гражданки Гролье:
«Означенная Корде, именуемая Мари Анной Шарлоттой, проживала в гостинице "Провиданс" на улице Вьез-Огюс-тен с одиннадцатого июля, и ее посещал мужчина ростом в пять футов четыре дюйма, волосы, брови, борода темно-русые, лоб высокий, одет в костюм светло-желтого цвета, лицо прыщеватое, полный, в треугольной шляпе, проживавший, кажется, неподалеку от Лувра, кажется, на улице Сен-Тома-дю-Лувр. Этот человек приходил к ней в гостиницу "Провиданс" четыре или пять раз.
Подпись: Луиза Гролье».
Ниже следует приписка:
«Этот человек написал три письма для той женщины, эти письма были отосланы в Кан почтой; гостиничный слуга видел, что они лежали на кровати, и переложил их на стол».
На допросе у судьи свидетельница Гролье рассказала, «что одиннадцатого числа настоящего месяца в два часа пополудни означенная Корде прибыла к ней в гостиницу в сопровождении посыльного с почтовой станции; прибыв, она попросила приготовить ей постель, чтобы она могла лечь спать; потом, подумав, она сказала рассыльному, что не станет ложиться, а пойдет в Пале-Рояль и еще на какую-то улицу, название которой свидетельница не запомнила, но, кажется, это где-то неподалеку от Лувра. Свидетельница заявила, что к указанной Корде приходил человек, которого она не знает, но помнит, что на нем был фисташкового цвета фрак. Росту в нем было пять футов четыре дюйма, лицо круглое и прыщавое, и лет ему было от сорока до сорока шести, и это все, что она может сообщить». Гражданка Гролье, которой, судя по протоколам, было двадцать шесть лет, то есть немногим больше, чем Шарлотте, не намеревалась проявлять повышенную революционную бдительность, однако быть обвиненной в пособничестве ей не хотелось.
После визита Деперре Шарлотта наверняка упрекала себя за то, что она не только привезла из Кана депутату «запрещенную литературу», но и на глазах у хозяйки гостиницы и швейцара общалась с ним. И все же почему Лоз Деперре не бежал из Парижа, пока еще была возможность? Неужели же ему, как и всем жирондистам, были присущи идеализм и вера в справедливость? И он полагал, что сможет выкрутиться? А может, его охватила апатия, которая вскоре охватит всю Францию, подавив у людей способность сопротивляться Террору?
Возможно, именно в этот день Шарлотта сердцем почувствовала, что удар, который она собиралась нанести, обернется не только против нее самой, но и против ни о чем не подозревавших людей. И возможно, именно эти мысли побудили ее написать «Обращение к французам, друзьям законов и мира», чтобы все знали: она сама, одна, не посвящая никого в свои планы, решила убить чудовище.
«Доколе, о, несчастные французы, вы будете находить удовольствие в смутах и раздорах? Слишком долго мятежники и злодеи подменяют общественные интересы собственными честолюбивыми амбициями; почему же вы, жертвы их злобы, хотите уничтожить самих себя, дабы на руинах Франции была установлена желанная им тирания?
Повсюду вспыхивают мятежи, Гора торжествует благодаря преступлению и насилию, несколько чудовищ, упившихся нашей кровью, руководят этими отвратительными заговорами… Мы готовим нашу собственную погибель с гораздо большим рвением и энергией, нежели когда-то трудились во имя завоевания свободы! О, французы, еще немного времени, и от вас останется одно лишь воспоминание!
Возмущенные департаменты движутся на Париж, огонь раздора и гражданской войны уже охватил половину этого огромного государства; однако есть еще средство потушить сей огонь, но применять его надо немедленно. И вот Марат, самый гнусный из всех злодеев, одно только имя которого вызывает перед глазами картину всяческих преступлений, пал от удара мстительного кинжала, сотрясая Гору и заставляя бледнеть Дантона, Робеспьера и их приспешников, восседающих на сем кровавом троне в окружении молний, удар которых боги, мстящие за человечество, отсрочили только для того, чтобы падение их стало еще более громогласным и устрашило всех, кто попытался бы, следуя их примеру, построить свое счастье на руинах обманутых народов!
Французы! Вы знаете своих врагов, вставайте! Вперед! И пусть на руинах Горы останутся только братья и друзья! Не знаю, сулит ли небо нам республиканское правление, но дать нам в повелители монтаньяра оно может только в порыве страшной мести… О, Франция! Твой покой зависит от исполнения законов; убивая Марата, я не нарушаю законов; осужденный вселенной, он стоит вне закона. Какой суд станет судить меня? Если я виновна, значит, был виновен и Алкид, истребляя чудовищ…
О, друзья человечества, вы не станете жалеть дикого зверя, упившегося вашей кровью, а вы, печальные аристократы, с которыми столь сурово обошлась революция, тем более не станете жалеть его, ибо у вас с ним нет ничего общего.
О, моя родина! Твои несчастья разрывают мне сердце; я могу отдать тебе только свою жизнь! И я благодарна небу, что я могу свободно распорядиться ею; никто ничего не потеряет с моей смертью; но я не последую примеру Пари[69] и не стану сама убивать себя. Я хочу, чтобы мой последний вздох принес пользу моим согражданам, чтобы моя голова, сложенная в Париже, послужила бы знаменем объединения всех друзей закона! И пусть шатающаяся Гора увидит свою погибель, написанную моей кровью! Пусть я стану последней их жертвой, и пусть отмщенный мир признает, что я оказала услугу человечеству! Но даже если на мое поведение посмотрят иначе, меня это не волнует.
А удивит ли мир великий подвиг тот, Быть может, восхитит, быть может, ужаснет, — Мой дух не возмутит потомков приговор, Все безразлично мне: и слава, и позор. Свободный человек от века — гражданин, Ничто мне не указ, велит лишь долг один. Итак, вперед, друзья: свобода или смерть![70]Моих родных и друзей не должны привлекать к ответственности, так как я никого не посвящала в свои планы. Прилагаю к этому воззванию свидетельство о своем крещении, дабы показать, на что способна самая слабая рука, ведомая исключительно самоотверженностью. Если мой замысел не удастся, французы, я показала вам дорогу, вы знаете своих врагов; поднимайтесь! Идите вперед! Разите!»
Что делала Шарлотта в тот душный июльский день? Вряд ли она еще раз выходила в город — Париж интересовал ее только как место, где она должна отыскать Марата и в первый и в последний раз в его и своей жизни посмотреть ему в глаза. Тем более что встала она на заре, а для задуманного ей нужны силы. И Шарлотта вновь рано ложится спать. Пока она писала свое обращение, она поняла: Чудовище должен сразить кинжал Брута!
К этому времени Шарлотта уже знала, что Марат почти месяц не покидает дома из-за обострившейся кожной болезни. Из-за отвратительных струпьев, покрывших его тело, Друг народа практически не вылезал из медной ванны в форме сапога, поперек которой лежала широкая гладкая доска, которую он использовал вместо письменного стола. На этой доске он делал свою газету, в которой призывал народ быть бдительным и беспощадно рубить головы заговорщикам. К нему пришла делегация от клуба кордельеров, и он сказал им: «Мое единственное желание — иметь возможность при последнем вздохе заявить: "Отечество спасено"». Эти слова прозвучат на процессе по делу об убийстве гражданина Марата гражданкой Корде.
В отчете о посещении Марата депутацией из Якобинского клуба один из делегатов, пораженный зрелищем работающего в ванне Марата, написал: «Это не простая болезнь…
Это много патриотизма, сжатого, втиснутого в небольшое тело; неистовое напряжение патриотизма, возбуждаемого со всех сторон, его убивает». Вот такая болезнь — избыток патриотизма… Причины для необычной болезни имелись: после падения жирондистов популярность Марата в Конвенте пошла на убыль: его слушали, но не внимали. Парижская чернь по-прежнему была готова носить его на руках, но охотнее раскупала «Папашу Дюшена»: площадной язык этой газеты оказался ей ближе. «Публициста французской республики» приходилось больше распространять, нежели продавать, несмотря на невысокую цену. В результате типографские расходы съедали почти все депутатское жалованье Марата, в то время как он был искренне убежден, что закрытие его газеты станет настоящим бедствием для патриотов. Воистину, патриотическая болезнь… Но, похоже, печальный исход болезни Марата якобинцы встретили бы с облегчением: несмотря на общность взглядов с Робеспьером, Марат всегда видел вокруг только врагов и уже намекал, что Неподкупный рвется к личной власти. Робеспьер же в речах Марата давно угадал угрозу для себя.
* * *
Тринадцатого июля Шарлотта, по привычке, встала рано и, надев платье из светлого канифаса в полоску, булавками прикрепила под корсажем «Воззвание к французам» и свое свидетельство о крещении. Затем, надев высокую шляпу и украсив ее зелеными лентами, она отправилась в сад Пале-Эгалите, бывший Пале-Рояль, где, как сказали ей вчера, она сможет купить нож. Придя в сад, она села на скамью и стала ждать семи часов, когда открывались лавки. У раннего разносчика она купила за два су брошюру, где рассказывалось о казни девяти граждан Орлеана, покушавшихся на жизнь комиссара Конвента Леонара Бурдона. Все обвиняемые взошли на эшафот в красных рубашках отцеубийц: покушаясь на депутата, они покусились на отца народа. На самом деле почти все обвиняемые никогда не видели Бурдона. Возвращаясь в поздний час после оргии, этот посланец Конвента был задержан патрулем, оказал сопротивление, а утром, проспавшись, представил ночное происшествие как покушение на избранника народа. Ему поверили на слово.
Подождав немного, Шарлотта направилась к скобяной лавке Бадена, значившейся под номером 177, и за 40 су купила там обычный кухонный нож в шагреневых ножнах. Спрятав нож в карман платья, она вышла из Пале-Рояля и по улице Круа-де-Пти-Шан направилась к площади Виктуар Насьональ, где находилась стоянка фиакров. Походив кругами, чтобы скоротать время, она часов около девяти подошла к одному из возниц и попросила доставить ее к Марату. Но оказалось, что кучер не знает его адреса. «Так узнайте его!» — воскликнула Шарлотта. Кучер справился у своих товарищей, и те сообщили ему, что гражданин Марат живет на улице Кордельеров, 30. Шарлотта села в фиакр, и пока экипаж ехал по городу — переезжал Новый мост и катил по длинной, убегающей вверх улице Кордельеров, — она незаметно переложила нож из кармана за корсаж и прикрыла его косынкой.
Прочь, страхи ложные, пустые сожаленья, Прочь, недостойное души моей смущенье![71]Марат жил в квартире, снятой его подругой Симоной Эврар в добротном старом доме, известном как особняк Каора. В маленьком дворике, отгороженном от улицы решетчатыми воротами, в углу находился колодец. «Направо шла каменная лестница с железными коваными перилами; описывая полукруг, она вела на каменную площадку, выходившую двумя окнами во двор. Здесь была дверь Марата, у которой вместо шнурка для звонка висел железный прут с ручкой. Рядом с этой дверью в стене было проделано окно, через которое свет проникал в кухню». Во двор можно было проникнуть либо через ворота, либо через лавочку консьержки Мари Барб Пен. Отпустив фиакр, Шарлотта уверенным шагом подошла к двери, открыла ее и сразу же, не дожидаясь расспросов гражданки Пен, спросила, где живет гражданин Марат. «На втором этаже, — ответила консьержка и добавила: — Только гражданин Марат очень болен и никого не принимает». Но посетительница уже не слушала ее; пробежав через двор, она взлетела по лестнице и толкнула железный прут, издавший при падении громкий лязгающий звук. Из двери выскочила молоденькая девушка, Жанетта Марешаль, кухарка в доме Марата. После знакомства с Симоной Друг народа жил в окружении женщин: кроме Симоны в квартире проживали ее сестра Катрин и сестра Марата Альбертина. В тот день Альбертина отсутствовала. Впоследствии, вспоминая о кончине обожаемого брата, она говорила, что если бы в тот день была дома, коварная аристократка ни за что не проникла бы к Марату.
Шарлотта попросила пропустить ее к гражданину Марату: она специально приехала из Кана, чтобы сообщить Другу народа о готовящемся там заговоре. Жанетта знала, что Марат не принимает, но вдруг ради разоблачения заговора он изменит свое решение? Пока она топталась в растерянности, не зная, что ответить, вышла Симона и решительно отказала просительнице в приеме. По ее тону Шарлотта поняла, что спорить бессмысленно. Но ей во что бы то ни стало надо войти, и она кротким голосом спросила, «когда ей лучше прийти в другой раз». Симона была категорична: «Когда Другу народа станет лучше, мы не знаем. Поэтому вам нет нужды возвращаться».
Опечаленная, Шарлотта вышла на улицу и уныло побрела куда глаза глядят. Потом, спохватившись, что не запомнила дорогу, взяла фиакр и вернулась в гостиницу. Или все же добралась пешком, расспрашивая прохожих?
На суде гражданка Пен скажет, что днем Шарлотта приходила еще раз, ближе к полудню, — наверное, понадеявшись, что консьержки не будет на месте. Но ей не удалось обмануть бдительную гражданку Пен: та выпроводила назойливую посетительницу и заперла за ней дверь. Однако многие биографы полагают, что этот дневной визит полностью выдуман консьержкой, пытавшейся оправдаться в том, что она впустила убийцу в дом.
Прибыв в гостиницу еще до полудня, Шарлотта решила написать Марату письмо — быть может, прочитав его, он велит своим женщинам пропустить ее? От хозяйки гостиницы она узнала, что в Париже имеется специальная городская почта, которая каждые два часа за два су разносит письма адресатам. Попросив перо, чернила и бумагу, девушка написала записку:
«Париж, 12 июля, 2-й год Республики
Гражданин, я приехала из Кана. Ваша любовь к отечеству дает мне основание предполагать, что Вам интересно будет узнать о печальных событиях в этой части республики. Я прибуду к Вам около часа пополудни. Соблаговолите принять меня, уделить мне несколько минут, и я доставлю Вам возможность оказать большую услугу Франции».
Обращение на «вы» вместо братского республиканского «ты» выдавало в Шарлотте аристократку, воспитанницу старого режима, но мадемуазель Корде об этом не думала. Она так волновалась, что даже забыла написать обратный адрес. Фейяр отнес письмо на почту, а когда вернулся, Шарлотта попросила его вызвать к ней в номер парикмахера. Говоря об этом, многие биографы вновь находят у Шарлотты сходство с Юдифью, которая, отправляясь к Олоферну, надела лучшие свои одежды. Но Юдифь намеревалась сначала обольстить свою жертву, Шарлотта же ни о чем таком не помышляла. Возможно, она хотела скоротать время. Возможно, хотела в последний раз почувствовать себя женщиной. Возможно, решила предстать перед Всевышним во всей своей неброской красоте. Простительное мелкое тщеславие.
Вскоре явился восемнадцатилетний парикмахер Персон. Он завил кудри Шарлотты, уложил их в замысловатую прическу и украсил волосы зелеными лентами. Быть может, отдав предпочтение лентам цвета надежды, Шарлотта надеялась, что не только совершит задуманное, но и сумеет спастись? После осуждения Шарлотты Корде Конвент запретил носить зеленые ленты — чтобы не напоминали об убийце Марата.
Время шло, а взволнованная Шарлотта не знала, что и думать: получил гражданин Марат ее письмо или не получил? Он не захотел ответить? (О том, что она не указала обратный адрес, она не вспомнила.) Или ответил, но ответ не дошел до нее? Время шло. Шарлотта не могла думать ни о чем другом. Третий день на исходе, а она так и не приблизилась к своей цели. Она решили написать еще одну записку и сама отнести ее Марату, получив, таким образом, предлог проникнуть сквозь заслон окружавших Друга народа церберов в женском обличье. На этот раз мадемуазель Корде пошла на хитрость и стала «давить на жалость»:
«Париж, 12 июля.
Марат, я писала Вам сегодня утром. Получили ли Вы мое письмо? Наверное, не получили, ибо в Вашем доме меня принять отказались. Надеюсь, что Вы удостоите меня беседой. Повторяю: я приехала из Кана и во имя спасения Республики хочу доверить Вам важные секреты. Меня преследуют за приверженность делу свободы. Я несчастна, а потому имею право на Вашу защиту»[72].
Сунув записку в карман, она оглядела себя в зеркало и, так как день был жаркий, скорее всего, надела чистую нижнюю юбку (а не платье, как пишет часть биографов, ибо сменное платье она взяла с собой всего одно и надела его еще утром, ибо уже утром надеялась совершить задуманное). Поправив булавки, которыми были подколоты «обращение к французам» и свидетельство о крещении, она опустила за корсаж нож в ножнах, а вырез прикрыла розовой косынкой. Шарлотта вновь отправилась на площадь Виктуар Насьональ, наняла экипаж и поехала на улицу Кордельеров, 30.
Около половины восьмого вечера Шарлотта вышла из фиакра возле знакомого дома. Консьержки на месте не оказалось, и девушка беспрепятственно поднялась по лестнице и взялась за дверной молоток. Дверь ей открыла Жанетта Марешаль; она, без сомнения, узнала утреннюю посетительницу. Помня, что просительнице отказали самым решительным образом, Жанетта растерялась, увидев ее вновь, а Шарлотта, воспользовавшись замешательством кухарки, проскользнула в прихожую, где в это время сидела гражданка Пен и складывала только что принесенные из типографии газетные листы. Консьержка тоже узнала посетительницу, но окружавшие ее пачки листов помешали ей немедленно вскочить и преградить назойливой гражданке путь.
Из темной прихожей дверь вела в узкую столовую с окнами во двор. Приоткрытая дверь слева позволяла разглядеть кухню, подле которой располагалась ванная. Окна этих комнат также смотрели во двор. На улицу выходили два окна гостиной, небольшой спальни и рабочего кабинета. Окна гостиной были из дорогого богемского стекла. В распахнутую дверь она увидела нарядные трехцветные обои, расписанные революционными эмблемами. Сколько дверей! Шарлотта растерялась: она думала, что, если ей станут преграждать путь, она оттолкнет бдительного стража с дороги, бросится в комнату и нанесет удар. Но когда комнат много, куда бежать?
В это время в квартиру вошли двое: молодой человек по имени Пиле, доставивший счета из типографии, и комиссионер Лоран Ба с кипой бумаг для издания газеты. Судя по тому, что их пропустили беспрепятственно, они были своими в этом доме. Пиле незамедлительно проследовал в ванную, Ба отправился относить бумагу.
Решив воспользоваться присутствием новых людей, а также тем, что дверь в комнату, куда проскользнул Пиле, прикрыта неплотно, Шарлотта заговорила так громко, словно вокруг нее собрались исключительно глухие: «Гражданки, я приехала из Кана, чтобы сообщить Другу народа важные секретные новости. Мне совершенно необходимо повидать его. Я написала ему письмо. Скажите хотя бы, получил ли он его?» — «Откуда мне знать», — проговорила консьержка; оторвавшись, наконец, от газетных листов, она своей корпулентной фигурой преградила путь Шарлотте. Появился Пиле, и Шарлотта заговорила еще громче: «Вот, передайте записку гражданину Марату! Мне непременно надо его увидеть!»
Не зная, как быть, Жанетта улизнула в кухню, а на ее место заступила Симона Эврар, также узнавшая посетительницу. Привлеченный шумом голосов, Марат осведомился, что происходит. Взяв с недовольным видом записку, Симона отправилась в ванную. Вскоре она вернулась и знаком велела Шарлотте следовать за ней.
Пропустив посетительницу вперед, Симона закрыла за ней дверь. Шарлотта очутилась в маленькой комнате с каменным полом. От неожиданности или же от волнения Шарлотта утратила дар речи. Комната, куда ее привели, выглядела странновато. На стене, оклеенной светлыми обоями с колоннами, не сочетавшимися с темным камнем пола, висела карта разделенной на департаменты Франции, рядом пара пистолетов, а вверху алела надпись: «СМЕРТЬ». Посреди комнаты стояла железная ванна в форме сапога с положенной поперек доской, на которой стояла чернильница с пером и лежала стопка гранок. Вокруг были разбросаны газеты. А в ванне, откуда доносился запах серы, сидел маленький сухой человечек с черными глазами на свинцово-сером лице. Голова его была обмотана грязной белой тряпкой, наподобие тюрбана, из-под которого выбивались несколько слипшихся прядей. В руке он держал записку Шарлотты. Какое-то время мстительница и жертва приглядывались друг к другу. Выдержать испытующий, проницательный и колючий взор Марата мог не каждый. Марат же, давно не видевший таких красивых и элегантных девушек, на миг даже позабыл о заговорах и бдительности; он не всегда был нечувствителен к женской красоте.
В ванную комнату вновь вошла Симона Эврар. Одни говорят, что гражданка Эврар решила на всякий случай унести из комнаты стоявшую на подоконнике тарелку с ужином Марата (мясо, рис, мозги), чтобы посетительница не могла бросить туда яд. Другие, напротив, считают, что она вошла, влекомая исключительно ревностью. Симона спросила, сколько кусочков белой глины размешать Марату в миндальном молоке: такое лекарство доктор Марат прописал себе сам и принимал его ежедневно. Услышав в ответ, что лишний кусочек глины не помешает, она взяла тарелку и ушла. За те минуты, что она разговаривала с Маратом, Шарлотта взяла себя в руки и сосредоточила все внимание на предстоящем ударе. Ни о чем ином она не может, не разрешает себе думать. Словно часовой механизм, она четко отвечает на вопросы Марата, но когда он приказывает ей назвать фамилии, в ней что-то надламывается и она начинает запинаться: вдруг ее слова принесут смерть канским изгнанникам?
Но и у Марата происходит заминка: он шарит руками по доске, потом вытягивает из-под стопки газет клочок бумаги и, обмакнув перо в чернила, записывает фамилии. «Не волнуйтесь, гражданка, — скрипучим голосом произносит он, не глядя на нее, — называйте всех, мы всех отправим на гильотину!» Шарлотта выхватывает из-за корсажа нож и по самую рукоятку вонзает его во впалую грудь сидящего в ванне человека. В ужасе от содеянного выдергивает нож и отбрасывает его в сторону.
Если бы Шарлотта чувствовала себя убийцей, она выпрыгнула бы в окно и убежала, прежде чем ее бы начали искать. Но великий Корнель сказал: «Кто справедливо мстит — не может быть наказан». И она твердым шагом вышла в коридор. Вслед из ванной донесся слабый голос: «Ко мне, моя дорогая, на помощь!»
Тринадцатого июля, в день, когда Шарлотта вонзила кинжал в грудь Марата, армия под командованием генерала Вимпфена потерпела поражение при Верноне от республиканских войск. Но мадемуазель Корде об этом не узнала, как не узнала она, что после поражения Вимпфена объявленные вне закона депутаты, укрывавшиеся в Кане, спешно покинули город.
Глава 7. МАРАТ ПРОТИВ ЖИРОНДИСТОВ, ЖИРОНДИСТЫ ПРОТИВ МАРАТА (ЧАСТЬ II)
Тираны, бегите!
Вам страшен отмщенья час.
«Лучше смерть, чем монтаньяры!» —
Так потомок воскликнет за нас.
Луве де Кувре. Гимн смерти
После изгнания жирондистов лидеры Конвента словно оцепенели. Марат отказался от депутатства, так как не захотел выносить приговор жирондистам, ибо считал их своими личными врагами. Жирондисты, покинувшие столицу, стали называть «маратистами» врагов Франции. В газетах появился новый синоним слова «контрреволюционер» — «федералист», сторонник изгнанных депутатов. Огромная усталость навалилась на вождя якобинцев Робеспьера: борьба с Жирондой потребовала от него поистине титанического напряжения душевных сил. 31 мая он не смог подняться на трибуну, и вердикт об изгнании неугодных депутатов пришлось зачитывать Кутону. Робеспьер не нашел в себе сил выступить с обличительной речью, равной смертному приговору. Возможно, потому, что жирондисты являлись законными избранниками, а он не любил нарушать закон. А может, потому, что у них с ним было очень много общего: происхождение, гордая бедность, годы упорной учебы, юношеские стихи, ораторский талант, вера в республику. Всё, кроме непоколебимой веры в добродетель. Без добродетели нет республики, гражданский закон можно нарушить, законы добродетели священны и нерушимы, и тот, кто дерзнет восстать против них, заслуживает смерти. Воспитанникам Руссо толерантность, проповедуемая Вольтером, была ни к чему.
Борьба с Жирондой истощила Робеспьера, к тому же за такими союзниками, как Марат, приходилось постоянно приглядывать. 12 июня 1793 года в Якобинском клубе Робеспьер заявил: «У меня больше нет сил, чтобы сражаться дальше. Измученный четырьмя годами тяжких и бесплодных трудов, я чувствую, что мои физические и моральные способности не на уровне великой революции. Я намерен подать в отставку».
Изгнание жирондистов из Конвента оставило след и в душе Дантона, ведь среди депутатов Жиронды были его личные друзья; как люди и как политики жирондисты были близки ему. Дантон понимал, что найти общий язык с добродетельным Робеспьером ему будет значительно сложнее, чем с отстраненными от власти жирондистами.
Из трех совершенно разных людей, объединенных революционной молвой в триумвират, только Марат пребывал на вершине славы, купаясь в волнах народной любви. Только он готов был действовать, преследовать, разоблачать, требовать, призывать. Разумеется, на словах. Но слова кумира становились руководством к действию. Чем дальше, тем больше выпадов в сторону своих робких коллег-триумвиров позволял себе Марат. Называя Дантона безнравственным, а Робеспьера медлительным, он намекал, что ни один из них не сможет довести революцию до конца. Сам он этого конца также не видел, но, скорее всего, он о нем и не задумывался. Его задача состояла в том, чтобы поддерживать революционный энтузиазм, обнаруживать врагов и превращать их в мишень для народного гнева, иначе, говоря словами Сен-Жюста, революция замерзнет и останутся одни красные колпаки на головах интриги. Марат, Дантон, Робеспьер — революционный триумвират, более походивший на лебедя, рака и щуку: эти люди вряд ли смогли бы вместе осуществлять диктаторскую политику. Вложив кинжал в руку девы Немезиды, История не дала им времени попытаться втроем сдвинуть ее воз.
Смерть Марата предрекала жирондистам неминуемую гибель. Канские беглецы решили пробираться в Бордо, чтобы там сесть на корабль, отплывавший в Америку.
Облачившись в солдатские мундиры, депутаты сначала двигались вместе с войсками, направлявшимися в Бретань. Пройдя часть пути, они вынуждены были покинуть свое прикрытие и, сняв военную форму, направились в сторону Бордо. Гаде, Бюзо, Барбару, Луве, Петион, Салль, Валади, Кюсси и другие, всего числом девятнадцать, шли лесными тропами, дабы не попадаться на глаза местным жителям, которые, без сомнения, узнали бы их.
Продвигаясь в стороне от населенных пунктов, они испытывали голод и жажду, одежда их пришла в негодность.
Избавляясь от лишней тяжести, они побросали оружие. Барбару двигался с трудом; он вывихнул ногу, и друзьям приходилось поддерживать его. У Риуфа развалились сапоги, и он шел босиком, сбивая в кровь ноги. Сознание того, что в Кемпере, расположенном на побережье Бретани, их должен ждать Кервелеган, обещавший найти какое-нибудь убежище, придавало беглецам силы. Но приблизившись, наконец, к Кемперу, войти в город они побоялись. Тем не менее Кервелеган сумел отыскать прибывших друзей и проводить их в пристанище, где они подкрепили силы хлебом и вином.
Приободрившись, друзья стали думать, куда двигаться дальше. В конце концов решили разделиться — в такое грозное время никто не мог приютить сразу столько «государственных преступников», как теперь именовались бывшие «государственные люди». С Кервелеганом остались Салль, Жирей-Дюпре и Кюсси. Бюзо приютил патриотически настроенный гражданин в предместье Кемпера. Луве, Барбару и Риуфу предоставил убежище один патриот в самом городке. Изгнанники хотели отправиться в Бордо по морю, так как передвижение по суше было опаснее. Не без труда нашли судно, капитан которого согласился доставить в устье Жиронды Кюсси, Жирей-Дюпре, Салля, Бергуэна и еще нескольких жирондистов. Барбару пребывал в тяжелом состоянии и не мог последовать за товарищами, поэтому Петион, Гаде и Бюзо остались с ним. Все чуть-чуть завидовали Луве, который несмотря на угрозы и превратности судьбы переживал медовый месяц — после разрешения разводов Лодоиска рассталась с мужем и соединила жизнь со своим возлюбленным.
Взятие Тулона англичанами удвоило бдительность республиканцев и их ненависть к федералистам, которые, как они считали, хотели расчленить страну. С невероятным трудом удалось найти лодочника, согласившегося за хорошую плату отвезти Луве, Барбару, Петиона, Бюзо, Гаде и Валади в небольшую бухточку неподалеку от города. В самом же городе властвовал комиссар Конвента Тальен, установивший на центральной площади гильотину, очистивший клубы от сторонников Жиронды и настолько запугавший все население, что даже имена занесенных в проскрипционные списки жирондистов вызывали ужас. Одно лишь подозрение в сношении с федералистами могло привести человека на гильотину, а доносчиков во времена Террора хватало: тот, кто не донес, сам оказывался под подозрением. Луве с трудом уговорил Лодоиску расстаться с ним и уехать в Париж. Мы не знаем, когда в точности родился сын Луве (которому в год смерти отца исполнилось четыре года), но отъезд Лодоиски вероятнее всего был связан с ее беременностью.
Гаде, уроженец Сент-Эмильона, города, расположенного неподалеку от Бордо, предложил отправиться искать убежища в его родные места, тем более что там жил его старый отец. Едва беглецы добрались до дома Гаде, как пришло известие о том, что в городок прибывает отряд якобинцев, кажется, под предводительством самого Тальена. Друзьям вновь пришлось бежать. Они нашли убежище в заброшенном погребе дальней родственницы Гаде мадам Буке. Гаде, Барбару, Петион, Луве, Салль и Валади спустились в подземелье, вход куда знала только хозяйка дома. В сырости, в тесноте, при свечах, жирондисты коротали время в шутливых беседах.
С едой было плохо. В стране не хватало продовольствия, повсеместно шли конфискации в пользу армии, хлеб выдавали по карточкам. В городке Сент-Эмильон, где каждый житель как на ладони, мадам Буке с риском для жизни добывала продукты для прокорма взрослых мужчин. По ночам, когда жандармы и доносчики засыпали, она выпускала их подышать воздухом и посмотреть на звезды. Мадам Буке приносила своим гостям книги, бумагу и перья. Барбару и Петион начали писать мемуары. Бюзо писал защитительную речь, хотя уверенности в том, что ему когда-нибудь удастся ее произнести, у него не было никакой, а Луве — рассказы.
«Доброжелатели» выследили мадам Буке, а рыночные торговцы донесли, что с некоторых пор одинокая женщина, судя по количеству покупаемого съестного, стала очень много есть, но на ее фигуре это никак не отражается. Друзьям пришлось срочно покинуть убежище. Расставались с тоской — чувствовали, что больше не увидят друг друга. Валади в одиночку отправился в сторону Пиренеев. По дороге его схватили и расстреляли: как офицер, он избежал гильотины. Барбару, Петион и Бюзо двинулись в ланды, в надежде затеряться среди них. Гаде, Салль и Луве переночевали в заброшенной каменоломне, рассчитывая укрыться утром в доме бывшей подзащитной Гаде, но та отказалась приютить их — страх сильнее чувства благодарности. Тогда Луве по-братски разделил имевшиеся у него деньги и, обняв друзей, зашагал в сторону Парижа. Точнее, потащился, еле передвигая ноги от голода и усталости. Он чувствовал, что не может умереть, не повидавшись в последний раз со своей дорогой Лодоиской. Любовь сотворила чудо: передвигаясь то на телеге, то в повозке, то пешком, обманывая часовых, скрываясь у добрых людей, Луве добрался до Парижа, отыскал свою возлюбленную, и они вместе бежали в Швейцарию, где скрывались в предгорьях Юры; там им удалось пережить Террор.
Салль, Гаде, Петион, Бюзо и Барбару продолжили путь вместе. Известия о трагической гибели в Париже их товарищей, а затем и о казни мадам Ролан повергли их в отчаяние. После гибели Манон Ролан Бюзо почти лишился рассудка; он плакал как ребенок. Попытался даже убить себя, но друзья силой отобрали у него нож и заставили поклясться, что он не станет более покушаться на свою жизнь. Бюзо впал в меланхолию; казалось, мысленно он уже отправился вслед за своей неземной любовью. Друзья с трудом дотащились до дома отца Гаде, где их приютили и накормили чем могли. Но все понимали, что укрыть всех беглецов в маленьком доме семья Гаде не в состоянии. И Бюзо, Петион и Барбару вновь пустились в путь, надеясь скрыться где-нибудь в окрестностях Сент-Эмильона.
Тем временем на смену алчному и беспринципному Тальену в Бордо прибыли новые комиссары Конвента, и среди них Жюльен де Пари. Этот Жюльен отправил на поиски беглецов отряд полиции с собаками. Начали с дома отца Гаде, чье жилище давно уже находилось под наблюдением. В это время Гаде и Салль скрывались на чердаке, в потайной комнате. Услышав звуки приближавшейся облавы, друзья затаились, но на всякий случай взвели курки пистолетов. Этот звук был услышан. От внимательного взора полицейского агента не ускользнуло, что чердак слишком узок по сравнению с внешними стенами дома. Тайное убежище отыскали, стену его разрушили и извлеченных из-под обломков друзей отправили в Бордо — на гильотину. Суд не понадобился — депутаты не скрывали своих имен, а трибунал давно приговорил их к смерти. Арестовали и казнили также мадам Буке и ее семью — за укрывательство лиц, объявленных вне закона.
В последнем письме жене Салль написал: «Очень трудно создать счастье своего отечества. Брут, пронзивший кинжалом тирана, Катон, вонзивший меч себе в грудь, чтобы спасти отечество, не спасли Рим от порабощения. Я убежден, что пожертвовал собой ради народа. Хотя в награду я получаю смерть, но совесть моя спокойна, потому что намерения у меня были благие».
Узнав о гибели товарищей, Барбару, Петион и Бюзо покинули Сент-Эмильон. Их спаситель, честный крестьянин, укрывавший их последние несколько дней, дал им с собой на дорогу немного хлеба с мясом и горсть зеленого горошка. Шли всю ночь. Барбару с трудом передвигал ноги. Утром беглецы издалека заметили отряд жандармов, выезжавший из деревни. Несчастный Барбару не выдержал — схватил пистолет и выстрелил себе в голову, но из-за неуклюжести лишь раздробил челюсть. Увидев, как Барбару упал, обливаясь кровью, Петион и Бюзо решили, что выстрел стал для их товарища роковым, и сломя голову бросились в лес. В тучном, но еще сохранившем свою красоту человеке подскакавшие жандармы узнали бывшего депутата Барбару. Инициалы на платке подтвердили, что перед ними тот, кто занимал одну из первых строчек в проскрипционном списке якобинцев. Не оказав ему никакой помощи, Барбару отвезли в Бордо и без промедления казнили. А через несколько дней на окраине леса нашли клочки одежды и кучку человеческих костей — все, что осталось от Петиона и Бюзо, погибших страшной смертью в июне 1794 года в лесах под Сент-Эмильоном. Узнав, что со всеми беглецами покончено, восемнадцатилетний комиссар Жюльен предложил Робеспьеру срыть до основания дома, где некогда жили Гаде, Салль, Петион, Бюзо и Барбару.
Поединок жирондистов с Маратом завершился гибелью обеих сторон.
Глава 8. ПРОЦЕСС
Нельзя готовому для подвига герою,
Вступив на славный путь, назад глядеть с тоскою.
Корнель. Гораций
Услышав крик Марата, женщины — за исключением консьержки — поспешили в ванную комнату и при виде крови, хлеставшей из раны на груди и заливавшей все вокруг, начали кричать. Симона бросилась к Марату, схватила его, желая убедиться, что его еще можно спасти, но когда голова его безжизненно ударилась о край ванны, в ужасе отпустила тело. «Они убили его!» — истошно вопила она. Впоследствии Дюваль напишет, что он видел, «как в ванне с кровавой водой плавала посиневшая голова Марата». Тем временем гражданка Пен, выскочив на улицу, принялась звать на помощь, и со всех сторон стали сбегаться жильцы дома, соседи, прохожие, национальные гвардейцы, санкюлоты…
Возможно, в создавшейся суматохе Шарлотта сумела бы ускользнуть, имей она дело только с женщинами. Но откуда-то выскочил Лоран Ба со стулом в руке и, замахнувшись, ударил Шарлотту. Она споткнулась, шляпа с зелеными лентами отлетела в сторону. Комиссионер швырнул ее на пол и нанес несколько ударов. Из ванной выскочила Симона Эврар и, увидев поверженную убийцу, бросилась к ней и вцепилась ей в волосы. Шарлотта не сопротивлялась, она желала только одного: чтобы разъяренные граждане и гражданки, набившиеся в квартиру Друга народа, поскорее покончили с ней. Свою миссию она выполнила, а после долго жить она не рассчитывала.
Национальные гвардейцы защитили Шарлотту от озлобленных женщин и, связав ей руки, отвели в гостиную, чтобы по прибытии должностных лиц допросить. Тем временем прибежал живший в этом же доме хирург-зубодер Мишон-Делафонде и, констатировав смерть, помог вытащить тело Друга народа из ванны и отнести на кровать. Некоторые пишут, что на кровати Марат якобы очнулся, что-то пробормотал и только потом умер, но это утверждение сомнительно.
До прихода полицейского комиссара вокруг Шарлотты творился настоящий ад: крики, причитания, проклятия в адрес убийцы, ругань. Из ванной растекались кровавые потоки; люди растаскивали на подошвах башмаков размокшие клочки газетных листов. Гвардейцы с трудом сдерживали натиск беснующихся женщин, рвавшихся в гостиную, чтобы растерзать негодяйку в клочья. Растрепанная, в помятой и порванной одежде, с руками, связанными впивавшейся в кожу веревкой, Шарлотта шептала: «Несчастные люди, они требуют моей смерти, вместо того, чтобы воздвигнуть мне алтарь за то, что я спасла их от такого чудовища!…» «Я думала, что умру сразу; люди мужественные и поистине достойные всяческих похвал оберегли меня от вполне понятной ярости тех несчастных, которых я лишила их кумира. Так как я не утратила хладнокровия, то мне горько было слышать крики некоторых женщин, но тот, кто решил спасти отечество, не станет считаться с ценой», — напишет она в письме Барбару.
Развившая бурную активность гражданка Пен привела доктора Пеллетана, члена Совета здоровья, и тот написал медицинское заключение о смерти гражданина Марата:
«Нож, которым нанесли удар Марату, проник в грудь под правой ключицей, между первым и вторым ребром, и проник так глубоко, что указательный палец полностью погружается в рану, свободно проходя сквозь легкое, отчего, судя по положению органов, можно заключить, что ствол сонной артерии перерезан, о чем свидетельствует большая потеря крови, повлекшая за собой смерть; как отметили присутствующие, кровь лилась из раны ручьями».
Следом за хирургом, примерно в половине восьмого, прибыли Геллар, полицейский комиссар секции Французского театра[75], и двое чиновников из департамента полиции, Марино и Луве. Не дожидаясь представителей Конвента (на место происшествия вскоре прибудут Мор, Лежандр, Шабо и Друэ), Геллар, уговорив «добрых патриотов» расступиться, осмотрел место происшествия и, заглянув под ванну, вытащил нож «с ручкой из черного дерева, лезвие коего, совсем недавно заточенное, оказалось в пятнах крови, свидетельствуя, что именно этим ножом вышеуказанный Марат был убит у себя в ванной». Сознавая всю важность случившегося, Геллар отправил посланца в Комитет общественного спасения, а сам прошел в гостиную, где его помощники уже разместились за столом, приготовив чернильницы, перья и стопки бумаги. Двое гвардейцев крепко держали за локти миловидную гражданку со связанными руками — ту самую, что нанесла смертельный удар Другу народа. Взглянув на обвиняемую, Геллар невольно проникся к ней симпатией: посреди всеобщего буйства она одна хранила спокойствие и смотрела на него уверенным и кротким взором. Набившиеся в квартиру любопытные, подражая античным плакальщицам, почитали долгом картинно выражать свою скорбь и норовили ударить арестованную гражданку, так что комиссару пришлось выставить у дверей гостиной часовых. «Правильно! — раздался из коридора чей-то голос. — Ее нельзя убивать, пока мы не раскроем весь заговор!» Семена, посеянные Маратом, давали всходы: парижанам всюду мерещились заговоры.
Жертвой подозрительности едва не стал Туссен Колле, работник дубильной мастерской, который в девять часов случайно проходил по улице Кордельеров и узнал об убийстве Марата. Возбужденный, он примчался в Тюильри, где заседал Конвент, и стал кричать, что гражданин Марат только что убит женщиной в собственной ванне. Его арестовали и препроводили в Комитет общественного спасения, где ему учинили допрос. На вопрос, откуда ему известно о несчастье с Маратом, он ответил, что, проходя мимо дома гражданина Марата, он увидел большую толпу граждан, которые и сообщили ему эту новость. На вопрос, по какой причине он решил сообщить эту новость Конвенту, он ответил, что причиной является горе, которое вызвала у него смерть Марата. На вопрос, не подговаривал ли его кто-нибудь это сделать, он ответил, что нет. Но беднягу все равно отправили в Комитет полиции, дабы «мудрые члены комитета» установили, не вражеский ли он эмиссар. После выяснения личности возмутителя спокойствия «мудрые члены» вынесли вердикт: объявить о смерти представителя народа не является преступлением. Однако гражданин Колле не имел свидетельства о благонадежности, а потому его под охраной отправили в секцию.
Протокол, составленный комиссаром Гелларом в «год Второй Французской республики, в субботу тринадцатого июля, в семь часов и три четверти после полудня», стал первым в папке с «Делом об убийстве гражданина Марата Мари Анной Шарлоттой Корде». Всего папок по делу Шарлотты Корде будет две: в первую сложат материалы расследования, показания свидетелей, письма, написанные в тюрьме Шарлоттой и ее записки Марату. Во вторую, где на первом листе будет стоять «Приговор, вынесенный 17 июля 1793 девице Корде» и рукой секретаря трибунала Вольфа добавлено: «Смерть», поместят бумаги Революционного трибунала: речь общественного обвинителя, речь защитника, допрос обвиняемой, вердикт присяжных, приговор и отчет о казни. Исход процесса сомнений не вызывал, однако Фукье-Тенвиль решил разделить материалы дела, полагая, что их, быть может, придется использовать для процессов сообщников Шарлотты — Деперре и Фоше. Желание выявить сообщников было настолько велико, что подсудимую, никогда не менявшую своих показаний и не отрицавшую своего поступка, несколько раз допрашивали самым подробнейшим образом, а также выслушивали самые невероятные домыслы взявшихся буквально из воздуха свидетелей.
Ровным голосом Шарлотта уверенно отвечала на вопросы, поражая всех своей убежденностью.
«Да, это мой нож».
«Нет, ни одна живая душа не знала о моем замысле».
«Во Франции вот-вот вспыхнет гражданская война. Марат являлся главным виновником этого бедствия, и поэтому я решила пожертвовать своей жизнью ради спасения отечества».
«Марат спрашивал меня имена депутатов, находящихся в настоящее время в Кане, и когда я назвала их, Марат ответил, что скоро их всех гильотинируют. Тогда я вытащила нож, который прятала на груди, и этим ножом ударила Марата, находившегося в ванне».
«Нет, я не намеревалась бежать через окно, а хотела уйти в дверь, и ушла бы, если бы меня не задержали».
На вопрос, девица ли она, Шарлотта ответила утвердительно.
Потом, во время процесса, общественный обвинитель Фукье-Тенвиль с насмешкой спросит ее, сколько она успела сделать детей, и Шарлотта, покраснев, ответит, что она не замужем. «Добродетельные санкюлоты» никак не могли смириться с тем, что их кумир погиб от руки целомудренной девы, воодушевленной республиканскими идеалами. Наверное, дух Жанны д'Арк оберегал Шарлотту: никакая клевета, распускаемая почитателями Марата, к ней не приставала. В стремлении опорочить убийцу «главного Друга народа» тело Шарлотты после казни подвергли медицинской экспертизе, дабы убедиться в том, что она действительно была девственна. При этой позорной процедуре присутствовал и знаменитый художник Давид, чье полотно «Смерть Марата» обессмертило имя Друга народа и во многом способствовало созданию мученического ореола вокруг этого образа.
При обыске, проводившемся уже в присутствии спешно прибывших членов Комитета общественной безопасности Конвента, у Шарлотты изъяли паспорт, выданный муниципалитетом Кана, кошелек со сбережениями, серебряный наперсток, золотые часы, ключ от чемодана, а также ножны из шагрени от ножа, которым она убила Марата. Когда изъяли ножны, Шабо (получивший от Марата прозвище «кретин-капуцин») углядел подколотые под корсажем Шарлотты бумаги. Почувствовав на себе нескромный взгляд, девушка резко повернулась, шнурок корсажа лопнул, и обнажилась красивая грудь. Моментально согнувшись, Шарлотта жалобно попросила уставившихся на нее мужчин на минутку развязать ей руки, дабы она поправила одежду. Порыв ее был столь естественным, а голос столь искренним, что просьбу незамедлительно исполнили. Шарлотта быстро привела в порядок платье, прическу, прикрыла грудь косынкой и сама отдала депутатам бумаги — свидетельство о крещении и «Обращение к французам». Когда ей вновь связывали руки, Шарлотта попросила дозволения надеть перчатки и спустить рукава, дабы веревки не врезались в кожу; ей пошли навстречу.
Тем временем Лежандр, желая привлечь к себе внимание, спросил ее, не она ли приходила к нему сегодня утром, переодевшись монахиней. Может, она хотела на нем опробовать свой кинжал? Снисходительно улыбнувшись, Шарлотта ответила, что он еще не возвысился до тирана, а потому из-за него не стоит и стараться. Она намеревалась убить только Марата. Лежандр оторопел, не зная, возмущаться ему скрытой в ее словах насмешкой или же восхищаться ее мужеством. Промолчал и Шабо, когда Шарлотта, увидев, что он собирается положить в карман отобранные у нее во время обыска золотые часы, заметила, что, насколько ей известно, капуцины дают обет бедности.
Тут Геллар отвлек присутствующих, заявив, что несмотря на поздний час он считает необходимым обыскать номер преступницы в гостинице «Провиданс». Все поддержали его, и «в субботу тринадцатого июля 1793-го, второго года республики единой и неделимой, в половине одиннадцатого вечера» уполномоченные граждане произвели обыск в комнате номер семь вышеуказанной гостиницы, где, помимо уже перечисленных личных вещей Шарлотты, обнаружили «три клочка бумаги», на самом маленьком из которых был записан адрес Деперре: «Гражданин Деперре, улица Сен-Тома-дю-Лувр, № 45». Привратник, гражданин Брюно, сообщил полицейским, что за время пребывания гражданки Корде в гостинице к ней дважды заходил какой-то субъект ростом около пяти футов четырех дюймов, одетый во фрак светло-желтого цвета, примерно сорока лет от роду. Судя по всему, речь шла о Деперре.
По завершении полицейских формальностей Шабо и Друэ взялись отвезти преступницу в тюрьму. Когда Шарлотту вывели из гостиной, она через распахнутую дверь увидела Симону Эврар, застывшую, словно изваяние Горя, возле кровати, где покоилось безжизненное тело Марата. Шарлотта изменилась в лице: она никогда не думала, что смерть чудовища для кого-то может обернуться гибелью любимого человека.
На улице у Шарлотты от яростных криков и чадящих факелов закружилась голова. «Марат мертв! Марат убит! Смерть аристократам! Спасем республику!» — доносилось со всех сторон. Она не помнила, как члены комитета при поддержке нескольких национальных гвардейцев довели ее до кареты и помогли сесть. Ее доставили в тюрьму Аббатства. Там сопровождавшие Шарлотту члены комитета еще раз допросили ее и только потом передали чете Делавакри, исполнявшей обязанности тюремщиков. Было три часа ночи. От пережитого Шарлотта едва держалась на ногах.
Мадемуазель Корде отвели камеру, где незадолго до того содержался Бриссо, а еще раньше Манон Ролан, оставившая довольно подробное описание помещения: «Это была маленькая, темная каморка с грязными стенами и толстыми решетками на окнах; по соседству находился дровяной сарай, служивший отхожим местом для всех здешних обитателей. Так как в эту каморку втискивалась всего одна кровать, то и разместить в ней можно было только одного человека. Поэтому по обыкновению ее в качестве любезности предоставляли новому лицу или тому, кто желал воспользоваться преимуществом уединения… Я не знала, что комнату эту доведется занимать Бриссо, и не подозревала, что вскоре после него ее займет героиня, достойная лучшего века, — знаменитая Шарлотта Корде».
Шарлотту решили не оставлять одну и для наблюдения приставили к ней двух жандармов, не покидавших ее ни днем ни ночью. Шарлотта болезненно восприняла столь откровенное покушение на ее стыдливость и попросила избавить ее от присутствия посторонних мужчин; но ее просьба услышана не была. К счастью, мадам Делавакри по-доброму отнеслась к странной девушке с ангельской внешностью, глядя на которую, никто бы не сказал, что она способна на убийство… С помощью любезной тюремщицы, раздобывшей для нее кусок батиста, Шарлотта смастерила себе чепчик с маленькой оборкой (взамен утерянной шляпы) и косынку, ибо прежняя порвалась во время ареста.
Несмотря на отмену торжеств, посвященных празднованию 14 июля, город гудел как растревоженный улей: убийство Марата потрясло всех — и его почитателей, и его врагов. Людей на улицы высыпало больше, чем во время праздника. Шустрые мальчишки звонкими голосами выкрикивали последние новости из Конвента и Якобинского клуба, где заседания шли с раннего утра. Продавцы газет громко цитировали самые яркие фразы из заметок про убийство Друга народа. До Шарлотты долетали проклятия в ее адрес, сопровождавшиеся воплями и стенаниями: «Марат умер, и убийца его схвачена. Преступница — женщина лет двадцати двух—двадцати трех, она в ужасе от собственного поступка!» «Поклянемся отомстить за смерть великого человека!» «Граждане, будьте бдительны как никогда и не доверяйте зеленым лентам!»
Прислушавшись к доносившимся с улицы голосам, Шарлотта узнала, что арестованы ее «сообщники»: Лоз Деперре и епископ Фоше, и сильно разволновалась. Фоше — ее сообщник? У нее нет никаких сообщников! Она попросила перо, бумагу и чернила, и ей предоставили их весьма охотно — в надежде, что она назовет кого-нибудь из заговорщиков. Но девушка написала всего лишь записку-опровержение:
«С улицы до меня постоянно долетают выкрики об аресте моего сообщника Фоше. Я никогда не знала Фоше лично, видела только из окна, и то два года назад. Я не люблю и не уважаю его; мне всегда казалось, что он обладает чрезмерно буйным воображением и не имеет твердого характера. Это светский человек, ему я бы в последнюю очередь доверила свои планы. Если это заявление может ему помочь, я подтверждаю его подлинность.
Корде».
Про Деперре Шарлотта старалась не думать: если у него нашли письмо от Барбару и те брошюры, которые она привезла из Кана, ничто не сможет оправдать его в глазах якобинцев. Она предупреждала его, но он ей не поверил! Сама она ни о чем не жалела. «Я оказала Франции такую же услугу, как если бы я поразила тигра, бежавшего из снегов Сибири, чтобы в нашем климате питаться человеческой кровью», — скажет она на допросе судье Монтане.
Вот что писали газеты об убийце Друга народа. «Марат убит мужчиной, переодевшимся женщиной!» — утверждала газета Перле. «Женщина, которая убила Марата, была замужем, вчера утром казнили ее мужа, но это не достоверно», — сообщала «Эроп мессажер дю суар» (Europe messager du soir). «Папаша Дюшен разгневан на шлюху из Кальвадоса, зарезавшую Марата по указке епископа Фоше». «Чтобы карать предателей, гильотины недостаточно, надо придумать более жестокий и позорный способ казни», — предлагал редактор «Папаши Дюшена». «Газет франсез» (Gazette française), получавшая сведения из официальных источников, 14 июля опубликовала следующую заметку:
«Сегодня в восемь вечера Марат был убит женщиной, которая, как говорят, несколько дней назад приходила к нему, чтобы добиться помилования для граждан Орлеана. Марат находился в ванне, и убийца вонзил кинжал ему прямо в грудь. От этого удара он тотчас испустил дух. Эта женщина не пыталась убежать; она спокойно сидела в своем экипаже, ожидая, когда ее арестуют. Не знаю, вскрикнула ли она, нанося удар; но дело сделано; чудовище мертво. Это событие произвело чрезвычайное возбуждение, и есть опасения, что последствия его будут самые плачевные».
По предложению Лежандра Комитет общественного спасения срочно составил прокламацию, и к полудню ее уже расклеивали на улицах Парижа и отсылали в департаменты.
«Граждане, роковые предсказания убийц свободы сбываются. Марат, защитник прав и верховного владычества народа, обличитель всех его врагов, Марат, одно имя которого уже говорит об услугах, оказанных отечеству, пал под ударами кинжалов отцеубийц, подлых федералистов. Фурия, прибывшая из Кана, вонзила нож в грудь апостола и мученика революции. Граждане! Нам необходимы спокойствие, энергия и особенно бдительность… Час свободы пробил, и пролившаяся кровь станет приговором для всех изменников; она еще сильнее сплотит патриотов, дабы те на могиле этого великого человека вновь дали клятву и торжественно заявили: свобода или смерть!»
В Конвенте докладчиком выступил Шабо. Вчера у него не получилось изъять из дела «Обращение» гражданки Корде, «написанное с целью развращения общественного мнения», зато удалось прихватить нож и ножны. Потрясая орудием убийства, он, пытаясь перекричать депутатов, заявил, что кинжал, сразивший Друга народа, угрожает всему Конвенту. Ему вторил монтаньяр Левассер: «Над нами занесен убийцами кинжал! Усилим, насколько возможно, нашу политическую деятельность!»
Про Шарлотту Шабо скажет:
«Это одно из тех чудовищ, которых природа, желая наказать человечество, время от времени изрыгает из чрева своего. Умная, наделенная множеством достоинств, приятная обликом и хорошо сложенная, она в безумии своем способна на все.
Пусть суд накажет эту кровожадную женщину, подвергнув ее и ее сообщников самым жестоким пыткам! Созерцайте, граждане, смертоносное орудие, еще покрытое кровью бессмертного Марата!»
Поддерживая ораторов, делегаты народных клубов требовали самым суровым образом покарать убийцу.
«Граждане, вам следует принять чрезвычайный закон. Ибо нет такой казни, которая могла бы показаться слишком суровой, чтобы отмстить за нацию тому, кто совершил это ужасное преступление… Безумцы, они точат на нас кинжалы, думая, что останутся безнаказанными. Так пусть же жизнь тех, кто покусился на отца нации, прервется навсегда, но прервется не легко, словно рвется нить, а после долгих мучений!» — заявил от имени своей депутации петиционер Гиро. «Того, кто убил, следует убить тем же кинжалом!» — кричали с мест. Газета «Папаша Дюшен» писала: «Чтобы карать предателей, гильотины недостаточно, надобно придумать более ужасный и позорный способ казни».
Общественный обвинитель Фукье-Тенвиль направил в Конвент письмо:
«Граждане,
Совершенное вчера убийство отважного и мужественного республиканца Марата должно возбуждать негодование в сердцах всех истинных республиканцев и требует строгого и скорого наказания. Меч закона должен без промедления сразить и убийцу, и его сообщников.
Если вы можете передать мне протокол и прочие документы, относящиеся к этому злополучному делу сегодня утром, завтра же состоится суд над обвиняемой.
Привет и братство, Фукье-Тенвиль».
Ответом на это письмо стал декрет Национального конвента:
«От 14 июля 1793, Второго года Французской республики.
Постановлением Национального конвента Революционный трибунал немедленно начинает процесс против убийцы Марата и его сообщников».
Сообщники! Это слово стало ключевым в работе трибунала. Ибо многие думали, что кинжал Шарлотты был направлен в Робеспьера, а Марата поразил случайно или по ошибке. Тем более что, выступая 14 июля, сам Робеспьер намекнул, что честь пасть от кинжала была уготована ему, а первенство Марата «было предрешено лишь случаем». Позднее высказывались мысли о том, что жертвой Шарлотты мог или даже должен был стать Робеспьер.
«Самая удивительная из женщин, Шарлотта Корде д' Армон специально приехала из Кана, чтобы уничтожить негодяя. Она никак не могла решить, кто больше заслуживает смерти: Марат или Робеспьер. Случаю было угодно, чтобы ей дали адрес Марата. Она коварным способом проникла к нему и ударила его кинжалом, хотя ему оставалось жить уже немного. Марат должен был погибнуть на эшафоте. Его нечистые останки поместили в Пантеон, а потом выбросили в канализацию на Монмартре. Жаль Шарлотту Корде, ибо она, сама того не ведая, дала террористам возможность и предлог приумножить гонения на своих противников», — писал поздний современник событий.
По мнению генерала Вимпфена, «убийство Марата является делом пяти депутатов: Бергуэна, Луве, Дюшателя, Кервелегана, Валади; но не Марат был ими указан, а Дантон, его Новая Юдифь должна была уничтожить. Они называли это "разрезать Гору пополам", потому что письма, которые везла мадемуазель Корде, содержали инструкцию, где говорилось, что, когда великое событие свершится, следует распространить слух, что это сделано по указке Робеспьера. Но мадемуазель Корде, распечатав два письма, увидела, что в них Дантона обвиняют в том, что тот хочет возвести на трон дофина. А так как эта мадемуазель де Корде была фанатичной роялисткой, она не решилась поднять руку на того, кто отвечал ее чаяниям».
«Шарлотта Корде плохо выбрала свою жертву. Ибо был еще один, тот, который гораздо более виновен; его ее рука должна была бы уничтожить. Смерть Марата послужила только торжеству его отвратительных сторонников. Прежде они считали его пророком, теперь они превратили его в мученика», — писала в тюрьме Сент-Пелажи Манон Ролан, подразумевая под тем, кто «гораздо более виновен», Робеспьера.
«Скорее всего, этому прогнившему чудовищу, погрязшему в пороках, оставалось жить не более недели, — писал Бонвиль в книге «Портреты знаменитых деятелей Французской революции». — Бессмертная Шарлотта Корде заставила забыть грязь, из которой он состоял. Почему она не дала ему умереть естественной смертью? Его царство кончалось, а его убийство послужило его апостолам! Его назвали мучеником свободы!» А вот что писал в мемуарах Луве: «Я заявляю, утверждаю, что она никогда не говорила никому из нас ни слова о своем замысле. А если бы она посоветовалась с нами, то разве на Марата мы бы попытались направить ее удары? Разве мы не знали, что в то время тяжелая болезнь настолько подорвала здоровье Марата, что жить ему оставалось от силы два дня?.. Смиримся перед декретами Провидения, это оно захотело, чтобы Робеспьер и его сообщники жили так долго, что, в конце концов, уничтожили самих себя».
Наверное, к лучшему, что Шарлотте не довелось узнать о том, что многие республиканцы, восхищавшиеся ее подвигом, сожалели, что она направила свою ненависть на Марата, уже сходившего с политической сцены. А некоторые монтаньяры втайне радовались устранению соратника, чью популярность теперь можно было использовать в своих интересах. «Поверьте, убийство Марата послужило на пользу Робеспьеру, Бареру, Дантону, освободившимся от соперника если не опасного, то крайне неприятного для их необузданного честолюбия», — писал Бюзо. Справедливость слов политического противника подтверждает брат Робеспьера Огюстен в письме от 15 июля 1793 года своему другу Бюиссару: «…Смерть Марата, по всей вероятности, принесет пользу республике, благодаря обстоятельствам, сопровождавшим ее. Бывшая дворянка, прибывшая из Кана, преднамеренно подосланная Барбару и другими злодеями, обратилась сначала к одному правому депутату Парижа, к фанатику Деперре, который дважды обнажал шпагу в собрании и много раз угрожал Марату. Мы декретировали предание его суду за соучастие в убийстве. Вы из газет узнаете подробности этого дела, и вам не трудно будет судить о людях, с которыми нам приходится бороться. Министр внутренних дел, по-видимому, был намечен жертвой кинжала этой чудовищной женщины, под ударами которой пал Марат. Дантон и Максимилиан все еще находятся под угрозой. Достойно замечания средство, которым эта адская баба воспользовалась, чтобы получить доступ к нашему коллеге. В то время как Марата изобразили таким ужасным чудовищем, что вся Франция доведена обманом до убеждения, будто нет каннибала, равного этому гражданину, эта женщина, однако, умоляя его о сострадании, пишет ему: "Я несчастна, а потому имею право на вашу защиту". Это обстоятельство способно демаратизировать Марата и открыть глаза тем, кто чистосердечно считает нас людьми кровожадными. Вы должны знать, что Марат жил как спартанец, он ничего не тратил на себя, отдавая все, что имел, обращавшимся к нему за помощью. Он много раз говорил и мне, и моим коллегам: "Мне больше нечем помочь несчастной толпе, обращающейся ко мне, я вам пришлю некоторых", и он много раз так делал.
Судите о политическом положении, до которого довела нас клевета. Горячие, но малосознательные патриоты согласны теперь вместе с заговорщиками похоронить Марата в Пантеоне».
Пятнадцатого июля Шарлотта, исполняя обещание, начала писать длинное письмо Барбару, в котором подробно рассказывала обо всем, что случилось с ней со дня отъезда из Кана. Во время первого допроса она впервые вслух поведала о своем замысле — после того, как осуществила его. Теперь она намеревалась отстоять его, не дать связать с заговором. Почему они не верят ей, почему постоянно хотят кого-то поставить рядом с ней? Разве им мало тех голов, которые они уже снесли по воле чудовища? Они же видели, что она пришла к нему одна и одна заколола его! Шарлотта не хотела ни с кем соединять свое имя — ни в смерти, ни в славе. Все, чем жила, чем восхищалась, перед чем благоговела, она вложила в удар, нанесенный теплым июльским вечером маленькому желтому человечку, намеревавшемуся залить кровью ее отечество. Шарлотта привыкла верить словам, внимать героической музыке стихов Корнеля, величественным картинам и монументальным образам Плутарха, «…один лишь Брут выступил против Цезаря, увлеченный кажущимся блеском и величием этого деяния, меж тем как все прочие заговорщики просто ненавидели диктатора и завидовали ему. За нравственную высоту Брута уважали даже враги, ибо он был мягок и великодушен, и неподвластен ни гневу, ни наслаждениям, ни алчности». Если в этом отрывке из Плутарха заменить имя Брута на имя Корде, получится портрет Шарлотты. «Шарлотта Корде — это Брут», — написали братья Гонкуры.
В этот же день мадемуазель Корде направила письмо в Комитет общественной безопасности с просьбой избавить ее от постоянного присутствия в камере соглядатаев и прислать ей художника:
«15 июля 1793,Второй год Республики.
Так как мне осталось жить совсем немного, могу ли я надеяться, граждане, что вы позволите нарисовать мой портрет? Я бы хотела оставить его на память своим друзьям. Нам дороги изображения добрых граждан, однако любопытство иногда побуждает нас обращать взоры на портреты великих преступников, ибо они увековечивают ужас, порожденный их преступлениями. Если вы благосклонно отнесетесь к моей просьбе, прошу вас завтра утром прислать мне художника-портретиста. И я снова обращаюсь с просьбой дозволить мне ночевать одной в камере.
Буду вам признательна. Мари Корде».
Кажется, Перле читал мысли Шарлотты, ибо в своей газете он написал: «Читатель жадно внимает всему, что пишут о личности Шарлотты Корде. Великие преступления, равно как и великие добродетели, вызывают одновременно и ужас, и восхищение».
Между тем Комитет общественной безопасности принимал заявления от граждан, желавших что-либо сообщить по делу вышеуказанной гражданки, и записывал показания. Некоторые заявления являлись доносами. Нож гильотины опускался все чаще, стараниями судей Революционного трибунала доносительство становилось едва ли не гражданской добродетелью. Поэтому не удивительно, что нашлись граждане, пожелавшие проявить особую революционную бдительность, дабы их не заподозрили в сочувствии к «негодяйке». А кое-кто пожелал воспользоваться возможностью свести счеты с собственными врагами или соперниками…
Например, некий гражданин Сальвадор направил в комитет следующее письмо: «Газета, которую я прилагаю к письму, не самая патриотическая, и вы это сами увидите. Редактор ее, некий Бомон, написал, что дни Марата сочтены. Но ведь тогда дни Марата еще сочтены не были! Зачем он написал неправду в своей газете? Не был ли он в сговоре с той чертовкой? И почему сегодня он ничего не сообщил о смерти Марата? После размышлений у меня возникают сомнения относительно этого Бомона».
Гражданин Кессель известил комитет о том, что «гражданин Ледюк, трактирщик в Монморанси, заявил в присутствии гражданки Стейм, торговки вином, что в прошлый четверг, около восьми часов утра, возле его дверей остановилась карета, в которой прибыли пятеро, а именно трое мужчин и две женщины. Среди мужчин он узнал аббата Фоше и епископа Нанси, а одной из женщин вполне могло быть от двадцать четырех до двадцати шести лет. Вышеуказанный Фоше недвусмысленно запретил кому-либо говорить о их приезде, но, главное, скрыть его от депутата Горы, который иногда посещает этот трактир. Прибывшие люди остановились у Ледюка в отдельной комнате и пробыли там до полудня. Если эти сведения могут пролить какой-нибудь свет на сообщников убийцы Марата, я подумал, что мой долг сделать настоящее заявление и подписать его».
Гражданка Добантон заявила в комитет о том, что в вечер убийства гражданина Марата, «часов в семь или в четверть восьмого, проходя по улице Отфей, она увидела двух человек, которые разговаривали между собой. Один из них, заметив заявительницу, которая носила кокарду, сказал достаточно громким голосом: "Они хотят убить Марата". И добавил: "Почтальон, который прошел здесь, сказал, что он только что доставил Марату письмо". Говоривший был одет в шелковый костюм светлокоричневого цвета, в белые шелковые чулки и был довольно высокого роста». Друэ, к которому попало заявление гражданки Добантон, наложил резолюцию: «Устроить очную ставку с обвиняемой, установить личность почтальона и также устроить ему очную ставку с обвиняемой».
В материалах дела сохранилось письмо гражданина Мерже, написанное корявым почерком и со множеством ошибок: «Гражданин общественный обвинитель, предупреждаю Вас, что я знаю, что некий человек по имени Обер, так называемый курьер из Марселя, является большим другом и доверенным лицом Барбару. Полагаю, что надо его срочно вызвать на очную ставку с означенной Корде. Вчера я передал донесение против означенного Обера в Комитете общественной безопасности гражданину Леба, члену комитета, чтобы оно могло послужить материалом на процессе. Завтра я буду в зале вместе со свидетелями.
Я проверил адрес означенного Обера: улица Пти-Льонсенсовер, номер двадцать пять, курьер из Марселя.
К тому же есть еще один свидетель, который дает показания против него, его Вы можете спросить о заговоре, это гражданин Симон, проживающий на улице Кордельеров, номер двадцать восемь. Этот свидетель подтвердит существование заговора, замышленного Барбару и всеми его сообщниками, которые замыслили этот заговор уже давно».
Неоднократно допрашивали хозяйку гостиницы «Провиданс» Мари Луизу Гролье, швейцара Луи Брюно, рассыльного Пьера Франсуа Фейяра, но их показания мало чем отличались друг от друга. Да, гражданку Корде три или четыре раза посещал гражданин, которого и Фейяр, и Гролье могли бы узнать. Да, гражданке Корде приносили перья, чернила и бумагу. Да, гражданка Корде расспрашивала о Марате, и все отвечали ей, что считают его патриотом.
Утром 16 июля Шарлотту перевели в Консьержери, тюрьму при Дворце правосудия, с недавних пор получившую название «прихожая гильотины». Вещей у мадемуазель Корде никаких не было, так что на сборы времени практически не понадобилось: с собой она захватила только недописанное письмо Барбару — в надежде успеть завершить его на новом месте. Она не знала, сколько еще ей осталось жить, знала только, что немного.
В тот же день в одиннадцать часов утра Шарлотту отвели на допрос в трибунал, пока еще именовавшийся «уголовным революционным». Но скоро его первое определение отпадет. В тот день в трибунале председательствовал Монтане, присутствовали общественный обвинитель Фукье-Тенвиль и секретарь суда Вольф.
Они спросили Шарлотту, как ее зовут, сколько ей лет, чем она занимается и где проживает.
Она ответила, что ее зовут Мари Анна Шарлотта Корде, ей двадцать пять лет, она дочь бывшего дворянина Жака Франсуа Корде и проживает в Кане у вдовы Лекутелье де Бретвиль; родилась она в Линьери, дистрикт Аржантан, департамент Ор; ее отец проживает в настоящее время в Аржантане.
Вопрос. Когда она покинула Кан?
Ответ. В прошлый вторник.
Вопрос. Куда она направилась, выехав из Кана?
Ответ. В Париж.
Вопрос. Как она добиралась до Парижа?
Ответ. В рейсовом дилижансе, который три раза в неделю отправляется в Париж.
Вопрос. Она была одна?
Ответ. Никого из знакомых с ней не было, однако в дилижансе было семь или восемь пассажиров.
Вопрос. Она была знакома с кем-нибудь из пассажиров?
Ответ. Нет.
Вопрос. В какой день она прибыла в Париж?
Ответ. В прошлый четверг около полудня.
Вопрос. Где она высадилась в Париже?
Ответ. Она высадилась там, куда ее привез дилижанс; оттуда она отправилась в гостиницу «Провиданс», что находится на улице Вьез-Огюстен.
Вопрос. Кто направил ее в эту гостиницу?
Ответ. Кто-то из служащих на каретном дворе, имени его она не знает.
Вопрос. С какой целью она приехала в Париж?
Ответ. Убить Марата, других целей у нее не было.
Вопрос. Что побудило ее совершить это злодеяние?
Ответ. Его многочисленные преступления.
Вопрос. В каких преступлениях она его обвиняет?
Ответ. В истреблении французов, в разжигании гражданской войны, охватившей всю страну.
Вопрос. На чем основаны ее обвинения?
Ответ. Его прошлые преступления указывают на преступления недавние. Это он организовал сентябрьскую резню, он раздувал пламя гражданской войны, чтобы его избрали диктатором, он посягнул на власть народа, приказав 31 мая арестовать и посадить под замок депутатов Конвента.
Вопрос. Какие у нее доказательства, что именно Марат совершил перечисленные ею преступления?
Ответ. К сожалению, сейчас она ничего не может доказать, но Франция разделяет ее мнение, а будущее предоставит доказательства. Марат умело скрывал свои намерения.
Вопрос. Что она делала, прибыв в Париж?
Ответ. Она посетила гражданина Деперре, депутата Конвента.
Вопрос. Зачем она отправилась к Деперре?
Ответ. Она шла отдать пакет, переданный для него Барбару.
Вопрос. Она встретилась с депутатом?
Ответ. Нет, его не было дома.
Вопрос. Она оставила пакет?
Ответ. Она оставила пакет его дочерям.
Вопрос. Кто сопровождал ее к депутату?
Ответ. Она пошла к нему одна и пешком.
Вопрос. В тот день она приходила к нему несколько раз?
Ответ. Да, ей сказали, что он будет через четыре часа, и в указанное время она вновь пришла к нему; гражданин Деперре был дома и обедал.
Вопрос. О чем они беседовали?
Ответ. Она уже говорила, что пришла передать пакет, а также попросить депутата сопроводить ее к министру внутренних дел, чтобы забрать у него бумаги, которые она отправила полгода назад, а неделю назад запросила обратно.
Вопрос. О чем еще она разговаривала с Деперре?
Ответ. Больше ни о чем.
Вопрос. Что она делала на второй день своего пребывания в Париже?
Ответ. Вместе с Деперре она утром отправилась к министру.
Вопрос. Зачем?
Ответ. Чтобы попросить его вернуть бумаги.
Вопрос. Что это за бумаги?
Ответ. Это бумаги мадемуазель Форбен, канониссы, которая сейчас находится в Швейцарии. Дистрикт Кана отказался выплачивать ей содержание канониссы, так как она эмигрировала.
Вопрос. Что еще Корде делала в этот день?
Ответ. Написала «Обращение», которое было найдено у нее, а потом легла отдохнуть.
Вопрос. Что она делала на третий день?
Ответ. Утром она одна отправилась в Пале-Рояль.
Вопрос. Что она делала в Пале-Рояле и не делала ли она там покупок?
Ответ. Да, делала.
Вопрос. Что она купила?
Ответ. Листовку, где был опубликован приговор убийцам Леонара Бурдона и столовый нож в футляре, с черной рукояткой, обычного размера, за сорок су.
Вопрос. Зачем она купила этот нож?
Ответ. Чтобы убить Марата.
Вопрос. Что она делала в оставшееся время?
Ответ. К одиннадцати или к половине двенадцатого подъехала в фиакре к дому Марата.
Вопрос. Что она сделала, прибыв туда?
Ответ. Попросила, чтобы ее пропустили к Марату.
Вопрос. И ее пропустили?
Ответ. Она вошла в прихожую, но там находилось несколько женщин, которые не пустили ее; она просила, чтобы одна из женщин сообщила Марату, что к нему пришла гражданка и хочет с ним поговорить, однако и в этой просьбе ей тоже отказали. Тогда она вернулась к себе в гостиницу; времени было около полудня.
Вопрос. Чем она занималась в оставшееся время?
Ответ. Она немедленно написала письмо Марату.
Вопрос. О чем она писала?
Ответ. Она пыталась убедить его, что может сообщить ему важные сведения о том, что происходит в Кальвадосе.
Вопрос. Что она делала в оставшееся время и не отправилась ли она в Национальный конвент?
Ответ. Она весь день никуда не выходила и даже не думала идти в Национальный конвент, тем более что она не знала, где он находится. В семь часов вечера она снова вышла на улицу, чтобы отправиться к Марату.
Вопрос. И она попала к нему?
Ответ. Да.
Вопрос. Кто ее впустил?
Ответ. Те же самые женщины, которые отказались впустить ее утром.
Вопрос. О чем они разговаривали?
Ответ. Он стал расспрашивать ее о мятежниках в Кане; она ответила, что восемнадцать депутатов Конвента вместе с руководителями департамента взяли власть в городе и что множество людей готовы двинуться на Париж, чтобы освободить столицу от анархистов, что четверо администраторов департамента во главе части армии двинулись в Эвре. И Марат записал имена депутатов, укрывшихся в Кане, и имена четырех администраторов департамента Кальвадос.
Вопрос. Какие имена она назвала Марату?
Ответ. Горса, Ларивьер, Бюзо, Барбару, Луве, Бергуэн, Петион, Кюсси, Салль, Лесаж, Валади, Кервелеган, Гаде и еще пятерых, чьи имена она сейчас не припомнит, а также имена администраторов Кальвадоса: председатель Левек, прокурор-синдик Бугон, Мениль и Ленорман.
Вопрос. Что ответил Марат?
Ответ. Что вскоре он всех их отправит на гильотину в Париже.
Вопрос. Каков был результат разговора?
Ответ. В ту минуту, когда он произнес последнее слово, она убила его.
Вопрос. Каким образом она его убила?
Ответ. Ножом, купленным в Пале-Рояле, она ударила его в грудь.
Вопрос. Ударив его ножом, она была уверена, что убила его?
Ответ. Она хотела это сделать.
Вопрос. Она знала, что, направив удар в сердце, она убьет его?
Ответ. Именно это она и хотела сделать.
Вопрос. Столь жестокое преступление не могло быть совершено особой ее возраста, она действовала по чьему-то наущению?
Ответ. Она никому не поверяла своих замыслов, к тому же она считала, что убивает не человека, а кровожадного зверя, намеревавшегося пожрать всех французов.
Вопрос. Почему она решила, что Марат — кровожадный зверь?
Ответ. Из-за волнений, подстрекателем которых он был, и из-за массовых убийств, в которых он повинен; а в последнее время он посылал своих людей собирать деньги.
Вопрос. Откуда она знает, что Марат собирал деньги?
Ответ. Она не может предоставить доказательства, но один человек был арестован с серебром, которое он намеревался отвезти в Париж, и он привлечен к суду.
Вопрос. Что произошло после того, как она совершила убийство?
Ответ. Она была задержана при выходе из комнаты, где она совершила убийство, и в соседней комнате ей учинили допрос, и после допроса около полуночи ее препроводили в тюрьму аббатства.
Вопрос. Отправляясь к министру внутренних дел, она тоже хотела его убить?
Ответ. Нет, она не считала его настолько опасным.
Вопрос. Кто был муж гражданки, у которой она проживала в Кане?
Ответ. Он был казначеем.
Вопрос. Есть ли у нее дети?
Ответ. Нет.
Вопрос. Гражданка, у которой она проживала, воспитала ее?
Ответ. Нет, она жила у нее последние два года.
Вопрос. Гражданке из честной семьи, особенно в таком возрасте, не пристало путешествовать в одиночку; дочь бывшего дворянина, получившая достойное воспитание, должна была соблюдать приличия; неужели ее родственница отпустила ее в Париж, не зная истинных мотивов ее поездки?
Ответ. Когда имеется подобный замысел, приличия отступают; она убедила свою родственницу, что вместе с подругой отправляется на несколько дней к отцу в Аржантан, и, убедив родственницу, она уехала из Кана в прошлый вторник, в два часа после полудня.
Вопрос. Она назвала имя подруги своей тетке?
Ответ. Нет, она даже не дала тетке возможности расспросить ее.
Вопрос. Она одна садилась в экипаж?
Ответ. Да.
Вопрос. Странно. А тем, кто отправлял карету, и в частности директору почтовой станции показалось, что ее в карету посадил какой-то человек. Как она может это объяснить?
Ответ. Никто не сажал ее в карету, и ее не заботило, что о ней подумают.
Вопрос. Она заранее заказала место в карете?
Ответ. Она заказала его накануне под своим собственным именем.
Вопрос. Кто дал ей деньги, которые нашли у нее при задержании?
Ответ. Когда она нуждалась в деньгах, отец помогал ей; она скопила сотню экю, из которых взяла с собой пятьдесят, которые и были найдены при ней.
Вопрос. К каким хитростям пришлось ей прибегнуть, чтобы получить паспорт?
Ответ. Паспорт она получила в апреле месяце, потому что хотела съездить в Аржантан повидаться с родными; потом она еще раз побывала в муниципалитете, уже вместе с подругой, которая выправляла себе паспорт, и она решила тоже выправить себе паспорт в Париж, хотя тогда у нее еще не было никаких планов
Вопрос. Когда она замыслила убийство?
Ответ. Кажется, в апреле или в мае.
Вопрос. Как зовут подругу, вместе с которой она приходила в муниципалитет?
Ответ. Ее зовут Бомон, она проживает в Кане, во всяком случае, в день ее отъезда она еще там проживала.
Вопрос. Как она познакомилась с Барбару и другими депутатами, которых она назвала выше?
Ответ. Она хотела помочь мадемуазель Форбен и поэтому отправилась к Барбару, ибо знала, что он был дружен с семьей Форбен, и она попросила его помочь уладить это дело в дистрикте Кана, но он сказал, что для этого нужно заполучить те бумаги, которые она отослала в министерство внутренних дел.
Вопрос. Как и где она познакомилась с другими депутатами, чьи имена она назвала?
Ответ. Депутаты проживали в доме интендантства, она трижды виделась с Барбару и одновременно с другими депутатами.
Вопрос. Разговаривала ли она с ними и с кем именно она разговаривала?
Ответ. Когда она в последний раз была в Интендантстве, она разговаривала со многими депутатами.
Вопрос. О чем она с ними разговаривала?
Ответ. О том, с каким энтузиазмом жители Кана записываются в армию, чтобы выступить против анархистов, обосновавшихся в Париже.
Вопрос. Кого она считает анархистами?
Ответ. Тех, кто вместо законов пытается навязать народу свою волю.
Вопрос. Устраивали ли депутаты публичные собрания в Интендантстве, не распространяли ли они воззвания и листовки, написанные Горса и Луве?
Ответ. Она не знает, устраивали ли они публичные собрания, ибо она на них не присутствовала, но многие из них писали обращения, воззвания и даже песни с целью призвать народ сплотиться вокруг республики.
Вопрос. Читала ли она эти обращения, воззвания и песни?
Ответ. Да, но перед отъездом в Париж она их сожгла, опасаясь, что в дороге их могут у нее обнаружить.
Вопрос. Но раз она боялась, что их могут у нее обнаружить, значит, она знала, что в этих листовках содержатся вредные идеи, противоречащие принципам общественного порядка?
Ответ. Она знала, что, если анархисты найдут у нее эти воззвания, они им не понравятся.
Вопрос. Были ли в этих воззваниях призывы к добрым гражданам убить Марата, Робеспьера, Дантона и других депутатов Горы, защитников прав народа, кого преступные и мятежные депутаты именовали анархистами?
Ответ. В этих воззваниях никогда не было призывов к убийству.
Вопрос. Если в воззваниях не содержалось призывов к убийствам, значит, подобные мысли были внушены ей либо самими депутатами, либо их ставленниками, ибо молодая девушка не может по собственной воле отправиться в Париж только ради того, чтобы убить незнакомого ей человека?
Ответ. За четыре года, что он творил свои преступления, она достаточно узнала его, и ей незачем было знать, что о нем думают другие.
Вопрос. Какие газеты она читала с начала революции? Читала ли она «Курье де департеман» Горса, «Французский патриот» и другие контрреволюционные издания?
Ответ. Она была подписана только на ежедневную газету Перле, но иногда она читала и газету Горса, и «Курье Франсе», и «Курье универсель», а также более пятисот различных брошюр как в поддержку революции, так и против нее.
Вопрос. Знакома ли она с епископом департамента Кальвадос?
Ответ. Она видела его из окна, но он никогда не бывал в доме ее родственницы, она с ним никогда не разговаривала и никогда не питала к нему особого уважения.
Вопрос. Известно ли ей, что находилось в пакете, который от имени Барбару она передала Деперре?
Ответ. Пакет был передан ей запечатанным, и что в нем находилось кроме письма, касавшегося дела мадемуазель Форбен, она не знает.
Вопрос. Когда в четверг она во второй раз пришла к Деперре, сколько времени она провела у него?
Ответ. Не более двух-трех минут, столько, сколько потребовалось, чтобы прочесть письмо. Они даже не присели.
Вопрос. Не приходила ли она вечером того дня в Конвент?
Ответ. Нет. У нее не было даже таких мыслей.
Вопрос. Нам кажется, что она скрывает правду. Есть основания полагать, что вечером того же дня она была в Конвенте и там у нее состоялся разговор с двумя мужчинами и одной женщиной. Они говорили о Марате, и обвиняемая возводила на него множество ложных обвинений, а потом, когда она вышла из Конвента, она решила направиться к министру внутренних дел.
Ответ. Все, что сейчас было сказано, неправда, и в гостинице подтвердят, что она не была в Конвенте; к тому же она совсем не знает города.
Вопрос. Писала ли она из Парижа письма в Кан или, быть может, поручала кому-нибудь написать письмо?
Ответ. Ни одного.
Вопрос. Однако утверждают, что какой-то человек, приходивший к ней несколько раз, написал от ее имени три письма и эти письма видели у нее в комнате.
Ответ. Она никогда никого не просила писать какие-либо письма и не знает, что за письма нашли у нее в комнате. Она написала только «Обращение», которое нашли при ней.
Вопрос. Кто приходил к ней в гостиницу «Провиданс»?
Ответ. Никто, кроме гражданина Деперре, который приходил к ней дважды, первый раз, чтобы сопроводить ее к министру, и второй, чтобы отговорить ее от похода к министру, ибо у нее не было доверенности, чтобы забрать нужные ей бумаги. Когда Деперре попросил ее по возвращении в Кан передать письмо Барбару, она ответила, что не знает, вернется ли она, а если вернется, то когда. Но она пообещала известить его о своем отъезде, а также сообщила, что завтра она весь день будет занята, а потому не нужно приходить к ней. Также она попыталась убедить его уехать в Кан, ибо была уверена, что в Париже ему грозит опасность.
Вопрос. Говорят, Деперре приходил к ней пять раз, а другое лицо — два раза.
Ответ. Деперре приходил к ней два раза, а кроме него к ней никто не приходил.
Вопрос. В какой лавке она купила нож, которым она совершила убийство, и кто его ей продал: мужчина или женщина?
Ответ. Нож ей продал мужчина, но она не помнит, ни в какой лавке она его купила, ни с какой стороны расположена эта лавка, ибо она купила его после того, как раз десять обошла весь Пале-Рояль.
Вопрос. Кто дал ей адрес Марата?
Ответ. Она попросила кучера фиакра отвезти ее к Марату, но тот ответил, что не знает, где он живет; тогда она попросила кучера узнать, тот узнал и повез ее.
Вопрос. Но раньше она говорила, что отправилась туда пешком?
Ответ. Она ходила пешком не к Марату, а к Деперре.
Вопрос. Кто карандашом написал адрес Марата на клочке бумаги, который нашли у нее во время ареста?
Ответ. Это она его записала после того, как кучер фиакра, который в первый раз возил ее к Марату, узнал этот адрес.
Вопрос. Почему в первый раз она отправилась к Марату в половине двенадцатого утра? Она ведь знала, что он депутат, а значит, в это время должен быть в Конвенте.
Ответ. Она спросила, каждый ли день Марат бывает в Конвенте, а когда ей ответили, что не каждый, она направилась к нему домой, решив, что если не застанет его дома, то отправится в Конвент и там убьет его.
Вопрос. Не Деперре ли рассказал ей, что Марат болен и не может ходить в Конвент?
Ответ. Нет, об этом она узнала в гостинице, а с Деперре она о Марате не говорила.
Вопрос. Все же ей не удастся никого убедить, что, принимая во внимание ее пол и возраст, она сама задумала покушение и решила осуществить его в Конвенте; наверняка ее подстрекали и наущали другие лица, которых она не хочет называть, и в частности Барбару, Деперре и другие, которые известны всем как враги Марата.
Ответ. Вы плохо знаете человеческое сердце. Такой план легче осуществить, руководствуясь собственной ненавистью, а не чужой.
Вопрос. Была ли она канониссой какого-либо монастыря?
Ответ. Она никогда не была ни канониссой, ни монахиней; но она несколько лет была пансионеркой в аббатстве Святой Троицы в Кане.
Вопрос. Знает ли она гражданку Прекорбен и не виделась ли она с ней в Париже?
Ответ. Фамилия Прекорбен ей знакома, но она не знала, что в Париже живут лица с такой фамилией.
Вопрос. Есть ли у нее братья и сестры, и если есть, где они сейчас находятся?
Ответ. У нее два брата и сестра. Сестра проживает вместе с отцом в Аржантане, а где находятся ее братья, она не знает, потому что уже год не видела их.
Вопрос. Чем они занимались?
Ответ. Один был офицером в бывшем Нормандском полку, другой еще мальчик и не выбрал себе занятие.
Вопрос. Она была замужем?
Ответ. Никогда.
Вопрос. Она утверждает, что в Кане хотят сохранить единство и нерушимость республики, однако мы не можем этому поверить.
Ответ. Народ и администраторы поклялись сражаться за республику единую и неделимую, это написано на всех знаменах; они выступают только против анархистов, они хотят освободить народ Парижа.
Вопрос. Сегодня она написала письмо?
Ответ. Она начала писать, но еще не закончила, оно у нее в кармане, она может показать его и просит дозволения завершить его, а потом отправить адресату или же передать его вам, чтобы вы сами его отправили.
Вопрос. Кому адресовано ваше письмо?
Ответ. Барбару.
Вопрос. Она вела разговоры с Барбару?
Ответ. Только о делах мадемуазель Форбен.
Вопрос. Барбару попросил ее подробно описать ее поездку. Значит, он знал о цели ее поездки?
Ответ. Действительно, Барбару в письме просил ее подробно рассказать о ее путешествии, однако истинной его цели он не знал, и ей жаль, что она сожгла письмо Барбару, потому что из него сразу бы стало ясно, что никто не знал о цели ее путешествия.
Вопрос. Если Барбару не знал о целях ее поездки в Париж, он бы не стал давать ей секретное поручение, а она бы не писала начатое сегодня пространное письмо о совершенном ею убийстве Марата.
Ответ. Так как читать это письмо будут многие, то она позаботилась о подробностях.
Вопрос. Не казалось ли ей, что как только она убьет Марата, убьют ее саму?
Ответ. Никто не пытался ее в этом убедить, она сама была в этом уверена, именно поэтому она объяснила причину своего поступка в найденном у нее «Обращении», и ей хотелось бы, чтобы оно было напечатано после ее смерти.
Вопрос. Есть ли у нее защитник?
Ответ. Она называет своим официальным защитником гражданина Дульсе, депутата Конвента от города Кан, а в случае, если он не сможет, она заявляет, что больше никого не знает.
Допрос завершился, запись его заняла семь страниц, Шарлотта поставила под ними свою подпись, а следом за ней Монтане, Фукье-Тенвиль и секретарь Вольф. Общественный обвинитель взял на себя обязанность сообщить депутату Национального конвента гражданину Дульсе, что обвиняемая Шарлотта Корде избрала его своим защитником:
«Вторник, 16 июля.
Гражданин,
Имею честь сообщить Вам, что Мари Шарлотта Корде, обвиненная в убийстве Марата, выбрала Вас своим защитником, хотя и председатель, и я напомнили, что, будучи депутатом, Вы не можете выступать защитником. Однако она Вас выбрала, и я обязан Вам об этом сообщить; слушание дела назначено на завтра, на восемь часов ровно. Предвидя, что, возможно, обязанности Ваши не позволят Вам принять это предложение, я велел назначить официального защитника.
Привет и братство, Фукье-Тенвиль».
Гюстав Дульсе получил это письмо, когда Шарлотты уже не было на свете: с некоторых пор он предпочитал проводить больше времени среди депутатов Горы, в душе Дульсе де Понтекулан поддерживал жирондистов и опасался, как бы его душевная склонность не стала очевидной для монтаньяров. Впрочем, по словам Альмера, и 16 июля, и утром 17-го в трибунал являлись люди, готовые выступить защитниками Шарлотты Корде. Скорее всего, это были смельчаки, готовые поддержать мужественную девушку во время суда, ибо надежды на оправдательный приговор не было никакой, тем более что обвиняемая признавала свою вину.
* * *
Шарлотту увели в камеру. По дороге она случайно наступила на хвост метнувшейся ей под ноги кошке. «Бедняжка, как мне ее жаль. Но мне нисколько не жаль, что я убила Марата», — задумчиво произнесла она. Допросы, показания свидетелей, формальности, которые заставляли ее исполнять, казались ей пустой тратой времени. Они изматывали ее, к тому же она опасалась — наверняка опасалась! — нечаянно сказать лишнее, назвать чье-нибудь имя. Она знала, что, несмотря на все ее старания, Фоше и Деперре по-прежнему содержались под арестом. В камере она вновь попросила перо и бумагу и продолжила писать письмо Барбару. Завершив его, она стала писать отцу:175
«Месье Корде д'Армону, улица Бегль, Аржантан.
Простите, дорогой папа, что я распорядилась своей жизнью без Вашего дозволения. Я отомстила за многие невинные жертвы, предупредила много других бедствий. Когда народ, наконец, оставит свои заблуждения, он возрадуется освобождению от тирана. Я пыталась убедить Вас, что отправляюсь в Англию, ибо надеялась сохранить инкогнито, но это оказалось невозможным. Надеюсь, Вас не заставят отвечать за содеянное мною. Во всяком случае, в Кане Вы найдете себе защитников. Я выбрала своим защитником Гюстава Дульсе: впрочем, подобное покушение не предполагает никакого защитника, это всего лишь формальность. Прощайте, дорогой папа, прошу Вас забыть меня или, скорее, порадоваться за меня, ибо я отдаю жизнь за благородное дело. Обнимаю сестру, которую люблю всем сердцем, а также всех своих родных. Не забывайте этой строки Корнеля: "Мы не преступники, когда караем преступленье"[76]. Завтра в восемь утра мне вынесут приговор. Корде».
Из скромности Шарлотта написала о стремлении сохранить «инкогнито», но на самом деле скрываться она не собиралась: об этом свидетельствует найденная при ней метрика. Перед уходом в вечность Шарлотта отсекала от себя все земные узы. И опасаясь, как бы ее родные не пострадали из-за нее, писала коротко и без лишних эмоций.
Сумела ли она заснуть в тот вечер? У нее в камере по-прежнему дежурили жандармы. Вдобавок, это был вечер похорон Марата, и по всему Парижу звучали пушечные залпы, воздавая почести покойному. На какое-то время к пушечным залпам присоединились грозовые раскаты помрачневшего неба. Когда Шарлотту Корде повезут на эшафот, прольется дождь. Природа, воздав почести убитому, пожелает оплакать его убийцу.
В апокрифических мемуарах маркизы де Креки сказано, что 16-го вечером аббат Эмери, которому покровительствовал сам Фукье-Тенвиль, якобы исповедал Шарлотту и дал ей отпущение грехов. Это вымысел: Шарлотта откажется и от присягнувшего священника, и от неприсягнувшего. Вонзая кинжал в грудь Марата, она действовала как спартанка, как римлянка, но не как христианка. Собственно, она поступила так, как призывал действовать Марат.
Семнадцатого июля, в восемь утра за Шарлоттой пришли жандармы, дабы сопроводить ее в трибунал, в Зал равенства, где прежде заседал парламент Парижа. Пишут, что, проходя мимо каморки привратника, мадемуазель Корде попросила супругов Ришар оставить ей завтрак, «ибо вряд ли суд будет долгим».
В зале Шарлотту усадили на высокий железный стул, чтобы всем — и зрителям, и судьям, и присяжным — подсудимая была хорошо видна со всех сторон. Напротив находились места судей, которые в тот день заняли Этьен Фуко, Антуан Руссийон и Жан Ардуэн, а также председатель Монтане и пятнадцать присяжных, список которых предъявили Шарлотте накануне, дабы она могла воспользоваться правом на отвод кандидатур. Но зачем? Она никого не знала и вдобавок была уверена, что замена одного присяжного другим никак не повлияет на приговор. Место общественного обвинителя находилось немного выше судейских мест; рядом с Фукье-Тенвилем сидел секретарь Вольф.
Июль выдался очень жарким, и в зале стояла духота. Зрители, подавляющее большинство которых никогда не видели Шарлотту, а только знали, что Друга народа убила женщина, были настроены враждебно, тем более что газеты рисовали «мужеподобную бабищу из Нормандии» самыми черными красками. Но при появлении подсудимой настроение зала изменилось. В легком светлом платье, в котором она явилась к Марату, в чепчике, сшитом ею в тюрьме, с кудрями, выбивавшимися из-под тоненькой оборки, в косынке на плечах, Шарлотта походила на хрупкий цветок. Ее кроткий взор, ее спокойствие и уверенность сумели утихомирить даже самых яростных «вязальщиц»; проклятия и выкрики, которыми зрители обычно сопровождали появление ненавистных им подсудимых, стихли. По сравнению с Шарлоттой судьи в черных фраках и плащах, задрапированных на манер античной тоги, в черных шляпах с пышными султанами и двумя — черной и трехцветной — кокардами, казались мрачными кладбищенскими птицами.
Председательствующий Монтане зачитал присягу:
«Гражданин, клянитесь и обещайте: самым тщательным и старательным образом рассмотреть обвинения, выдвинутые против Мари Анны Шарлотты Корде, обвиняемой; не общаться ни с кем до вынесения приговора; не поддаваться ни ненависти, ни злобе, ни страху, ни чувствам. Принимайте решения только после того, как выступит защита, а также по совести и вашему глубокому внутреннему убеждению, с беспристрастностью и твердостью, подобающими свободным людям».
И каждый из присяжных, вытянув руку, говорил: «Клянусь».
Уточнив, согласно процедуре, личность обвиняемой, председатель спросил, кто выступит ее защитником. Шарлотта ответила: «Я выбрала в защитники своего друга, однако сейчас я его здесь не вижу. Возможно, у него не хватило мужества выступить в мою защиту». Тогда Монтане назначил ей защитника от суда: его выбор пал на адвоката Шово-Лагарда, отличавшегося не только красноречием, но и смелостью: в те времена адвокат вполне мог разделить приговор со своим подзащитным. В мае Шово-Лагард выиграл дело генерала Миранды и тем самым заслужил ненависть Марата, обвинившего адвоката в том, что из-за него «оправдали преступника». В дальнейшем Шово-Лагард будет мужественно защищать Марию Антуанетту, жирондистов, Манон Ролан, мэра Парижа Байи и в конце концов сам окажется за решеткой, откуда выйдет только после 9 термидора. Говорят, судья Монтане, успевший за короткое время следствия проникнуться к подсудимой симпатией, назначая Шово-Лагарда, надеялся, что тот сумеет выставить гражданку Корде сумасшедшей, что означало замену смертного приговора на пожизненное заключение в тюрьме Сальпетриер. В те смутные дни, когда политическая обстановка менялась буквально каждый день, пожизненное заключение вполне могло обернуться скорым освобождением. Но когда Фукье-Тенвиль зачитывал длинный обвинительный акт, адвокат, глядя на открытое лицо Шарлотты, понял, что попытка объявить подзащитную сумасшедшей оскорбит ее и, возможно даже, побудит ее опровергнуть его слова. Впрочем, не исключено, что за время речи Фукье-Тенвиля адвокат сумел шепотом переброситься со своей подзащитной парой слов.
Перед судьями выступали свидетели, но Шарлотта, казалось, не слушала их. Выслушав показания торговки вином гражданки Лебуржуа, утверждавшей, что она видела гражданку Корде вечером 11 июля в Конвенте[77] в сопровождении Фоше и Деперре, Шарлотта лишь пожала плечами. Доставленные в суд Фоше и Деперре нелепые выдумки гражданки отрицали, а Шарлотта заявила, что не имела никаких отношений с Фоше, ибо считает его человеком безнравственным. Она снова подтвердила, что не посвящала Деперре в свои планы и он никак не может быть ее сообщником. Мари Луиза Гролье засвидетельствовала, что в истекший четверг подсудимая прибыла к ней в гостиницу и попросила приготовить ей постель, так как, по ее словам, хотела отдохнуть, ибо очень устала. Узнав, что постоялица прибыла из Кана, свидетельница спросила, правда ли, что на Париж движется хорошо вооруженная армия, на что постоялица ответила со смехом: «Я находилась на главной площади Кана, когда трубили общий сбор, чтобы отправиться в поход на Париж, но откликнулись не больше трех десятков человек». После этих слов подсудимая пояснила: «Я хотела сбить с толку свидетельницу. На самом деле там было больше тридцати тысяч». Наверное, в тот миг Шарлотта ощутила себя очень одинокой и ей захотелось почувствовать чью-нибудь поддержку…
Когда свидетельское место заняла рыдающая Симона Эврар, Шарлотта, побледнев, воскликнула: «Да, это я его убила!» Возможно, этим она хотела сказать, что продолжать допрос смысла нет. А может быть, у нее просто иссякали силы хранить изумлявшее всех и восхищавшее ее поклонников спокойствие. Впрочем, когда секретарь суда предъявил ей нож, которым она ударила Марата, и спросил, узнает ли она этот нож, Шарлотта изменилась в лице и глухим, будничным голосом произнесла: «Да, я узнаю его».
Заслушав свидетелей, председатель Монтане снова подверг обвиняемую допросу, однако вопросов задал меньше, чем накануне:
Председатель: Кто вас подговорил совершить это убийство?
Корде: Его преступления.
Председатель: Что вы подразумеваете под его преступлениями?
Корде: Несчастья, причиной которых он был с самого начала революции.
Председатель: Кто внушил вам мысль совершить это убийство?
Корде: Никто, я сама решила убить его.
Председатель: Барбару знал о цели вашей поездки?
Корде: Нет, он только посоветовал мне не задерживаться в дороге.
Председатель: Кто вам сказал, что в Париже царит анархия?
Корде: Я это узнала из газет.
Председатель: Какие газеты вы читаете?
Корде: Перле, «Курье франсе» и «Курье универсель».
Председатель: А разве вы не читали газету, издававшуюся Горса, а также газету, известную в прошлом под названием «Французский патриот»?
Корде: Нет, я никогда их не видела.
Председатель: Но вы наверняка знакомы с такими газетами, как «Журналь дю пти Готье» {Journal du petit Gautier) и «Ами дю руа» {Ami du Roi)?
Корде: Да, я иногда читала такие газеты.
Председатель: Вы состояли в дружбе с депутатами, бежавшими в Кан?
Корде: Нет, но тем не менее я говорила со всеми.
Председатель: Чем они занимались?
Корде: Сочиняли песни и воззвания, призывавшие народ объединиться.
Председатель: Как они объяснили свое бегство в Кан?
Корде: Они сказали, что подверглись оскорблениям в собрании…
Председатель: Что они говорили о Робеспьере и Дантоне?
Корде: Они считают их вместе с Маратом подстрекателями, которые хотят развязать гражданскую войну.
Председатель: Вы явились в Конвент с намерением убить там Марата?
Корде: Нет.
Председатель: Кто дал вам адрес, написанный карандашом на бумажке, которую мы наши у вас в кармане?
Корде: Кучер фиакра.
Председатель: Разве вы не состоите в дружбе с некоторыми из бежавших депутатов?
Корде: Нет.
Председатель: Кто вам дал паспорт, с которым вы приехали в Париж?
Корде: Я выправила его три месяца назад.
Председатель: На что вы надеялись, решив убить Марата?
Корде: Установить мир в стране и в случае, если бы мне удалось избежать ареста, уехать в Англию.
Председатель: Давно ли вы приняли решение убить Марата?
Корде: После 31 мая, когда были арестованы народные депутаты…
Председатель: Разве вы не присутствовали на тайных совещаниях бежавших в Кан депутатов?
Корде: Нет
Председатель: Таким образом, про то, что Марат — анархист, вы прочитали в ваших газетах?
Корде: Да, я знала, что он развращал Францию. Я убила одного человека, чтобы спасти сто тысяч. А еще он скупал серебро: в Кане арестовали человека, который скупал для него серебро. Я стала республиканкой еще до революции и никогда не изменяла своим убеждениям.
Председатель: Что значит для вас не изменять своим убеждениям?
Корде: Это значит, презрев личные интересы, пожертвовать собой ради отечества.
Председатель: Прежде чем нанести удар Марату, вы, наверное, уже пробовали кого-нибудь убить?
Корде: О, чудовище! Он принимает меня за наемного убийцу![78]
Председатель: Однако сведущими людьми доказано, что вы нанесли удар сверху вниз, чтобы убить наверняка.
Корде: Я ударила так, как смогла. И случай помог мне…
Председатель: Кто посоветовал вам совершить это преступление?
Корде: В таком деле я бы никогда не стала слушать ничьих советов, я сама все задумала и осуществила.
Председатель: Но как мы можем поверить, что вам никто не давал советов, когда вы сами говорите, что считаете Марата источником всех бедствий, опустошающих Францию, Марата, который всю жизнь разоблачал предателей и заговорщиков?
Корде: Маратом восторгаются только в Париже. В других департаментах его считают чудовищем.
Председатель: Как вы можете называть Марата чудовищем, если он впустил вас исключительно из человеколюбия, потому что вы написали ему, что вы несчастны?
Корде: Неважно, что он поступил со мной по-человечески, по отношению к другим он был настоящим чудовищем.
Председатель: Вы считаете, что убили всех Маратов?
Корде: С одним покончено, а другие, быть может, устрашатся.
«Я убила одного человека, чтобы спасти сто тысяч». Эти слова Шарлотты напоминали постоянный рефрен Марата: «Лучше пролить несколько капель крови, чтобы помешать пролиться морям крови», «Надо потребовать пятьсот преступных голов, чтобы сохранить пятьсот тысяч невиновных». Только Шарлотта была готова взять всего одну жизнь, отдав взамен свою, а Марат предлагал французам залить кровью всю страну. «Другие, быть может, устрашатся». Как, наверное, тяжело ей было произнести это «быть может»! Ведь слова эти означали, что ее убежденность в том, что теперь все будет хорошо, была поколеблена.
Потом обвинитель Фукье-Тенвиль зачитал оба письма Шарлотты, написанные ею в тюрьме, — отцу и Барбару.
Письмо Барбару:
«В тюрьме аббатства, в камере, где прежде был заключен Бриссо, на другой день после первого шага к восстановлению мира во Франции.
Гражданин, Вы изъявили желание услышать подробный рассказ о моем путешествии, и я не пропущу ничего <…>[79].
Поверите ли? Фоше в тюрьме как мой сообщник, Фоше, который даже не знал о моем существовании! Но они никак не могут примириться с тем, что придется принести в жертву призраку великого человека всего лишь одну женщину. О, люди, простите! Имя Марата позорит людской род: это был дикий зверь, намеревавшийся ввергнуть всю страну в огонь гражданской войны. Теперь да здравствует мир! Благодарение небу, он не был французом.
В первый раз меня допрашивали четверо. Шабо походил на безумца. Лежандр утверждал, что утром я приходила к нему, хотя я даже не знала о его существовании; он слишком ничтожен, чтобы претендовать на звание тирана, а я не собиралась наказывать всех. Все, кто видел меня в первый раз, почему-то считали, что знают меня уже давно. Мне кажется, они напечатали последние слова Марата, но я сомневаюсь, что он их произнес[80]. Но вот его последние слова, которые он сказал мне. Записав все Ваши имена, а также имена тех, кто входил в состав администрации Кальвадоса, расположившейся в Эвре, он, чтобы утешить меня, сказал, что "через несколько дней он велит Вас всех гильотинировать в Париже" и он для этого сделает все. Этот ответ решил его участь. Если департамент вздумает поставить бюст Марата вместо бюста Сен-Фаржо, они вполне могут изобразить эти слова золотыми буквами.
Не стану ничего говорить Вам о великом событии, о нем Вам расскажут газеты. Признаюсь, что на мое окончательное решение повлияло мужество, с которым в воскресенье 7 июля записывались наши волонтеры; Вы помните, в каком я была восторге. В тот день я дала себя обещание заставить Петиона раскаяться за те подозрения, которые он высказал по поводу моих чувств. "Не правда ли, вам вряд ли понравится, если они не выступят в поход?" — сказал он мне.
Я решила, что Марат не стоит такой чести, чтобы столько храбрых людей шли добывать голову одного человека, рискуя промахнуться, и своей смертью навлечь погибель на многих достойных граждан: для него достаточно руки женщины.
Признаюсь, мне пришлось пойти на хитрость, чтобы он меня принял. Но в таких условиях все средства хороши. Уезжая из Кана, я надеялась, что смогу уничтожить его на вершине Горы, но он больше не ходил в Конвент. К сожалению, я не сохранила ваше письмо, тогда мне было бы легче объяснить всем, что у меня не было сообщников; но время все прояснит. Здесь, в Париже, добрые республиканцы не понимают, как женщина, существо совершенно бесполезное, чья дальнейшая жизнь не имеет никакого смысла, может хладнокровно пожертвовать собой ради спасения отечества. Я думала, что умру сразу; люди мужественные и поистине достойные всяческих похвал оберегли меня от вполне понятной ярости тех несчастных, которых я лишила их кумира. Так как я не утратила хладнокровия, то мне горько было слышать крики некоторых женщин, но тот, кто решил спасти отечество, не станет считаться с ценой. Ах, как мне хочется, чтобы теперь в отечестве нашем восстановился мир! Великий преступник повержен, но без этого мы бы никогда не добились мира. Вот уже два дня я наслаждаюсь покоем, счастье отечества — это и мое счастье: только самоотверженный поступок может доставить нам наибольшее наслаждение.
Я уверена, что они будут допрашивать моего отца, у которого и без них будет повод для печали. В прошлый раз я ему написала, что, опасаясь бедствия гражданской войны, я отправляюсь в Англию. Как видите, я намеревалась хранить инкогнито убийцы Марата и не хотела, чтобы парижане сумели быстро узнать мое имя. Гражданин, прошу Вас и Ваших коллег встать на защиту моих родных и друзей, если им станут предъявлять обвинения.
В жизни своей я ненавидела всего лишь одно существо и показала всем, с какой яростью я его ненавидела; но есть еще тысячи существ, которых я люблю гораздо больше, чем ненавидела его. Живое воображение, чувствительное сердце сулили мне жизнь бурную, и я прошу тех, кто станет сожалеть обо мне, не забывать об этом; они будут рады узнать, что я наслаждаюсь покоем в Елисейских Полях вместе с Брутом и другими героями древности. Среди наших современников очень мало настоящих патриотов, умеющих умирать за свое отечество, кругом сплошной эгоизм. Сумеет ли столь жалкий народ создать республику?
В тюрьме меня устроили хорошо, сторожа мои прекрасные люди, какие только могут быть: а чтобы мне не было скучно, ко мне приставили жандармов. В течение дня это даже хорошо, а вот ночью очень плохо. Я подала жалобу на такую непристойность, но комитет не счел нужным ответить на нее; мне кажется, это придумка Шабо: только у капуцина могли возникнуть подобные мысли[81]. Я провожу время, сочиняя песни, и я готова дать слова последнего куплета песни Валади всем, кто захочет получить их. Я обещаю всем парижанам, что мы возьмемся за оружие только для того, чтобы выступить против анархии.
Меня перевели в Консьержери, и господа из суда присяжных пообещали, что отошлют Вам мое письмо, поэтому я продолжаю. Меня долго допрашивали, и я прошу Вас раздобыть отчет об этом допросе, если он будет опубликован. Во время ареста при мне нашли обращение, адресованное друзьям мира; я не могу отослать его Вам и буду просить, чтобы его опубликовали, но, боюсь, напрасно. Вчера вечером мне пришла в голову мысль послать свой портрет в департамент Кальвадос, но Комитет общественного спасения, у которого я испросила дозволения сделать такой портрет, не ответил мне, а теперь уже слишком поздно. Прошу Вас, гражданин, сообщить о моем письме гражданину Бутону, генеральному прокурору-синдику департамента; я не пишу ему по многим причинам; во-первых, потому что не уверена, находится ли он в настоящее время в Эвре; но еще более я боюсь, что, будучи натурой чувствительной, он опечалится, узнав о моей смерти. Однако я считаю его добрым гражданином, а потому надежда на скорый мир должна утешить его; мне известно, как он жаждет этого мира, и надеюсь, приблизив его, я исполнила его желание. Если кто-нибудь из друзей также захочет ознакомиться с этим письмом, прошу Вас, никому не отказывайте. Мне нужен защитник, таковы правила, и я выбрала его среди монтаньяров, это Гюстав Дульсе-Понте кулан. Мне кажется, он откажется от этой чести, но, надеюсь, мой выбор неприятностей ему не доставит. Я даже думала попросить Робеспьера или Шабо. Я буду просить распорядиться оставшимися у меня деньгами, и если мне позволят, отдам их в пользу женщин и детей тех отважных жителей города Кана, которые отправились освобождать Париж.
Удивительно, что народ позволил перевезти меня из тюрьмы аббатства в Консьержери, это еще одно доказательство его умеренности; скажите об этом нашим добрым жителям Кана, они иногда позволяют себе небольшие восстания, от которых их не так-то просто удержать. Мне вынесут приговор завтра, в восемь утра, и возможно, уже в полдень, говоря языком римлян, обо мне уже можно будет сказать: "она жила". Напомним еще раз об отваге жителей Кальвадоса, ибо даже женщины этого края способны на героические поступки. А в остальном мне неизвестно, как пройдут мои последние минуты; однако конец венчает дело. Мне незачем прикидываться равнодушной, судьба моя мне ясна, но до сих пор у меня нет ни малейшего страха перед смертью. Я всегда ценила свою жизнь только за ту пользу, которую она должна принести.
Надеюсь, что Деперре и Фоше завтра отпустят на свободу. Они утверждают, что епископ провел меня в Конвент и отвел на трибуну для зрителей. Но зачем бы ему идти на трибуны вместе с женщиной? Он депутат, и ему не место на зрительской трибуне; он епископ, а значит, ему не след появляться с женщиной. Таким образом, это явно ошибка. Деперре также не в чем себя упрекнуть.
Марат не попадет в Пантеон, хотя он это заслужил. Поручаю Вам собрать брошюрки с речами, которые произнесут над его могилой.
Надеюсь, вы не забудете про дело мадемуазель Форбен. Вот ее адрес: Александрии Форбен, в Мандрене, возле Цюриха, в Швейцарии. Скажите ей, что я люблю ее от всего сердца.
Я собираюсь написать несколько слов отцу. Остальным свои друзьям я не стану писать, а просто прошу их поскорее забыть обо мне: их скорбь опозорит мою память. Скажите генералу Вимпфену, что я помогла ему выиграть сразу несколько сражений и тем самым облегчила путь к миру. Прощайте, гражданин, я завещаю истинным друзьям мира иногда вспоминать обо мне.
Узники Консьержери, в отличие от толп на улице, не только не оскорбляли меня, но сочувствовали мне. Несчастье всегда порождает сострадание, и это моя последняя мысль.
Корде Вторник 16, восемь часов вечера».
Если «Обращение» Шарлотты — это призыв выступить на защиту республики, то письмо Барбару напоминает, скорее, завещание, адресованное как единомышленникам, так и противникам. Девушка не могла не понимать, что первым читать его будет не адресат (если тот вообще когда-нибудь его прочтет), а потому вновь и вновь старалась снять с друзей и родных малейшие подозрения в причастности к убийству Марата. Зная, что участь ее решена, она иронизирует над судьями, утверждая, что была готова попросить себе в защитники самого Робеспьера. Каждая строчка этого письма говорит о готовности Шарлотты к встрече с вечностью, готовности присоединиться к теням великих героев древности. Но девушка убеждала в этом не столько своих друзей, сколько саму себя. Всех, кому довелось увидеть Шарлотту после убийства Марата, поражали кротость ее взгляда, спокойствие ее движений и величие, сквозившее во всем, что она делала. На людях она являла спартанский стоицизм и непоколебимую уверенность в своей правоте; но кто знал, что на самом деле творилось в ее душе?
«В вихре великих событий той эпохи мало кто сумел оценить гордые и лаконичные ответы этой удивительной девушки тем гнусным мошенникам, которые судили ее; а какие прекрасные слова, какие возвышенные мысли содержит ее бессмертное послание, которое за несколько часов до смерти она адресовала Барбару! Письмо это переживет века, свидетельствуя о прекрасных республиканских чувствах, пробужденных Французской революцией», — писал Луве.
Наконец, общественный обвинитель Фукье-Тенвиль подвел итог прениям и потребовал для обвиняемой смертной казни. Председатель Монтане предоставил слово защитнику. «Когда после этих слов я встал, чтобы произнести речь, по залу прошел глухой ропот, словно всех охватило оцепенение, а потом наступила мертвая тишина, от которой я похолодел до глубины души», — вспоминал Шово-Лагард. Превозмогая волнение и страх, адвокат встал и произнес короткую речь, исполненную уважения к своей подзащитной:
«Обвиняемая сама признается в совершенном ею ужасном преступлении; она сознается, что совершила его хладнокровно, заранее все обдумав, и тем самым признает тяжкие, отягощающие ее вину обстоятельства; словом, она признает все и даже не пытается оправдаться. Невозмутимое спокойствие и полнейшее самоотречение, не обнаруживающие ни малейшего угрызения совести даже в присутствии самой смерти — вот, граждане присяжные, вся ее защита. Такое спокойствие и такое самоотречение, возвышенные в своем роде, не являются естественными и могут объясняться только возбуждением политического фанатизма, вложившего ей в руку кинжал. И вам, граждане присяжные, предстоит решить, какое значение придать этому моральному соображению, брошенному на весы правосудия. Я полностью полагаюсь на ваше справедливое решение».
Позднее Шово-Лагард напишет:
«Пока говорил общественный обвинитель, присяжные велели передать мне, чтобы я молчал, а председатель — чтобы ограничился заявлением, что Корде сумасшедшая. Они все хотели, чтобы я унизил ее.
Лицо же подсудимой за все это время нисколько не изменилось. Только когда она посмотрела на меня, она словно сказала мне, что не хочет быть оправданной. После судебного разбирательства я в этом не сомневался, да и усомниться было невозможно, ибо помимо ее собственного признания имелись совершенно законные доказательства преднамеренного убийства.
Однако я был полон решимости исполнить свой долг и не хотел говорить того, что совесть моя или же сама Корде могли бы опровергнуть. И я ограничился единственным замечанием, которое в этом переполненном народом и законодателями собрании смогло бы послужить опорой для полного оправдания обвиняемой».
Выступление Шово-Лагарда разочаровало многих сторонников Шарлотты. Они хотели, чтобы адвокат настоял на безумии своей подзащитной или хотя бы попробовал отыскать иную возможность для ее защиты. «Разве можно было столь малыми словами, холодными и бесцветными, защищать обвиняемую, чьи заблуждения были вызваны бурными страстями, чей роковой энтузиазм принес горе ее семье? Обвиняемую, которая, отбросив отчаяние, отважно и гордо шла навстречу смерти? — вопрошал один из современников. — Мне кажется, следовало попытаться пробудить волнение в душах присяжных, безучастно взиравших на молодую женщину, которой предстояло умереть в результате вынесенного ими вердикта. Растроганные видом этой юной и прекрасной женщины, присяжные, возможно, и пощадили бы ее». Но как бы сильно ни желал автор этих строк спасти Шарлотту, присяжные вряд ли растрогались бы до такой степени, чтобы вынести оправдательный приговор: гражданка Корде убила слишком популярную личность, чтобы остаться безнаказанной.
Соблюдая процедуру, председатель Монтане задал присяжным три вопроса, на которые им предстояло ответить, дабы на основании этих ответов трибунал вынес приговор (уже начертанный секретарем на обложке дела).
Вопросы к присяжным:
1. Правда ли, что 13-го числа настоящего месяца между семью и восемью часами вечера Жан Поль Марат, депутат Национального конвента, был убит у себя дома в ванной ударом кинжала в грудь, от которого он немедленно скончался?
2. Является ли Мари Анна Шарлотта Корде, бывшая Дармон, 25 лет, дочь Жака Франсуа Корде, бывшего Дар-мон, бывшего дворянина, проживающая в Кане, в департаменте Кальвадос, преступницей, совершившей это убийство?
3. Совершила ли она это убийство предумышленно и с преступными намерениями?
Присяжные на все вопросы ответили утвердительно.
После окончания процесса Фукье-Тенвиль резко упрекнул Монтане за изменение формулировки третьего вопроса. Согласно общественному обвинителю, вопрос этот должен был прозвучать так: «Совершила ли она это убийство предумышленно и с преступными и контрреволюционными намерениями?» Выбросив «контрреволюционные намерения» Шарлотты Корде, Монтане лишал Фукье-Тенвиля возможности вновь открыть процесс и привлечь по делу сообщников, которых тот по-прежнему считал возможным найти и отправить на гильотину.
Уже после первого допроса Тенвиль стал подозревать Монтане в сочувствии к «бывшей Дармон»; теперь он окончательно убедился в «контрреволюционных намерениях» самого Монтане. За изменение «редакции третьего вопроса» 20 июля 1793 года председателя Революционного трибунала Монтане арестовали, и только чудом он остался жив: его арест совпал с долгим «делом жирондистов», и его попросту забыли в тюрьме, откуда он вышел после 9 термидора.
После недолгого совещания присяжные единогласно признали гражданку Корде виновной, ответив положительно на все три вопроса:
1. Тринадцатого июля настоящего месяца между семью и восемью часами вечера Жан Поль Марат, депутат Национального конвента, был убит у себя дома, в ванне, ударом ножа в грудь, от коего удара он мгновенно скончался.
2. Мари Анна Шарлотта Корде, бывшая Дармон, 25 лет от роду, бывшая дворянка, жительница Кана, что в департаменте Кальвадос, является преступницей, совершившей это убийство.
3. Она совершила это преступление умышленно и с заранее обдуманными преступными намерениями.
Шарлотта мужественно выслушала приговор. Она не изменилась в лице, не содрогнулась, из глаз не покатились непрошеные слезы, губы не дрогнули и руки по-прежнему спокойно лежали на коленях. «Ни один живописец, — писал Шово-Лагард, — не дал нам верного изображения этой необыкновенной женщины… Искусству не под силу воспроизвести ее лицо, отражавшее ее великую душу. Нетрудно было записать ее слова, но невозможно описать поразившие меня более всего интонации ее голоса, почти детского, но всегда звучавшего ясно гармонично, под стать гармоничной простоте ее движений и незамутненной ясности ее речей. Невозможно описать впечатление, произведенное ею на присяжных, судей и на несметное множество зрителей: казалось, это ее они принимали за судью, но не земного, а высшего суда…»
Общественный обвинитель зачитал приговор: Мари Анна Шарлотта Корде, бывшая Дармон приговаривалась к смерти согласно двум статьям Уголовного кодекса. Первая гласила, что «любой заговор или покушение, направленные на внесение смуты и хаоса в законодательный корпус, любое покушение на свободу обсуждений в законодательном корпусе, а также покушение на личную свободу членов этого корпуса карается смертью», а вторая — что «убийство, совершенное предумышленно, именуется тяжким преступлением и карается смертью». Согласно данным статьям, к месту казни гражданку Корде должны были препроводить в красной рубашке — как отцеубийцу. Услышав об этом, Шарлотта наверняка вспомнила о красных рубашках так называемых убийц депутата Бурдона.
«Имущество приговоренного к смертной казни поступает в пользу республики, которая отдаст его неимущим вдовам и детям»…
«Данный приговор по указанию общественного обвинителя будет приведен в действие в Париже, на площади Республики, о чем будет извещено в печатной форме, дабы об этом стало известно во всей республике»…
Председатель продолжал зачитывать последние строки приговора, но Шарлотта уже не слушала его: она заметила в зале художника, который рисовал ее портрет. Девушка встрепенулась и чуть-чуть повернула голову — чтобы художнику было лучше видно.
Когда Шарлотту повели обратно в камеру, она остановилась возле своего защитника и сказала: «Благодарю вас за мужество, вы защищали меня так, как я того хотела. Ваша защита достойна нас обоих. Судьи конфисковали мое имущество, но мне хотелось бы в знак признательности оставить вам что-нибудь. Будучи в тюрьме, я сделала кое-какие мелкие долги, поэтому прошу вас, заплатите за меня долг — больше мне нечего оставить вам на память». Взволнованный адвокат не нашелся, что ответить, и только растерянно кивнул[82].
Глава 9. ЭШАФОТ
Как Брут и Вильгельм Телль, прославленные встарь,
От монстра, от чумы ты родину спасла!
За доблесть мужества наградой смерть была.
Рим бы воздвиг тебе не эшафот — алтарь!
Четверостишие, предложенное гражданином Куригом в качестве подписи под бюстом мадемуазель Корде
После вынесения приговора Шарлотту отвели в комнату, где ей предстояло дожидаться казни. Следом за ней направился художник Гойер[84], присутствовавший на судебном заседании и уже почти закончивший ее портрет. Ему разрешили сопровождать заключенную и довести свою работу до конца.
Шарлотта охотно согласилась позировать и села на табурет, чтобы художнику было удобнее найти нужный ракурс. Гойер работал и одновременно беседовал с Шарлоттой на разные темы. Такая же невозмутимая, как и на суде, девушка оживлялась, когда начинала говорить о своем поступке, и радовалась, что теперь во Франции наступит мир. Слушая Шарлотту, Гойер не переставал удивляться, откуда у этой девушки столько мужества и решимости, чтобы, вдохновляясь исключительно возвышенными убеждениями, совершить поступок, на который отважился бы далеко не каждый мужчина.
«В обычные времена правосудие должно карать преступников. Но в нынешних обстоятельствах убийство Марата является актом национального правосудия. Женщина показала пример мужчинам. Так пусть же они воспользуются уроком и очистят Францию от негодяев, которые ее угнетают!»
Шарлотта не могла слышать этих слов, произнесенных Петионом в собрании города Кана, но если бы она их услышала, они наверняка бы ей понравились.
Когда Гойер писал портрет Шарлотты, а на улицах бойко торговали лубочными картинками, изображавшими убийство Марата «аристократкой Корде», швейцарская гражданка Изабель де Шарьер, проживавшая в кантоне Нефшатель по соседству с семьей Марата, призывала создать полотно, запечатлевающее подвиг героини из Нормандии:
«Своей героической самоотверженностью, проявленной во благо родины, женщины-республиканки обретут бессмертие, лучшие художники станут изображать их на своих полотнах. Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь нарисовал Шарлотту Корде с кинжалом в руке, запечатлев тот миг, когда она погружает свой кинжал в грудь анархиста Марата. Героический поступок этой великодушной гражданки заслуживает, чтобы сограждане ее воздавали ей почести. В хрупкой женской фигурке таилась душа возвышенная и столь отважная, какая редко бывает даже у мужчин. И под этой картиной я бы сделала подпись: Природа может ошибаться».
Наверное, Шарлотта приняла бы такую картину, но подпись, скорее всего, попросила бы изменить, ибо никогда не считала женщину слабее мужчины. И, наверное, именно потому, что она никогда не принимала в расчет женскую слабость, она сумела нанести смертельный удар Марату. Говоря о слабой женской руке, она, скорее, прибегала к метафоре, но эта метафора наполняла ее гордостью. Позднее Гойер напишет картину под названием «Убийство Марата Шарлоттой Корде», изобразив на ней Шарлотту, сжимающую в руке окровавленный кинжал.
В комнату робко постучали, и показалась гражданка Ришар: она хотела узнать, держать ли ей еще завтрак для Шарлотты. Со спокойной улыбкой на лице Шарлотта ответила, что, к сожалению, судьи оказались излишне многословны и не оставили ей времени позавтракать, а потому она просит извинить ее за причиненные хлопоты.
Вскоре Гойер завершил работу; Шарлотте портрет так понравился, что она попросила сделать с него копию поменьше и отправить ее родным. Когда в комнату вошел священник, Шарлотта посмотрела на него с удивлением и наотрез отказалась от его услуг, даже не спросив его, приносил он присягу или нет. Пораженный священник ушел. Спокойствие Шарлотты, ее желание подвести черту под всеми, даже самыми ничтожными делами, дабы никакие мелкие обиды не запятнали ее белоснежную тогу героини, в которой она ожидала встречи с Брутом, вызывали трепет и восхищение. «Если бы ее предок Корнель в часы вдохновения написал для нее роль, превосходящую величием все его творения, он при всем своем гении не мог бы придумать таких речей и жестов, какие она почерпнула в своем характере, в своей природе», — писал Ленотр.
Завершив позировать, Шарлотта попросила перо и бумагу — написать последние в своей жизни строки, адресованные гражданину Дульсе. Она не хотела уносить с собой ни одной обиды, а потому решила доверить ее бумаге.
«Дульсе-Понтекулан трусливо отказался защищать меня, хотя дело было совершенно простым. Тот, кто возложил на себя эту обязанность, справился с ней со всем возможным достоинством. Я до последней минуты буду ему признательна.
Мари Корде».
Шарлотта так и не узнала, что письмо из трибунала Дульсе получил только 20 июля. Однако газеты, не разобравшись, немедленно сообщили, что гражданин Дульсе отказался стать защитником гражданки Корде, убившей Друга народа Марата. Не намереваясь терпеть обвинений в трусости и желая оправдаться перед памятью Шарлотты, которую при жизни он почитал девушкой необыкновенной, Дульсе написал запрос председателю Революционного трибунала.
«Суббота, 20 июля.
Гражданин председатель,
соблаговолите подтвердить, действительно ли прилагаемое письмо, полученное и вскрытое мною сегодня в субботу, написано Мари Корде, и правда ли, что она просила меня выступить ее защитником. До сего дня мне об этом не было известно.
Гюстав Дульсе».
Монтане ответил незамедлительно:
«Воскресенье, 21 июля.
Гражданин народный представитель,
письмо, присланное Вами, действительно написано от имени Мари Корде: она хотела, чтобы Вы защищали ее. Общественный обвинитель написал Вам об этом. Но жандарм не сумел Вас отыскать и вернул письмо обратно. Недавно общественный обвинитель передал мне это письмо, а я отсылаю его Вам, и это чистая правда.
Привет и братство,
Монтане».
Оба письма Дульсе отправил редактору «Французского республиканца» (Republicain français), усомнившегося в мужестве гражданина Дульсе:
«Гражданин, в Вашей газете я прочел о своем отказе стать официальным защитником Мари Корде.
Прошу Вас напечатать в ближайшем из номеров прилагаемые письма, подтверждающие, что Революционный трибунал известил меня о выборе Мари Корде только спустя четыре дня после ее казни.
Гюстав Дульсе».
* * *
Когда Шарлотта закончила писать, в комнату в сопровождении двух приставов вошел палач, знаменитый Анри Сансон, держа в руках ножницы и красную рубашку. Недрогнувшим голосом девушка попросила у него разрешения запечатать записку, а потом протянула листок одному из приставов, дабы тот передал его гражданину депутату Понтекулану. Затем она обратилась к Гойеру: «Сударь, не знаю, как мне отблагодарить вас за труд. Возьмите эту прядь волос и сохраните ее на память обо мне». И, взяв ножницы у растерявшегося палача, она отрезала выбившуюся из-под чепчика прядь и подала ее художнику. Тот, пытаясь скрыть навернувшиеся на глаза слезы, благоговейно завернул ее в платок и опустил в карман. Одобрительно кивнув Гойеру, Шарлотта обратилась к палачу: «Теперь ваш черед. Вам все остальные локоны». Шарлотта сама сняла чепчик, сама откинула на спину длинные каштановые волосы. Когда тяжелые пряди уже лежали на полу, Шарлотта оглядела их задумчивым взором, а потом попросила отдать их гражданке Ришар. Она решила отблагодарить привратницу: волосы можно было с выгодой продать постижеру. Затем она без посторонней помощи надела красную рубашку и, поправив это свое последнее одеяние, произнесла: «Одежда смерти, в которой идут в бессмертие». От ее спокойного, уверенного голоса всем, кто в ту минуту находился в комнате, стало жутко. Когда же Сансон подошел к ней с веревкой, чтобы связать ей руки, она попросила дозволения надеть перчатки, потому что во время ареста ее так крепко скрутили, что на кистях рук остались ссадины. Сансон не возражал и в любом случае пообещал связать ее, не причинив никакой боли. Она улыбнулась и, протянув руки, сказала: «Благодарю вас. Впрочем, перчатки, кажется, у вас не приняты». По словам Сансона, со времен казни де Ла Барра[85] ему не приходилось встречать такого мужества у приговоренных к смерти.
В воспоминаниях палача Шарля Анри Сансона сохранился самый подробный рассказ о последних часах жизни Шарлотты Корде. Путь к гильотине от Майского дворика Консьержери до площади Республики занимал от трех четвертей часа до полутора часов — в зависимости от скопления народа на улицах. Шарлотта была одна (время, когда на гильотину станут отправлять десятками, еще не наступило), и Сансон предложил ей сесть на один из двух стульев в телеге, но она отказалась и ехала стоя, опираясь на борта. Едва телега выехала на набережную, начался проливной дождь, однако зрителей, собравшихся посмотреть на кортеж, меньше не стало. Многие писали, что на всем пути осужденную сопровождали выкрики и проклятия, а за телегой, оскорбляя Шарлотту и проклиная ее за убийство Марата, размахивая руками, бежали разъяренные «фурии гильотины». Однако другие свидетели, и в частности Дюваль, напротив, утверждают, что «почти на всем пути следования Шарлотту Корде сопровождало почтительное молчание, и только слышен был шепот: "Господи, как ужасно! Такая молодая и такая красивая!"»
Телега выехала на забитую народом улицу Сент-Оноре, где в доме столяра Дюпле квартировал Робеспьер. В тот час он вместе с Камиллом Демуленом и Дантоном (пока еще вместе) стоял у окна своего кабинета и, глядя вниз, пытался разглядеть лицо осужденной, дабы прочесть на нем, не поджидают ли и его кинжалы убийц, сообщников Шарлотты. Сообщников у Шарлотты не было, но история вскоре действительно повторится — в виде фарсовых покушений на Робеспьера с трагическим финалом для несостоявшихся убийц. 23 марта в дом к Робеспьеру явится молодая швея Сесиль Рено. Робеспьера дома не окажется, но бдительным гражданам девушка покажется подозрительной, ее задержат, обыщут и обнаружат у нее в корзинке два небольших ножика. Девушку арестуют по обвинению в покушении на Робеспьера; она будет уверять, что всего лишь хотела посмотреть на Неподкупного. Потом, правда, станут говорить, что она возненавидела Робеспьера за то, что тот отправил на гильотину ее любовника, а некоторые даже выставят ее роялисткой.
В ночь на 23 мая 1794 года при попытке застрелить члена Конвента Колло д'Эрбуа арестуют некоего Анри Адмира, и на допросе тот признается, что на самом деле он хотел убить Робеспьера. Для этого он утром 22 мая, спрятав пистолет под одеждой, пошел в Конвент и стал ждать выступления Неподкупного. Но речи депутатов настолько его утомили, что он заснул, а когда проснулся, в Конвенте уже никого не было. Адмира отправился домой, где, увидев на лестнице гражданина Колло (они жили в одном доме), с досады выстрелил в него. Адмира арестуют, и 17 июня 1794 года казнят вместе с Сесиль Рено и еще пятьюдесятью девятью арестантами, среди которых будут отец Сесиль, ее брат и тетка-монахиня. Среди жертв того дня будет и графиня Сент-Амарант с дочерью Луизой, о которой ходили слухи, что она любовница Робеспьера и тот якобы выболтал ей какие-то государственные секреты. По другим слухам, Луиза отказалась стать любовницей Сен-Жюста, и за это он отправил ее на гильотину. Впрочем, в разгар Террора суду уже не требовались доказательства, судьи руководствовались исключительно «революционным чутьем». Не только Адмира и Рено, но и мошенники, финансисты, ремесленники, аристократы, вдовы, дети, жандармы, которым в тот день предстояло взойти на эшафот, будут одеты в «красные рубахи отцеубийц», ибо лейтмотивом этого процесса станет «покушение на Робеспьера». Девять телег доставят облаченных в красное жертв на площадь Поверженного Трона, куда к тому времени перевезут гильотину, ибо земля на площади Республики откажется впитывать кровь казненных. И, возможно, глядя на залитый солнцем кровавый кортеж, Робеспьер вспомнит, как меньше года назад мимо его окон двигалась телега, в которой в такой же алой рубашке стояла высокая стройная девушка. Кровавая пелена завесит его взор, и он отчетливо ощутит, что вскоре его постигнет участь проследовавших мимо его окон жертв.
* * *
Тем, кто в тот памятный вечер 17 июля видел Шарлотту, навсегда запомнилось выражение ее прекрасных глаз, ясных и лучезарных, спокойно взиравших на бушевавшую толпу. «Бессмертие сияло в ее глазах; на лице ее отражались благородная ясность, спокойствие добродетели и сострадание к проклинавшему ее народу», — писали современники. «Прекрасные очи ее говорили о душе столь же нежной, сколь мужественной; очи чудные, способные растрогать скалы!.. Взор ангела, проникший в мое сердце и взволновавший его неведомым дотоле чувством, которое изгладится лишь с последним моим вздохом». Эти слова принадлежат бледному белокурому молодому человеку с голубыми глазами по имени Адам Люкс. 17 июля он с раннего утра стоял в толпе на углу улицы Сент-Оноре и ожидал, когда же наконец повозка поравняется с ним и он встретит взгляд Шарлотты. В том, что она посмотрит на него, он не сомневался.
Кто был этот Адам Люкс? В тот год ему исполнилось двадцать восемь лет. Немец, доктор философии, десять лет назад защитивший диссертацию о различных видах энтузиазма, он проживал в городе Майнце с женой Сабиной и двумя дочерьми. Когда осенью 1792 года французские войска во главе с Кюстином вступили в Майнц, Люкс вместе с горожанами встретил их с радостью. Не находя у жены понимания своих устремлений, Люкс покинул дом и с головой ушел в клубную деятельность. Войдя в состав организованной Кюстином временной администрации, Люкс предложил присоединить город к Франции. Местный Конвент дал согласие, и в марте 1793 трое немецких депутатов — Люкс, известный просветитель Форстер и негоциант Потоцкий — вручили французскому Конвенту петицию с просьбой о присоединении к Франции бывшего Майнцского курфюршества, переименованного в департамент Буш-дю-Рен. На время решения вопроса немецкие депутаты поселились в скромной гостинице на улице Мулен. Сбережений ни у кого не было, но Конвент помогал им деньгами. Однако вскоре обстановка на фронте обострилась, немецкая армия отрезала французов от Майнца и в конце июля заняла город, восстановив в нем прежние порядки. Возвращение депутатов домой было отложено на неопределенное время.
Живя в Париже, Люкс познакомился с жирондистами и с восторгом слушал их выступления в Конвенте. Исполненный героического энтузиазма, равняясь на Брута и Дециев, он все больше проникался ненавистью к экстремистам Горы и поклонникам Марата. Пылкий почитатель античных республик, он решил собственной смертью пробудить мужество у большинства Конвента, дабы те восстали против тирании Горы. В своей крошечной комнате он написал прощальные письма друзьям и жене[86] и подготовил речь, которую он хотел произнести в Конвенте, перед тем как заколоть себя на глазах у депутатов и зрителей. Прежде чем произнести эту речь, Люкс показал ее Гаде и Петиону, и те в один голос стали отговаривать восторженного немца от осуществления его замысла. Они считали, что возвышенная речь, пусть даже и с практическим советом — избрать временным диктатором Ролана или Бриссо, вряд ли изменит положение, даже если Люкс заколет себя на глазах у Горы. Тело его вынесут, и заседание продолжится. И Люкс, по совету все тех же Гаде и Петиона, отправился сочинять памфлет под названием «Обращение к французским гражданам».
Тридцать первого мая вооруженные секции двинулись на Конвент, а Люкс устремился на улицу — расклеивать листовки против анархии, в поддержку жирондистов. 2 июня, когда жирондистов изгнали из Конвента, Люкс выпустил «Обращение», завершив его, как и подобает истинному республиканцу, заявлением о своей готовности умереть от руки анархистов: «После того что я сейчас написал, вы, без сомнения, удостоите меня вашей тюрьмы и вашей гильотины, но я готов встретиться с ними лицом к лицу». Душевное смятение Люкса после поражения Жиронды было настолько велико, что он действительно приготовился умереть, чтобы таким образом выразить протест против надвигавшейся диктатуры, и лишь ждал своего часа.
И час настал: газеты сообщили о гибели ненавистного Марата, убитого приехавшей из Кана девицей по имени Шарлотта Корде. Словно средневековый трубадур, влюбившийся в далекую принцессу Грезу, Люкс влюбился в Шарлотту Корде. Его восторженная любовь к свободе наконец обрела зримый облик девушки из Нормандии. Он почувствовал, что отныне жизнь его неразрывно связана с Шарлоттой, и теперь, когда телега со скрипом медленно катилась мимо него, его сердце ликовало.
Если верить преданию, Люкс пришел в тюрьму, куда заключили Шарлотту, и умолял позволить ему взять на себя ее вину и вместо нее взойти на эшафот. Разумеется, ему отказали. Ламартин пишет, что в день суда Люкс находился среди зрителей, пришедших на суд над Шарлоттой, и именно там, после того как судья зачитал приговор, взгляды их встретились. «Она поняла, что в ту минуту, когда все покидало ее, к ее душе привязалась другая душа и что в этой равнодушной или враждебной толпе у нее есть неизвестный друг. Это был их единственный разговор на земле». Рассказ Ламартина, скорее всего, лишь красивая легенда. Однако трагическая любовь Люкса к Шарлотте Корде столь необыкновенна, что хочется верить, что Люкс сумел обратить на себя внимание Шарлотты — и не важно, когда это случилось: в суде ли или же по дороге на эшафот…
Пробираясь сквозь выстроившуюся вдоль пути следования черной повозки толпу, Люкс медленно приближался к площади Революции, где высилась гильотина. Из-за скопления народа Шарлотту везли от дверей тюрьмы к эшафоту около двух часов. Сансон, ехавший в одной телеге с осужденной, ожидал заметить на ее лице хоть какие-нибудь признаки малодушия, которые он привык замечать у других, но девушка была кротка и невозмутима. Шарлотта выдержала испытание до конца и, облачившись в доспехи молчания, ни разу не проявила ни робости, ни гнева, ни негодования. Сансон пишет, что в ответ на его замечание о том, что дорога оказалась слишком долгой, Шарлотта задумчиво произнесла: «Какая разница, мы же все равно доедем до места».
Выехав на площадь Революции, Сансон встал, чтобы закрыть собой от Шарлотты гильотину. Заметив его маневр, девушка сказала: «Мне любопытно посмотреть на это сооружение, ведь я никогда не видела ничего подобного!» Когда телега подъехала к подножию эшафота, стрелки часов показывали семь. Пока солдаты оттесняли толпу, создавая преграду между зрителями и эшафотом, Шарлотта вышла из телеги и уверенным шагом поднялась на помост. Внизу со всех сторон колыхалось бескрайнее людское море, из волн которого на нее был устремлен исполненный восторженного обожания взгляд Люкса. Сансону и зрителям, стоявшим ближе, показалось, что Шарлотта хочет что-то сказать. Но тут к ней подскочил один из помощников палача и резко сдернул у нее с груди косынку, которую ей позволили сохранить и которой она прикрывала плечи. Порозовев от смущения, Шарлотта сама бросилась на роковую доску, и подручные палача немедленно привязали ее. Приготовления к казни заняли так мало времени, что Сансон не успел занять свое место возле гильотины. Не желая продлевать страдания мужественной женщины, он сделал знак помощнику, и тот привел в действие механизм. 17 июля, в семь часов с небольшим, голова Шарлотты Корде скатилась в корзину палача. В отчете о ее смерти написали: «В среду, 17 июля, Первого года Республики единой и неделимой, была казнена гражданка Корде из Кана, приговоренная к смерти за заговор и за убийство депутата Конвента патриота Марата».
Стоическое поведение Шарлотты в последние минуты жизни потрясло собравшихся на площади зрителей. «Она губит нас, но учит нас умирать!» — воскликнул, узнав о казни Шарлотты, Верньо. «Мне горько видеть, как осужденные, уподобившись Шарлотте Корде, уверенным шагом поднимаются на эшафот, выказывая непоколебимое мужество. Если бы я был общественным обвинителем, я бы приказал перед казнью делать кровопускание каждому осужденному, чтобы лишить их сил вести себя достойно», — писал позже присяжный Революционного трибунала гражданин Леруа.
Не успел Сансон подняться на эшафот, как плотник Ле-гро, весь день помогавший устанавливать гильотину, схватил голову и показал ее народу. И хотя Сансону было не привыкать к подобным зрелищам, он содрогнулся: ему показалось, что взор казненной все еще исполнен кротости и твердости духа. Не выдержав, палач отвернулся, и тотчас вокруг послышался ропот: оказалось, негодяй, поднявший голову Шарлотты, ударил ее по лицу. Потом многие говорили, что щеки несчастной покраснели от такого посмертного оскорбления. «Я видел это собственными глазами; полиция заключила подручного палача за это в тюрьму», — писал майнцский депутат Форстер. Другой депутат из Майнца, Адам Люкс, с этой минуты лелеял только одну мысль, горел только одним желанием: чтобы ему отрубили голову на той же самой гильотине, где окончила свои дни Шарлотта Корде.
В обстановке, когда грозные экзальтированные толпы санкюлотов возносили хвалы Марату и проклинали его убийцу, газета «Кроник де Пари» (Chronique de Paris) 19 июля опубликовала дерзкую для того времени заметку о казни Шарлотты Корде: «Шарлотта Корде, щедро наделенная мужеством, которым истории было угодно украсить любимых своих героев, подверглась участи преступников. Ее хладнокровие в последние минуты, быть может, еще более, чем преступление ее, увековечит ее имя для потомства. Она так спокойно и уверенно отвечала на допросе, что поразила не только зрителей, но даже видавших виды судей. Когда ей вынесли приговор, она даже пошутила, и самый пристрастный наблюдатель не мог не признать, что ее нисколько не заботит ожидающая ее участь. Она не пожелала исповедаться. Кроткая и прекрасная, она стояла в телеге, везущей ее на эшафот. Она сама положила голову на плаху. Кругом царило глубокое молчание. Палач, подняв отрубленную голову и показывая ее народу, дал ей пощечину. В ответ раздался всеобщий ропот народа: "Закон карает, но не мстит!" Голова побледнела, но не утратила своей красоты. Палач повторно поднял голову, которой не вытекшая до конца кровь еще придавала присущую природным краскам свежесть, и раздались крики: "Да здравствует нация, да здравствует республика!" И все разошлись, впечатленные страшным преступлением Шарлотты Корде, равно как и ее мужеством и красотой».
В этот же день в газете «Революсьон де Пари» {Revolutions de Paris) также появилась заметка, осуждавшая поступок исполнителей казни:
«Непосредственно после казни произошел ужаснейший случай, который судьи, без сомнения, не должны оставить без внимания, чтобы такое более не повторилось. Палач или его подручный, показав народу голову Шарлотты Корде, совершил низкий поступок, дважды или трижды ударив голову по щеке. Раздались вопль ужаса и возмущенные выкрики в адрес того, кто позволил себе подобную жестокость».
Сансон посчитал необходимым подать протест редактору газету Прюдому, и тот поместил его опровержение:
«Гражданин Сансон, исполняющий смертные приговоры, вынесенные преступникам в Париже, требует опровергнуть утверждение, что это он после казни дал пощечину голове Шарлотты Корде. Он убеждает нас, что это сделал не он, и даже не его помощник, а некий плотник, охваченный небывалым энтузиазмом; плотник признал свою вину».
Но некоторые очевидцы сомневались в реальности этого эпизода. Дюваль в своих «Воспоминаниях» пишет: «Все утверждают, что палач дал пощечину голове Шарлотты, когда показывал ее народу, и все увидели, как голова покраснела — от боли, как говорят одни, или от возмущения, как говорят другие; но я с этим согласиться не могу. Сам я стоял в начале авеню Елисейских Полей, то есть неподалеку от эшафота и ничего подобного не видел. Однако предупреждаю: не отрицая самого факта, я всего лишь говорю, что лично я этого не видел. Добавлю, что никто из стоявших рядом со мной тоже этого не видел, а слух об этом распространился по Парижу только через несколько дней. Не знаю, кто придумал сей слух или, ежели вам так больше нравится, кто первый распустил его».
За надругательство над головой казненной Легро приговорили к неделе тюрьмы и нескольким часам у позорного столба, однако наказания он, кажется, так и не понес.
Тело Шарлотты Корде отвезли на кладбище Мадлен и опустили в ров № 5, между рвами № 4, где покоилось тело Людовика XVI, и № 6, куда в скором времени сбросят тело Филиппа Эгалите. Во время Реставрации кладбище будет ликвидировано и останки погребенных на нем людей затеряются в недрах бурно строящегося Парижа.
Пишут, что череп мадемуазель Корде сохранился. Ленотр сообщает, что на Парижской выставке 1889 года в отделе антропологии, рядом со скелетами, найденными при закладке фундамента Эйфелевой башни, лежал череп, табличка рядом с которым гласила: «Череп Шарлотты Корде. Принадлежит принцу Ролану Бонапарту»[87]. Но исследования показали, что череп этот не зарывали в землю и не держали на открытом воздухе, а хранили в ящике или шкафу, то есть в месте, защищенном от вредных атмосферных воздействий. «Неужели в 1793 году нашелся настолько экзальтированный фанатик, который, рискуя собственной жизнью, в ночь после казни вырыл из земли голову героини? Или кто-нибудь купил у палача эту кровавую реликвию?» — задается вопросом историк. А может быть, когда труп Шарлотты доставили в анатомический театр для осмотра, кто-то из врачей отпрепарировал голову и сохранил ее как редкость?
Жан Эпуа в своей книге о процессе над Шарлоттой Корде, опубликованной в 1980 году, пишет, что череп Шарлотты выставлялся в 1965 году на выставке «Марат, медицина и революция» в музее Гойи в городе Кастр. Его поместили рядом с посмертной маской Марата. Так произошла вторая — посмертная — встреча Красавицы и Чудовища.
По словам Эпуа, какое-то время череп принадлежал литовскому князю Радзивиллу, к которому он попал от одного из знатных родственников. Концом цепочки родственников Эпуа называет уже упомянутого Ролана Бонапарта, а «первоисточником» Сансона. По его предположению, палач сохранил голову как улику в деле Легро, а потом, когда надобность в ней отпала, подарил ее Дантону, а тот, в свою очередь, сделал подарок собирателю реликвий революции (а затем и империи) Сент-Альбену. Некоторые утверждают, что Сент-Альбен показывал друзьям не череп, а именно голову Шарлотты, погруженную в сосуд с формалином, и можно было отчетливо разглядеть полуприкрытые веки, впалые щеки и светлые волосы. Впрочем, об останках людей, вошедших в историю, всегда ходит немало преданий и легенд… По мнению краниологов, череп Шарлотты особых примет не имел, только лоб был низкий, «как у самых прекрасных женщин греческих изваяний», да один из врачей обнаружил на лобной кости ряд особенностей, обычно присущих черепам мужчин.
Почитатель Шарлотты Корде, который спустя почти тридцать лет после ее гибели приехал в Кан, чтобы на месте собрать сведения о ней, с грустью констатировал, что «память о ней угасла и самое имя ее предано забвению». «Устроители Террора более справедливо отнеслись к этой женщине: они хотели снести ее дом, а на его месте поставить колонну с надписью: "Здесь стоял дом Шарлотты Корде!"» — укорял потомков пылкий почитатель[88]. Но он был не прав. Память о Шарлотте Корде, в отличие от культа Марата, мгновенно вспыхнувшего и столь же стремительно угасшего, всегда напоминала ровное пламя, погасить которое не смогли ни смены правительств, ни мода, ни изменения в отношениях к событиям революции. Одна за другой появлялись посвященные Шарлотте картины, портреты ее украшали веера и бонбоньерки. Отмечают, что за сто лет о Шарлотте Корде было написано пьес почти в сорок раз больше, чем о Жанне д'Арк за пять веков. Но если в сочинениях об Орлеанской деве всегда присутствовало слово «подвиг», то многие, прославлявшие героизм и мужество девы из Нормандии, этого слова избегали…
Шарлотта Корде вошла в Историю в один из наиболее бурных и разрушительных ее периодов, поэтому когда биографы принялись восстанавливать небогатую событиями жизнь Шарлотты, многих свидетелей либо уже не было в живых, либо отыскать их не представлялось возможным. Сама Шарлотта дневниковых записей не вела, поэтому каждая строка, написанная ее рукой, становилась поистине бесценным свидетельством ее образа мыслей. Письма Шарлотты из тюрьмы не были отправлены адресатам, равно как и «Обращение» не сразу прочитали «друзья законов и мира». Издатель «Бюллетеня Революционного трибунала» попросил у Фукье-Тенвиля письма Шарлотты, чтобы опубликовать их на своих страницах. Тенвиль направил запрос в Комитет общественной безопасности, но там ему ответили, что комитет считает ненужным и даже опасным публиковать письма «этой необыкновенной женщины, которая и без того вызывает большой интерес у недоброжелателей».
Если именовать «недоброжелателями» тех современников, кто сочувствовал Шарлотте, восхищался ею и ее героическим самопожертвованием во имя республики, главным «недоброжелателем» должен считаться, разумеется, Адам Люкс. Потрясенный ее казнью, Люкс вернулся к себе в каморку и взялся за перо. Через день в Париже появился изданный в типографии манифест, оправдывавший «тираноубийцу» Шарлотту Корде и превозносивший ее наравне с Катоном и Брутом.
«Убийство дозволено, если человек угрожает свободе, если он попрал законы и его нельзя по закону покарать за совершенные им злодеяния. Убийство дозволено, когда генерал предает отечество и обманывает армию. Убийство дозволено, когда администратор узурпировал власть, и свергнуть его можно, только лишив его головы. В иных случаях убийство допускать нельзя. Когда власть узурпировала анархия, нельзя допускать убийство, ибо анархия подобна сказочной гидре, у которой на месте отрубленной головы немедленно отрастает три новых. Вот почему я не одобряю убийства Марата. И хотя этот представитель народа превратился в истинное чудовище, я все равно не могу одобрить его убийства. И я заявляю, что ненавижу убийство и никогда не запятнаю им свои руки. Но я воздаю должное возвышенной отваге и восторженной добродетели, ибо они вознеслись над всеми прочими соображениями. И призываю, отринув предрассудки, оценивать поступок по намерениям того, кто его совершает, а не по его исполнению. Грядущие поколения сумеют по достоинству оценить поступок Шарлотты Корде.
Скромная и очаровательная девушка из благородной семьи, пылая любовью к отечеству, решила пожертвовать собой ради отечества, которому грозит опасность, и лишила жизни человека, которого считала источником всех бед, постигших общество. Не посвятив никого в свои замыслы, она покинула домашний очаг. Презрев страшную жару, она отправилась в дальнее путешествие, приехала в город и осуществила свой план, дабы спасти жизнь тысячам людей. Она знала, какая участь ей уготована, но не думала о последствиях. До последнего вздоха она сохранила мужество и невыразимую кротость: присутствие духа не покидало ее ни на минуту. Перед смертью она написала свое знаменитое письмо Барбару; это письмо произвело на меня столь глубокое впечатление, что я даже не пытаюсь найти для него нужных слов: герои будущих поколений оценят это письмо по достоинству.
Шарлотта Корде, возвышенная душа, несравненная дева! Сколько кротости было в ее лице, когда ее везли посреди неистовствующей толпы! Сколько спокойствия и смелости во взоре! Каким огнем горел ее взор, о какой нежной, но неустрашимой душе говорили глаза ее! Ее взгляд мог бы растрогать даже скалы! Этот ангельский взгляд воспламенил мое сердце и пробудил в нем новое, неведомое доселе чувство, соединившее в себе и радость, и горе. На протяжении всего скорбного пути она сохраняла твердость духа и невыразимую кротость. Спокойным и мужественным взором она окидывала толпу в поисках человеческого лица… Она поднялась на эшафот… испустила последний вздох., и ее великая душа отлетела к Катону, Бруту и тем героям, с коими она сравнялась в заслугах или даже превзошла их.
Шарлотта, небесная душа, воистину ты принадлежишь к сонму бессмертных! Где в истории найдем мы величие, подобное твоему? Торжествуй, Франция, торжествуй, Кан! Ибо вы породили героиню, равной которой мы не отыщем ни в Риме, ни в Спарте! Промелькнув, словно молния, над землей, она покинула нас, ибо мы оказались недостойны ее. Французы, нам осталась память о ее добродетелях, и эта память, возвышенная и нежная, навсегда запечатлена в моем сердце, она поддерживает во мне любовь к родине, за которую она хотела умереть. Франция усыновила меня, я стал ее сыном. Мне больше не нужно вдохновляться образами героев Рима и Спарты, мне достаточно образа Шарлотты Корде, чья добродетель и героизм достойны большего, нежели мой скромный и неуклюжий слог. Воспоминание о тебе пробуждает во мне ненависть к врагам свободы, анархистам и палачам, 31 мая узурпировавшим власть и обманувшим парижан и французов! Стремясь во Францию, я хотел обрести царство свободы, а нашел торжество невежества и преступления. Я устал жить среди творимых вами ужасов, среди несчастий, кои уготовили вы отечеству! И я готов принять страдания ради свободы и во имя ее взойти на эшафот, дабы в будущем на месте гибели бессмертной Шарлотты Корде воздвигли статую с надписью: "Величием своим она превзошла Брута!"
Париж, 19 июля 1793, 2-го года Французской республики, единой и неделимой.
Адам Люкс, французский гражданин».
К этому документу существует приписка:
«Если они удостоят меня чести сложить голову на их гильотине, которая отныне является для меня жертвенным алтарем, омытым чистой кровью, пролившейся 17 июля, если, повторяю, они удостоят меня этой чести, то я прошу их палачей дать моей голове столько же пощечин, сколько они дали голове Шарлотты. И пусть они призовут свою кровожадную чернь аплодировать этому спектаклю. О, парижане! Как можете вы спокойно взирать на бесчинства, творящиеся в стенах вашего города? Прости меня, прекрасная Шарлотта, если в последнюю минуту я не сумею быть таким же мужественным и кротким, как ты. Но я горжусь твоим превосходством: ведь любимый всегда превосходит любящего!»
Люкс открыто заявил о своем авторстве апологии Шарлотты Корде, и когда его арестовали, не скрывал своей радости. Газеты писали: «После смерти на эшафоте Шарлотты Корде ум его крайне возбудился, а чувства достигли высшей степени экзальтации. Смерть казалась ему прибежищем, и он решил умереть следом за своей героиней». Газета «Кроник де Пари», вторя друзьям Люкса, пытавшимся выставить его безумцем, писала: «Надо быть сумасшедшим, чтобы находить удовольствие в смерти за человека, которого уже нет в живых». Люкс с гневом отвергал любые попытки его спасти.
Сидя в тюрьме, Люкс говорил товарищам по камере: «Жизнь плоха или хороша в зависимости от того, какое употребление ты из нее сделаешь: я же более не знаю, что мне с ней делать. 17 июля смерть отняла у меня все, что привязывало меня к жизни. Дайте же мне радостно соединиться с Шарлоттой Корде!» Приговоренный «за оскорбление суверенного народа», 4 ноября 1793 года Адам Люкс под проливным дождем взошел на эшафот.
Слух о молодом человеке, пожелавшем разделить участь Шарлотты Корде, дошел до убежища Луве, и тот посвятил Люксу несколько взволнованных строк: «Он тоже был фанатиком, тот молодой человек, о поступке которого еще будет говорить история. Ах, как мне жаль, что я не могу вспомнить его имя!» Луве оказался прав: история сохранила имя Люкса. «Пожелав умереть за Шарлотту Корде, Адам Люкс спас свое имя от забвения», — заметил Ф. Бонвиль.
Шарлотта обессмертила имена тех, кто оказался рядом с нею. «"О мой дорогой Барбару, твоей участи можно позавидовать целиком, но я завидую только выпавшему тебе счастью, состоящему в том, что имя твое навеки соединено с письмом Шарлотты Корде". И ах! во время допроса она произнесла также и мое имя. Таким образом, труды мои, мои терзания и мои душевные тревоги возмещены. Чтобы ни случилось, я вознагражден. Шарлотта Корде упомянула обо мне, и теперь я уверен, что не умру!» — писал Луве.
Жак Франсуа Алексис де Корде д'Армон не получил последнего письма дочери, написанного ею в Консьержери. Об убийстве Марата и казни Шарлотты он узнал только из «Журналь де Перле», а узнав, немедленно сжег все имевшиеся у него письма Шарлотты, а заодно и все афишки и бумаги, где упоминались жирондисты.
Прочитав в бюллетенях Национального конвента о том, что гражданин Марат, член Конвента, убит некой Мари Анной Шарлоттой Корде, бывшей Дармон, постоянный Совет коммуны Аржантана известил Конвент, что отец «означенной Корде Дармон» по-прежнему проживает у них в коммуне. «Предполагая, что среди бумаг гражданина Корде-отца может храниться преступная переписка или же указания на сообщников означенного преступления, гражданину Февалю и члену совета гражданину Ру поручили отправиться к гражданину Корде-отцу и допросить его относительно того, что ему известно об убийстве, а также произвести разыскания в его бумагах, и если потребуется, бумаги эти конфисковать или же опечатать».
Двадцатого июля, когда Корде работал над трудом под названием «Принципы правления», к нему явились трое чиновников из муниципалитета Аржантана и, предъявив предписание, обыскали дом, а самого Корде подвергли продолжительному допросу. По словам Вателя, несчастный отец, защищаясь, вынужден был унизить дочь, сказав, что она «не обладала никакими талантами, а, впрочем, для совершения убийства таланты и не требуются». Не обнаружив ничего предосудительного, чиновники удалились. Однако гражданин Корде по-прежнему чувствовал занесенный над его головой меч: его брат, Пьер Жак де Корде, находился в эмиграции, как и оба его сына.
Арестовали Корде и его престарелых родителей (восьмидесятитрехлетнюю мать, Мари Рене Аделаид и девяностолетнего отца Жака Адриана) спустя несколько месяцев — 19 октября 1793 года. В августе 1794 года родителей по причине преклонного возраста отпустили, а 19 февраля 1795 года, после почти полутора лет заключения, на свободу вышел и отец Шарлотты; за время пребывания в тюрьме здоровье его было сильно подорвано. Оказавшись на свободе, Корде д'Армон вскоре стал жертвой нелепой ошибки: чья-то небрежная (или коварная?) рука занесла его имя в списки эмигрантов, которые, согласно принятому Директорией закону, должны были в двухнедельный срок покинуть пределы Франции. Корде отбыл в Испанию, где в то время находился его старший сын Жак Франсуа Алексис, продолжавший успешно строить военную карьеру. Отец Шарлотты Корде скончался 27 июня 1798 года в Барселоне.
Жак Франсуа Алексис де Корде вернулся во Францию в 1803 году, женился и умер в 1809 году.
Пьер Жак де Корде и младший брат Шарлотты Шарль Жак Франсуа в составе роялистского десанта высадились 27 июня 1795 года на полуострове Киберон, попали в плен и были расстреляны «синими»[89]. Знали ли они о мужественной смерти своей племянницы и сестры? Наверняка знали. И кто-нибудь из них вполне мог сказать: «Если бы у нас снова правил король, Шарлотта уже была бы провозглашена святой».
Аббат Шарль Амедей Корде, у которого в детстве жила Шарлотта, эмигрировал и вернулся во Францию в 1801 году. Он охотно делился воспоминаниями о племяннице и называл ее «новой Юдифью». Аббат скончался в 1818 году.
Элеонора, сестра Шарлотты, осталась жить в Аржантане, зарабатывала на жизнь плетением кружев и, скорее всего, так и не вышла замуж. Скончалась она в 1813 году, в возрасте тридцати семи лет.
Мадам де Бретвиль газет не читала и об убийстве Марата и казни Шарлотты узнала от Огюстена Леклерка. К ней приходили с обыском, но ничего не нашли. Напуганная гневными манифестациями «маратистов», происходившими под ее окнами, мадам де Бретвиль с помощью Леклерка бежала в Версон, где скрывалась до тех пор, пока манифестации не прекратились. Она вернулась в Кан, однако умственное здоровье ее оказалось подорванным. Она скончалась в 1799 году.
Родственники Шарлотты пострадали гораздо меньше, чем можно было ожидать. Гораздо суровее обошлись с четой кукольников Луазон, обрядивших куклу в платье Шарлотты Корде и научивших ее кричать «Долой Марата!»: их арестовали и отправили на гильотину.
Ретиф де ла Бретон, старательно собиравший «все самые необычные факты, которые впоследствии приобретут бесспорную важность», рассказал о некой девушке из Кана, отправившейся в Париж «с намерением загладить ущерб, причиненный республике ее департаментом и преступлением Мари Анны Шарлотты Корде». «Средство, которое она пожелала для этого использовать, было по меньшей мере странное, — пишет Ретиф. — Пылкая брюнетка, примерно 26 лет от роду, намеревалась, по примеру древних галльских жриц, которые ежегодно торжественно дарили свои милости самым отважным воинам, подарить радости любви героям-патриотам. Для исполнения сего великодушного замысла она собрала сведения, а затем решила все сама увидеть и сама во всем убедиться. Но, как оказалось, сведения ее были далеки от точности. Один оказался женат на молодой и хорошенькой девушке, которую он обожал; у другого было то ли две, то ли три ревнивые любовницы; еще один презирал женщин и никогда не имел с ними дела. И так все остальные… Короче говоря, она так и не нашла того, кого могла бы осчастливить своими милостями, как она задумала. Она пребывала в размышлениях, когда случай поспособствовал нашей встрече. Не знаю, за кого она меня приняла, но тем не менее она решила избрать меня объектом своих благодеяний и сказала мне, что прибыла в Париж заглаживать вину своего департамента. Она поведала мне размеры своего состояния и прочие сведения. "Полагаю, гражданка, — ответил я ей, — что с вашей красотой и вашим состоянием будет более уместно составить счастье какого-нибудь молодого патриота, а он составит ваше, и вы вместе подарите государству достойных граждан. Для этого я вам советую познакомиться с кем-нибудь из парижан, успевших отличиться перед республикой; тогда вы ничем не будете отличаться от древних жриц". Мы отправились ко мне в секцию, и там ей приглянулся молодой человек, заведовавший канцелярией. Они поженились, и есть основания полагать, что они счастливы».
Случай, действительно, курьезный. Ибо с именем Шарлотты Корде, скорее, связывают «религию кинжала», как назвал Мишле стремление молодых людей нанести «исторический удар кинжалом»: «Известный покровитель героических убийц, Брут, бледное воспоминание о далекой Античности, отныне преобразился в новое и более могущественное, более соблазнительное божество. О ком теперь мечтает юноша, жаждущий нанести исторический удар кинжалом? Кого он видит в своих снах? Призрак Брута? Нет, очаровательную Шарлотту, пурпурным вечером являющуюся к нему в красном плаще в кровавом ореоле июльского солнца». «Мы, дети Афин и Рима, познавали свободу в одеждах величественных фурий Корнеля. Преступление пробуждало в нас энтузиазм, когда оно само карало преступление. Отринув душу, мы заполняли пустоту инстинктом и логикой львов», — писал Нодье о молодых людях, чье взросление пришлось на годы революции.
Монтаньяры и впавшие, по словам современников, «в бредовое состояние» почитатели Марата изо всех сил старались представить Шарлотту Корде грубой мужеподобной женщиной. «Подобно существам, коих нельзя причислить ни к одному из полов, дикий убийца Марата исторгнут адом на погибель человеческого рода. Так набросим же покров забвения на память о нем. И пусть легковерные художники прекратят придавать облику его чарующие свойства красоты. Пусть возмущенные взоры наши увидят его среди фурий Тартара», — сказал небезызвестный маркиз де Сад, или, как тогда называли его, гражданин Сад в речи, посвященной памяти Марата и Лепелетье. Но никакие гневные речи и заметки не повлияли на мнение последующих поколений.
«Шарлотта Корде впервые в мире совершила убийство, каковое нельзя считать преступлением», — писал Бонвиль через пять лет после гибели нормандской девы. «Бесценные свидетельства, протокол ее допроса и ее письма дают лишь несовершенное представление о том, кем она была. Надо было видеть и слышать ее. Как жаль, что ответы ее записывал Фукье, а не кто-нибудь другой! Отчего столь прекрасная рука замаралась в крови чудовища? Каким образом веселость и легкость ее характера способствовали точности ее удара, ее стоическому поведению в смерти? Все, что она сделала, свидетельствует о ней как об истинной республиканке; устами ее говорила сама мудрость; являя собой образец женского совершенства, она сохранила девическую стыдливость и невинность. Она могла бежать, но она этого не сделала. Она считала это убийство необходимым и добровольно расплатилась за него собственной жизнью. Она пожелала смыть своей кровью блеск озарившей ее славы. Измученная, избитая, попираемая ногами сторонников секты Марата, она предстала перед судьями после трех дней тюрьмы. Душа ее спокойна; она только что написала отцу, попросив у него прощения за то, что распорядилась своей жизнью без его согласия. Судьи увидели перед собой не яростную мстительницу, заученно твердящую о своей невиновности, а исполненную сочувствия жертву, решившую посвятить себя спасению отечества. Она уверена, что принесла осудившему ее народу мир, и не упрекает его за неблагодарность; скорбные взоры, которые бросает она на зрителей, говорят о том, что она сочувствует им. Она презирает своих судей, но не оскорбляет их. Она отвечает всем, даже Фукье-Тенвилю, который, посреди дебатов, иронически спрашивает ее, сколько она сделала детей. "Я вам уже сказала, — покраснев, отвечает она, — что я никогда не была замужем!" Святотатцы захотели в этом убедиться: они копались в ее останках! Она была девственна… Она вызывает восхищение даже у тех, кому заплатили, чтобы проклинать ее».
Действительно, Шарлотта вызывала восхищение у всех, кто не находился под гипнозом мученичества Марата и не обязан был проклинать его убийцу «по должности». «Есть поступки, которые находятся выше людского разумения и суждения. И не нам выносить оценку таким решениям, осуждать Шарлотту Корде за то деяние, за которое потомки так восхищаются Брутом. Предоставим слово правосудию, пусть говорит закон, а мы почтительно набросим покрывало на заблуждения добродетели», — писали современники, пытаясь примирить героизм Шарлотты и совершенное ею убийство. Пылкий почитатель Шарлотты Корде, девятнадцатилетний Шарль Нодье, прибывший в Париж спустя шесть лет после ее гибели и поселившийся в гостинице «Провиданс» в комнате, где жил его кумир, был так счастлив этим, что целых три недели буквально не выходил из номера. Из состояния болезненного экстаза Нодье вывел Франсуа Фейяр, прежний рассыльный, ставший хозяином этой гостиницы. Нодье называет его «почтенным старцем», хотя в то время Фейяру исполнилось всего сорок два года. Вот как описывает Нодье состоявшийся между ними разговор:
«Настал день, когда я даже не смог встать с кровати. Фейяр пришел проведать меня, и я спросил:
— Не вы ли тот самый Пьер Франсуа, который утром 13 июля 1793 года провожал мадемуазель д'Армон в Пале-Рояль?
Он кивнул утвердительно, и я продолжил:
— Хотя от улицы Вьез-Огюстен до Пале-Рояль путь недолог, такой наблюдательный человек, как вы, не мог не заметить, что она поглощена какой-то идеей, занимающей ее полностью. Шарлотта была необыкновенной девушкой и наверняка взглядом, словом или жестом выдала свое намерение.
— Сударь, этот вопрос мне уже задавали на суде, и я ответил им так же, как отвечу вам. Я шел впереди, часто оборачивался и с горечью смотрел на нее; я переживал за нее, словно она была моей родственницей. Но мои предположения о причине ее приезда оказались так далеки от истины! Она была хороша и внушала любовь каждому, кто видел ее, поэтому просьба отвести ее в Пале-Рояль и оставить ее там, показалась мне первым шагом по пути разврата и проституции.
— О, несчастный! — вскричал я. — Как вы могли оскорбить таким грязным подозрением Шарлотту Корде? Вы чудовище!
— Мне думается, — спокойно ответил Фейяр, — сударь излишне строг к продажным женщинам или слишком снисходителен к убийцам. Я разделяю его справедливое возмущение падшими созданиями, которые торгуют прелестями своего тела, рискуя погубить собственную душу. Но, как ни говори, мне больше жаль тех, кто портит собственную жизнь, нежели тех, кто похищает жизнь у своих ближних.
— Согласен, именно у своих ближних. Но Марат не принадлежал к роду человеческому. Она убила чудовище.
— Марат был чудовище, и с этим никто не спорит, но нельзя было его убивать. Жизнь чудовища, обладающего властью, является истинным бедствием для народа; но жизнь чудовища принадлежит Господу.
— Неужели вы сомневаетесь, что Господь руководил рукой Шарлотты Корде?
— Поверьте мне, сударь, Господь не руководит рукой убийцы. Господь никому не дает права убивать, даже палачу.
— Но когда нож гильотины становится ужасной игрушкой в руках негодяев, что, спрашиваю я вас, остается невинности и добродетели, если не острый стилет?
— То, о чем вы забыли, сударь: смирение, надежда и вера. И еще кое-что: будущее и Бог.
Пьер Франсуа взял медный подсвечник и, так как я не отдал ему никаких распоряжений, постоял немного и, поклонившись, вышел.
Этот разговор успокоил мою голову и сердце. Ночью впервые за долгое время мне снились спокойные сны. На следующий день я проснулся успокоенным и немедленно покинул гостиницу "Провиданс"».
В эпоху, когда добродетель, вооруженная кинжалом Брута, заняла трон тирана, было создано по крайнее мере два полотна (не считая лубочных картинок), где Шарлотта Корде, «более великая, чем Брут», сжимала в руках кинжал, которым она поразила Марата. Но не эти картины стали главными в иконографии Шарлотты Корде. Потомкам запомнилось кроткое, одухотворенное лицо со спокойным и уверенным взглядом, изображенное Гойером. Полотно Верца, где хрупкая девушка в полосатом платье устремляла отрешенный взор поверх рвущейся к ней разъяренной толпы. Высокая красавица с разметавшимися по плечам волосами с картины Бодри. Даже в многочисленных театральных действах о Марате, поставленных поклонниками кумира сразу после его гибели, Шарлотта Корде редко представала в виде фурии. Ее предпочитали изображать мстительницей за казненного жениха или возлюбленного либо марионеткой в руках роялистов и жирондистов. Новой Юдифью предстает нормандская дева в пьесе «Шарлотта Корде, или Современная Юдифь» (1797). Не имея ничего общего с реальностью, пьеса рассказывает о том, как Шарлотта, притворившись влюбленной в Марата, предводителя банд якобинцев, осадивших Кан, отправляется к нему в палатку якобы на любовное свидание. Охваченный любовной страстью Марат готовит к прибытию Шарлотты роскошный ужин, во время которого та его закалывает. Вооруженные отряды жителей Кана разбивают войско Марата, снимают осаду, и Шарлотта отдает руку давно влюбленному в нее д'Эглемону. С тех пор прошло более двухсот лет, однако версия мести за любимого человека, равно как и версия убийства из ревности (sicl), по-прежнему жива в обыденном сознании. Сегодня, когда все наличествующие документы, относящиеся к короткой и небогатой событиями жизни Шарлотты, собраны и аккуратно сложены в архивные папки, когда существуют ее научные биографии, некоторые по-прежнему, услышав ее имя, говорят: «Да-да, Шарлотта Корде, та, которая убила Марата, потому что у нее кто-то погиб на гильотине, то ли муж, то ли возлюбленный…»[90] Возможно, со временем история Шарлотты Корде и Марата станет историей Красавицы и Чудовища, связанных друг с другом не только роковой готовностью пожертвовать собой во имя всеобщего блага, но и роковой страстью.
Когда история сталкивает мужчину и женщину, мы, сами того не замечая, стремимся разглядеть хотя бы призрак любви. Уже на гравюрах эпохи Революции можно видеть портреты Шарлотты и Марата, помещенные в одну рамочку… Противники именовали Марата кровожадным чудовищем, но точно так же называли Шарлотту Симона Эврар, Альбертина Марат и сотни почитателей Друга народа. Взращивая и культивируя стихийно возникший культ Марата, монтаньяры одновременно пытались лишить Шарлотту героического ореола, но тем самым лишь способствовали ее славе. Возвышенные побуждения Шарлотты настолько вознесли ее над реальным миром, что восторженные поэты иногда именовали «деву Кальвадоса» жертвой Марата! Dulci pro patria mori[91] — эпиграф к пьесе «Шарлотта Корде», изданной анонимным автором в 1795 году, когда останки Марата еще покоились в Пантеоне, а представления под названием «Смерть Марата» завершались апофеозом Друга народа. История навеки соединила имена Шарлотты Корде и Марата, и слава одной парадоксальным образом приумножила славу другого.
Глава 10. АЛТАРЬ
Республиканец верный, кумир наш навсегда!
Тебя мы потеряли, но жив ты на века.
Великий гражданин, пример твой вдохновляет,
Сцеволы пепел Брутов порождает.
Четверостишие гражданина Сада, сочиненное в честь Марата, друга человечества
Как написал Т. Карлейль, вечером 13 июля «прекраснейшее и презреннейшее столкнулись и уничтожили друг друга». Удар кинжала, прервавший жизнь Марата и Шарлотты Корде, произвел взрыв страстей, заставил людей выплеснуть наружу чувства, накопившиеся за четыре года революции. Кто-то, одурманенный кровожадными статьями Марата и экзальтированными речами его сторонников, в
озможно, действительно испытывал растерянность и страх: кто же теперь будет указывать народу его врагов? Кто-то, наоборот, радовался, полагая, что, лишившись основного подстрекателя и экстремиста, Гора прислушается к здравомыслящим депутатам и начнет наконец устанавливать царство законности. У остававшихся в Конвенте семидесяти трех депутатов-жирондистов также появились надежды на перемены. Но надежды оказались мимолетными: исступление, охватившее людей, жаждавших воскурять фимиам своему кумиру, сулило времена еще более жестокие.
Культ Марата был замешан на истерии, лицемерии и смерти. Нодье, которому в 1793 году исполнилось тринадцать лет, вспоминает первые уроки политического лицемерия, полученные им, когда в его родной город Безансон пришло известие о гибели Марата:
«— Марат — чудовище, — холодно произнесла Жюли[92].
— И слава богу, — повторил я слова своего учителя. — Если бы Марат был человеком, нам пришлось бы краснеть, что мы люди.
Б.[93] нахмурился и, обернувшись к нам, сказал, что за такие слова они все могут лишиться головы. И добавил: "Марат — не чудовище, он мелок, а потому не войдет в историю как великий злодей. Он не чудовище, он маньяк, разъяренный невежда. И все в Конвенте так считают. Но он нужен нам как посредник между нами и той низкой чернью, отвратительной чернью, чьи интересы он защищает. С помощью его мы держим эту чернь в руках и грозим ей этой гарпией". Так я получил свой первый урок политики.
Когда мы подъехали к особняку, где селили прибывших эмиссаров Конвента, мы увидели толпу патриотов, многие из которых рыдали от ярости и громко призывали к мести. Мы узнали, что в Париже Шарлотта Корде убила Марата.
Б. опустился в кресло, поднес руки к глазам, отнял их, дабы все увидели, что они красны от слез, и начал выражать патриотическое отчаяние: "О, мой друг, мой брат, почему я не встал между тобой и клинком убийцы? О, мудрый и божественный Марат!" — восклицал он. И толпа почтительно разошлась.
— Прощай, талисман Горы! — сказал Шампионне[94]. — Гора потеряла свою Горгону.
— Вы все просто дети! Она ничего не потеряла! Лепелетье уже затаскан до дыр. Мумия за мумию, нам был нужен мученик, и мы его получили, — ответил Б.».
В Конвент действительно поступило предложение от одной из парижских секций забальзамировать тело Марата, превратить его в мумию и возить его по всей Франции. Художник Давид, отвечавший за организацию похорон Друга народа и задумавший церемонию в античном духе, немедленно принял решение о бальзамировании, дабы выставить тело Марата на обозрение хотя бы парижан. Но на жаре тело стало разлагаться с такой ужасающей быстротой, что процедуру бальзамирования пришлось проводить на улице, при постоянном возжигании ароматических смол и трав. Давид хотел представить Марата в той самой позе, в какой его настигла смерть, то есть задрапировав нижнюю часть тела, находившуюся в ванне, и выставив верхнюю, с рукой, еще сжимавшей перо. Руку пришлось взять у более свежего покойника; чтобы закрыть рот, пришлось отрезать кончик языка. По словам одного из очевидцев, покрытое лаком тело Марата напоминало чудовищную зеленую рыбу, сверкавшую серебристой чешуей. В стремлении продемонстрировать санкюлотам разлагавшееся тело человека, при жизни страдавшего от экземы, чесотки и, как писали некоторые, от сифилиса, было что-то противоестественное и жуткое.
Издатель «Революсьон де Пари» Прюдом рассказывал, что примерно за час до убийства Друга народа к нему пришел некий гражданин Пио и взволнованно сообщил: он только что побывал у Марата и сказал журналисту, что французы стонут под гнетом тирании нынешнего правительства, на что Марат ответил ему: «Сегодня Францией правят дураки. Стране нужен диктатор, но чтобы диктатор смог стать у руля власти, нужно проливать кровь, и не каплями, а потоками». «Я стоял возле ванны, где сидел Марат, — продолжал Пио, — смотрел на него и понимал, что жить ему осталось не больше месяца». Следовательно, заключал Прюдом, убийство, совершенное Шарлоттой, оказалось совершенно бесполезным. Еще Прюдом утверждал, что за два дня до убийства Марата его вечером посетила Шарлотта Корде и за время их беседы он успел убедиться, сколь твердым характером обладала девушка и сколь сильно она ненавидела тиранию. О том, посвятила ли она его в свои планы, Прюдом умолчал. Впрочем, правдивость его рассказа вызвала большие сомнения.
Зафиксированный летописцами рассказ, даже если он и является плодом фантазии Прюдома, свидетельствует об одном: к моменту гибели позиции Марата как политического лидера сильно пошатнулись, и его союзники втайне считали дни, когда, наконец, болезнь окончательно выведет его из строя. Марат внушал страх, но теперь, когда он перестал существовать, все с восторгом бросились воздавать ему поистине королевские почести.
Против помпезных похорон выступил Робеспьер, считавший, что обсуждение состояния тела Марата и способов увековечения его памяти наносит делу республики только вред:
«Знаете ли вы, какое впечатление производит на человеческое сердце зрелище похоронной церемонии? Глядя на нее, народ думает, что друзья свободы таким образом как бы возмещают понесенную потерю и что отныне они не обязаны отомстить за нее; они удовлетворяются отданными добродетельному человеку почестями, желание отомстить за него потухает в их сердцах, равнодушие следует за энтузиазмом, и память о нем рискует быть забытой. Надо, чтобы убийцы Марата и Лепелетье искупили на площади Революции свое ужасное преступление. Пособники тирании, вероломные депутаты, развернувшие знамя мятежа, те, кто постоянно точит нож над головой народа, кто погубил родину и некоторых сынов ее, должны ответить нам своей кровью».
Несмотря на предсказанные Робеспьером гибельные последствия, пышные похоронные торжества состоялись. «Пособники тирании» расплатились потоками своей крови. «Отряды Марата», организованные комиссаром Конвента Каррье, посланным усмирять жителей Нанта за сочувствие вандейцам, с конца 1793-го и до конца февраля 1794 года уничтожили около десяти тысяч человек. Каррье получил прозвище «Нантского утопителя» — за то, что связывал попарно мужчин и женщин и бросал их в воду. Сам Каррье называл изобретенный им способ истребления неугодных «республиканской свадьбой», ибо предпочитал связывать женщин с неприсягнувшими священниками. Тех, кто пытался всплыть, добивали «отряды Марата».
Ни одна из секций не осталась в стороне от торжественных церемоний, посвященных памяти Марата. Тело Друга народа выставили в помещении церкви кордельеров, где проходили заседания клуба; рядом поместили его окровавленную рубашку и ванну. Два человека у изголовья через небольшие промежутки времени поливали тело ароматическим уксусом и поддерживали горение благовоний. Над возвышением протянулся лозунг: «Марат, Друг народа, убитый врагами народа. Враги народа, умерьте вашу радость, у Друга народа найдутся мстители». Ораторы от секций говорили речи, женщины бросали на помост цветы. «Марат умер! — восклицал оратор. — Умер, убит Друг народа! Но не будем произносить хвалебные речи над его безжизненными останками! Лучшей похвалой ему было его поведение, его сочинения, его кровоточащая рана и его смерть… Гражданки, осыпайте цветами бледное тело Марата! Марат был нашим другом, другом народа; он жил для народа и умер за него!» «Довольно стонов, — вступал следующий оратор. — Прислушайтесь к великой душе Марата, она пробуждается и говорит нам: "Республиканцы, довольно слез… Республиканцы вправе пролить лишь одну слезу, ибо долг призывает их думать об отечестве! Не Марата хотели убить враги, а республику, народ, — вас самих!"»
Извещенные о смерти Марата депутаты в Конвенте один за другим поднимались на трибуну, дабы произнести прочувствованную речь и одновременно засвидетельствовать свой патриотизм. «Убийство Марата — самое печальное событие, случившееся со времени провозглашения республики! — восклицал Эбер. — Так прольем же слезы на могиле Марата! И пусть все добрые патриоты будут начеку, ибо кинжал убийцы занесен над каждым из них». Осмотрительный Друэ призвал граждан обратить смерть Марата на пользу революции: «Граждане, совсем недавно вы увенчали Марата лаврами, а сегодня несете ему ветви кипариса! Вы хотите отомстить за его смерть. И вы отомстите! Но давайте сделаем так, чтобы великое несчастье, избежать коего было не в наших силах, обернулось на пользу дела свободы…» Выступивший на заседании Шабо изобразил убийцу в самых неприглядных красках, а в завершение сказал: «Пока вы не можете покарать сообщников преступной Корде. Так удвойте же вашу энергию против заговорщиков в Кане и их сообщников в Париже, сидящих в самых недрах Конвента!» Свою речь Шабо заключил предложением перенести останки Марата в Пантеон. Против его предложения выступил Робеспьер. «А что это за честь? — заявил он. — Кто покоится там? Кроме Лепелетье я не вижу там ни одного добродетельного человека. Неужели его положат рядом с Мирабо, с этим интриганом, методы действий которого всегда были преступными?»
По предложению Давида Конвент принял решение участвовать в полном составе в похоронах Марата, которые планировали провести 17 июля, но из-за стремительного разложения тела пришлось проводить 16 июля. По причине сложности бальзамирования врач Дешан предъявил Конвенту счет на шесть тысяч ливров. Сумма показалась завышенной, и врачу Десо поручили это проверить. Десо проверил и сумму признал справедливой, но в официальном ответе написал, что «истинный республиканец уже должен считать великой наградой оказанную ему честь бальзамировать останки великого человека, которому отечество желает воздать высшие почести». Бовале поручили сделать посмертную маску и бюст Марата, с которого немедленно стали штамповать сотни новых бюстов и водружать их в общественных учреждениях. Самые первые бюсты Марата установили в Конвенте и в коммуне Парижа. Позднее в здании Конвента будет выставлена и картина Давида «Смерть Марата» с надписью на постаменте: «Не сумев подкупить его, они его убили». Когда Давида спрашивали об этой работе, он всегда отвечал: «Этого человека я писал сердцем».
На полотне исписанный листок, зажатый в руке мертвого Марата[95], является второй запиской Шарлотты Корде, которая не была вручена адресату.
Сначала художник хотел представить сцену убийства Марата, но вскоре изменил свое решение из-за невозможности изобразить Шарлотту Корде без ущерба для образа Марата: показать убийцу мегерой означало унизить Марата, а показать подлинную Шарлотту означало сделать ее главной фигурой картины, доминирующей над погруженным в ванну телом Марата. И все же скорбное и величественное полотно Давида стало хранителем памяти не только об изображенном на нем Марате, но и о Шарлотте Корде. Сегодня, когда со дня трагической смерти Марата прошло более двухсот лет, многие при упоминании имени Марата говорят: «А, это тот, который в ванне на картине Давида», а при имени Шарлотты Корде: «Это, кажется, та, которая убила Марата, того, кто на картине Давида»…
Прах Марата предали земле в саду Кордельеров, под сенью деревьев, где, как говорят, он вечерами читал народу свою газету. Церемония, начавшаяся светлым летним вечером, завершилась поздней ночью, при свете факелов, придававшем похоронной процессии характер торжественный и мрачный. С наступлением темноты похоронное действо стало напоминать некий мистический обряд, исполняемый подпольной сектой, и только огромное стечение народа постоянно нарушало математически выверенное движение геометрически выстроенной процессии. Склеп Марата сделали в форме скалы из каменных глыб, символизировавших непреклонную твердость Друга народа. Вход в склеп преграждала толстая стальная решетка, на большом могильном камне высекли слова: «Здесь покоится Марат, Друг народа, убитый врагами народа 13 июля 1793 года». Одна за другой звучали речи, и в них, по словам Бредена, чаще всего говорили о бессмертии: Марат не умер, Марат не может умереть, Марат будет жить с нами вечно.
Культ Марата начался с торжественной церемонии перенесения сердца Марата в клуб Кордельеров, состоявшейся 18 июля. Почитатели с трудом отыскали в Париже сосуд, достойный принять сердце кумира: агатовую вазу с инкрустированной крышкой. В клубе, где отныне под потолком должна была висеть урна с сердцем великого человека, ораторы открыто называли Марата божеством и сравнивали его сердце с сердцем Иисуса. «О, драгоценные останки божества! Ты требуешь от нас отмщения, а твои убийцы еще живы! Скорее отомстим за Марата!» — восклицали они, хотя к этому времени Шарлотты Корде уже не было в живых. Но еще были живы жирондисты, канские беглецы, сообщники убийцы… словом, духовные наследники Марата были готовы, руководствуясь заветами своего кумира, начать рубить головы ради всеобщего счастья. Ради счастья тех, кому удастся сохранить голову.
Нашлись граждане, посчитавшие сравнение Марата с Господом неуместным. Так, гражданин Броше заявил: «Марата нельзя сравнивать с Иисусом, ибо Иисус породил суеверие и защищал королей, а Марат имел смелость раздавить их. И вообще, для республиканцев нет другого бога, кроме философии и свободы». Гражданин Морель, напротив, разразился речью, дабы убедить всех, что у санкюлота Иисуса и патриота Марата было очень много общего: оба пылко любили народ, оба ненавидели дворян, священников, богачей, мошенников, оба жили бедно…
Восемнадцатого июля гражданки из Общества революционных республиканок торжественно воздвигли на площади Реюньон[96] (так в то время называлась площадь Карузель), напротив дворца Насьональ (так в то время называли дворец Тюильри) памятную пирамиду, посвященную Марату. Созерцая сей обелиск на зеленой траве, окруженный лаврами и кипарисами, «добрым санкюлотам» следовало «питаться возвышенными мыслями и оборачивать их на пользу свободе». Внутрь пирамиды поместили бюст Друга народа, ванну, чернильницу и лампу. На одной стороне памятника надпись: «При жизни Марат из глубины подполья указывал народу его врагов и его друзей; он умер и вернулся под землю». На другой его стороне надпись, прославляющая Клода Франсуа Лазовского, депутата Генерального совета коммуны Парижа, героя штурма Тюильри 10 августа. К обелиску приставили часового, но тот, по словам Мерсье, зимой скончался от холода и страха. Говорили, что он стал последней жертвой Марата…
Преклонение женщин — вернейший признак общественного обожания. В церквях революционно настроенные гражданки превращали алтари и саркофаги в сенотафы и, задрапировав их трехцветной тканью и установив бюст Марата, устраивали торжественные церемонии почитания останков великого человека. Рядом с «алтарями Марата» часто помещали макет его ванны. Пишут, что идея заменить траурный креп на триколор пришла в голову продавцу бастильских камней Паллуа, считавшего, что и друзьям, и душе покойного созерцание цветов республиканского флага принесет утешение — в отличие от церковного траура.
Культ мученика свободы Марата нашел свое выражение в повсеместном распространении его изображений. Гравюры и рисунки, веера с его портретом, медальоны, броши, табакерки, кольца… Ношение амулета с образом Марата считалось признаком цивизма, и каждый, в зависимости от своих средств, приобретал такой амулет, чтобы его не заподозрили в нелояльности режиму. Женщины делали себе прически а-ля Марат. Газеты запестрели объявлениями граверов и рисовальщиков: «Рисунок с натуры: Жан Поль Марат на смертном одре; цена: 1 ливр — цветной, 15 су — однотонный. Париж, ул. Пупе, № 6, спрашивать гражданина Геверда. Размеры гравюры прекрасно подходят для того, чтобы украсить сочинения того, кто показал себя стойким защитником революции» (из газеты «Одитер насьональ», Auditeur National). Среди объявлений попадались и курьезные: «Прошу известить всех, что гражданин Куринье, тот самый, который исполнил барельефный портрет Мари Анны Шарлотты Корде, единственный портрет, выполненный с натуры, также исполнил барельефный портрет Марата, Друга народа. Гражданин проживает на улице Ансьен Комеди Франсез, 34, рядом с перекрестком Бюсси» (газета «Монитер»). Фарфоровые и гипсовые бюсты Марата заняли места статуй Богоматери и святых. Имя Марата появилось на вывесках лавок и трактиров. Впрочем, если верить роялистской газете «Фей дю матен» (Feuille du matin), трактирщику, назвавшему свое заведение «У великого Марата» еще при жизни Друга народа, пришлось закрыть его после того, как нашлись свидетели, видевшие, как от него выходил пьяный Марат, поддерживаемый своими приятелями Тальеном, Сержаном и Панисом. Ибо после рассказа свидетелей все решили, что в этом трактире подают человеческое мясо: граждане помнили, что Сержан и Панис вместе с Маратом подписывали сентябрьские воззвания, призывавшие провинции следовать примеру столицы и расправляться с заключенными.
Страну захлестнула волна переименований: в Париже клуб кордельеров стал клубом Марата, улица Кордельеров — улицей Марата, улица и предместье Монмартр (Montmartre) превратились в Монмарат (Montmarat), площадь Обсерванс — в площадь Друга народа. Города спешно заменяли старые названия на новые: Шампрон-ан-Гатин (Champrond-en-Gatine) стал Шампрон-Марат (Champrond-Marat), Валь-дю-Руа (Val-du-Roi) — Валь-Марат (Val-Marat), Сен-Дени сюр Луар (Saint-Denis sur Loire) — Марат-сюр-Луар (Marat-sur-Loire). Доктор Кабанес дает примеры десятков подобных переименований. Он же приводит заявление некой гражданки, которая вместе с подругами «клянется всех своих детей воспитать Маратами и вместо Евангелия вручить им полное собрание сочинений трудов этого великого человека». Комиссары Конвента поручали себя покровительству «святого Марата»; новое Credo начиналось словами «Верую в Марата»; многие, в том числе и женщины, меняли свои имена на имя «Марат», а особенно рьяные называли себя и своих новорожденных младенцев Брут-Марат-Лепелетье и Санкюлот-Марат.
Всеобщая печаль и поклонение соседствовали с гневом. Все требовали смерти убийц Марата, так как многие верили, что Друг народа пал жертвой заговора. «Математически доказано, что чудовище, которому природа придала облик женщины, послано Бюзо, Барбару, Саллем и прочими заговорщиками, скрывшимися в Кане. Эта женщина всего лишь инструмент в руках канских заговорщиков», — заявлял Кутон. На основании строчки из записной книжки, найденной у английского шпиона (Июль 2. Послано Ж. с М. в Кан 60 тысяч ливров), попытались соединить имя Корде с иностранными заговорщиками: ведь Шарлотта прибыла в Париж в июле и, по ее собственному признанию, после убийства собиралась ехать в Англию — если бы, конечно, ей удалось бежать. «Марат стал жертвой аристократов», — безапелляционно судил Эбер, а его «Папаша Дюшен» писал: «О, дьявольщина, Марата больше нет! Рыдай, народ, оплакивай своего лучшего друга, он умер мучеником свободы. Департамент Кальвадос изрыгнул чудовище, под ударами которого пал Друг народа!» Ему вторили пламенные гражданки: «Он пал от руки фурии, руководимой коварными депутатами, которых он разоблачил и которые, не будь Марата, уничтожили бы нашу свободу, а потому Конвент, заботясь о благе народа, исторг их из своего лона!» Член Якобинского клуба гражданин Гиро произнес перед депутатами Конвента прочувствованную речь, сравнив убийцу Марата с исчадием ада: «Чудовище более отвратительное, чем те, что обитают в аду, беги отсюда, беги в пустыню, бреди по острым скалам, по раскаленному песку, не имея ни пищи, ни воды, и пусть для утоления жажды у тебя будет только кровь, а для утоления голода — трупная плоть, которую у тебя станут оспаривать тысячи червей!» На многочисленных собраниях, устраиваемых, чтобы почтить память Марата, санкюлоты говорили: «Раздор поджигал факел гражданской войны во многих департаментах, федерализм, нашедший пристанище в Кальвадосе, поднимал свою омерзительную голову. О, чудовище! Любезный пол, оно приняло твои соблазнительные формы; оно облачилось в твои достоинства; оно позаимствовало у тебя твою трогательную речь. Чудовище, изрыгнутое Каном, Шарлотта Корде, была агентом тех, которые использовали ее, чтобы сократить дни Марата.
Чтобы проникнуть к нему, она воспользовалась предлогом, которым пользуются души чувствительные; она назвалась несчастной, и Друг народа, этот великий человек, счастливый тем, что может оказать услугу, почувствовал, как в нем пробуждается интерес к особе, полагающей себя жертвой несчастий, и он решил распахнуть перед ней двери своего убежища. И в тот момент, когда он надеялся совершить благородный поступок, кинжал этой женщины вонзился ему в грудь. Его кровь фонтаном бьет из раны и стремительно сокращает срок существования его. Убийца смотрит, как жертва его испускает дух, со стоицизмом, достойным варвара, созерцает сию картину и радуется содеянному им страшному преступлению»[97].
Однако гневная риторика проклинающих убийцу Марата нисколько не затрагивала саму Шарлотту. Чудовище — это, скорее, некая метафора, используемая для обозначения зла, исходящего от жирондистов, направивших кинжал Корде в сердце Марата. Гипербола, выражавшая крайнюю ненависть к коварному врагу, политическому противнику. Когда же речь заходила о вполне конкретной девушке, даже ярые сторонники Марата отзывались о ней если не с восхищением, то с удивлением. Приводимые ниже строки вышли из-под пера ночного бродяжника Ретифа де ла Бретона. Завернувшись в длинный, заляпанный грязью плащ и нахлобучив на голову старую широкополую шляпу, Ретиф с наступлением темноты выходил на улицы Парижа смотреть, чем занимаются неугомонные горожане, и слушать, о чем они говорят. Его знали все, а потому не только не трогали, но и с удовольствием заводили с ним беседы обо всем и ни о чем, а бойкое перо Ретифа превращало любую сплетню в занимательный рассказ. Осмотрительный Ретиф редко упоминал имена тех, кто сообщал ему любопытные сведения, поэтому ему рассказывали все без утайки. Его «Ночи Парижа» — это живой голос парижан: мелких лавочников, солдат, прачек, ремесленников, нищих, всех тех, кто, словно оракулу, внимали Марату, а после его смерти осыпали проклятиями его убийц. Ретиф не оправдывал Шарлотту, однако между строк читается его восхищение мужеством нормандской девы, удостоившей Марата «славной смерти»:
«С 1789 года я слышал разговоры о гражданине Марате. Он был неплохим химиком, занимался физикой и сделал несколько открытий, расширивших наши представления об этой науке. Однако сама наука о природе, без всякого шарлатанства, не прельщает парижан. Марат перестал вызывать интерес у публики. Тогда он начал издавать газету "Друг народа". Все знают, что с ним случилось дальше. Типографию Марата разгромили, и это было первое покушение на свободу прессы. Марат спрятался, и три четверти населения стали думать, что его не существует вовсе. Наконец, он при свете дня появился в Национальном конвенте, и больше уже никто не сомневался в его реальности. Но все были настроены против него, и даже друзья вынуждены были отступиться от него. Однако он выдержал всеобщее презрение. Наконец, как я уже сообщал, Комиссия двенадцати издала постановление о его аресте, но дело обернулось триумфом Марата. Его освободили, хотя многие постарались превратить его торжество в фарс. Что могло вернуть Марату, этому пламенному патриоту, его незапятнанную репутацию? Смерть, патриотическая смерть, настигшая его 13 июля 1793 года, между семью и восемью часами вечера…
Мало кому доведется погибнуть столь славной смертью… Лепелетье убил негодяй, мерзавец, наемный убийца, презренный парижский распутник. Марат, напротив, вскружил голову очаровательной юной особе, которая, если бы узнала его ближе, наверняка полюбила бы его и встала на его защиту. Не дрожащая рука гнусного негодяя прервала нить его жизни; место чудовища заняла чистая дева, обладавшая главной женской добродетелью, а именно непорочностью. Мы уверены, этот человек, снедаемый священным огнем патриотизма, предвидел, что падет от руки девственницы. В семь часов Мари Анна Шарлотта Корде прибыла к гражданину Марату, которому она написала письмо, и письмо это, как говорят, несет на себе печать преступления, ибо в нем она солгала. Она приложила много труда, чтобы проникнуть к нему, и ей удалось это сделать только по повелению самого Марата. Как только Мари Анна Шарлотта осталась с ним наедине, она вытащила длинный нож, купленный утром в Пале-Эгалите, и вонзила его в грудь патриота; тот громко вскрикнул и через несколько минут скончался. На крик сбежались все. Испугавшись, Мари Анна Шарлотта скользнула за занавеску, висевшую на окне, но ее там быстро нашли. Когда ее вывели, чтобы отвезти в тюрьму, она потеряла сознание. Придя в себя, несчастная с удивлением воскликнула: "Я все еще жива! А я думала, что народ меня немедленно растерзает".
Она пробыла в тюрьме с ночи 13-го на 14-е и до вечера 17-го, когда ее казнили. На следующий день после торжественного погребения своей жертвы она написала отцу письмо с просьбой простить ее за то, что она обманула его, сказав, что едет в Лондон. Это письмо считают предосторожностью с ее стороны, дабы снять с отца обвинение… Эта девушка заслужила смерть. Она это понимала и ничего не отрицала. Но откуда эта стойкость, проявленная ею после убийства, это мужество, которым в ужасе восхищалась вся столица? Ведь героический удел сужден исключительно добродетели! Как получилось, что она стала женщиной-убийцей, самым ужасным из всех существующих чудовищ? О, женщины, которые хотят стать мужчинами, и вы, человечки, поощряющие их, преступление Мари Анны Шарлотты является также и вашим преступлением… Палач дал пощечину ее отделенной от тела голове, за что был наказан и посажен в тюрьму. Негоже палачу изменять приговор, вынесенный судом».
Положительный образ Шарлотты, пропагандировавшийся в умеренной прессе и разнообразных листовках и брошюрах, выпущенных поклонниками «девы Кальвадоса», препятствовал созданию идеального образа Марата, напоминая о том, что «друзья законов» прозвали его «кровопийцей». Шарлотта Корде сразу заняла место в Пантеоне мучеников революции, и даже в самый разгар культа Марата образ ее нисколько не потускнел. Луве отвел Шарлотте почетное место рядом с Брутом:
Ненависть наша убила Марата. Рядом с Брутом Корде мы поставим в веках![98]В театральных постановках, как, например, в пьесе Гассье Сент-Амана «Друг народа, или Смерть Марата», преступление Шарлотты Корде изображалось бегло, а основное место занимал финал — торжественное чествование памяти Марата, ради которого, собственно, и создавались подобные скороспелые пьесы. На сцене сооружали эстраду, на ней устанавливали гроб, мимо гроба под скорбное пение хора шли войска, женщины и дети, на гроб сыпались розы, а аллегорические фигуры Республики и Свободы возлагали на него лавровые венки. И далее под торжественную музыку и пушечные выстрелы все прославляли павшего героя.
Из-за множества помпезных театральных церемоний, во время которых воздавали почести праху Марата, создавалось впечатление, что Марат постоянно воскресал, чтобы вновь и вновь умереть под возвышенные речи, сопровождавшиеся картинной скорбью своих поклонников. Казалось, нервическая экзальтация Марата, при жизни находившая выход на страницах его газеты, теперь передалась творцам его культа.
Двадцать первого июля Генеральный совет Парижа совместно с представителями секций собрался, чтобы принять особое постановление, согласно которому статья (из 202-го номера «Газет де Франс»), где показано «истинное лицо» Шарлотты Корде, распечатывалась на отдельной афише, афишу тиражировали и рассылали во все парижские секции и народные общества по всей республике. Необходимость принятия экстренных мер заключалась, как гласил протокол заседания, в следующем:
«Контрреволюционеры, умеренные, федералисты объединились во лжи, вознося хвалы проклятой женщине по имени Шарлотта Корде. Многие журналисты напоминают о трусливом поступке этой женщины, похоже, только для того, чтобы смягчить его жестокость; а некоторые даже дерзают восхвалять ее мужество и едва ли не самое ее преступление. Вместо того чтобы вызывать к ней отвращение у публики, они удостаивают ее тех похвал, которые пристали лишь благодетелям человечества и отважным защитникам свободы и прав народа.
Долг каждого доброго гражданина использовать все средства, дабы уничтожить ложные впечатления и изобразить эту безнравственную и отвратительную особу во всей ее неприглядности».
Афиша, распространенная поклонниками Марата, выставляла Шарлотту Корде бой-бабой, синим чулком и исключительно некрасивой:
«Подобно аристократам и фельянам, журналисты не устают восхищаться поступком Шарлотты Корде. Но убийство обличает ее неизбывную гордыню. Эта женщина, которую называют красивой, не была красива. Лицо ее казалось, скорее, мясистым, нежели свежим, оно было грубо, безобразно и болезненно-красного цвета. Лишенная фации и нечистоплотная, как почти все философы женского пола, она имела мальчишеское сложение и мужеподобные манеры. Ее полноты и молодости было достаточно, чтобы ее сочли интересной, однако позволим себе заметить, что любая красивая женщина или женщина, которая считает себя красивой, привязана к жизни и страшится смерти.
Шарлотте Корде исполнилось двадцать пять лет, то есть по нашим понятиям почти старая дева. Она была из родовитой дворянской семьи, а в тех краях расстояние между дворянами и простолюдинами было больше, чем где-либо в иных местах. Семья гордилась своим дворянством, но едва сводила концы с концами. Шарлотта Корде стала приживалкой у своей старой тетки. К тому времени голова у нее была напичкана разного рода книгами, и она с гордостью заявляла, что прочла все, от Тацита до «Картезианского привратника»[99]. Чувство стыда и скромность были ей неведомы. В ней не было ничего женственного, любовь и нежные чувства были чужды ее сердцу. Эта женщина претендовала на звание философа и считала себя сведущей в политике. Мужчины не любят такого рода женщин, ибо они отличаются сумасбродством и распущенностью.
Отличаясь неумеренной гордыней, Шарлотта Корде обладала всеми предрассудками, присущими ее сословию; убежденная в превосходстве своего ума, она не находила вокруг применения своим качествам. Склонная к экзальтации, порожденной чтением непотребных книг, она не имела поклонников и, ощущая сердечную пустоту, пожелала прославиться на манер Герострата.
Шарлотта не была глупа, однако, обладая богатым воображением, она не имела принципов, и сердцу ее была чужда нравственность. Коварство, присущее ее характеру, помогло ей проникнуть к Марату; ей было несвойственно благородство, а ее последнее письмо Марату и вовсе является образцом отвратительной лжи и говорит о безнравственности души ее.
Шарлотта Корде являет собой печальный пример того, как низко может пасть женщина, отрекшаяся от характера, обязанностей, вкусов и наклонностей, присущих ее полу».
А меньше чем через неделю Якобинский клуб выпустил обращение к французам, целью которого явилось напомнить о мученической смерти Марата, павшего жертвой гнусного заговора. Имя Шарлотты Корде в нем не упоминается, убийцу Марата называют «фурией», чьей рукой водили злобные заговорщики. И если в приведенном выше тексте афиши развенчивался образ Шарлотты, в своем обращении якобинцы активно напоминали о заслугах Марата и, видимо, не полагаясь на всеобщую любовь к Другу народа, разъясняли, в чем состояли эти заслуги:
«Граждане, наши братья,
совершено преступление, вызвавшее всеобщее возмущение друзей свободы, равенства и человечества.
Кинжалы раздора, наточенные в Кальвадосе, сразили представителя народа; на закате дня по Парижу разнеслась горестная весть: Марат убит, Марат мертв.
Граждане, нет больше с нами этого необыкновенного человека. Французы! Вы знаете, он был другом народа; а вам пора, наконец, узнать его предателей.
Вы должны знать, что представляла собой та фанатичная женщина, которой вложили в руку кинжал, чтобы сразить Марата. Граждане, эта женщина дважды приходила к Марату, но так как он уже два месяца был тяжело болен и ему требовался покой, ее к нему не допустили. Тогда она написала ему такие слова: "Марат, я несчастна; мне сказали, что ты никогда не отказываешь страждущим; так выслушай же меня, Марат".
И он приказал впустить ее; в тот момент он находился в ванне. Войдя к нему, эта женщина говорит, что она приехала из Кана, чтобы выдать ему заговорщиков, прячущихся в Кальвадосе. Но в ту минуту, когда он сказал ей: "Успокойтесь, гражданка; народ в тех краях уже прозрел и готов отринуть свои заблуждения; предатели скоро будут наказаны за свои преступления", она вытаскивает спрятанный на груди нож и погружает его в сердце Марата. Он зовет на помощь, но когда помощь подоспела, он уже не дышал.
Граждане, так трагически погиб Марат. Эта фурия убила его и призналась в совершенном преступлении. Она принадлежит к тому преступному классу, из-за которого Франция вынуждена проливать потоки крови, воюя со всей Европой за свою свободу. Заговорщики из Кана прислали эту женщину в Париж с агитационными брошюрами и с посланием от Барбару к некоему Деперре, сидящему в Конвенте на скамьях справа.
Член Конвента Деперре не отрицал этих фактов; он также сообщил и некоторые другие подробности дела. Он принадлежит к числу тех слепых и глухих, среди которых самыми опасными являются те, кто ловко притворяется таковыми.
Граждане, вы сами видите, что эти люди, у которых с уст не сходят священные слова "добродетель " и "человечество", пользуются ими исключительно для своих преступных целей; во имя человечества вонзили они кинжал в грудь Друга народа.
Граждане, кинжалы, сразившие Марата, — это те кинжалы, которые не достигли своей цели при покушении на Ле-онара Бурдона. Их направляли самые гнусные заговорщики, именующие истинных патриотов дезорганизаторами, анархистами, септембризерами[100]. Эта фракция утверждала, что ей грозят кинжалы, однако с головы ее не слетело ни единого волоса. Ах, и эти люди сумели ввести в заблуждение несколько департаментов! Но мы не сомневаемся, что множественные их преступления заставят наших братьев признать, что они свернули на путь заблуждений и ошибок. Они поймут, что преступление всегда любит рядиться в одежды добродетели. Они сумеют отделить лицемеров от искренних своих друзей.
Пламя фанатизма и раздора будет потушено кровью, струящейся из груди Друга народа! Народ, твой друг умер! Так расскажи же тем, кто не знал его, о том, что сделал он, чтобы заслужить этот почетный титул.
Марат без устали защищал права народа; твердо следуя своим принципам, он никогда не сворачивал в сторону с избранного пути. Желая услужить народу, он попрал самый ужасный из предрассудков, а именно предубеждение, существующее по отношению к доносам. В детстве нас учили презирать доносчиков; в зрелом возрасте мы начинали их бояться.
Деспоты используют доносчиков для собственной выгоды и для поддержания царства произвола.
Но в республике разоблачать тех, кто скрывается, означает разоблачать предателей, а значит, служить родине. Марат оказал поистине бессмертную услугу своей стране; и если некоторые недальновидные граждане не смогли оценить ее, то другие коварным образом попытались оклеветать его, понимая, что доносы помешают им творить свои черные дела; однако народ справедлив, а потому он удостоил Марата звания своего друга. Постоянно выслеживая предателей, Марат уничтожил оружием смеха Казалеса и Мори[101]. Он разоблачал предателей в 1791 году, он предсказал заговоры Лафайета и Капета. Его услуги народу были оценены по достоинству: от парижского департамента его избрали в Конвент. Он всегда пристально следил за интригами Жиронды, открыто разоблачал и их сообщника Дюмурье, и их коварные измены.
Но даже истинные республиканцы не всегда понимали величие Марата.
Так знайте же, он, словно часовой, стоял на переднем крае борьбы за спасение общества, и ему часто приходилось бить тревогу, потому что угроза вражеского нападения присутствовала постоянно. Находясь на передовой, более прозорливый, чем другие, он зорко следил за движениями предателей и в конце концов пал от ударов врагов родины. Граждане, он умер славной смертью, ибо всего себя, без остатка, посвятил своей стране.
Мы видим, что клевета и зависть не дают покоя Марату даже в могиле. Однако услуги, оказанные им его стране, не забудутся и сберегут память о нем для грядущих поколений.
Граждане, наши братья, если у вас осталась хотя бы капля сомнений относительно Марата, мы сделаем все, чтобы разубедить вас. Те же самые сердца, те же самые глаза, проливавшие слезы над могилой всеми чтимого Мишеля Лепелетье, те, кто трепетал, узнав, какой опасности избежал Бурдон, проливали слезы о Марате и тревожились о его памяти.
Граждане, братья, Друг народа умер, не оставив даже на что похоронить его; нация оплатила его похороны. На его могиле можно прочесть слова, которые написали парижане и которые не сотрутся никогда: "Марат, Друг народа, убитый врагами народа"».
Обращение, адресованное не столько поклонникам Марата, сколько тем, кто скептически относился к «передовым идеям» Друга народа, а в нем самом видел прежде всего подстрекателя к кровавым погромам и апологета доносительства, разослали по всем секциям, всем фронтам и всем рассыпанным по стране отделениям Якобинского клуба. Используя случай, прозорливые составители обращения превозносили Марата за его умение превратить донос в проявление гражданской добродетели. Ибо донос станет главным орудием грядущего Террора.
Памяти Марата посвящали песни, гимны, кантаты, стихи, где прославляли деяния Марата и проклинали его убийц:
За то, что он с федералистов Проклятую маску срывал, Марат обескровленный пал От черной руки роялистов[102].В посвященных Марату стихах, которые часто распевали на мотив популярных в то время мелодий, убийцей Друга народа нередко выступала не «фурия», не «женщина-чудовище», а «черные силы» заговорщиков — роялистов, жирондистов, федералистов. Многим по-прежнему не верилось, что удар Марату нанесла слабая женщина, и не по зову мести или подстрекаемая фракционерами, а из самых чистых, республиканских побуждений. По словам Луи Блана, Шарлотта Корде оказалась самой знаменитой из всех учеников и последователей Марата, ибо она довела его теорию «пятисот голов ради спасения пятисот тысяч» до логического конца — «до убийства самого учителя из-за проповедуемых им принципов»! Ведь сказав в суде: «Я убила одного, чтобы спасти сто тысяч», она, сама того не подозревая, выразила доктрину Марата! И провозглашая величие Марата и ничтожество Шарлотты Корде, якобинцы стремились затушевать это сходство принципов убийцы и жертвы, затушевать жертвенный характер поступка Шарлотты Корде, приписав его влиянию заговорщиков-жирондистов или роялистов. Тем более что «заговорщики» были живы и, обвинив их в подстрекательстве к убийству Марата, правящая партия получала еще один веский повод отправить их на гильотину. Многие парижане поддерживали такое решение:
Напрасно в тишине Вы растирали яды. Раскрылась всей стране Измена ваша, гады![103]«Бриссо, это чудовище, на чьей совести кровь миллиона человек, Бриссо, заставивший нас объявить войну, все еще дышит! — возмущались газеты якобинского толка. — Голова Бриссо, как и головы остальных депутатов-клятвопреступников, должны пасть от меча закона!»
Пока Шарлотта находилась в пути в Париж, Конвент по предложению Сен-Жюста постановил считать изменниками отечества исключенных из состава Конвента депутатов, в число которых, как известно, вошли и те, кто нашел пристанище в Кане. Марат и Шарлотта Корде погибли раньше, чем взошли на эшафот жирондисты и их друзья. Ускорила ли смерть Марата их гибель? С одной стороны, церемонии воздаяния почестей праху Марата на время отвлекли внимание нации от всех прочих дел. С другой — народ хотел отомстить тем, кто, по его мнению, направил кинжал Корде в грудь его друга. Якобинцы обвинили Жиронду в измене, заговоре, развертывании федералистской пропаганды против Парижа, попытке реставрировать монархию, желании истребить половину Конвента. Семьдесят три жирондиста из числа членов Конвента мужественно подписали протест против ареста своих лидеров, подставив, таким образом, собственные головы под топор гильотины. Извещенный об этом Робеспьер решил не придавать преступного значения этому благородному человеческому порыву и не наказывать подписавшихся. Но впоследствии, когда протест был найден в бумагах Деперре, о подписантах вспомнили и отправили на эшафот. Всего за лето и осень 1793 года казнили 178 человек, отмеченных клеймом «жирондист».
Обвинения, сформулированные Сен-Жюстом в его речи, носили ярко выраженный пропагандистский характер: тайный сговор с роялистами, заговор против республики… Такие же обвинения в свое время выдвигали и жирондисты, пытаясь свалить Робеспьера и Гору. Якобинцы обвиняли жирондистов в федерализме, стремлении расчленить страну, а жирондисты винили монтаньяров в намерении установить диктатуру. Якобинцы пришли к диктатуре. Жирондисты попытались организовать сопротивление провинций диктатуре якобинского Конвента, но потерпели неудачу, ибо в то время любое сопротивление парижской революционной власти быстро приобретало белую, монархическую окраску[104]. Возвращения Старого порядка не хотели большинство французов, поэтому любая партия, желавшая утвердиться у власти, принималась пугать народ роялистскими заговорами.
Главный процесс над лидерами жирондистов начался 24 октября. Перед Фукье-Тенвилем стояла сложная задача: люди, которых следовало осудить на смерть, не сделали ничего, за что им следовало бы вынести приговор. Приходилось судить их за мысли и преступные намерения, доказать которые не представлялось возможным. Блестящие ораторы, искренние сторонники революции, еще имевшие друзей и в Конвенте, и среди тех, кто сидел в зале суда, жирондисты уверенно отвечали на вопросы, приводя в замешательство судей. Процесс затягивался, дебаты длились неделю, а конца не предвиделось. Деятельность жирондистов протекала открыто, на глазах у всех, поэтому свидетели, у которых хватало смелости сказать правду, признавали, что якобинцы всегда выказывали неприязнь к жирондистам. А сами жирондисты решительно заявляли: «Вы судите нас за наши убеждения. Вы обвиняете нас в заговоре, потому что мы мыслим иначе, чем вы».
Тогда Эбер, возможно, все еще имевший зуб на жирондистов, вместе с депутацией патриотов явился в Конвент и потребовал, чтобы присяжные, убедившись в виновности обвиняемых, прекратили прения. Требование признали справедливым, и 30 октября суд вынес обвинительный приговор. Говорят, что подсудимые пришли в необычайное волнение и даже попытались вырваться из оцепления. Некоторые, избавляясь от всего ненужного, стали бросать в зал ассигнации, которые возмущенный народ немедленно принялся топтать. Главный присяжный Антон ель побледнел, как полотно. Казалось, что он вот-вот упадет в обморок. Валазе (у него была возможность спастись, но он отказался) заколол себя кинжалом на глазах потрясенного суда. А Ласурс воскликнул: «Я умираю в день, когда народ потерял рассудок, но когда он вновь обретет его, умрете вы!» Со стихами Вольтера на устах в тюрьме закололся жирондист Клавьер, бывший министр финансов, арестованный вместе с Манон Ролан. Если бы жирондисты не были жирондистами, то есть людьми, скорее слова, нежели действия, возможно, они смогли бы переломить ситуацию в свою пользу. Но этого не случилось; восклицая: «Смерть изменникам!» — народ при свете свечей (заседание затянулось до поздней ночи) покинул зал суда.
Кто-то из современников сказал, что после изгнания из Конвента жирондистов охватила самоубийственная лихорадка. Те, кто мог спастись, оставались на месте, не желая расставаться с друзьями. Сблизившийся с монтаньярами Дюко, чье имя сам Марат вычеркнул из проскрипционных списков, 6 июня выступил в защиту опальных депутатов, к которым принадлежал его друг Фонфред. Дюко арестовали; в камере он утешал друга, тосковавшего по жене и детям; на эшафот друзья поднялись вместе. Сидевший на скамьях Горы Ласурс поддержал жирондистов в их борьбе с Робеспьером и был казнен вместе с ними. Врача Леарди, активно защищавшего жирондистов, также казнили. Лестерптбовэ казнили исключительно за сочувствие Жиронде. Не сумев отправить полк на помощь товарищам в Париж, в Марселе утопился жирондист Ребекки. Он вошел в море и двинулся вперед, навстречу солнцу и пробуждавшемуся дню. Он шел все дальше и дальше, пока лазурные волны не сомкнулись над его головой.
Вечером накануне казни жирондисты справили свою последнюю вечерю — блистали красноречием, читали стихи и, обнявшись, пели песни. Утром 31 октября пять скорбных черных телег выехали из ворот Консьержери и направились на площадь Революции (бывшую площадь Людовика XV). Современники утверждали, что такой толпы, которая сопровождала телеги с осужденными жирондистами, не собирала даже казнь Людовика XVI. В пятой телеге везли тело Валазе, дабы, согласно приговору, отрубить ему голову на гильотине. Были приняты все меры, чтобы перед смертью жирондисты не могли выпить чего-нибудь возбудительного. Но это не помешало им хором петь «Марсельезу», звучавшую в их устах победным маршем. «Они пели с увлечением, громко и внятно и на печальной колеснице, и сходя с нее на землю, и поднимаясь на ступени эшафота. Лишь тяжеловесный нож гильотины заставлял их голоса умолкнуть навеки». За тридцать одну минуту упала двадцать одна голова. «Своей героической кончиной жирондисты заслужили переход в бессмертие».
Ожидавшая в тюрьме своей участи мадам Ролан стала готовить защитительную речь, надеясь таким образом исполнить свой долг перед погибшими соратниками. Она могла бежать: преданные друзья подыскали ей надежное убежище. Но, как истинная римлянка, она предпочла смерть, ибо только смерть могла стать достойным финалом ее блистательного взлета. Подобно Шарлотте Корде, она сделала свой трагический выбор.
Выступить мадам Ролан не позволили, ей удалось лишь напомнить суду, что казненные по его приговору жирондисты умирали с пением «Марсельезы». Произнести обличительную речь также намеревалась Олимпия де Гуж, но, как и мадам Ролан, ей слова не предоставили. Олимпия взошла на эшафот 3 ноября, Манон Ролан — 8 ноября 1793 года[105]. В промежутке между казнями этих двух героических женщин состоялась казнь Адама Люкса, сложившего голову во славу еще одной героической женщины.
Революция не слишком жаловала самостоятельных женщин, пусть даже и республиканок. После казни мадам Ролан газета «Монитер», представлявшая точку зрения правительства, возглавляемого якобинцами, нашла повод напомнить женщинам об их «природных» обязанностях и ненавязчиво посоветовала им «не высовываться»: «Недавно Революционный трибунал явил женщинам наглядный пример, который, надеемся, они не оставят без внимания. <…>
…жена Ролана, этот изворотливый ум, исполненный амбициозных замыслов, этот доморощенный философ, королева-временщица, окружавшая себя наемными писаками, кормившая их ужинами и осыпавшая милостями, раздававшая должности и деньги, была во всех отношениях сущим чудовищем. Ее презрение к народу и судьям, надменность ее ответов, ее иронические усмешки и нераскаянность, продемонстрированные, пока ее везли от Дворца правосудия к площади Революции, указывают на то, что ни одно печальное воспоминание не омрачало ее душу. А ведь она была матерью! Но она презрела свою женскую природу, решив возвыситься над ней. Стремление прослыть умнее мужчин заставило ее забыть об обязанностях, приставших представительницам ее пола, и это опасное забвение в результате привело ее на эшафот».
Громогласно напомнил женщинам об их месте и прокурор коммуны Шометт. В одной из своих речей он подчеркнул, что Олимпия де Гуж заслуживала смерти уже потому, что, будучи женщиной, она «напрочь забыла о добродетелях, присущих ее полу». И даже Общество революционных республиканок, созданное зажигательной актрисой Клер Лакомб и шоколадницей Полиной Леон, закрыли только из-за того, что мадемуазель Лакомб, нередко изображавшая Республику во время революционных празднеств, дерзнула произнести с трибуны Конвента слова о том, что женщины, по примеру всего народа, готовы дать отпор своим угнетателям. Недолго церемонясь, якобинское правительство запретило не только «Революционных республиканок», но и все женские клубы, вернув по-боевому настроенных красавиц на кухню и окончательно перечеркнув надежды женщин получить равные права с мужчинами. А «вязальщицы Робеспьера», не будучи сторонницами эмансипации, просто высекли мадемуазель Лакомб — как высекли в свое время Теруань де Мерикур.
«Бешеные», жирондисты, эбертисты, дантонисты, героические женщины, группировки и партии, делавшие революцию и павшие в междоусобной политической борьбе. Светлый призрак Республики уходил все дальше, уступая место упившейся кровью участившихся жертвоприношений фигуре Террора. Закон от 22 прериаля Второго года Республики единой и неделимой (от 10 июня 1794 года) донельзя упростил нехитрую судебную процедуру Революционного трибунала: повод для осуждения — подозрение, мера наказания — смерть. Над головой каждого гражданина республики взметнулся революционный топор. «Когда людей хотят сделать добрыми и мудрыми, терпимыми и благородными, то неизбежно приходят к желанию убить их всех. Робеспьер верил в добродетель: он создал Террор. Марат верил в справедливость: он требовал двухсот тысяч голов», — с грустью заметил Анатоль Франс. 9 термидора (27 июля 1794 года) большинство членов Конвента выступили против тех, кто во имя добродетели хотел «заставить человеческую гордость навсегда склониться под ярмом общественной свободы»[106]. 10 термидора якобинцы, эти добродетельные творцы Террора, приговоренные к смерти без суда и следствия, поднялись на эшафот.
Двадцать первого сентября 1794 года, после отмены Террора, который проповедовал Марат, тело Друга народа перенесли в Пантеон. Торжественную церемонию по предложению Бурдона приурочили к новому календарному празднику — провозглашению республики.
Двадцать шестого февраля 1795 года бюст Марата вышвырнули из Пантеона в клоаку, а его останки — как невостребованные — в свинцовом гробу зарыли на кладбище подле Пантеона. Во время работ по реконструкции кварталов, прилегавших к Пантеону, кладбище ликвидировали. «От величия до падения часто бывает всего один шаг», — писал Вольтер в полюбившейся Шарлотте Корде пьесе «Смерть Цезаря».
Заключение
История Шарлотты Корде — это лишь эпизод истории Великой французской революции, эпизод, где сплелись воедино политика, этика, мораль и чувства, эпизод, завершившийся трагической смертью Марата и героической гибелью Шарлотты. Замечательный поэт Андре Шенье, противник диктатуры якобинцев, погибший на гильотине 8 термидора, посвятил Шарлотте Корде оду, которую с полным правом можно назвать поэтической биографией «девы Кальвадоса», ее эпитафией и реквиемом. Предание гласит, что, когда Шарлотту везли на гильотину, Андре Шенье бросил ей в телегу розу.
ОДА ШАРЛОТТЕ КОРДЕ, КАЗНЕННОЙ 17 ИЮЛЯ 1793 ГОДА
В то время как одни, притворствуя со страхом, Другие ж в бешенстве склоняются над прахом Марата, возводя тирана в божество, И Одуэн, как жрец, в честь крови и насилий, С Парнаса грязного подобием рептилий Отрыгивает гимн пред алтарем его, — Лишь истина молчит, не расточая дани Похвал заслуженных, как будто бы к гортани От ужаса прилип ее немой язык. Иль жизнь так дорога и жить и в рабстве стоит, Когда народ в ярме позорном праздно ноет И мысли лучшие таить в душе привык? Я не молчу, как все, и посвящаю оду Тебе, о, девушка. Во Франции свободу Ты смертию своей мечтала воскресить. Как мстящей молнией, оружием владея, Ты поразила в грудь чудовище-злодея, Лик человеческий посмевшего носить. Раздавлена тобой, еще колебля жало, Очковая змея извив колец разжала, Не в силах продолжать губительный свой путь. Велела тигру ты из плотоядной пасти Людскую кровь и жертв растерзанные части, Как жвачку красную, пред смертью отрыгнуть. И наблюдала ты агонию Марата. Твой взгляд ему сказал: «Кровавая расплата Всегда тиранов ждет. Сходи ж в подземный край, В Аид, сообщникам твоим обетованный. Ты кровь чужую лил, так наслаждайся ванной Из крови собственной и гнев богов познай». О, девушка, алтарь из мрамора построив, Тебя бы Греция прияла в сонм героев, Воздвигла б статуи тебе на площадях И пела б гимны в честь священной Немезиды, Отмщающей всегда народные обиды И повергающей тиранов в красный прах. Но тризной чествуя чудовища кончину, Возводит Франция тебя на гильотину. Услышать думали твои мольбы и плач, А ты, не дрогнувши душой не женски твердой, С улыбкой слушала, презрительной и гордой, Как смертный приговор произносил палач. Смутиться бы должны сенаторы и судьи, Насилующие закон и правосудье, Ты посрамила их свирепый трибунал. Ответы смелые твои и вид невинный Им доказал, что нож не властен гильотинный Над тем, кто жизнь свою за родину отдал. В глуши, в провинции, в беспечности притворной Скрывалась долго ты и волею упорной Свой героический подготовляла план. Так в ясный летний день в безоблачной лазури Таинственно растет и копит силы буря, Чтоб горы сокрушить и вздыбить океан. Когда тебя везли на казнь в повозке мрачной, Ты в блеске юности казалась новобрачной, Как будто Гименей тебя на ложе вел. И шла на эшафот, по ступеням ступая, А вкруг него, толпясь, глумилась чернь тупая, Свободу превратя в кровавый произвол. Бессмертна будешь ты. Твой подвиг величавый Останется в веках и станет нашей славой. Ты посрамила им бессилие мужчин. Мы хуже женщины, — так много жалких жалоб, Но дряблая рука клинка не удержала б, И на насильников не встал бы ни один. О, девушка, прими как дар венок лавровый От добродетели торжественной, суровой. Тобой поверженный тиран лежит в крови. О, мститель золотой, — коль нет у неба молний, Тогда взлетай кинжал и долг святой исполни И правосудие земле восстанови![107]ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ШАРЛОТТЫ КОРДЕ
1768, 27 июля — в Нормандии, в приходе Сен-Сатюрнен-делиньери близ Вимутье, в семье Жака Франсуа Алексиса и Мари Жаклин де Корде д'Армон родилась дочь Мари Анна Шарлотта.
1782— после смерти матери и ее новорожденного младенца Шарлотта и сестра Элеонора поступают в монастырский пансион.
1791 — Шарлотта переезжает жить в Кан.
1793, 20 июня — Шарлотта встречается с Барбару и просит рекомендательное письмо, чтобы в Париже ходатайствовать за подругу Александрии Форбен.
7 (или 8) июля — Барбару присылает Шарлотте рекомендательное письмо депутату Конвента, жирондисту Деперре.
8 июля — Шарлотта пишет прощальное письмо отцу.
11 июля — прибывает в Париж и посещает Деперре.
12 июля — пишет «Обращение к французам, друзьям мира и законов».
13 июля — Шарлотта покупает нож и едет к Марату, но в приеме ей отказано. Вечером Шарлотта вновь отправляется на улицу Кордельеров. Ее пропускают, и в половине восьмого Шарлотта Корде наносит Марату смертельный удар ножом. Поздним вечером ее доставляют в тюрьму аббатства.
15 июля — Шарлотта начинает писать письмо Барбару.
16 июля — Шарлотту переводят в тюрьму Консьержери и проводят первый допрос. Шарлотта завершает письмо Барбару и пишет последнее письмо отцу.
17 июля — суд над Шарлоттой Корде. Вечером в семь часов тридцать минут ее казнили.
БИБЛИОГРАФИЯ
Archives nationales (W 277, dos. 82; W 293, dos. 213).
Actes du Tribunal revolutionnaire (recueillis et commentes par G.Walter) P., Mercure de France, 1986.
Convention Nationale. Fetes, honneurs, pompes.
Vatel, Ch. Dossiers du proces criminel de Charlotte de Corday, devant le Tribunal revolutionnaire. Extraits des Archives imperiales. P., Poulet-Malassis, 1861.
Albert-Clement, E. La vraie figure de Charlotte Corday. P., Emile-Paul freres, 1935.
Almeras, Henri d\ Charlotte Corday, d'apres les documents contempo-rains. P., Librairie des Annales,1910.
Arasse D. La guillotine et l'imaginaire de la Terreur. P., Flammarion,1987.
Belzunce Chatry-de-Lafosse. Extrait du proces-verbal du comite general et national de la ville de Caen, relative a la mort de M. de Belzunce. Caen, Le Roy, 1789.
Bertaud, J.-P. La vie quotidienne en France au temps de la Revolution (1789-1795). P., Hachette, 1983.
Bonnevilles F. Portraits des personnages celebres de la revolution. Avec Tableau historique et Notices de P.Quenard. 3 vol. Paris, chez I'Auteur, 1796-1797.
Bouineau J. Les toges du pouvoir (1789—1799), ou La revolution de droit antique. Toulouse, 1986.
Bredin, J.-D. On ne meurt qu'une fois: Charlotte Corday. P., Fayard, 2006.
Buzot. Memoires sur la revolution franchise. Paris, Pichon et Didier,1828.
B… Ch. de. Les regicides. P., 1865.
Charlotte Corday, ou La Judith moderne: tragedie en trois actes et en vers. A Caen, De rimprimerie des nouveautes, 1797.
Charlotte Corday: tragedie en trois actes et en vers. France, s.n., 1795.
Chaussinand-Nogaret G. Madame Roland. Une femme en Revolution. P., Seuil, 1985.
Combats des femmes: 1789—1799. P., Editions Autrement, 2003.
Corday, Charlotte. Le vol de la guillotine, ou La jeune fille et l'integrisme. P., Quai Voltaire, 1989.
Corday, M. Charlotte Corday. P., Flammarion, 1929.
Dauxois, J. Charlotte Corday. P., Albin Michel, 1988.
Defrance E. Charlotte Corday et la mort de Marat. P., Mercure de France, 1909.
Dictionnaire critique de la Republique. P., Flammarion, 2002.
Cabanes A. (Dr.) Marat Inconnu. P., Albin Michel, 1911.
Drieu La Rochelle, P. Charlotte Corday, piece en trois actes. P., Gallimard, 1944.
Du Bois L. Charlotte de Corday: essai historique, offrant enfin des details authentiques sur la personne et l'attentat de cette heroine. P., Librairie Historique de la Revolution, 1838.
Dumanoir M., Clairville, M. Charlotte Corday, drame en trois actes, mele de chant, P., 1847.
Duval G. Souvenirs de la Terreur. 4 v. P., Werdet, 1841—42.
Encyclopedic de la Franc-ma^onnerie. P., Librairie generate franchise, 2000.
Epois, J. L'affaire Corday-Marat, prelude a la Terreur. lis Sables-d'Olonne, Le Cercle d'or, 1980.
Esquiros A. Charlotte Corday. T. 1—2, Bruxelles, Meline, Cans et com-pagnie,1840
L'Etat de la France pendant la Revolution 1789—1799. P., Editions de la decouverte,1988.
Fayard, J.-F. La justice revolutionnaire. (Chronique de la Terreur). P., Robert Laffont, 1987.
Fleischmann, H. Anecdotes secretes de la Terreur. P., 1908.
Furet F., Ozouf M. Dictionnaire critique de la Revolution Francaise. P., Flammarion, 1988.
Furet, F. Penser la Revolution Franchise. P., Gallimard, 1978.
Goncourt E.et J. de. Histoire de la societe francaise pendant la Revolution P., Dentu, 1854.
Guilhaumou J. La mort de Marat, 1793. Bruxelles, Editions Complexe,1989.
Hazard P. La pensee europeenne au XVIII siecle. P., Fayard, 1963.
Histoire de la France urbaine. T. 3. P., Seuil, 1981.
Histoire des femmes en Occident. T. 3: XVI—XVIII siecles. P., Plon, 1991.
Histoire et dictionnaire de la Revolution Francaise. 1789—1799. P.: Robert Laffont, 1987.
Histoire culturelle de la France. T. 3. Lumieres et libertes. Les XVIIIe et XIXe siecles. Paris, Seuil, 1998.
Histoire de la vie privee. T. 4: De la Revolution a la Grande Guerre. P., Seuil, 1987.
Huard A. Memoires sur Charlotte Corday, P., L. Roudiez, 1866.
Huser F. Charlotte Corday ou l'Ange de la colere. P. Robert Laffont, 1993.
Isabelle de Charriere. Une aristocrate revolutionnaire. Ecrits 1788—1794. Reunis, presentes et commentes par Isabelle Vissiere. P., Des femmes, 1988.
La Harpe, J.F. Du fanatisme dans la langue revolutionnaire. P., Chez les marchands des nouveautes, 1797.
La Varende J. de. Mademoiselle de Corday. Rouen, Editions Henri Defontaine, 1939.
Lenormand P. J. R. Precis exacte des motifs qui ont determine l'insurrection du department du Calvados, et des faits qui l'ont accompagnee. [S.l.s.n.], 1793.
Louvet J.-B. un des Rapresentant proscrit en 1793. Quelques notices pour I'histoire, et le recit de mes perils depuis 31 mai 1793. A Paris, Г an HI de la Republique.
Massin J. Marat. P, Le club français du livre, 1970.
Melchior-Bonnet B. Charlotte Corday. P., Perrin, 1972.
Memoires inedits de Petion et Memoires de Buzot et de Barbaroux, introduction par С A. Dauban. P., Henri Plon, 1866.
Michelet J. Histoire de la Revolution Franchise. P., Robert Laffont, 1979.
Nodier Ch. Portraits de la Revolution et de Г Empire. T. 1—2. P., Tallandier, 1988.
Pages F. Histoire secrete de la Revolution Francaise. T. 1. A Paris, chez H.J.Jansen, an V (1797).
Ponsard F. Charlotte Corday; tragedie en cinq actes en vers, P., Calmann Levy, 1886.
Raynal abbe. Histoire philiosophique et politique des etablissements et du commerce des Europeens dans les deux Indes. P., PUF, 1951.
Recueil d'anecdotes biographiques, historiques et politiques sur les personages les plus remarquables et les evenements les plus frappant de la revolution franchise. P., de l'imprimerie de J.B. de Sault,1798.
Regnier-Destourbet, H.F. Charlotte Corday, drame en cinq actes et en prose. P., Dumont, 1831.
Retif de la Bretonne. Les nuits de Paris, ou Le spectateur nocturne. P., Fayard, 1960.
Roland (Mme). Memoires. P., Le Mercure de France, 1986.
Rude G. La foule dans la Revolution Franchise. Trad, par A. Jordan. P., Francois Maspero, 1982.
Shearing, J. Charlotte Corday, Jean-Paul Marat, Jean-Adam Lux. Trois disciples de Jean-Jacques Rousseau. Trad, de I'anglais par le commandant A. Sallin. P., Payot, 1938.
Sole J. La revolution en question. Paris, Seuii, 1988.
Trintzius R. Charlotte Corday, 1768—1793.P., Hachette,1941.
Бадентэр Э., Бадентэр Р. Кондорсе. М.: Ладомир, 2001.
Блан Л. История Французской революции 1789 года. Т. 9. СПб.: Типография А. С. Суворина, 1908.
Брока, виконт де. Французская революция в показаниях современников и мемуаров. СПб., 1892.
Волошин М. Стихотворения. Статьи. Воспоминания современников. М.: Правда, 1991.
Кабанес О., Насс Л. Революционный невроз. СПб.: Изд-во Д. Ф. Коморского, 1906.
Карлейль Т. Французская революция. М.: Мысль, 1991.
Корнель Я. Театр. Т. 1—2. М.: Искусство, 1984.
Ламартин А. История жирондистов. В 4 т. СПб.: Типография и литография В. А. Тиханова, 1902.
Левандовский А. П. Сердце моего Марата. М.: Политиздат, 1975.
Левандовский А. П. Кавалер Сен-Жюст. М.: Политиздат, 1983.
Левандовский А. П. Робеспьер. М.: Молодая гвардия, 1965.
Ленотр Ж. Повседневная жизнь Парижа во времена Великой революции. М.: Молодая гвардия, 2006.
Манфред А. 3. Марат. М.: Молодая гвардия, 1962.
Манфред А. 3. Великая французская революция. М.: Наука, 1983.
Марат Ж. П. Памфлеты. М.: Соцэкгиз, 1937.
Марат Ж. П. Избранные произведения. В 3 т. М.: Наука, 1956.
Матьез А. Французская революция. Т. II. Жиронда и Гора. М.: Московский рабочий, 1929.
Мирович Н. Очерки из истории Великой французской революции. Шарлотта Корде. М.: Тов-во И. Д. Сытина, 1906.
Мишле Ж. Кордельеры и Дантон. Пг.: Всемирная литература, 1920.
Переписка Робеспьера. М., 1925.
Песни Первой Французской революции. М.; Л.: Academia, 1934.
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Т. 1—2. М.: Наука, 1994.
Робеспьер М. Избранные произведения. В 3 т. М.: Наука, 1965.
Ролан М. Личные мемуары госпожи Ролан / Пер. с фр. Н. Г. Вернадской. СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1893.
Сансон А. Записки палача, или Политические и исторические тайны Франции. Кн. 2. Т. 4—6. М.: Терра, 1996.
Сен-Жюст Л. А. Речи. Трактаты. СПб.: Наука, 1995.
Серебрякова Г. Женщины эпохи Французской революции. М.: Советский писатель, 1964.
Французская буржуазная революция. 1789—1794. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1941.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Дом семьи Корде в Ронсере, где родилась Шарлотта
Монастырь Святой Троицы в Кане
Шарлотта Корде
Мадам де Понтекулан, настоятельница монастыря Святой Троицы
Визитная карточка гостиницы «Провиданс» с подписью Шарлотты
Гостиница «Провиданс»
Марат на трибуне
Триумф Марата
Убийство Марата настолько потрясло французскую общественность, что многие художники запечатлели эту трагедию на своих полотнах
Дом на улице Кордельеров, где жил Марат
Жан Шарль Мари Барбару
А. Шеффер. Арест Шарлотты Корде
Клод Фоше, конституционный епископ Кальвадоса
Шарлотта Корде в тюрьме
Луи Постав Дульсе де Понтекулан
Письмо отцу, написанное Шарлоттой в тюрьме
Клод Франсуа Шово-Лагард, защитник на процессе Шарлотты Корде
Антуан Кантен Фукье-Тенвиль, общественный обвинитель Революционного трибунала
Адам Люкс
Шарлотта Корде
П. Деларош. Жирондисты перед казнью
Ж. М. Наттье. Юдифь с головой Олоферна
Шарлотту Корде везут на эшафот
Казнь Шарлотты Корде
Ф. Бонвиль. Шарлотта Корде и Жан Поль Марат
1
Пер. Н. Рыковой.
(обратно)2
Пер. М. Лозинского.
(обратно)3
Ronce (фр.) — колючий кустарник.
(обратно)4
Впоследствии Корде д'Армон выступит с осуждением закона против роскоши, который, по его мнению, наносил ущерб беднякам и развращал нравы, «ибо молодые девицы, создающие роскошные платья и ткани, лишившись работы, вынуждены будут зарабатывать средства к существованию менее честным путем».
(обратно)5
Корнель. Цинна / Пер. Вс. Рождественского.
(обратно)6
Корнель. Цинна / Пер. Вс. Рождественского.
(обратно)7
Олимпия де Гуж (1748—1793) — автор «Декларации прав женщины и гражданки» (1791), созданной по образцу «Декларации прав человека и гражданина» 1789 года.
(обратно)8
Корнель. Сид / Пер. М. Лозинского.
(обратно)9
Корнель. Цинна / Пер. Вс. Рождественского.
(обратно)10
Корнель. Гораций / Пер. Н. Рыковой.
(обратно)11
Корнель. Сид / Пер. М. Лозинского.
(обратно)12
Мари Жанна Ролан (1754—1793) — одна из образованнейших женщин своего времени. В своем парижском доме устроила политический салон, где собирались жирондисты, чьим духовным лидером она по праву могла считаться. В тюрьме написала «Мемуары».
(обратно)13
После 10 августа 1792 года стало активно употребляться обращение «гражданин» и «гражданка»; обращение «ты» вместо «вы» декретом Конвента было закреплено 8 ноября 1793 года.
(обратно)14
Героини трагедий Корнеля «Цинна» и «Полиевкт».
(обратно)15
Пер. Н. Рыковой.
(обратно)16
Пер. А. Полякова.
(обратно)17
Точка в этой бесконечной тяжбе была поставлена в 1810 году, уже после смерти господина де Корде д'Армона.
(обратно)18
В романе «Монахиня» (1760) Дидро с потрясающей выразительностью показал, на какие жестокие ухищрения шли родственники, чтобы удержать в монастыре девушек, не обладавших призванием к монастырской жизни.
(обратно)19
Оригинал письма не сохранился, поэтому многие считают его подделкой. Настоящий текст воспроизводится по книге Э. Дефранса (см. Библиографию).
(обратно)20
День святой Аглаи приходится на 14 мая.
(обратно)21
Книга Иудифи. 10, 9.
(обратно)22
Корнель. Полиевкт / Пер. Т. Гнедич.
(обратно)23
Пер. А. Полякова.
(обратно)24
Ипполит Бугон-Лонгрэ в 1793 году вступил в отряд федералистов, был взят в плен войсками Конвента и 5 января 1794 года расстрелян в Ренне.
(обратно)25
14 июля 1789 года.
(обратно)26
Корнель. Цинна / Пер. Вс. Рождественского.
(обратно)27
Тиль Уленшпигель, герой романа «Легенда об Уленшпигеле» бельгийского писателя Шарля де Костера (1827—1879), носил на груди мешочек с пеплом своего отца, угольщика Клааса, сожженного испанскими захватчиками.
(обратно)28
Пер. М. Зенкевича.
(обратно)29
Немецкий драматург Петер Вайс (1916—1982) соединил имена обоих «божественных безумцев» в пьесе «Марат-Сад» (1964).
(обратно)30
Жирондисты — члены партии, получившей свое название от департамента Жиронда со столицей Бордо, откуда в 1791 году в Законодательное собрание были избраны депутаты Дюко, Жансонне, Гранжнев, Гаде и Верньо, основавшие в Бордо Якобинский клуб. Впоследствии к ним примкнули Бриссо со своими сторонниками, Ролан, Петион и многие другие.
(обратно)31
Активный участник Французской революции. Под влиянием всеобщего увлечения героями древности взял имя Анахарсис. Настоящее имя Жан Батист.
(обратно)32
Знаменитый разбойник, казненный в 1721 году на Гревской площади в Париже.
(обратно)33
Персонаж фарса середины XV века.
(обратно)34
Папаша Дюшен — персонаж французского фольклора, неунывающий балагур с трубкой во рту, любитель крепкого словца. Осенью 1793 года тираж газеты Эбера «Папаша Дюшен» составлял 12 тысяч экземпляров.
(обратно)35
Фельяны — приверженцы конституционной монархии и противники радикальных мер.
(обратно)36
Пер. М. Лозинского.
(обратно)37
Корнель. Родогуна / Пер. Э. Линецкой.
(обратно)38
Из трех своих имен мадемуазель Корде предпочитала имя Мари; подписывалась она обычно Мари де Корде, Корде или Корде д'Армон. Но другие называли ее Шарлоттой. Под этим именем мадемуазель де Корде вошла в историю.
(обратно)39
Младший брат Шарлотты эмигрировал в феврале 1792 года.
(обратно)40
Корнель. Ираклий / Пер. Ю. Корнеева.
(обратно)41
Роялист маркиз Фодоа и его дочь были казнены в июле 1794 года.
(обратно)42
Противники Марата и якобинцев, каработы присоединились к жирондистам, вошли в состав армии генерала Вимпфена и были разбиты при Верноне. В августе 1793 года якобинцы законодательным путем распустили отряды каработов.
(обратно)43
Корнель. Цинна / Пер. Вс. Рождественского.
(обратно)44
Потомки Гильотена сменили фамилию.
(обратно)45
Основатель «Газет де Пари» (Gazette de Paris), подвергавшейся яростным нападкам Марата.
(обратно)46
Корнель. Цинна / Пер. Вс. Рождественского.
(обратно)47
Пер. А. Полякова.
(обратно)48
Капитан Рибуле, будущий супруг Розы.
(обратно)49
Генерал.
(обратно)50
Корнель. Родогуна / Пер. Э. Линецкой.
(обратно)51
Пер. М. Казмичева. 94
(обратно)52
Гора, или монтаньяры — партия, получившая название от французского слова montagne («гора»), так как депутаты ее, члены Якобинского клуба и разделявшие их взгляды, занимали в Конвенте места на верхних скамьях под самым потолком.
(обратно)53
Издавался частями, с 1787 по 1790 год.
(обратно)54
Так звали героиню романа «Фоблаз».
(обратно)55
Фамилия, присвоенная Людовику XVI и его семье после падения монархии.
(обратно)56
«Бешеные» — группа радикально настроенных якобинцев. Они требовали навести порядок в хлебной торговле и установить смертную казнь за спекуляцию.
(обратно)57
Библейский персонаж, донесший царю о заговоре Амана, Амана повесили, а Мардохей занял его место при дворе.
(обратно)58
Возможно, Journal du soir, издававшийся Этьеном Фейаном.
(обратно)59
Пер. Вс. Рождественского.
(обратно)60
Конвент ознаменовал новую эпоху в истории Франции созданием нового календаря. Отсчет времени начинался с 22 сентября 1792 года — дня провозглашения Республики.
(обратно)61
Корнель. Полиевкт / Пер. Т. Гнедич.
(обратно)62
Шуаны (фр. chouans, от chat-huant — «сова», крику которой подражали шуаны, подавая условный сигнал своим) — мятежные крестьяне, в 1792 году направившие оружие против Республики. Верхушка шуанов была связана с роялистской эмиграцией в Англии.
(обратно)63
Корнель. Полиевкт / Пер. Т. Гнедич.
(обратно)64
Корнель. Цинна / Пер. Вс. Рождественского.
(обратно)65
Корде Дармон.
(обратно)66
Корнель. Цинна / Пер. Вс. Рождественского. 128
(обратно)67
Иудифь. 10, 7.
(обратно)68
На визитной карточке гостиницы было написано: «Мадам Гролье содержит гостиницу "Провиданс", улица Вьез-Огюстен, 19, возле площади Виктуар Насьональ. Меблированные номера на любой вкус. Париж».
(обратно)69
Убийца Лепелетье де Сен-Фаржо; при аресте застрелился.
(обратно)70
Вольтер. Смерть Цезаря. Акт III, сцена 2 / Пер. А. Полякова.
(обратно)71
Корнель. Цинна / Пер. Вс. Рождественского.
(обратно)72
На обороте стоит адрес Марата, а внизу рукой секретаря суда приписано: «Настоящая записка адресату вручена не была, ибо, когда примерно в шесть часов тридцать минут просительница пришла во второй раз, ее пропустили и она смогла совершить задуманное ею преступление».
(обратно)73
Пер. Вс. Рождественского.
(обратно)74
Пер. Н. Рыковой.
(обратно)75
После убийства Марата секцию по просьбе санкюлотов переименовали в секцию Марата.
(обратно)76
Строка из пьесы «Граф Эссекс» Тома Корнеля, брата великого Корнеля.
(обратно)77
В Тюильри, где после свержения монархии заседал Национальный конвент, процветала мелочная торговля, в том числе вином и прохладительными напитками.
(обратно)78
«Бюллетень Революционного трибунала» отмечает, что «здесь Корде проявила изрядное волнение».
(обратно)79
Рассказ Шарлотты Корде о поездке из Кана в Париж и строки, относящиеся к Деперре, см. выше.
(обратно)80
Дюлор приводит текст записки, якобы написанной Маратом в ванне после смертельного удара кинжалом авантюристу Гузману. Но, скорее всего, записка составлена дня за два-три до гибели Марата, свидетельствуя о том, что Друг народа предчувствовал свою скорую смерть: «Друг мой, эти негодяи не захотели, чтобы я упокоился у Вас на руках; я ухожу, утешаясь тем, что память обо мне навсегда останется в Вашем сердце. Пусть этот маленький, хотя и скорбный, подарок будет напоминать Вам об одном из ваших лучших друзей; примите его на память обо мне; Ваш до последнего вздоха. Марат».
(обратно)81
«Бюллетень» отмечает, что в этом месте обвиняемая не смогла сдержать смех.
(обратно)82
Долг Шарлотты Корде составил 36 ливров, большая часть из которых ушла на оплату материи для чепчика.
(обратно)83
Пер. А. Полякова.
(обратно)84
Жан Жак Гойер (Hauer) (1761—1829) — немец по происхождению, офицер национальной гвардии секции Французского театра, живописец.
(обратно)85
Молодой человек, казненный в 1766 году по обвинению в богохульстве.
(обратно)86
«Я умираю за свободу, и когда свобода восторжествует, французская нация не забудет жену и детей Адама Люкса. Утешься, дорогая: разве можно противиться судьбе? Я мог бы погибнуть совершенно случайно, и тогда моя смерть не послужила бы делу свободы; а сейчас я умираю с честью, и мысль эта, несомненно, должна служить тебе утешением. Оплакивая мою смерть, ты почувствуешь, что она делает тебе честь. Я не могу помочь тебе воспитывать наших дочерей. Я завещаю им свои чувства, свою жизнь и свою смерть. Когда-нибудь ты объяснишь им ценность сего дара. Да пребудет с ними мое отеческое благословение, оно им поможет. Дорогая Сабина, через несколько дней я буду рядом с тобой, так близко, как не был последние полгода, ибо дух мой, лишенный своей земной оболочки, примчится к вам, к тебе и к нашим дорогим детям, и я увижу вас, хотя вы своим земным взором меня не увидите. Из обители бессмертных богов я буду часто спускаться к вам и радоваться, видя, как подрастают наши дочери, пока, наконец, мы все не соединимся вновь».
(обратно)87
Внук Люсьена Бонапарта, брата Наполеона.
(обратно)88
Во время Второй мировой войны Кан сильно пострадал от бомбардировок. Сегодня в доме, построенном на месте, где прежде стоял дом мадам де Бретвиль, находится шоколадный магазин под названием «Шарлотта Корде». Теперь портрет Шарлотты можно увидеть на обертках шоколада и коробочках с конфетами.
(обратно)89
Так — за цвет мундира — называли солдат республиканской армии.
(обратно)90
Один из респондентов, подумав, ответил: «Шарлотта Корде… Та самая, которая убила Марата… Там еще была какая-то любовная история…»
(обратно)91
Отрадно умереть за отчизну (лат.).
(обратно)92
Жена комиссара Конвента, обладавшая «неизъяснимой смелостью оставаться аристократкой и гордиться этим».
(обратно)93
Комиссар Конвента, присланный в Безансон, «бывший версальский кюре с утонченными чертами лица и даже элегантный».
(обратно)94
Полковник, «просвещенный и искренний патриот, чья утонченная душа и рыцарские нравы не могли примириться с исступлением эпохи».
(обратно)95
Вот какой текст воспроизвел Давид на этом листке: «13 июля 1793, Мари Анна Шарлотта Корде — гражданину Марату. Я несчастна, а потому имею право на вашу защиту».
(обратно)96
Reunion (фр.) — объединение.
(обратно)97
Из речи гражданина Шарлеманя-сына из секции Брута, произнесенной 15 сентября 1793, Второго года Республики единой и неделимой.
(обратно)98
Пер. Вс. Рождественского.
(обратно)99
Эротический роман (1741), авторство которого приписывают Жервезу де Латушу.
(обратно)100
Септембризерами жирондисты называли устроителей и исполнителей сентябрьской резни 1792 года.
(обратно)101
Оба — роялисты.
(обратно)102
Гимн в честь Марата, Друга народа, мученика свободы. Сочинение Т. Руссо / Пер. А. Кочеткова.
(обратно)103
Куплеты о депутатах-заговорщиках / Пер. М. Травчетова.
(обратно)104
Королевское знамя Бурбонов было белого цвета с золотыми лилиями.
(обратно)105
После гибели жены Ролан захотел сдаться властям, но друзья напомнили ему, что в таком случае его имущество отойдет государству и их малолетняя дочь Эдора останется без средств к существованию; тогда Ролан заколол себя шпагой.
(обратно)106
Слова из речи, начатой Сен-Жюстом на заседании Конвента 9 термидора. Выступление Сен-Жюста было прервано.
(обратно)107
Пер. М. Зенкевича.
(обратно)



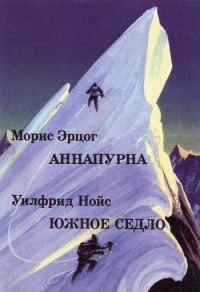

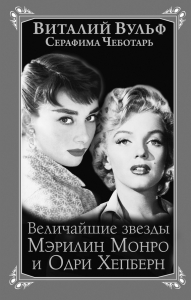


Комментарии к книге «Шарлотта Корде», Елена Вячеславовна Морозова
Всего 0 комментариев