I. ПАМЯТНИК БОЛЬШЕВИКУ
На одной из площадей великой Москвы возвышается гранитный памятник. В стремительном движении вперед, как бы торопясь на рабочее подпольное собранье, застыл на высоком постаменте стройный, с открытым русским лицом и небольшой бородкой, скромно одетый человек… Пачка номеров нелегальной большевистской «Искры» прижата правой рукой к груди. Смело и проникновенно устремлены вперед глаза. С чуть заметной улыбкой, озарившей спокойное, мужественное лицо, всматривается он вдаль.
Скульптору удалось запечатлеть главнейшие черты характера этого человека: убежденность в правоте своего дела, мужество, приветливость, простоту… Кажется, что вот сейчас, через минуту, раздастся звучный, громкий голос любимого московскими рабочими большевика-агитатора, сверкнет веселая шутка, меткое ироническое сравнение.
Четко, глубоко высечены в граните постамента буквы: Николай Эрнестович Бауман. 1873–1905.
И под этой датой увековечены слова Владимира Ильича Ленина из некролога, написанного великим вождем российского пролетариата в тот же день, как телеграф принес тяжелую весть о гибели Баумана:
«Пусть послужат почести, оказанные восставшим народом его праху, залогом полной победы восстания и полного уничтожения проклятого царизма!»
В постамент памятника вмонтированы три бронзовых барельефа. На них запечатлены яркие, незабываемые страницы жизни славного ленинца. Вот одиночка-камера Петропавловской крепости. В глубокой задумчивости стоит заключенный у маленького и узенького, забранного решеткой окна. Двадцать два месяца провел Бауман в сырых и холодных крепостных казематах, но вышел оттуда таким же твердым, убежденным революционером, с несгибаемой волей и уверенностью в победе пролетариата, каким он был в рядах борцов «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».
На втором барельефе запечатлен побег десяти заключенных-искровцев из киевской Лукьяновской тюрьмы. Быстро и ловко поднимаются узники по веревке на высокую тюремную стену. Среди них вдохновитель и организатор этого смелого побега — Николай Бауман.
И на последнем барельефе изображен заключительный, трагический эпизод славной жизни непоколебимого большевика — убийство Баумана 18 (31) октября{Даты в скобках — до новому стилю.} 1905 года на Немецкой улице. Пламенный большевик склонился на руки товарищей, шедших вместе с ним на освобождение из Таганской тюрьмы политических заключенных. Склонилось и красное знамя, которое он гордо и победоносно нес всю свою яркую, целеустремленную жизнь…
Внизу барельефа — гневные, разоблачающие царизм строки из некролога Ленина на смерть Баумана:
«Убийство Н. Э. Баумана показывает ясно, что царский манифест 17 октября был ловушкой… Чего стоят все эти обещанные свободы, пока власть и вооруженная сила остается в руках правительства?»
Вокруг памятника заботливо и любовно работают десятки молодых, проворных и крепких рук. Весной и летом пионерские алые галстуки соперничают с нежными розовыми красками тюльпанов, маков.
У самых барельефов на фоне черного гранита, как капли крови, пламенеют алые гвоздики.
Пионеры детского Дома культуры Бауманского района украшают подножие памятника цветами, заботливо выращенными юными натуралистами.
В особенности оживленно и радостно бывает на площади имени Баумана в дни великих праздников советского народа — 1 мая и 7 ноября. Под громкие звуки оркестров, под победный шелест тысяч алых полотнищ нескончаемым потоком движутся колонны демонстрантов Бауманского района мимо памятника большевику, отдавшему свою жизнь в борьбе за победу трудящихся. И когда у памятника «дяде Коле», как любовно и ласково звали Николая Эрнестовича рабочие Сокольников. Пресни, Замоскворечья, Лефортова, появляются новые и новые ряды победившего рабочего класса, — кажется, что в ответ на аккорды духовых оркестров, в ответ на радостные песни и возгласы советских людей раздается громкое приветствие непоколебимого большевика-ленинца, его любимое изречение:
— Делать — значит сделать!..
II. НА ПРОСТОРАХ ЗАВОЛЖЬЯ
В одном из больших поволжских городов — в Казани — с конца шестидесятых годов жила семья ремесленника Эрнеста (Евграфа) Андреевича Баумана. Он переселился в Казань из Прибалтики, из Митавской губернии, и открыл здесь небольшую столярную мастерскую. Хорошо владея столярным ремеслом, Эрнест Андреевич стал впоследствии искусным мастером: он принимал и с завидной тщательностью и аккуратностью выполнял всевозможные заказы, вплоть до обточки бильярдных шаров, различных украшений из кости и т. п. Большая добросовестность, любовь к делу всегда отличали его работу, и в первый период жизни семьи Бауманов в городе владелец столярной мастерской не жаловался на отсутствие или недостаток заказов. На первых порах, пока семья была еще малочисленной, заработки обеспечивали безбедное существование трудолюбивого ремесленника. Его жена Мина Карловна вела домашнее хозяйство. Она следила за чистотой в небольшой, но уютной квартире семьи Бауманов на Петропавловской улице, хлопотала о зимних запасах, заготовках впрок овощей и моченых яблок, которые особенно любили дети.
У Эрнеста Андреевича и Мины Карловны было четыре сына (Александр, Николай, Эрнест, Петр) и дочь Эльза. Николай Эрнестович Бауман родился 17 (29) мая 1873 года в Казани в доме № 13/14 на углу Петропавловской и Малой Проломной улиц (после Октябрьской революции переименованы в Банковскую и Профсоюзную улицы).
Семья Бауманов была работящей, дружной: каждый стремился, по мере возможности, помочь другому. Родители старались во что бы то ни стало дать своим детям образование. Но в дальнейшем, когда работы в мастерской отца стало меньше и заказы на изготовление или ремонт мебели сильно сократились, один из братьев, Александр, перестал учиться и стал работать вместе с отцом за верстаком, так как отцу пришлось отказаться от помощи подмастерьев.
Молодой Бауман подрастал в окружении ремесленной, трудовой жизни. Напротив дома, где он родился, возвышался старинный Петропавловский собор, а вокруг ютились многочисленные полукустарные мастерские, лавчонки. Неподалеку находился и «толчок» — огромный рынок, на котором торговали ремесленники, кустари, приезжие крестьяне. Здесь всегда можно было встретить представителей самых разнообразных профессий, национальностей, сословий. Рыбаки с «низовья» — из Астрахани, Царицына; калмыки закаспийских степей; бурлаки из Мордовии и Чувашии; бойкие кустари — ярославцы и владимирцы, — все они с раннего утра торговали, спорили, рассказывали в маленьких трактирах и харчевнях о житье-бытье в своих далеких кочевьях, деревнях и посадах.
С ранних лет Коля Бауман жил не замкнуто, не в четырех стенах родительского дома, а в общении с разносторонним и разнохарактерным рабочим людом. Широкая, шумная, живая жизнь, волной проходившая здесь же, рядом с домом Бауманов, повлияла и на развитие любознательности, интереса ко всему окружающему в характере ребенка.
С самого раннего детства в Коле заметны были исключительная резвость, сообразительность и любознательность.
Еще будучи совсем ребенком, лет четырех-пяти, он часами не отходил от токарного станка, на котором старый мастер — резчик по дереву и по кости — точил такие занимательные, бегающие по зеленому бильярдному сукну блестящие белые шары. Мальчик нередко просил старого мастера Нефедыча (Крылова, работавшего в мастерской Эрнеста Андреевича) «покатать колесо» и с наслаждением, с звонким детским смехом бежал за проворным, казавшимся совсем живым, юрким бильярдным шаром. С неослабным интересом следил мальчик и за чудесным превращением мертвого, бездушного куска блестящей кости в изящные резные вещицы-украшения: в маленьких слонов, замысловатые цветы и брошки. И до самозабвения Коля увлекался одной из любимейших забав каждого мальчика, дающей так много воображения и фантазии, — сооружением и запуском высоко-высоко в синеющее волжское небо огромных бумажных змеев. Они поистине напоминали целое сооружение. В столярной мастерской было вдоволь и всякого рода клея, и дранок, и плотной обойной бумаги. Поэтому змей не просто клеили, а прямо-таки строили со всевозможными украшениями в виде особой рамы для использования силы боковых воздушных течений, замысловатых трещоток, разноцветных, с бахромой хвостов. Даже взрослые невольно останавливались и долго следили глазами за огромным, чуть ли не в сажень величиной, воздушным кораблем, со сдержанным гуденьем уплывавшим на тонкой, но прочной бечеве в бездонную синь поволжского осеннего неба, — ведь осенью над широкими просторами Волги целым «неделями дует ровный сильный ветер.
Мастерская отца находилась во дворе, и Коля с утра пропадал там к искреннему огорчению Мяны Карловны, безуспешно звавшей его к завтраку или обеду. В мастерской работало несколько столяров, ручников, лакировщиков — хороших мастеров своего дела. Они полюбили маленького, крайне живого и любопытного мальчика, упрашивавшего и старого Нефедыча и более молодых подмастерьев оклеить «змея-горыныча» покрасивее. Обойный мастер невольно поддавался ласковой просьбе ребенка, и очередной змей действительно принимал фантастические размеры и окраску. Самым счастливым во всех этих хлопотах был, конечно, Коля, нередко придумывавший какую-нибудь оригинальную, новую деталь конструкции «змея-горыныча»: маленький фонарик на конце огромного разноцветного хвоста или замысловатое приспособление к барабанчику неистово стрекотавшей трещотки…
Коля стремился на широкие волжские просторы, где так дивно вгет над неоглядными лугами ласковый, теплый ветер… Он быстро научился хорошо плавать и нырять. Вокруг, куда ни глянь, сверкали и манили к себе чистые, как хрусталь, озера и реки, словно осколки громадного зеркала — Волги. Мальчик навек запомнил просторы родной реки, красоту зеленеющих волжских берегов за Услоном — любимым местом купанья его сверстников — веселых, смышленых и нередко озорных мальчишек-соседей, детей ремесленников, мелких чиновников, мещан.
Впоследствии, в сырых и мрачных камерах и коридорах Петропавловской крепости, в глуши ссылки в вятских лесах, не раз оживали перед взором узника и золотые, залитые полуденным солнцем пески Волги и прохладные, ласковые струи воды в волжских плесах где-нибудь за Услоном…
Рыбаки стали друзьями мальчика в самые первые годы его детства. Коля тайком удирал из дому, несмотря на все уговоры и опасения Мины Карловны, боявшейся пускать сына на обрывистые берега Волги, и мчался к тоням, где рыбаки под вечер выбирали сети и делили улов. Несколько раз Коля оставался в рыбацкой ватаге до рассвета, когда рыбаки на больших лодках объезжают и осматривают поставленные на ночь переметы и сети. Горящий далеко за полночь костер, отблески звезд на золотистой, словно шелковой, волжской дали, алые лучи раннего солнца с неудержимой силой манили мальчика.
Коля подрастал крепким, физически развитым и закаленным мальчиком. К осени он так загорал и «выветривался» на неоглядных речных просторах, что сверстники с полным основанием называли его «белобрысым индейцем»: лишь белокурые волосы Коли не поддавались жгучим лучам не знающего пощады в знойное лето волжского солнца. А какое незабываемое впечатление оставляла своеобразная охота на хищных щук и ленивых, полусонных сазанов поздней осенью, когда на реках и озерах появится молодой лед — еще xpупкий, но уже выдерживающий тяжесть рыболова! Вооруженные короткими тяжелыми палками — «колдобами», осторожно идут по тонкому потрескивающему льду зоркие рыбаки. Они пристально всматриваются в зеркальное подводное царство: сквозь молодой, тонкий лед как на ладони видны и рачьи норы, и подводные коряги, под которыми словно заснули толстые, жирные сазаны, и ярко-зеленая поросль прибрежной осоки. Вдруг рыбак останавливается как вкопанный: прямо под ним, в полуметре от поверхности, замерла, еще шевеля плавниками, огромная щука… Миг — и «колдоба» с силой ударяет по льду как раз над притаившейся хищницей; оглушенная рыба беспомощно всплывает к самому льду. Несколько стремительных, но точных ударов топором, — и торжествующий рыбак вытаскивает на лед из наскоро пробитой проруби богатою добычу. Больше всего, конечно, хлопотал и суетился сопровождавший рыбаков Коля… В такие вечера незабываемо хороши мягкие очертания синеющего за Волгой взгорья, охваченные осенним пламенем краснеющие кусты рябины, над которыми с веселыми, хлопотливыми криками вьются целые стаи суетливых дроздов-рябинников. Мальчик радостно вскрикивал, оглядывался вокруг, мешал рыбакам и с торжеством нес большое ведро, в котором плескалась очнувшаяся после оглушения рыба.
Постепенно в играх со сверстниками, в закаляющих организм дальних рыбалках формировался характер совсем еще юного Баумана Решительность, сметливость, стремительность — таковы главнейшие черты складывающегося характера мальчика. Коля был непрочь и пошалить и даже крепко подраться со своими юными сверстниками из-за пары бабок, очереди в лапту или в чижик. Вместе с тем заметна была и другая черта: безусловная храбрость, уменье преодолеть и побороть угрожающую опасность, какой бы серьезной она ни казалась.
Однажды дети играли на берегу озера в свою любимую игру — «татары и казаки». Восьмилетний Коля предводительствовал отрядом «казаков», скрывавшихся в густых прибрежных камышах от «татар». По условию игры, «казаки» могли маскироваться любыми способами, прячась от зорких глаз преследователей. Впопыхах, заботясь об укрытии своих товарищей, Коля оказался почти на чистом, лишенном кустарников берегу довольно глубокого озера. «Татары» оцепили озеро полукругом, вот-вот должны появиться со всех сторон… Коля принял смелое решение: он сломал прошлогодний камыш, полый внутри, и быстро погрузился на дно. Скорчившись, мальчик, как истый казак, выставил на поверхность воды конец стебля, с трудом дыша, но твердо решившись не подавать о себе знака, иначе ему грозил неминуемый плен.
«Татары» осмотрели озеро и хотели уже было двинуться дальше, к большому оврагу, где укрылись остатки «казаков». Но у одного из дозорных «татарского отряда» сломался лук. В поисках подходящего материала «татары» рассыпались по берегу озера. Между тем вода постепенно проникала в камышинку, и Коля чувствовал, что захлебывается… Из последних сил он все-таки попрежнему сидел, затаившись, в своем убежище. Поднявшиеся на поверхность озера пузыри привлекли к себе внимание «татар». Предводитель их сообразил, где скрывается «казак». Когда «татары» вплавь добрались до Коли и вытащили его на берег, мальчик совсем выбился из сил: еле живой, сидел он в кругу «татар». Но, отдышавшись, шопотом сказал:
— А все-таки… все-таки я не сдался!..
Незаметно шли годы детства.
Когда мальчик подрос, он увлекся верховой ездой. Лошадь отца вряд ли могла считаться резвой, Она добросовестно трусила в дрожках, возила Мину Карловну за провизией на базар, развозила отремонтированную мебель заказчикам. Но Коля, начитавшись Майн-Рида и Фенимора Купера, вообразил, что «всаднику без головы» необходимо носиться вихрем по волжским кручам на хорошем скакуне. Несколько поездок прошли благополучно, но затем последователь Майн-Рида пустил лошадь во весь опор, и она сбросила неопытного всадника. Коля сильно ушибся, но скрыл это от родителей. В другой раз катанье окончилось тем, что лошадь ударила мальчика в лицо. К счастью, удар был не слишком сильным, но все же рубец остался на лице Николая Эрнестовича на всю жизнь. Друзья его вспоминают, что этот знак детских проказ даже, пожалуй, шел к его энергичному, открытому лицу, почти всегда озаренному мягкой, слегка иронической улыбкой. Когда же наступала зима, Коля вновь оказывался на ближайшем к дому озере, но уже вооруженный парой самодельных деревянных коньков, искусно выточенных старым резчиком. Крепко сплетенные веревочки, продетые в отверстия «доморощенного ковра-самолета», прикрепляли коньки к валенкам, и Коля с увлечением описывал на гладком льду замысловатые восьмерки и двойные знаки вопроса.
Когда мать купила ему настоящие стальные коньки с круто загнутыми носками, восторгу юного любителя конькобежного спорта не было предела. Он долгими часами носился по блестящему ледяному полю и, не довольствуясь маленьким искусственным катком в черте города, убегал на приволжские озера и реку Казанку. Кроме катанья на коньках, зима приносила и другие удовольствия. Что может быть лучше стремительного спуска с горы на вертящейся ледянке! Любил Коля и лыжные прогулки, но в то время среди его сверстников-однолеток коньки явно преобладали над лыжным спортом. Лыжные вылазки были сравнительно редкими: раза два-три за всю зиму. Молодежь с большим удовольствием летала с гор на ледянках или взапуски носилась по озерам на коньках.
Незаметно наступило и время ученья. Отличавшийся большими способностями, Коля еще дома научился хорошо читать и писать. Без труда он поступил в первый класс второй Казанской гимназии.
Почти в каждом губернском городе того времени существовало такое различие: в первой гимназии учились «сливки общества», а во второй и третьей — сыновья тех, кто с большим трудом мог дать своим детям классическое, недешево стоящее воспитание. В Казани в то время было две гимназии. В первую, называвшуюся «императорской», принимали не всех, а с известным выбором: здесь обычно учились дети дворян, крупных землевладельцев, именитого купечества из числа признанных «отцов города» — фабрикантов, оптовых торговцев, судовладельцев и т. п. Остальные же слои населения — разночинцы, ремесленники, мелкие домовладельцы — предпочитали учить своих детей в более скромной второй гимназии, куда ученики приходили на занятия пешком или, в крайнем случае, в непогоду, приезжали на дешевом извозчике, а не подкатывали на тысячных рысаках с медвежьей полостью.
Эрнест Андреевич решил учить Колю именно в гимназии, так как хотел, чтобы хоть этот сын вышел «на широкую дорогу», — закончил гимназию и затем университет. Мина Карловна также всеми силами старалась «вывести в люди» своего непоседливого, любознательного Колю, хотя это и требовало весьма значительного напряжения всего бюджета семьи.
Эрнест Андреевич и Мина Карловна надеялись, что гимназия охладит увлечения их живого, нередко даже шаловливого Коли.
Однако жизнь показала иное: «Годы учебы проходили крайне бурно. В этом сказывались некоторые черты его характера. С самого раннего детства Николай Бауман проявлял самостоятельность, своенравие и большую сообразительность. Будучи по натуре резвым ребенком и не терпя над собой никакой опеки, он причинял немало беспокойств родителям. Николай слыл драчуном и шалуном, он являлся домой из гимназии даже с «фонарями»{Н. Гусев, Н. Э. Бауман. Сборник «Жизнь замечательных людей в Казани», вып. I. Казань, 1941, стр. 67–68.}.
Одноклассник Коли Владимир Сущинский в своих воспоминаниях о Николае Эрнестовиче приводит немало ярких, живых эпизодов школьной жизни. Вторая гимназия находилась сравнительно близко от улицы, где жили Бауманы, — на Булаке — канаве, соединяющей озеро Кабан с рекой Казанкой. Коля Бауман и Володя Сущинский ежедневно вместе уходили в гимназию и вместе возвращались домой. «Классическая» система воспитания сильно стесняла молодых, сильных подростков. Директор гимназии чех Имшеник изо всех сил старался внушить своим питомцам «любовь к церкви, царю и отечеству». Сущинский вспоминает, что гимназия «славилась дисциплиной и была «классической», можно сказать, до чрезвычайности: греческий язык и латынь мы изучали свирепо». Но в переменах и после занятий гимназисты, стараясь размяться после утомительной зубрежки греческих глаголов, устраивали «Седанскую битву». Еще живы были впечатления недавней войны Франции с Германией в 1870 году, и молодежь с увлечением «окружала Париж», делала внезапные храбрые вылазки и т. п. Симпатии всех были на стороне побежденных французов. Битвы нередко происходили весьма внушительные: «Николай Бауман был мальчик здоровый, плотный, хорошо сложенный и развитой. Дрался он искусно и с подъемом»{Сборник «Товарищ Бауман», изд. 2. М., 1930, стр. 24.}. Сущинского звали «Сущий», и Коля частенько кричал: «Сущий, выручай!..»
Однажды, спасаясь от атаки, «побежденные» вместе с «победителями» налетели впопыхах на классного наставника Осипа Осиповича и даже помяли его… За это, конечно, «были расставлены по углам класса, простояли час и были задержаны на час в гимназии после уроков (оставлены без обеда)»{Сборник «Товарищ Бауман», изд.?. М., 1930, стр. 21.}.
Второй и третий классы — годы увлечения Коли и Сущинского играми в войну, в розыски индейцев. Сверстники по гимназии вспоминают, что у Коли попеременно брали верх то «войны», то рыбалки, го верховая езда, то коньки. А в пятом-шестом классах у юного Баумана появилось новое увлечение, такое же сильное, как раньше каток и верховая езда, — танцы. Мать, по воспоминаниям брата Эрнеста Эрнестовича, не успевала чистить замшевые перчатки, — покупать лайковые у юного Баумана не было, конечно, средств. Коля танцовал с увлечением и, по отзывам его сверстников, обладал несомненным талантом и в искусстве стремительного вальса в три па и в огневой мазурке.
— Вот это — за вальс! Это — за падекатр! А эти три — за мазурку! — весело улыбаясь, говорил довольный гимназист, вернувшись от знакомых и с торжеством показывая братьям и сестрам призы за лучший танец: вырезанные из золотого и серебряного картона «медали», «ордена» и даже «звезды» самых оригинальных форм и размеров.
Усиленные занятия танцами еще более развили в мальчике ловкость, подвижность и стремительность. Однако «танцовальная горячка» (как впоследствии называл это время сам Николай Эрнестович, рассказывая о своем детстве товарищам по заключению в Лукьяновской тюрьме) продолжалась недолго: детство быстро, хотя и незаметно, переходило в раннюю юность. Коля начал увлекаться чтением. Любовь к книге, к протяжной русской песне, любовь к живому, безыскусственному рассказу переплелась в душе мальчика-подростка с тягой к волжской природе, летним закатам и свежим, росистым зорям. Учился же Коля посредственно: он ненавидел мертвящую зубрежку классической гимназии. Баумана привлекали естественные науки. Любознательный мальчик, так хорошо узнавший еще в раннем детстве поэзию природы, красоту густых лесов и поемных волжских лугов, стремился расширить свои знания по природоведению, естествознанию. Но именно эти науки, во избежание «заразы дарвинизма», и были в крайнем загоне: гимназические учебные планы отводили естественно-историческому циклу времени в четыре раза меньше, чем занятиям по изучению древних языков: латинского, греческого и церковно-славянского. Курс математики был явно ущемлен по сравнению с бесконечными «extemporalia» (переводы с русского на древние языки, производившиеся без подготовки) и заучиванием наизусть больших отрывков из описаний походов Юлия Цезаря. Даже физика преподавалась по достаточно ограниченной программе, а целый ряд опытов (например, по электричеству) вообще рекомендовалось не проделывать на глазах учащихся, ограничившись словесным упоминанием о них на уроке, «ибо опыты эти не содействуют укреплению принятых основ богословия, а наоборот, оные могут повергать молодые умы в сомнение».
Подобного рода циркуляры попечителей учебных округов не были в те времена редкостью.
Соратник Баумана по революционной работе в подпольных рабочих кружках П. Н. Лепешинcкий дает меткую характеристику гимназическому обучению в те времена:
«Что такое была гимназия восьмидесятых годов — всякий знает, если не по собственному опыту, то хотя бы понаслышке… Мракобесие классных наставников и их свирепая расправа с любителями чтения, не удовлетворявшимися гимназической библиотекой и получавшими книги из городской публичной библиотеки; внезапное посещение теми же воспитателями квартир учеников, причем горе тому несчастному, у которого на столе или в шкафу оказалась бы во время таких посещений запретная литература, вроде, например, Щедрина или Белинского, не говоря уже о Добролюбове, Писареве или Чернышевском; бесконечные формы издевательства над личностью ученика и т. д. и т. д. — обо всем этом много уже писалось и много может порассказать любой из современников, сам испытавший в свое время прелести гимназической муштры в период наиболее свирепой общественной реакции в России»{П. Н. Лепешинский. На повороте. М.,1936, стр. 8.}.
Другой современник Баумана — С. И. Мицкевич — дает яркую картину «классической муштры» — экзамен по латинскому языку:
«На первом экзамене — в письменной работе, переводе с русского на латинский (extemporalia) — я сделал одну ошибку: вместо сослагательного наклонения употребил изъявительное; это с моей стороны была простая описка: одно наклонение от другого отличалось только одной буквой. И вот за опущение этой одной буквы я получил двойку, что почти определяло провал всех моих трудов за два с половиной года»{С. И. Мицкевич Революционная Москва (1888–1905) М., 1940, стр 51.}.
«Классицизм», то-есть безудержное увлечение древними языками, усиленно насаждался и процветал в Казанской гимназии. Николай Эрнестович впоследствии вспоминал, что уроки греческого и латинского языков буквально умерщвляли всякую попытку ученика к самостоятельной работе, к живой мысли.
Молодой Бауман оживал лишь на уроках русского языка и в особенности литературы. Великие русские писатели — борцы за счастье народное — открывали перед живым, увлекающимся юношей яркие, талантливые страницы, незабываемые и по своей поэтической красоте и по силе жизненной правды. Классическая гимназия позволяла изучать корифеев русской литературы лишь в пределах программы, соответствующими «начальственными властями рассмотренной и одобренной». Даже Пушкина изучали «в рамках программы». Но Бауману все же удалось прочесть и «Деревню», и сатирические эпиграммы великого русского поэта. Более того, ему удалось ознакомиться с произведениями Радищева и Чернышевского, с выдержками из «Колокола» Герцена{Характерно свидетельство о том, что читали в провинции (в конце восьмидесятых — начале девяностых годов) в поволжских и заволжских городах: «читали Чернышевского, Добролюбова и Писарева, конечно, Некрасова и русских беллетристов, «Один в поле не воин» Шпильгагена, «Историю одного крестьянина» Эркмана-Шатриана, редкие счастливцы — Герцена и «Отечественные записки». Маркс еще тогда не дошел до Уфы… Я видел «Что делать?» Чернышевского. Разбухшая, с подклеенными листами, кое-где с написанными от руки страницами, вся испещренная заметками на полях восхищенных читателей, читанная и перечитанная книжка переходила из рук в руки, из дома в дом великой драгоценностью и считалась обязательной для прочтения молодому человеку, вступавшему в жизнь» (С. Я. Елпатьевский, Воспоминания за 50 лет. М., 1929. стр 99.).}.
Молодые гимназисты, как вспоминают товарищи Николая Эрнестовича по гимназии, уже с тринадцати-четырнадцати лет стремились к более серьезной «духовной пище». Через старших братьев — студентов столичных высших учебных заведений, приезжавших в Казань на каникулы, получала гимназическая молодежь строжайше запрещенные сочинения Добролюбова, Писарева, Чернышевского. Эта плеяда великих критиков осветила нам, желторотым еще подросткам, путь к революционной борьбе, к торжеству рабочего дела, к великим социальным преобразованиям, — вспоминал десятки лет спустя один из товарищей Баумана. С каким торжеством в горящих глазах, с какими предосторожностями приносили гимназисты под полой форменного пальто или на дне обязательного ранца драгоценный томик Чернышевского, обличительные статьи Добролюбова! Книгу удавалось получить чаще всего лишь на один вечер, в крайнем случае до утра, — и ночь незаметно пролетала за чтением книг великих русских демократов.
Книга Писарева «Прогресс в мире животных и растений», эта талантливейшая популяризация идей великого Дарвина, произвела на подростка Баумана совершенно исключительное впечатление. Но не только книги были друзьями Коли. Живой, общительный, нередко склонный к шалости и даже «к дерзкому неуважению» гимназического начальства, мальчик не мог замкнуться в рамки одного лишь книжного изучения жизни. «Мыслящий реалист не только мыслит по книгам, но и сам узнает жизнь» — эту идею Писарева, столь широко распространенную среди молодежи семидесятых и восьмидесятых годов, молодой Бауман усвоил великолепно.
Для вступающего в сознательную жизнь юноши открывались широкие пути — прежде всего тесное общение с товарищами по учению и затем общение с рабочими из мастерской отца.
Молодой Бауман находился с первых же лет ученья в тесной и дружной товарищеской среде. В гимназии он легко и живо, благодаря своему веселому, открытому, жизнерадостному характеру, сходился с товарищами. Некоторые из них стали его друзьями на всю жизнь и до сих пор с необычайной теплотой и глубочайшим нравственным удовлетворением произносят имя Николая Баумана. Одним из таких друзей для Коли Баумана оказался его сверстник по гимназии, Володя Сущинский. Многое их сблизило: и страсть к чтению, и любовь к физическому труду, к долгим прогулкам и походам в Заволжье. Сущинский жил неподалеку от семьи Бауманов и вскоре сделался постоянным гостем Коли. В свою очередь, и Коля нередко засиживался в тесной каморке Володи Сущинского: или за решением сложной геометрической задачи, или чаще всего за «запретной» книгой — увлекательными статьями Белинского, Добролюбова.
Вот живое свидетельство этого пламенного увлечения юных друзей светочами русской литературы: «Книга (не гимназический учебник, конечно) становится нашим другом, нашим постоянным собеседником. Единственно она доставляет нам радость первых продуманных мыслей, первых осознанных целей. Бауману было лет 16. Читали мы «Русское богатство», читали Писарева, Добролюбова, Чернышевского, читали очень много. Многое ли мы тогда понимали — не вспомню, но думаю, что понимали не все… мы мечтали о жизни для народа и смерти за него, мы стремились к борьбе за правду, за права угнетенных, за господство в жизни труда», — пишет в своих воспоминаниях об этих молодых годах В. Г. Сущинcкий{Сборник «Товарищ Бауман», изд. 2. M., 1930, стр 26.}.
«Радость первых продуманных мыслей, первых осознанных целей!» — вот что ярким пламенем осветило дальнейший путь только что вступающих в сознательную жизнь юношей.
Мечты о служении народу были для Баумана и Сущинского весьма реальными и конкретными. Народ, с его тяготами, заботами и нуждой, был здесь же, буквально в том же доме. Стоило лишь войти в мастерскую отца, чтоб вплотную столкнуться с самыми доподлинными представителями народа. Старый мастер-резчик Нефедыч — живое олицетворение только что минувшего крепостного права. Нефедыч отлично знал уклад деревенской жизни, деревенские обычаи, любил старинные поволжские песни, знал немало сказок и прибауток. Мало того, старый резчик, работая в городах, познакомился и с грамотой, полюбил чтение. Он наизусть читал молодым друзьям большие отрывки из Некрасова и Кольцова, с увлечением рассказывал о своих молодых годах, когда бурлачил на низовьях Волги. Откинув назад свисавшие на лоб еще густые, но уже тронутые серебром старости волосы, перехваченные на лбу ремешком, для удобства работы над верстаком, старик, не торопясь, проникновенно и сильно читал на память стихи своего любимого поэта:
Плечами, грудью и спиной Тянул он барку бичевой, Полдневный жар его палил, И пот с него ручьями лил, И падал он, и вновь вставал, — Хрипя, «Дубинушку» стонал…Или вспоминал горькую жалобу другого народного поэта:
— Эх, приятель, и ты, видно, горе видал, Коли плачешь от песни веселой… Нет, послушай ка ты, что вот я испытал,— Так узнаешь о жизни тяжелой!..Задушевные беседы и чтение любимых стихов «певца горя и гнева народного» чередовались с рассказами о недавних, еще свежих в памяти казанских крестьян, трагических событиях в селе Бездна. Крестьяне этого села (Спасский уезд Казанской губернии), глубоко разочарованные манифестом 1861 года, на деле давшим помещикам волю распоряжаться крестьянской землей, восстали против властей. Тысячная толпа, под предводительством пламенного оратора — односельчанина Антона Петрова, потребовала прочитать «настоящий, с царскими орлами» манифест. Как на крыльях, полетела вниз и вверх по Волге весть о том, что «баре волю скрыли», что в церквах читают подложный, барский манифест. Антон Петров уверял, что в подлинном манифесте «вся земля к крестьянам отходит». К волнениям бездненских крестьян примкнули многие села и деревни Спасского, Лаишевского и Чистопольского уездов Казанской губернии, села соседних губерний — Самарской, Симбирской. Более месяца волновался крестьянский мир, пока правительство не заглушило мятеж залпами высланных на подавление бунта войск…
И перед притихшими молодыми, впечатлительными слушателями оживали яркие картины совсем недавнего прошлого, оживала трагедия крестьянской жизни, разыгравшаяся неподалеку от Казани. Нефедыч умел в точности передать не только содержание речей Антона Петрова, но и настроение крестьянской мaccы, их чаяния и надежды. С непередаваемой силой рисовал он картину расстрела царскими войсками безоружных крестьян. И, закончив этот потрясающий, правдивый рассказ о бездненской трагедии, свидетелем которой ему самому довелось быть, старый резчик обычно заключал беседу глубоко проникавшими в душу мальчиков стихами из некрасовской поэмы «Саша»:
В наши великие трудные дни Книги — не шутка: укажут они Все недостойное, дикое, злое, Но не дадут они сил на благое, Но не научат любить глубоко…Старый Нефедыч старался постепенно, шаг за шагом, познакомить Баумана и Сущинского с подлинной, неприкрашенной жизнью деревни и пригорода.
Незабываемы были для молодых людей, ищущих пути к осмысленной, человеческой жизни, эти речи старого резчика. «Он так картинно рассказывал нам о сытой доле барина, об обеспеченной жизни чиновника, а кстати и о безвыходной нужде мужика и рабочего, — вспоминает В. Г. Сущинский. — Кажется, это были первые наши впечатления, первые полудетские сведения о классовой борьбе». Более того, однажды, взяв с друзей самую страшную клятву о молчании, старый мастер дал Бауману и Сущинскому весьма популярную в то время нелегальную брошюру «Хитрая механика». Притворив поплотнее дверь мастерской, Нефедыч вполголоса рассказал подросткам, как боролись народовольцы с царем, как удалось им в конце концов убить Александра II.
Понятно, почему и Бауман и Сущинский так долго и часто засиживались в мастерской. «Мы, — вспоминает В. Г. Сущинский, — помогали рабочим строгать, пилить и красить, слушали их рассказы, их песни, видывали ужасное рабочее похмелье, примечали вечный труд и вечную нужду в деньгах, — отсутствие одежды, опорки на босу ногу, слышали жалобы на свою долю».
Таковы были непосредственные, живые и яркие для любознательного молодого Баумана «впечатления бытия». Он жадно приглядывался к окружающему его рабочему, ремесленному люду, пока еще неотчетливо понимая и осознавая причины, доводившие этих трудолюбивых людей до ужасающей ступени нищеты и бесправия…
Молодежь того времени читала о героической борьбе гладиаторов, восставших в древнем Риме против своих вековых поработителей, о французской революции 1789–1793 годов, о крестьянском горе-бесправье в пореформенной, «освобожденной» русской деревне. Все эти суровые, правдивые факты неприкрашенной жизни в сильной степени формировали сознание будущего агитатора и пропагандиста марксизма. Впоследствии, будучи уже зрелым, окончательно сложившимся революционером, агентом ленинской «Искры», Николай Эрнестович в беседах с товарищами по подпольной работе не раз вспоминал, какое огромное впечатление произвел на него роман о гладиаторах — книга, которой увлекались молодые люди целого ряда десятилетий.
— Помнится, я не мог спать несколько ночей… Прочитал я книжку залпом, чуть ли не в один вечер… Книга эта на всю юность сделалась моим верным другом!
Рассказы старого резчика также не остались безрезультатными: юноша вновь и вновь уже самостоятельно перечитывал Некрасова, Златовратского, Засодимского, доставал брошюрки народнического толка о положении крестьянства, жадно ища правды или, как он говорил друзьям по классу, «разыскивая, как Диоген с фонарем, хоть один единственный огонек в потемках окружающей нас действительности».
Николай Бауман, по отзывам и воспоминаниям сверстников, уже в то время был хорошо знаком с жизнью рабочих алафузовского и крестовниковского заводов, рабочих многочисленных лесопилок, с жизнью простых матросов, лесосплавщиков, рыбаков. Долгие часы общения с рыбаками на тонях, ночевки на берегах Волги вокруг костра не пропали даром: подросток, почти еще мальчик, уже в тринадцать-четырнадцать лет ясно представлял себе, «чем люди живут», получая на всю семью в пять-шесть человек от подрядчика-лесосплавщика семь-восемь рублей в месяц жалованья…
Ежедневное общение со своими сверстниками-гимназистами, детьми таких же, как и он сам, мелких ремесленников, разночинцев, также открывало перед молодым Бауманом неприглядные картины «кое-как прикрытой, искусно заштопанной бедности». Об этой «заштопанной бедности» тружеников и, наоборот, об явно открытой, выставленной напоказ роскоши казанских крупных помещиков и капиталистов-заводовладельцев не раз говорили молодые друзья — Бауман и Сущинский, запершись в маленькой комнатке или уединившись на чердаке весной под предлогом подготовки к экзаменам.
В дальнейшем на формирование характера, на весь склад юношеских мыслей молодого Баумана оказали значительное влияние сильные студенческие волнения, происшедшие в университете и других высших учебных заведениях Казани в 1887 году. Эти события оставили заметный след на живом, общительном четырнадцатилетнем подростке. Он жадно следил за глухими сообщениями местных газет об аресте более ста студентов, интересовался их дальнейшей судьбой. Незадолго до этого казнь пяти народовольцев по делу о покушении на Александра III 1 марта 1887 года (Александра Ильича Ульянова и его товарищей) оставила неизгладимый след в душе любознательного подростка. Сверстники вспоминают, как живо и остро отзывался на все эти события молодой Бауман: «Он буквально ловил каждое слово, выискивал и перечитывал каждую строчку о студенческой демонстрации 4 декабря 1887 года, о репрессиях напуганного правительства».
Эти «поиски правды», как впоследствии метко определил эти годы сам Николай Эрнестович, содействовали развитию в характере подростка самостоятельности и твердости.
Мальчик не любил над собой опеки. Выросшему на волжских просторах Коле сильно не по душе была постоянная, порой мелочная, забота родителей о его будущем, об «обеспеченной дороге» и т. п.
Постепенно, уже с третьего-четвертого класса гимназии, между подростком и его родителями стали возникать вначале малозаметные, но затем все более углублявшиеся разногласия. Отец и мать, с их старинными взглядами на жизнь, укоряли Колю за его шаловливое поведение в гимназии, за его привязанность к друзьям-одноклассникам, таким же, как и он, резвым, своевольным мальчикам. Коля сильно любил родителей, пытался искренне объяснить им свои поступки, свои еще не совсем оформившиеся мысли. Но общего языка с родителями юноша не нашел. Он все чаще стал уединяться с товарищами, по преимуществу с Сущинским. Бауман не мог удовлетвориться только чтением и беседой с друзьями. В шестом классе гимназии под предлогом издания школьного «литературного журнала» он привлек в свой тесный товарищеский кружок еще нескольких одноклассников. Беседы носили, однако, далеко не узко литературный характер. Вскоре и классный наставник и директор узнали, что Бауман и Сущинский беседуют с товарищами о народовольцах, о положении крестьянства… Директор несколько раз вызывал к себе «для соответствующего внушения» Эрнеста Андреевича, грозил исключить из гимназии его «непокорного» сына, если тот не перестанет «тлетворно влиять на товарищей». Угроза исключения из гимназии нависла и над Сущинским. Отец Коли был сильно расстроен создавшимся положением. Он увещевал и всячески убеждал сына прекратить знакомство с «опасными людьми», запретил ему даже ходить к Сущинскому. Новое обстоятельство еще более расстроило Эрнеста Андреевича: он узнал, что Коля вместе с Сущинским вел такие же «крамольные» разговоры и в мастерской, с подмастерьями. Старик категорически потребовал от сына прекращения этих бесед.
Тогда молодой Бауман и его друг приняли смелое решение: без согласия родителей они подали заявления об уходе из гимназии и поступили в недавно открытый в Казани ветеринарный институт, пользуясь тем, что для поступления в это учебное заведение не требовалось окончания полного курса гимназии.
«Седьмой класс гимназии был для нас последним, — пишет в своих воспоминаниях о совместном ученье с Бауманом В. Сущинский. — Молодежь того времени, — та ее часть, которая шла в революцию, — была деятельна, а не созерцательна. В то время выковались такие характеры, как Ленин и Дзержинский. Общественные идеалы тогда вырабатывались, но, будучи выработаны, быстро становились практическими целями, стимулами поступков и деловых решений. Николай Бауман также искал и лучшего и скорого выхода на путь служения народу; выход был найден.
Было решено выйти из седьмого класса гимназии, поступить в ветеринарный институт и стать ветеринарным» врачом — р «абота, близкая народу и ему нужная»{Сборник «Товарищ Бауман», изд. 2. M, 1930, стр. 27.}.
Родители были крайне смущены поступком сына. Они вновь пытались его «образумить», «вернуть на хорошую дорогу», но Коля не изменил своего намерения. Он ушел из родительского дома, решив жить уроками и случайным заработком. Поселившись на окраине города вместе с Сущинским, Бауман с осени 1891 года стал студентом ветеринарного института.
Перед друзьями открылась новая дорога…
III. В ПОДПОЛЬНЫХ КРУЖКАХ КАЗАНИ
В восьмидесятых годах Казань была одним из центров революционного подпольного движения. Здесь начал свою революционную деятельность великий вождь российского пролетариата Владимир Ильич Ленин.
В 1888–1889 годах в Казани работал в первых подпольных кружках один из пионеров революционного марксизма в России — Николай Евграфович Федосеев.
Казань — крупный волжский город, с достаточно развитой по тому времени промышленностью. Официальные материалы начала девяностых годов XIX века отмечают, что в Казани «фабрично-заводская и торговая промышленность весьма развита благодаря географическому положению города, значительному числу промышленного татарского населения и дешевизне рабочих рук, вследствие невозможности для местных крестьян обеспечить себя одними сельскохозяйственными занятиями».
Молодой Бауман не раз убеждался в этом на живых примерах: из заволжских уездов приходили целые толпы татар, мордвы, чувашей, искавших хоть какого-нибудь заработка в большом городе. «Дешевые рабочие руки» поступали на беляны{Плоскодонное несмоленое судно для сплава лесных материалов, которое обычно, по прибытии на место, разбирается на дрова.} и баржи, почти за бесценок «сплывали» на Низ — так в Казани называли города Нижнего Поволжья: Царицын, Астрахань. Многие поступали рабочими на заводы местных капиталистов — Алафузова и Крестовникова. В Казани заводы, и фабрики из года в год росли, существующие фабрично-заводские предприятия расширяли свое производство, открывали новые цехи, нанимали большее количество рабочих. К началу 1893 года в городе было 85 крупных фабрик и заводов; их оборот доходил до 9 миллионов рублей в год. Кроме того, фабрично-заводская статистика насчитывала в том же году в Казани свыше семидесяти более мелких предприятий, обороты которых также достигали 3–4 миллионов рублей. Огромный стеарино-мыловаренный завод Крестовникова имел в год более 3 миллионов рублей оборота. На этом заводе работало 1600 человек. Всего в Казани в 1893 году было более 6 тысяч квалифицированных рабочих. На пороховом заводе было занято более 1500 человек; на льнопрядильном заводе Алафузова — 1900 человек. В Казани, кроме того, в девяностых годах сосредоточивалось 74 процента всех ремесленников губернии. Если прибавить к этому, что на казанских пристанях с утра до вечера работало несколько тысяч бурлаков, станет ясным, какие возможности таились в этом городе для тесного общения любознательной молодежи с трудовым населением.
Второй особенностью Казани восьмидесятых годов следует считать большое число студентов. Молодежь высших учебных заведений города не стояла в стороне от зародившегося революционного движения. Университетские события 4(16) декабря 1887 года всколыхнули казанское студенчество. В этот день, протестуя против введенного в 1884 году крайне реакционного (студенты его называли «драконовским») университетского устава, студенты собрались на громадную сходку. После горячих речей и протестов студенты приняли «Обращение к обществу» и 12 пунктов «Наших требований». В число этих пунктов входило требование университетской автономии, отмены некоторых новых, особенно реакционных параграфов «драконовского» устава, требование организовать студенческую кассу взаимопомощи и т. п. Студенты ветеринарного института, в котором также состоялись бурные сходки, приняли революционную «петицию к обществу».
В казанских студенческих выступлениях участвовал Владимир Ильич Ленин. В 1887 году он окончил с золотой медалью гимназию. В этом же году погиб на виселице его старший брат Александр Ильич, казненный 8 (20) мая в Шлиссельбургской крепости за покушение на Александра III. Как известно, «смерть брата оказала большое влияние на решение Ленина пойти по революционному пути. Но как ни велико было преклонение перед героизмом брата, Ленин уже тогда считал террористический путь борьбы с самодержавием ошибочным, не достигающим цели. Узнав об участии Александра в террористической организации, В. И. Ленин сказал;
— Нет, мы пойдем не таким путем. Не таким путем надо идти»{«Ленин Владимир Ильич. Краткий очерк жизни и деятельности», ИМЭЛ, 1944, стр. 10.}.
13 (25) августа 1887 года В. И. Ленин поступил на юридический факультет Казанского университета. Он сразу выделился в студенческой среде: «был революционно настроен, энергичен, начитан, с убежденностью отстаивал свои взгляды. Ленин, будучи в университете, подвергался специальному наблюдению со стороны жандармского и университетского начальства»{«Ленин Владимир Ильич. Краткий очерк жизни и деятельности», ИМЭЛ, 1944, стр. 10.}. Жандармы уже имели сведения о том, что В. И. Ульянов связан с казанскими рабочими.
Когда в Казанском университете вспыхнули волнения, «Ленин принял самое деятельное участие как в совещаниях, подготовивших выступления студентов, так и в самих выступлениях»{«Ленин Владимир Ильич. Краткий очерк жизни и деятельности», ИМЭЛ, 1944, стр. 10.}.
Администрация университета исключила 45 студентов. Из ветеринарного института также было исключено 22 студента. Многие из них были арестованы. Студент К. Алексеев, по приказу министра просвещения Делянова, был отдан на три года в дисциплинарный батальон: во время бурных прений на сходке он дал пощечину ненавистному всем студентам инспектору университета, известному мракобесу и реакционеру.
Ленин был арестован в ночь с 4 на 5 (16–17) декабря. Пристав, сопровождавший Ленина в тюрьму, сказал:
«— Что вы бунтуете, молодой человек? Ведь перед вами стена.
— Стена, да гнилая, ткни, — и развалится, — ответил Ленин»{«Ленин Владимир Ильич. Краткий очерк жизни и деятельности». ИМЭЛ, 1944, стр. 10.}.
Один из студентов, арестованный вместе с Лениным, вспоминал об этом первом аресте Владимира Ильича:
«В ночь с 4 на 5 декабря арестовано было более 100 казанских студентов (из 800), среди них, конечно, и студент Ульянов — за участие в сходке. Сначала некоторых из нас рассадили по одиночкам, затем перед сортировкой и высылкой, — в общую камеру пересыльной тюрьмы, именовавшуюся тогда «крепостью»… здесь же вместе с нами оказался и Владимир Ильич»{Б. Волин. В. И. Ленин в революционном движении студентов в Казани (1887 г.). «Исторический журнал» № 4–5, 1940, стр. 28.}. Студенты спрашивали друг друга, кто что думает делать после высылки из Казани. «Спросили Владимира Ильича: «Ну, а ты, Ульянов, что думаешь делать потом?» Он после некоторой паузы, как бы очнувшись от задумчивости, слегка улыбнувшись, сказал, что перед ним одна дорога, — дорога революционной борьбы»{Б. Волин. В. И. Ленин в революционном движении студентов в Казани (1887 г.). «Исторический журнал» № 4–5, 1940, стр. 28.}.
Студенческие волнения были характерным явлением для такого крупного торгово-промышленного города, как Казань восьмидесятых годов. Значительное количество постоянных рабочих, еще большее число «приходящих на заработки» давали возможность местной революционной интеллигенции уже с семидесятых годов вести пропаганду среди трудящегося люда, организовывать кружки.
Еще в конце сороковых годов XIX века в Казанском университете были «фурьеристы» — последователи петербургского кружка М. Буташевича-Петрашевского. Конечно, они не смогли развернуть сколько-нибудь широкой борьбы, в особенности среди рабочих или ремесленников Казани. Попытка установить связи с окрестными крестьянами («фурьеристы» возлагали на крестьянство огромные надежды) также не увенчалась успехом. Несколько больший размах приобрела деятельность народников в 1870–1872 годах. В народнические кружки входила почти исключительно студенческая молодежь. Деятельность этих кружков была, однако, очень ограниченной: несколько брошюр, переданных в окрестные деревни, два-три реферата в студенческих подпольных кружках.
В 1880–1882 годах появились народовольческие кружки. В 1883–1884 годах в Казани вел подпольно-кружковую работу известный народоволец А. Н. Бах, впоследствии видный советский ученый, академик.
В 1882 году, впервые в истории казанского революционного движения, начинается пропаганда среди казанских рабочих; ее ведет народоволец, петербургский рабочий Феофан Крылов. Народовольцы в 1885–1886 годах пытались даже организовать тайную типографию, решив для этой цели «экспроприировать печатное оборудование из частных типографий». «Экспроприация» не удалась, но народовольцы отпечатали в типографии уездного воинского начальника несколько брошюр, в том числе знаменитую «Царь-голод».
Таким образом, к половине восьмидесятых годов в Казани уже имелся некоторый опыт подпольной работы. В этих условиях здесь начал свою деятельность кружок H. E. Федосеева, один из самых первых марксистских кружков в России.
В. И. Ленин высоко ценил марксистско-пропагандистскую работу Федосеева. В своей статье «Несколько слов о H. E. Федосееве», написанной в 1922 году, Ленин отмечает, что Федосеев «был одним из первых, начавших провозглашать свою принадлежность к марксистскому направлению. Помню, что на этой почве началась его полемика с Н. К. Михайловским, который отвечал ему в «Русском Богатстве» на одно из его нелегальных писем. На этой почве началась моя переписка с H. E. Федосеевым»{В. И. Ленин. Соч. изд. 3. т XXVII, стр. 376.}.
Ленин указывает, что он пытался устроить свидание с Федосеевым в городе Владимире, куда он приехал с надеждой, что Федосееву удастся выйти из тюрьмы. В заключение Ленин пишет: «…для Поволжья и для некоторых местностей Центральной России роль, сыгранная Федосеевым, была в то время замечательно высока, и тогдашняя публика в своем повороте к марксизму несомненно испытала на себе в очень и очень больших размерах влияние этого необыкновенно талантливого и необыкновенно преданного своему делу революционера»{В. И. Ленин. Соч. изд. 3. т XXVII, стр. 377.}.
Кружок H. E. Федосеева был организован в конце 1888 года. В этот период, после образования группы «Освобождение труда», в разных городах России — в Петербурге, Москве, Харькове, Киеве, а с 1887 года и в Казани — возникают кружки социал-демократического направления. Ленин, как известнo, придавал большое значение этим первым росткам марксизма в России:
«В свое время кружки были необходимы и сыграли положительную роль. В самодержавной стране вообще, — в тех условиях, которые созданы были всей историей русского революционного движения в особенности, социалистическая рабочая партия не могла развиться иначе, как из кружков. Кружки, т. е. тесные, замкнутые, почти всегда на личной дружбе основанные, сплочения очень малого числа лиц, были необходимым этапом развития социализма и рабочего движения в России»{В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 13, стр. 89.}.
Казанский кружок Федосеева был одним из самых первых в России кружков социал-демократического направления. Федосеев учился в первой Казанской гимназии, но его не могли удовлетворить тесные рамки казенных знаний. Федосеев собирал у себя на квартире товарищей, читал с ними запрещенные цензурой книги, обсуждал злободневные вопросы общественной жизни. В декабре 1888 года Федосеев за «вредное направление мыслей и чтение недозволенных книг» был исключен из гимназии. Девятнадцатилетний юноша (Федосеев родился 27 апреля (9 мая) 1869 года в городе Нолинске) жадно стремился получить прямые ответы на проклятые, запутанные вопросы жизни.
«Наступил период страшного душевного кризиса, — писал об этих годах сам H. E. Федосеев в письме к товарищу, — когда надо было во что бы то ни стало выработать взгляды, а выработка эта не давалась. Читал я тогда много и жадно. Успенского читать не мог: и без того тяжело, а он те же раны растравляет, углубляет те же вопросы, и, выставив их во всей логической ясности, так и оставляет нерешенными… я мучился душевным недугом, — выработкой взглядов (ох, как это трудно достается, — выработка убеждений, без разумной педагогики, при противодействии всего окружающего!..)».
Спасеньем оказался кружок: здесь, в тесном кругу друзей, H. E. Федосеев выработал свое мировоззрение, вышел на широкую дорогу. Прежде всего члены кружка решили определить свое отношение к программам существовавших партий, в особенности к народовольцам.
Так как Федосеев был самым видным и теоретически образованным членом кружка, то изложение основных программных положений поручили именно ему. Параллельно с этим было решено заняться сбором средств для помощи ссыльным, а также приступить к издательской деятельности. Отредактировали брошюру «Политическая Россия» и предполагали напечатать «конспект» «Капитала» Маркса.
В кружке изучали «русскую действительность», рабочий вопрос, политическую экономию, читали Лассаля, серьезно штудировали первый том «Капитала» Маркса. Недостаток марксистской литературы на русском языке заставил их взяться за перевод с немецкого сочинений Маркса, Энгельса, Каутского. Член кружка студент университета Санин, хорошо знавший немецкий язык, перевел книгу Каутского «Экономическое учение Карла Маркса», намереваясь взяться затем за перевод «Нищеты философии» К. Маркса и «Происхождения семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельса. Для приобретения денежных средств, необходимых как для самого кружка, так и для помощи ссыльным, было устроено несколько платных студенческих вечеров. Вскоре кружок приступил к изданию, посредством гектографа, разных брошюр; таким образом было изготовлено 16 экземпляров брошюры «Политическая Россия»{H. E. Федосеев в скором времени был арестован и много лет находился в тюрьмак и ссылке по нескольким делам. 6 (18) октября 1896 года он был отдан под гласный надзор полиции на 5 лет в Иркутской губернии, в Верхоленске, где в 1898 году застрелился, будучи не в силах вынести тяжелой ссылки.}.
С Федосеевым был знаком и Горький. В 1887 году они оба присутствовали на подпольном собрании, где народники яростно нападали на «еретиков-марксистов». «Правоверные», как иронически называли тогда народников, возводили самые фантастические обвинения на марксистов, на автора брошюры «Наши разногласия» — Плеханова. Собрание происходило в августе 1887 года за городом: «в кромешной тьме чувствуется присутствие многих людей, слышен шорох одежды и ног, и тихий кашель, шопот… юноша, с длинными волосами, очень тонкий и бледный, спрашивает меня:
— Вы — Пешков, булочник? Я — Федосеев. Нам надо бы познакомиться»{М. Горький. Соч., т. XVIII. М., 1933, стр. 52–53.}.
На обратном пути Федосеев и Горький долго беседовали. Но вскоре Горький уехал из Казани и непосредственного участия в работе федосеевского кружка ему принять не удалось.
«В 1888–1889 годах в Казани существовало уже несколько кружков… при центральном кружке имелась библиотека нелегальных и неразрешенных книг, а с весны (1889 года. — M. H.) стала налаживаться техника для воспроизведения местных изданий и для перепечатки редких нелегальных», — пишет в своих воспоминаниях А. И. Ульянова-Елизарова.
Когда осенью 1889 года Владимир Ильич вернулся в Казань (после высылки в Кокушкино), он начал усиленно изучать первый том «Капитала» Маркса: «…помню, как по вечерам, когда я спускалась к нему поболтать, он с большим жаром и воодушевлением рассказывал мне об основах теории Маркса «и тех новых горизонтах, которые она открывала… От него так и веяло бодрой верой, которая передавалась и собеседникам. Он и тогда уже умел убеждать и увлекать своим словом»{А. Елизарова. Значение казанского и самарского периода деятельности Владимира Ильича. «Молодой большевик», 1925, № 1 (4), стр. 34–35.}.
В начале девяностых годов в Казани возникли новые социал-демократические кружки; в них работали видные деятели (А. М. Стопани и др.). Таким образом, обстановка, в которой оказались молодые студенты ветеринарного института Н. Бауман и В. Сущинский на первых же порах своей студенческой жизни, была достаточно революционной. Их славные предшественники уже заложили первые камни марксистской пропаганды среди казанских рабочих. Труд этот был нелегкий: в Казани работало на мелких, полукустарных заводах и фабриках, на лесосплаве, лесопилках немало крестьян из отдаленных лесных уездов. Многие из них пришли в Казань на заработки из глухих деревень заволжских лесов, где преобладали национальные меньшинства — татары, мордва, удмурты, чуваши. Царское правительство в лице исправников и становых приставов — «хозяев уезда» — с особой силой угнетало и притесняло население национальных меньшинств. Поэтому пропагандистам подпольных рабочих кружков Казани приходилось вести углубленную, разъяснительную работу, вскрывая доходчиво и ярко, на самых простых, обыденных примерах и хитрую механику экономического закабаления «освобожденной» после 1861 года деревни и чудовищную эксплуатацию рабочих казанскими фабрикантами и промышленниками.
Большое удовлетворение получали первые пропагандисты марксизма, когда видели, как постепенно, но неуклонно у членов подпольных рабочих кружков формируется новое сознание, новое отношение к жизни.
С первого же курса Бауман завязал тесные связи с рабочими алафузовского и крестовниковского заводов. Зимними вечерами, лишь только закончатся занятия в ветеринарном институте, молодой пропагандист уходил к своим новым знакомым в отдаленные слободки, где, по преимуществу, ютились рабочие заводских и промышленных предприятий Казани. Эта работа встречала значительные трудности и по чисто местным территориальным условиям. Дело в том, что Казань раскинулась на огромном пространстве при впадении реки Казанки в Волгу. В то время город был окружен настоящим кольцом рабочих слободок, отброшенных на две-четыре версты от городской черты. Так, например, алафузовский завод находился в Ягодной слободе, в трех верстах от города; в Пороховой слободе, в четырех верстах от города, был расположен пороховой завод; лишь завод Крестовникова находился значительно ближе, в слободе Плетени. Поэтому пропагандисты-горожане затрачивали немало времени и сил на ходьбу в окрестные рабочие слободки для установления связей с рабочими, организации и ведения занятий в подпольных кружках. Самая же главная трудность заключалась в том, что в окраинных слободках каждое новое лицо привлекало нежелательное внимание местного полицейского надзирателя и шпиков. Приходилось работать с особой осторожностью, появляясь в рабочих слободках у хорошо проверенных товарищей и избегая попадаться на глаза штатным и нештатным полицейским. Один из видных организаторов казанских подпольных кружков — А. М. Стопани — находился в лучших условиях: он жил на квартире отца, в Пороховой слободке. Его помещение сделалось своего рода «штаб-квартирой» для приходивших и приезжавших из города в Пороховую и окрестные слободы пропагандистов социал-демократов. Бауману приходилось ходить на подпольные занятия рабочих кружков за несколько верст.
Но его не страшили слежки полиции и трудности расстояния. Молодой студент-ветеринар без устали проходил длинный путь от Сибирского тракта, где помещался институт, до далеких рабочих слободок. Поздними вечерами он долго и оживленно беседовал с кружковцами, читал им новинки подпольной литературы по рабочему вопросу, обсуждал положение на их фабриках и заводах. Так шли подпольные занятия. А летом, во время каникул, Поле деятельности значительно расширялось. Любимые Бауманом еще с детства прогулки и рыбалки на окрестных озерах оказались прекрасным предлогом для задушевных бесед, длительного общения с рабочими различных казанских заводов и фабрик.
Вот воспоминание одного из непосредственных участников этих поездок — В. Сущинского:
«Когда пришла весна, наполнились водою казанские реки, то под предлогом поездок на лодке, прогулок в луга и на озеро Кабан, где стоял завод Крестовникова, мы снова стали встречаться с рабочими. Самые встречи происходили по праздникам, но сговаривались о них заранее. Иногда рабочих собиралось немало, и Николай Бауман с ревностью и горячностью прозелита{Прозелит (греч.) — новообращенный в какую-либо веру, учение. В данном случае: пропагандист нового политического и экономического учения — марксизма.} «обращал» их в марксизм. Он умел говорить с рабочими, умел увязывать теорию с практикой… посеянные им семена марксизма дали потом обильные всходы»{Сборник «Товарищ Бауман», изд. 2. М., 1930, стр. 27–28.}.
Как же совершился этот процесс превращения, формирования молодого студента ветеринарного института в пропагандиста марксизма?
«Евграфыч (так частенько называли рабочие Н. Э. Баумана), — вспоминает другой современник и соратник Баумана по подпольным рабочим кружкам, — часто любил повторять известные стихи:
На проклятые вопросы Дай ответы нам прямые! —и нередко спорил целыми часами с местными «столпами» народничества, которых, конечно, и в Казани было немало; Бауман требовал четкого ответа — что надо делать революционеру в рабочей среде, чтобы не ограничиваться только словами, а действовать, организовывать эту массу рабочего люда для открытой борьбы за свои политические права…»
Поводов к столкновению, к ярым спорам с местными «теоретиками народничества» у горячей, ищущей молодежи было в то время немало. В особенности интересовали молодежь, начинавшую знакомиться с марксистской мыслью — марксистскими брошюрами, рефератами, — такие вопросы, как община, объединение рабочих, проникновение капитализма в промышленность и деревню.
В народнических кружках толковали о «непреоборимости святой русской общины капитализмом», о «спасительной силе общинных порядков» и т. п.
«Русские народники ошибочно считали, что главной революционной силой является не рабочий класс, а крестьянство, что власть царя и помещиков можно свергнуть путем одних лишь крестьянских «бунтов». Народники не знали рабочий класс и не понимали, что без союза с рабочим классом и без его руководства одни крестьяне не смогут победить царизм и помещиков. Народники не понимали, что рабочий класс является самым революционным и самым передовым классом общества»{«История ВКП(б). Краткий курс», стр. 12.}. Набившие оскомину «истины» народнических мировоззрений не могли удовлетворить горячих запросов наиболее развитых, чутко прислушивающихся к реальной, живой жизни передовых слоев учащейся молодежи. И Бауман, хорошо знавший еще с детства быт и чаяния ремесленного и рабочего люда, все глубже и яснее видел беспомощность верований и убеждений народников. «Хождение в народ» привело лишь к отдельным, разрозненным волнениям среди крестьян. Народники в период своего пресловутого «хождения» не представляли себе отчетливо истинного положения крестьянства, не понимали, что в условиях развивающегося капитализма крестьянство расслаивается на резко отличающиеся по своей экономической структуре группы: бедноту, середняков, кулачество. Переход народников к методам индивидуального террора против царя и виднейших представителей царского правительства еще более усилил ошибочность и вредность деятельности народников.
«История ВКП(б). Краткий курс» с предельной четкостью дает политическую оценку народничества:
«Народники отвлекали внимание трудящихся от борьбы с классом угнетателей бесполезными для революции убийствами отдельных представителей этого класса. Они тормозили развитие революционной инициативы и активности рабочего класса и крестьянства.
Народники мешали рабочему классу понять его руководящую роль в революции и задерживали создание самостоятельной партии рабочего класса»{«История ВКП(б). Краткий курс», стр. 13.}. В начале девяностых годов XIX века революционная молодежь на живых, конкретных фактах убеждалась в крушении народнических иллюзий.
Молодой Бауман видел все более отчетливо, что народничество уже изжило себя.
Отсюда его страстные «поиски новых идеалов», нового пути для живой, практической работы. Характерное свидетельство об этом периоде духовного роста Баумана, о периоде его марксистского «становления» приводит его соратник, один из первых организаторов марксистских кружков в Казани, — А. М. Стопани:
«Это было в самом начале девяностых годов, примерно 1892 г., в Казани… Народовольчество выродилось к этим годам в интеллигентский радикализм и культурничество, а социал-демократия у нас еще не народилась, хотя и «носилась уже в воздухе»… Для рабочих кружков, с которыми я имел дело, одного «революционного» настроения было слишком мало, не удовлетворяли нас и студенческие — тоже подпольные — кружки, землячества, занимавшиеся главным образом саморазвитием… Марксистской литературы, которая, появившись через год, оказалась для нас настоящим откровением, и в помине не было… Мы с тов. Бауманом, два желторотых студента (он — ветеринарного института, я — университета), переживали мучительно отсутствие ответа на стоящие перед нами «проклятые вопросы»: помнится, прежде всего, что считать первоосновой — политику, в частности террор, или путь экономической борьбы… И затем, как относиться к капитализму и общине (кажется, в то время появилась известная книга на эту тему Николая — она){Николай — он, Ник — он или Н — он (псевдонимы Н. Ф. Даниельсона) — один из идеологов либерального народничества восьмидесятых-девяностых годов XIX века.}.
Мы решили потребовать категорически ясного ответа на все эти вопросы от наших казанских лидеров… Обходили их, приставали «как с ножом к горлу». Живо помню, насколько неистовствовал в требовании ответа обычно спокойный и уравновешенный тов. Бауман… Да и стоило неистовствовать, ибо, кроме полнейшего разочарования, ничего наши быстростремительные набеги на наших орадикалившихся «лидеров» нам не дали. Настроение у нас было настолько мучительно, что если бы не марксизм, который вскоре же стал пускать в Казани крепкие корни, вероятно, кончили бы мы оба плохо…»{Сборник «Товарищ Бауман», изд. 2. М., 1930, стр. 12.} Бауману удалось окончательно решить основные вопросы всей своей жизни в первые годы ученья в институте. Уже тогда он встал твердо на революционный путь. Именно в это время, в январе 1894 года, в Москве произошел диспут между «столпами» народничества и молодым марксистом В. И. Ульяновым. Теоретик народничества писатель-врач Воронцов («В. В.») сделал доклад на одной из нелегальных вечеринок, в котором повторял старые утверждения о «невозможности развития капитализма в России», о «святой роли русской общины» и т. д. Ленин, случайно пришедший на это собрание-вечеринку, выступил с возражениями и вдребезги разбил все «теоретические» выводы и положения народничества. А. И. Елизарова дает яркое описание этого столкновения молодого марксиста со «столпами» народничества:
«Смело и решительно, со всем пылом молодости и силой убеждения, но также вооруженный и знаниями, он стал разбивать доктрину народников, не оставляя в ней камня на камне. И враждебное отношение к такой «мальчишеской дерзости» стало сменяться постепенно, если не менее враждебным, то уже более уважительным отношением. Большинство стало смотреть на него, как на серьезного противника… Снисходительное отношение, научные выражения… не смутили брата. Он стал подкреплять свои мнения также научными доказательствами, статистическими цифрами и с еще большим сарказмом и силой обрушился на своего противника… С огромным интересом следили за ним все, особенно молодежь. Народник стал сбавлять тон, цедить слова более вяло и, наконец, стушевался. Марксистская часть молодежи торжествовала победу»{А. И. Елизарова. Страничка из воспоминаний. «Пролетарская революция», 1923, № 2 (14), стр. 58–59.}.
Весть об этом идейном разгроме народничества широко разнеслась по городам Центральной России, а также в Поволжье.
На формирование мировоззрения молодого Баумана в начале девяностых годов сильное влияние оказала литература по истории политической экономии, социологии и общей истории. Литературу привозили из Петербурга и Москвы студенты, приезжавшие в Казань на каникулы. Счастливым обстоятельством в доставке литературы «на специальные темы» (так в то время называл Бауман нелегальную и полулегальную литературу) было то, что весной 1891 года на все лето в Казань приехал брат Владимира Сущинского — Михаил Сущинский, студент военно-медицинской академии. «Он привез с собой много брошюр, специально подобранных для чтения крестьянам и рабочим, некоторое количество нелегальной литературы и листовки. Он рассказал нам о революционной работе в Питере. Многое из его рассказов было для нас новостью. Помню, слушали мы брата, затаив дыхание, как вестника из неведомой, но желанной страны. После этих рассказов революционное движение нам представлялось могучим и непобедимым, охватившим всю державу самодержца всероссийского. Всю привезенную братом литературу Бауман сумел в самое короткое время распространить по своим кружкам. К этому же времени и относится интерес Николая Эрнестовича к Лассалю, которым он зачитывался и восторгался»{Сборник «Товарищ Бауман», изд. 2. M, 1930, стр 28.}, — вспоминал В. Г. Сущинский.
Осенью Михаил Сущинский вернулся в Петербург и поддерживал с братом и Бауманом оживленную переписку. Он указывал своим юным друзьям «круг чтения», держал их, по возможности, в курсе событий студенческой столичной жизни. Но в конце зимы 1891/92 года Михаила Сущинского арестовали и заключили в Петропавловскую крепость. Конечно, это было целым событием для молодых казанских студентов: «Весть об этом произвела на нас большое впечатление… Это показало нам серьезность нашего дела… побудило нас задуматься над тем, что наша работа — не развлечение, а борьба…»{Сборник «Товарищ Бауман», изд. 2. М., 1930. стр 28.} В эти годы, на втором-третьем курсе института, еще более проявилась характерная черта молодого революционера — стойкость.
Несколько ярких фактов из жизни Баумана-студента вполне подтверждают это.
Воспоминания товарищей Николая Эрнестовича по ветеринарному институту рисуют его как энергичного, волевого человека, инициатора ряда решительных студенческих выступлений, хотя пока что в небольшом институтском масштабе.
Заслуженный деятель науки профессор Д. М. Автократов вспоминает, что Бауман предложил ему выступить с речью на похоронах их студента-однокурсника Аполлонова, умершего от туберкулеза. Этот студент перед поступлением в институт долгие годы работал народным учителем и за свою передовую деятельность получил от крестьян благодарность — серебряные часы. Бауман и его друзья решили превратить похороны Аполлонова в демонстрацию — выражение симпатии и уважения учащейся молодежи к «памяти скромного труженика на ниве народного просвещения». Директор института Ланге, узнав о готовившихся речах, категорически запретил произносить их на кладбище. Узнал директор о предполагаемой демонстрации от одного из случайно проговорившихся в его присутствии студентов. И все же, несмотря на запрещение речей, Бауман организовал ряд выступлений: кроме Д. М. Автократова, короткие, но сильные речи произнесли еще три студента. «А студент, — вспоминает профессор Автократов, — случайно проговорившийся… в нашем присутствии на квартире Баумана от последнего получил такую головомойку, что нам, свидетелям этой головомойки, было жутко»{Сборник «Товарищ Бауман», изд. 2. M, 1930, стр 45.}.
В личных беседах с автором проф. Д. М. Автократов всегда подчеркивал, что «с первых же слов разговора с Николаем Эрнестовичем собеседника охватывало чувство доверия и уважения, хотя Бауману в то время было всего 20 лет…»
Николай Эрнестович выступил также инициатором изгнания из студенческой среды одного недобросовестного студента, пытавшегося обмануть профессора при лабораторной работе. Профессор предложил тему на золотую медаль. По ходу работы надо было проделать немало лабораторных анализов. Но студент, директорский любимец, с удивительным проворством подгоняя цифры к заранее намеченным выводам, закончил было всю работу, не обременяя себя длительными исследованиями. Подлог вскрылся, и студенты, по предложению Баумана, потребовали исключения из института претендента на золотую медаль. Любимец директора с апломбом заявил было, что «по правилам для студентов, он является отдельной единицей и не обязан давать объяснения целому курсу». В ответ на это, по инициативе Баумана, весь курс объявил этому студенту, что «курс считает себя в целом коллективной единицей и не желает иметь никакого дела с отдельной единицей». Несмотря на все попытки директора «смягчить вопрос» и выгородить своего ставленника, Бауман и его товарищи — делегаты по этому делу в дирекцию — добились подачи недобросовестным студентом прошения об уходе из института «по собственному желанию».
Но эта общественная деятельность в стенах института была, конечно, далеко не главной целью жизни молодого студента. Главное было рядом — в рабочих слободках.
Стойко и убежденно начал Бауман свою работу подпольного организатора кружков, подпольного пропагандиста среди рабочих. Формы и методы этой работы были достаточно разнообразны. Бауман умел воспользоваться и воскресной поездкой группы рабочих на Волгу или на окрестные озера, и беседой рабочих в тесном и грязном дешевом трактире или харчевне где-нибудь на окраине города, в Адмиралтейской или Суконной слободке. Здесь же, в Адмиралтейской слободке, молодой студент присутствовал на праздновании первой в своей жизни маевки. Рабочих собралось немного, но впечатление «от этого первого рабочего праздника осталось у меня на всю жизнь», — вспоминал не раз Николай Эрнестович.
На «воскресных рыбалках» в лодках иногда помещалось до 40–50 рабочих казанских заводов; вместо рыбы под корзинками с немудреной закуской лежали пачки брошюр. Бауман участвовал также в различных развлечениях рабочей молодежи. Он с увлечением играл на задворках фабричных зданий, неподалеку от заводских бараков в городки (рюхи) с рабочими парнями, вызывая своими меткими к сильными ударами одобрение и более пожилых любителей этой старинной, исконно русской игры. Николай Эрнестович мог одним ударом выбить «на-вынос» самую сложную фигуру игры, вроде «лягушки» или «железной дороги», умел тремя палками «распечатать письмо», то-есть сбить пять рюх, расставленных по концам кона. Очень любил Бауман и местные, национальные празднества татарской молодежи. Иногда он бывал не только зрителем, но и участником «сабантуя», этого увлекательного праздника молодой силы, физической ловкости и здоровья. Молодой студент-ветеринар выходил на борьбу с крепышами парнями-поволжанами и нередко побеждал их если не силой, то ловкостью и сноровкой. Победа в любом деле, за которое он взялся — даже в простой борьбе, — была для него целью, которой он стремился достичь во что бы то ни стало.
— Ничего не могу делать наполовину!.. — говорил, тяжело дыша и отирая пот с лица, веселый и оживленный Бауман. — Такова уж у меня душа с детства: задумано — сделано, как ни трудно!..
Неистощимая энергия и физическая ловкость не раз впоследствии, в годы суровых революционных испытаний, выручали Баумана из затруднительных и даже сложных обстоятельств.
Товарищи Николая Эрнестовича по совместной подпольной работе вспоминают, что его любимой поговоркой было:
— Желать — значит сделать!
Во всем: и в спорах с товарищами, и в подпольной организационной работе, и в уменье быстро и хорошо законспектировать запрещенную книгу, сказывалась большая выдержка, большая целеустремленность будущего агента ленинской «Искры». Учась в ветеринарном институте, Бауман жил в маленькой комнатке-мезонине, куда почти каждый день приходили и где засиживались до поздней ночи его друзья — В. Г. Сущинский, Д. М. Автократов, H. H. Богданов. Они вспоминают, как нередко, готовясь к какому-нибудь трудному экзамену по анатомии или гистологии, прерывали свои занятия, увлеченные метким сравнением, острым замечанием Николая Эрнестовича. Он умел «освещением одного лишь факта, одного события показать широкую российскую действительность». Спорил Николай Эрнестович умело и доказательно — чувствовалось, что за каждым его утверждением стоит сама жизнь, личные наблюдения, уже накопленный жизненный опыт. «Природный организатор», — нередко называли Н. Э. Баумана его друзья и товарищи по ветеринарному институту. Крайне ценны воспоминания о Баумане — пропагандисте подпольных рабочих кружков в Казани — его друга и сотоварища В. Г. Сущинского. Уйдя из родительского дома, Сущинский поселился у своего приятеля-ветеринара, неподалеку от завода Крестовникова. Он уже научился в мастерской отца Баумана неплохо работать на столярном станке; на этой почве молодой студент завел знакомство с рабочими крестовниковского завода. А Николай Эрнестович вошел в круг рабочих на заводе Алафузова и в Адмиралтейской слободке. «Крепкий и здоровый, — вспоминает В. Г. Сущинский, — Бауман был общителен, имел веселый нрав и открытый характер, с рабочими он знакомился и сходился быстро. Организация кружков самообразования шла у него ловко и удачно. Программа чтения на этих кружках имелась и ходила у студентов по рукам»{Сборник «Товарищ Бауман», изд. 2. М., 1930, стр. 27–28.}.
Имея обширный круг знакомых среди молодых рабочих Казани, Бауман уже на втором курсе ветеринарного института организовал несколько подпольных кружков. Его современники вспоминают, что весной 1893 года Николай Эрнестович регулярно два-три раза в месяц, а иногда и чаще, проводил занятия в кружке татарской рабочей молодежи в районе озера Нижний Кабан. Другой кружок, в который входило немало представителей еврейской трудовой молодежи — по преимуществу ремесленников многочисленных казанских кожевенных и обувных кустарных мастерских, был создан Бауманом в северо-восточной части города, неподалеку от Сибирского тракта, где находился ветеринарный институт. Бауман и его друзья придумали оригинальный способ доставлять нелегальную литературу: «один из товарищей завел у себя на дому переплетную, брал… нужные книги, журналы, вырезал статьи по рабочему вопросу, вставляя в книгу листы из базарной литературы, аккуратно обрезал… и снова сдавал в «офицерскую» библиотеку». А вырезки в виде небольших книжек шли в кружки.
Программа занятий кружка была обычной для рабочих подпольных кружков того времени: читали для начала какую-нибудь популярную брошюру или книжку (вроде «Семеро с ложкой, один с сошкой») о положении крестьян, о притеснении рабочих на фабриках. Руководитель кружка умел при этом вызвать слушателей на живую беседу об условиях работы на их заводе или в их мастерской. Так протягивалась крепкая нить от повести об «общей доле» крестьян и рабочих к конкретным случаям текущей, действительной жизни на местных казанских предприятиях.
Преследование мастером — «хозяйским глазом» — молодой неопытной девушки-работницы, только что пришедшей за сотню верст в город на заработки; беспощадные штрафы за малейшую оплошность и даже просто по подозрению в «строптивости»; явно неправильные расчеты купца-лесосплавщика с бурлаками и грузчиками — все эти наболевшие язвы рабочей жизни служили темами для оживленных, горячих бесед и обсуждений. В особенности подготовленными к восприятию идей социал-демократии оказались рабочие большого алафузовского завода, основанного в 1863 году. На этом заводе широко применялась эксплуатация детского труда: восьмилетний ребенок работал так же, как и взрослый, по двенадцать-тринадцать часов в день, но получал лишь восемь (!) копеек. Крайне грубо и нагло обходились мастера и администрация с девушками и женщинами. Алафузовские рабочие, кроме того, почти не были связаны с сельским хозяйством. Поэтому занятия с алафузовцами проходили очень плодотворно. Николай Эрнестович умел самые серьезные вопросы обсуждать так, что занятия проходили оживленно. Нередко, если позволяли условия, занятия кружка заканчивались хоровой песней. Хотя сам Бауман признавался, что «в оперу его все равно бы не приняли», он страшно любил пение и не упускал случая спеть в хоре несколько революционных песен. Нередко он своим молодым, высокого тембра баритоном с увлеченьем начинал:
Есть на Во-олге утес…Организуя подпольные кружки среди рабочих, Бауман одновременно вел пропаганду и среди учащейся молодежи. Казанское студенчество, глухо волновавшееся в течение ряда лет, то и дело изыскивало пути для проявления своего недовольства, стараясь вместе с тем втянуть в это движение возможно более широкий круг городской интеллигенции…
Одной из наиболее распространенных форм выступлений была организация вечеров в университете или ветеринарном институте «в пользу голодающих». Посетители этих вечеров знали, что часть сбора поступает в студенческую кассу взаимопомощи, в задачи которой входила не только материальная помощь бедным студентам, но и пополнение библиотеки нелегальными книгами, помощь административно высланным студентам и т. п. Поэтому либерально настроенная часть общества — адвокаты, учителя, служащие — охотно посещала эти студенческие вечера. На них нередко раздавались запрещенные песни, декламировались стихи Некрасова и даже тургеневский «Порог». Впрочем, попытка публичного чтения этого стихотворения в прозе непременно оканчивалась вмешательством «недреманного ока» — полицейского пристава, зорко следившего за выступавшими артистами и студентами. Зачастую подобного рода вечера заканчивались арестом десятка-двух наиболее «нарушавших тишину и порядок» участников.
Молодой революционер ищет новые формы борьбы. Он усиленно работает над созданием строго законспирированного кружка, в котором можно было бы не только изучать марксистскую литературу на русском языке, но и переводить привозимые из Петербурга книги по политической экономии с немецкого языка на русский. В Казани в то время, как и в других городах России, молодежь, объединенная в подпольные кружки, усиленно изучала политическую экономию, экономическую историю России, стараясь выковать теоретическое оружие в спорах и дебатах со сходившим с исторической сцены народничеством.
Зная немецкий язык, Бауман в своем подпольном кружке не только читал марксистские брошюры и книги, но и переводил на русский язык привозимые из столицы новинки. Более того: Николай Эрнестович положил немало усилий для организации подпольной маленькой типографии. Точнее говоря, это был простой шапирограф: листовки о положении рабочих на заводах Крестовникова и Алафузова довольно примитивно прокатывались и сушились в тщательно запертой комнате Баумана и Сущинского. Но все же это были первые прокламации! Несколько десятков этих листовок члены кружка распространили среди казанских рабочих слободок. Конечно, это обстоятельство немедленно привлекло внимание властей. Департамент полиции в сентябре 1894 года сообщил начальнику казанского губернского жандармского управления о том, что из «переписки фельдшерицы Н. Земляницыной можно предположить о наличии в Казани некоего кружка…»; департамент требовал установить круг знакомых Земляницыной и характер деятельности кружка.
Полковник Марк, начальник казанского жандармского управления, ответил департаменту полиции, что круг знакомых Земляницыной «состоит из состоящих под негласным надзором студентов, уже известных департаменту: Сущинского, Баумана и др». Жандармский полковник добавлял, что «наблюдениями за Спориусом (фельдшер, ведший переписку с Земляницыной. — M. H.) и его знакомыми добыты данные, на основании коих можно предположить, что все эти лица и составляют означенный кружок… общего между этими знакомыми, кроме антиправительственной деятельности, повидимому, ничего быть не может»{Центральный исторический архив (ЦИА), фонд департамента полиции, особый отдел, дело № 813- «О розыске лиц по данным политического характера». Фамилия Н. Э. Баумана везде резко подчеркнута.}.
Полиция и жандармерия, державшие «на примете» наиболее активных студентов университета и ветеринарного института, уже весной 1893 года получили от своих филеров сообщения о существовании в среде студенческой молодежи «некоего сообщества, имеющего регулярные собрания, недозволенные законом». Вскоре властям сделались известными места собраний и фамилии некоторых участников. Сходки происходили чаще всего в квартире ученицы повивального училища З. Г. Борецкой на Поповой горе или на Соколиной улице в квартире студента Московского университета Агафонова, прибывшего в Казань, как значилось в делах полиции, в конце 1894 года «по своим делам». Указывался и третий адрес нелегальных собраний — Собачий переулок, где также проживали студенты ветеринарного института, «благонадежностью не отличающиеся».
Официальным предлогом для собраний, на которых иногда присутствовало 60–80 и даже более человек, были или именины, или помолвка, причем иногда, для придания сходке-вечеринке «большего вероятия», приглашались «посаженые» отец и мать, многочисленная родня «со стороны жениха и невесты» и т. п.
Вот что сообщал 2 (14) декабря 1894 года попечитель казанского учебного округа в секретном отношении директору Казанского ветеринарного института: «По полученным мною сведениям, 29 минувшего ноября на Поповой Горе, в доме Копылова, в квартире 3. Г. Борецкой, под предлогом обручения ее со студентом Казанского университета В. А. Поповым, была устроена сходка учащихся, на которой присутствовало до 80 человек. Из числа участников сходки, между прочим, замечены студенты ветеринарного института Николай Эрнестов Бауман и Владимир Гаврилов Сущинский…» Попечитель сообщил об этом директору института «для сведения и надлежащих мер»; в заключение он просил директора «о последующем его уведомить».
Директор поспешил вызвать к себе Баумана «на строжайшее внушение». Но студент держался твердо и независимо; в ответе управляющему казанским учебным округом (7 (19) декабря 1894 года) директор института вынужден был сообщить: «При дознании выяснилось, что Бауман и Сущинский действительно присутствовали на сказанном сборище, но на предложенные мною вопросы, по чьему приглашению он, Бауман, явился на сборище, по какому поводу состоялось оно и что обсуждалось и были ли там другие студенты института, — на все эти и подобные вопросы Бауман отказался дать определенные ответы».
Несколько ранее, 31 октября (12 ноября) 1894 года, начальник казанского губернского жандармского управления (также секретно) «покорнейше просит» господина директора Казанского ветеринарного института «не отказать, по встретившейся надобности, в препровождении мне фотографических карточек студентов вверенного вам института: Николая Баумана… Владимира Сущинского (следуют еще десять фамилий студентов ветеринарного института и две фамилии учеников ветеринарной фельдшерской школы. — M. H.)… каковые карточки по миновании надобности будут немедленно возвращены».
Конечно, институтское начальство поспешило выслать жандармам фотокарточки Баумана и Сущинского (отношение от 5 (17) ноября 1894 года). Таким образом, зимой 1894 года Бауман оказался «в поле зрения» жандармов. Молодой пропагандист подпольных рабочих кружков узнал о грозящей ему опасности по некоторым косвенным доказательствам: институтское начальство стало проявлять к нему излишнюю любезность, подозрительные люди все чаще появлялись во дворе дома, где он квартировал; на окраинах города, в непосредственной близости от места собраний кружков, произошли провалы и аресты. Арестовали нескольких членов кружка татарской молодежи. Друзья сочли долгом предупредить своего руководителя, что сыщики усиленно докапываются, «кто ведет на собраниях все это дело».
Еще одно обстоятельство привлекло внимание полиции к молодым студентам-ветеринарам. Мать В. Г. Сущинского жила в селе Ромодан Спасского уезда, в 120 верстах от Казани. Сущинский предложил Бауману съездить вместе с ним в Ромодан на зимние каникулы. Николай Эрнестович с радостью согласился, — он никогда не упускал случая «войти в гущу народную». Поехали по-студенчески: за 120 верст заплатили возчику 5 рублей; одеты были оба друга далеко не по-зимнему: «в Казанском крае зимы холодные, и Бауману в студенческой шинельке, без валенок, пришлось не столько ехать в санях, сколько бежать за ними, догоняя подводу и припрыгивая, чтобы согреться…» Зато в селе Ромодан Бауман и Сущинский провели время с большой пользой: они воочию убедились, что крестьянство даже в этих отдаленных лесных уголках глухо волнуется и что вера в царя-батюшку и в бога в значительной степени уже разрушена.
Бауман был очень доволен своей поездкой е Ромодан, длительными беседами с местными крестьянами (особенно подружился он с крестьянином Зотом Павловым, у которого прожил все святки) и неустанно повторял:
— Зарево революции расширяется!
В конце зимы 1891/92 года друзья зачитывались только что проникшей в казанские революционные круги работой Ф. Энгельса (с предисловием Плеханова) «Развитие социализма от утопии к науке». На летние каникулы Бауман и Сущинский опять отправились в Ромодан. Решили до пристани Спасский затон доехать пароходом, а оттуда пройти остальной путь (65 км) пешком.
Попутно студенты заходили в селения, где они останавливались зимой, и беседовали с крестьянами. Посетили Куралово, Пичкасы, Бураково, Гурьевну. Везде их встречали как уже знакомых, простых в обхождении людей, которые умеют глубоко вскрыть причины тяжелой жизни мужиков. Путешествие это заняло немало времени и опять дало большую пользу студентам, обогатив их знанием деревенской жизни.
Результат, однако, получился неожиданный: к матери Сущинского, вскоре после отъезда сына и его друга Баумана, явился местный исправник. Уже одно появление не станового пристава, а «самого» исправника указывало на серьезную причину визита уездной власти.
Исправник предъявил Сущинской требование, чтобы впредь ее сын со своим товарищем избирал себе иной маршрут и иное место отдыха, иначе он «прикажет немедленно доставить лошадей и отвезти их в Казань на казенный счет».
Беседы студентов по дороге в Ромодан дошли, оказывается, до слуха начальства. Друзьям грозил арест. Кроме того, директор института, напуганный запросом попечителя учебного округа, также мог предложить Бауману и Сущинскому подать прошение об увольнении из института по «собственному желанию». Между тем до выпуска из института оставалось около полугода. По совету друзей, Бауман усилил конспирацию, реже стал появляться в рабочих слободках и начал готовиться к приближающимся выпускным экзаменам. Обладая превосходной памятью и недюжинными способностями, он учился в институте хорошо. Весной 1895 года Бауман окончил его с отличием. Он думал о том широком поле деятельности, которое развернется перед ним, когда он станет сельским ветеринарным врачом. Избегая государственной службы, он подал просьбу о зачислении в Саратовское земство. Председатель земской управы согласился, впредь до утверждения Баумана, назначить молодого ветеринара в село одного из уездов Саратовской губернии.
Саратовский губернатор, получив просьбу председателя губернской земской управы об утверждении Баумана и Сущинского врачами в ветеринарных пунктах Саратовской губернии, запросил мнение казанского губернатора. Начальник Казанской губернии, в свою очередь, запросил казанское жандармское управление о политической благонадежности обоих ветеринарных врачей. Дело дошл© до департамента полиции: в Центральном историческом архиве (фонд департамента полиции, особый отдел, дело № 818, 1904 год — «О ветеринарном враче Николае Эрнестове Баумане») хранится ответ (21 августа (2 сентября) 1895 года) департамента полиции казанскому губернатору: «…к определению окончившего курс в Казанском ветеринарном институте Николая Эрнестовича Баумана на службу в Саратовское губернское земство препятствий со стороны 2-го департамента не встречается». Отношение это подписал вице-директор Зволянский, сделавший на копии отношения дополнительную резолюцию: «Завести дело».
Пока шла переписка земства с губернатором, а губернатора с департаментом полиции, Николай Эрнестович, пользуясь временным разрешением председателя губернской земской управы, весной 1895 года выехал в село Новые Бурасы, к месту своей службы на участковом ветеринарном пункте.
IV. ЗНАМЯ НАД ПАШНЕЙ
Перед отъездом в Саратовскую губернию Бауман простился с друзьями по кружкам, съездил на целых три дня с ними, пользуясь неприсутственными праздничными днями, на рыбалку вниз по Волге.
— Здесь ведь не так далеко. Я и из Саратова буду держать с вами связь, — говорил он при расставании молодым рабочим-кружковцам. Удачно избежав наблюдения сыщиков и полицейских, Бауман и Сущинский, вернувшись в Казань, собрали свои небогатые пожитки и быстро приготовились к отъезду на место службы.
Бауман зашел проститься к родным. Все годы ученья в институте он отказывался от помощи родителей, видя их затруднительное материальное положение. Но, несмотря на уход из дома и самостоятельное существование, Бауман был в курсе всех домашних дел, часто справлялся о здоровье Эрнеста Андреевича, уже тогда чувствовавшего первые признаки сердечной болезни, которая впоследствии свела его в могилу{Отец Н. Э. Баумана умер в 1908 году от сердечного припадка во время работы, за верстаком.}.
На следующий же день Бауман на пароходе, отправился в Саратов.
В Саратове молодому ветеринарному врачу пришлось пробыть более недели. У него уже были некоторые адреса, данные ему казанскими социал-демократами, и Бауман, прежде чем направиться в село, к месту службы, установил связь с саратовскими революционными кругами. Он, конечно, не думал сидеть безвыездно на своем ветеринарном участке и поэтому предварительно ознакомился с саратовскими революционерами, тяготевшими к марксизму. В Саратове в то время, так же как и в Казани, существовали подпольные социал-демократические кружки.
Саратовская губерния привлекала Баумана также и тем, что в половине девяностых годов здесь целый ряд уездов был охвачен революционными выступлениями крестьян. То в одном, то в другом, а иногда и в трех-четырех уездах сразу газеты Саратовской губернии отмечали пожары помещичьих усадеб, избиения управляющих, порубки помещичьих лесов.
При этих условиях вполне понятно, что в то же время в Саратове существовала и значительная организация народнического, а затем народовольческого направления, вскоре превратившаяся (в начале девятисотых годов) в организацию социалистов-революционеров. Между марксистами и между отжившими свой исторический век народовольцами происходили ожесточенные споры и дискуссии. Представители различных идейных направлений сходились на нелегальные вечеринки, яростно спорили при обсуждении рефератов на самые животрепещущие темы: о роли крестьянства и рабочих в грядущей революции, о наступлении Капитала, на город и деревню, о допустимости и целесообразности террористических методов в борьбе с царским правительством. Саратовские революционные кружки страстно обсуждали почти те же самые вопросы, которые так волновали казанских революционеров. Но в саратовских условиях жизнь ставила эти вопросы, пожалуй, острее и резче: тяжелее жилось крестьянину Саратовской губернии, сильнее обезземелила его реформа 1861 года. Яркие картины помещичьего гнета в восьмидесятых годах в центрально-черноземной полосе России находим в воспоминаниях современников:
«По утрам дымился жалкий дымок над соломенными крышами, а к весне и дымки становились редки. Нечем было топить и нечего было стряпать, из пяти-шести изб сносили в одну горшечки с кашей для ребят, а взрослые ели только хлеб, запивая его водой, — квас варили в редких избах. Молоко шло только для ребят. Считался зажиточным тот двор, где своего хлеба хватало до великого поста, а большинство с «зимнего Николы» (19 декабря. — М. Н.), с рождества (7 января. — M. H.) начинали прикупать хлеб.
Округа бунтовала во время объявления воли, не приняла земли и вышла на «нищенский» надел, по четверти десятины на душу. Кругом залегали помещичьи поля, и бились люди, как в паутине, и нельзя было не снимать помещичьей земли, не отрабатывать за выгон для своего скудного скота.
Крепостное право исчезло, но оно жило в нравах, во взаимоотношениях…
И отхожие промыслы были особенные. Приезжал подрядчик нанимать рабочих, и в волости составляли списки крестьян-недоимщиков. И… крестьян-недоимщиков не спрашивали, желают ли они итти на те или иные заработки, а записывали в волости и цены устанавливали также в волости, по соглашению старшины и писаря с подрядчиками.
Крестьяне были прикреплены к помещику. Живо было крепостное право!»{С. Я. Елпатьевский. Воспоминания за 50 лет М., 1929, стр 7–8.}
Эти воспоминания сельского врача написаны в Рязанской губернии. Но и в Саратовской губернии в те годы была та же картина. Бауману приходилось по работе часто бывать в окрестных с Новыми Бурасами деревнях и селах, и он воочию убеждался, что представляет собой на деле реформа 19 февраля. Он видел «окольцованные» помещичьими имениями жалкие клочки крестьянских наделов, чересполосицу, дальноземелье… Перед ним на живых, совершенно реальных примерах раскрывалась блестящая ленинская характеристика политического и социально-экономического значения реформы 1861 года:
«…Крестьянская реформа отрезками земель прямо ограбила крестьян в пользу помещиков, сослужив службу этой громадной реакционной силе и непосредственно (отхватыванием крестьянской земли) и косвенно (искусным отмежеванием наделов)»{В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т 1, стр 271.}.
Именно в Саратовской и смежных поволжских и центрально-черноземных губерниях помещики при размежевании с крестьянами после 1861 года применяли «поправку» князя Гагарина, согласно которой три четверти надельных земель оставалось у помещиков и лишь четверть (так называемые «гагаринские» или «дарственные» наделы) переходила к «освобожденным» крестьянам. Исключительно яркий пример бедственного положения крестьян в этой же губернии привел в 1903 году В. И. Ленин в своей второй речи при обсуждении аграрной программы на II съезде РСДРП:
«…Я взял данные той же Саратовской губернии, и оказалось: размер отрезков равен там 600 000 десятин, т. е. 2/3 всей земли, находившейся во владении крестьян при крепостном праве, а аренда равна 900 000 десятин; следовательно, 2/3 всей арендной земли — отрезки»{В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 6, стр. 451.}.
Цепкую паутину плело и кулачество, захватывая у «мира» на сходках лучшие луга, снимая за бесценок в долголетнюю аренду мирские просорушки-маслобойки. Эти «знамения времени» живо обсуждались в саратовских революционных кругах. Молодежь, жаждавшая «самоопределиться», переживавшая тот же «кризис мысли», который уже пережили и так успешно разрешили для себя еще в Казани Бауман и Сущинский, с крайним увлечением обсуждала закат народовольчества и рождение новых, марксистских идей и методов массовой борьбы. В Саратове в то время подпольные кружки чаще всего собирались на квартире М. А. Дьяковой. «Вечера у Дьяковой» превращались в клуб для революционно настроенной молодежи. Именно так и характеризует В. Г. Сущинский «саратовский период» жизни Баумана:
«Ежемесячно мы съезжались в Саратове… Приветливость, ласковое гостеприимство и искусство конспирации Дьяковой были изумительны. У нее сходилось столько людей, что всех не вспомнишь… Были там девушки — замечательные красавицы — Маргарита и Валя Лукьяненко. В них все мы были влюблены…. Бывали у Дьяковой и зрелые люди всех направлений — народовольцы, толстовцы, анархисты, марксисты, народники… В разговорах и спорах с представителями других направлений Бауман не только не сдавал, а наоборот — оттачивал марксистское оружие»{Сборник «Товарищ Бауман», изд. 2. M., 1930, стр. 35–36.}.
Приезжая в Саратов и навещая «революционный клуб» Дьяковой, Бауман и Сущинский встречались со студентами — питерцами и москвичами. Студенты снабжали обоих друзей подпольной литературой, сообщали новости о спорах и идейных течениях в столичных марксистских кружках. Беседуя со «столичниками», как называл в шутку Бауман приезжавшую в Саратов на каникулы молодежь крупных университетских городов, молодые ветеринарные врачи все чаще стали думать над вопросом о том, где же в дальнейшем им продолжать свою революционную работу. Поездки в Саратов давали Бауману и Сущинскому не только общение с революционной молодежью, не только участие в диспутах с отживающими эпигонами народовольчества. «Помимо идейной зарядки, — пишет В. Г. Сущинский в своих воспоминаниях о Баумане, — этой невесомой, так сказать, ценности, мы добывали в Саратове и нечто вполне весомое: литературу, листовки… Их брали с собой по участкам и раздавали потом крестьянам. Впрочем, главными поставщиками «литературы» для нас были все-таки питерцы, то-есть знакомые петербургские студенты-марксисты. «Проездом» они нередко навещали нас и оставляли нелегальные издания, прокламации, листовки. Все это мы распространяли. Брали у нас «литературу» нарасхват. Саратовская губерния второй половины девяностых годов в революционном отношении была подготовлена: работа среди саратовского крестьянства была чистым удовольствием. Сочувствие, поддержку, готовность помочь мы видели кругом и встречали повсюду»{Сборник «Товарищ Бауман», изд. 2. М, 1930, стр 36.}.
Николай Эрнестович был назначен в Саратовский уезд, в село Новые Бурасы, находившиеся от Саратова в 65 километрах. Здесь был земский ветеринарный пункт. Сущинского назначили в другой уезд — Аткарский, но друзья дали друг другу слово держать крепкую связь, по возможности чаше встречаться, или в Саратове у Дьяковых, или от времени до времени наезжая друг к другу.
Новые Бурасы — довольно большое поволжское село, привольно раскинувшееся на водоразделе реки Медведицы. Плоская возвышенность между селами Алексеевским! Старыми и Новыми Бурасами почти безлесна; на десятки верст колышутся золотящиеся хлеба. Большие обозы тянутся ранним утром в Новые Бурасы, — село это базарное, оживленное.
Бауман в первые же дни приезда на ветеринарный участок пешком исходил все окрестности, нередко уходя за 15–20 километров от своего села.
Вскоре Николай Эрнестович с головой погрузился в работу. Он изучал условия жизни, быта крестьян окрестных сел и деревень. Разъезды ветеринарного врача по участку обязательны и обычны, они не должны вызывать беспокойства «недреманного ока» полиции, и молодой ветеринарный врач широко пользовался этим правом. Ветеринарный врач побывал в селах не только своего, но и соседних участков; «заглядывал мимоходом», как он однажды сказал В. Г. Сущинскому, и в Саратов, несмотря на значительное расстояние, отделявшее губернский город от Новых Бурас.
В короткое время Бауман сумел освоиться на новом месте и «войти в курс жизни». Этот «курс» заключался не в одном лишь леченье скота, а главным образом в беседах с крестьянами на тему о результатах реформы 1861 года, о тяжести жизни в «освобожденной» деревне, о произволе и вымогательствах полиции.
Бауман обладал удивительным умением исподволь, не торопясь и не озадачивая собеседника, проводить в беседе свою точку зрения, настойчиво убеждать слушателя неоспоримыми фактами и цифрами, так что собеседник, подумав и поразмыслив, должен был согласиться с новыми для него мнениями и радикальными выводами.
Крайне интересные воспоминания об этих беседах молодого ветеринара находим мы в воспоминаниях И. Н. Белокурова.
Белокуров жил в селе Павловском, расположенном на пути из Новых Бурас в Саратов. Николай Эрнестович, изучая быт и условия жизни окрестного населения, услыхал о совершенно необычайном явлении в этом селе: молодой крестьянин организовал на артельных началах сельскую библиотеку!
Конечно, Бауман заинтересовался этим очагов культуры и стал собирать о И. Н. Белокурове более подробные сведения. Белокуров, крестьянин по происхождению, учился в земской школе и еще с детства крайне пристрастился к чтению. Его не удовлетворяли «жития святых», «четьи-минеи» и прочие «душеспасительные» книги, которыми просвещали в то время деревенскую молодежь в церковно-приходских и даже земских сельских школах. Еще подростком Белокуров, как он пишет в своих воспоминаниях, «так пристрастился к чтению, что без книг, казалось, и жить нельзя. Книг же в наших местностях тогда почти не было; покупать их на собственные средства я не мог, во-первых, потому, что мы жили бедно, во-вторых, потому, что хозяйством распоряжался мой отец и на покупку книг он, конечно, денег не дал бы».
И Белокуров придумал по тем временам крайне смелый и оригинальный выход: он убедил нескольких своих молодых сверстников-односельчан создать артель для изыскания средств на покупку книг. Молодежь, в числе тринадцати человек, задумала посеять подсолнечник на артельных началах: достали семян, посев и уборку решили провести своими силами, урожай продать и всю выручку употребить на покупку книг и выписку журналов и газет. Всю зиму 1893/94 года эти любители чтения «мечтали о книгах, строили разные планы»… Об этой «крамольной затее» узнал местный поп, и под его влиянием в артели из тринадцати человек осталось только пять. Но и этот удар не подорвал энергии Белокурова: впятером энтузиасты просвещения все-таки посеяли весной подсолнух, продали урожай и выручили 48 рублей — сумму по тем временам немалую. Слухи об этой артели дошли до Баумана, и он в начале 1896 года приехал к Белокурову, чтобы побеседовать с ним по душам. Приехал он, как вспоминает И. Н. Белокуров, на подводе в одну лошадь, запряженную в простые розвальни. Одет Бауман был в байковый чапан{Чапан — верхняя крестьянская одежда, надеваемая в зимнее время.} и закутан башлыком. Белокурова он встретил в конце села и очень обрадовался, что это именно тот человек, к которому он едет:
— Вот хорошо, тогда садитесь сюда и поедем к вам, — ведь я и еду к вам.
Белокуров вначале с некоторым опасением сел рядом с приезжими: «Дорогой я не осмелился его спросить, кто этот незнакомец и зачем он ко мне едет. Сидя с ним рядом, я увидел и по разговору понял, что это не простой человек, а, по нашему тогдашнему понятию, барин. А известно, как тогда баре снисходили к мужикам: с ними не разговоришься»{И. H. Белокуров. Встречи с H Э Бауманом. «Каторга и ссылка», 1931, № 4 (77), стр 197.}. Узнав, что его гость — ветеринарный врач, Белокуров подумал, что, вероятно, он приехал насчет каких-либо распоряжений о страховании скота.
Но лишь стоило Бауману побеседовать с Белокуровым наедине всего с полчаса, как крестьянин сразу и коренным образом переменил свое мнение о «барине» — молодом ветеринарном враче. Бауман живо и подробно интересовался работой «книжной артели», сказал, что это очень редкий случай крестьянской инициативы: сельская библиотека, да еще на артельных началах — явление совершенно необычное. Он дал Белокурову адрес петербургского «комитета грамотности», посоветовал, какие книги выписать на первых порах, рекомендовал обратиться и в Саратовское общество санитарных врачей, членом которого сам состоял. Бауман убедил Белокурова попросить ссуду, так как это общество помогало всяким культурным начинаниям в деревне, в особенности распространению просвещения{И. Н. Белокуров обратился после отъезда Баумана в это общество, и оно отпустило на библиотеку села 50 рублей.}.
Затем Бауман очень умело перешел к беседе на другие, более широкие темы: об отношениях крестьян этого села к помещикам, о размерах крестьянских наделов, о местном начальстве, духовенстве и т. п. Беседа приняла подлинно дружеский характер и затянулась далеко за полночь. Жена Белокурова уже два раза подогревала самовар, а хозяин и гость, оказавшийся вовсе не «барином», а на редкость простым и чутким человеком, все разговаривали. Белокуров страстно ненавидел помещиков, их гнет и притеснения, ненавидел полицию, но к царю относился с уважением, наивно полагая, что царь думает наделить крестьян землей, а помещики ему мешают. «То же самое происходило и в отношении религии, — писал впоследствии Белокуров в своих воспоминаниях, — я видел все поповские мерзости и все-таки, начитавшись религиозных книг, почаевских и троицких листков{Листки и брошюры, издававшиеся монастырями (Почаевской лаврой в Киеве, Троице-Сергиевской лаврой и др).}, был до фанатизма религиозен, верил в поповского бога и искренно ему молился»{И. H. Белокуров. Встречи с Н. Э. Бауманом. «Каторга и ссылка», 1931, № 4 (77), стр. 199.}.
Это отношение к царю и религии очень характерно для многих не только пожилых, но и молодых, даже стремившихся к знанию крестьян того времени. И Бауман, уже встречавшийся с такого рода настроениями среди казанских кружковцев, осторожно, но очень настойчиво старался переубедить своего собеседника, посеять в нем иные мысли и настроения.
Белокуров вспоминает:
«…Разными, на вид невинными вопросами старался навести меня на вывод, что царь, помещики и разное начальство — это одно и то же, что бога и религию нельзя отделять от попов. Но, соглашаясь с ним во многом, я все-таки упирался. Мое закоренелое убеждение в этот раз сломить Николаю Эрнестовичу так и не удалось. Мы с ним проговорили всю ночь до рассвета, и, уже собираясь уезжать, он спросил меня, что я думаю о тех людях, которые убили Александра И. Я опять ответил ему словами почаевских листков, что это были изверги рода человеческого, что я их ненавижу и т. п. Тогда Николай Эрнестович, покачав головой, сказал:
— Напрасно, это — люди хорошие… но, впрочем, мы с вами еще кое о чем поговорим, приезжайте ко мне в Бурасы.
Видя мое такое фанатическое упорство и слыша от меня такие гадкие, мерзкие слова, Николай Эрнестович не рассердился, а на мое упорство решил ответить тоже упорством. Он, как видно, из моего поведения вывел заключение, что если меня просветить, то я с таким же упорством буду защищать и революционные убеждения»{И. Н. Белокуров. Встречи с Н. Э. Бауманом «Каторга и ссылка», 1931, № 4 (77). стр. 199.}.
Беседа с Бауманом глубоко запомнилась Белокурову. О многом по-новому передумал он, стремясь понять полностью мысли Николая Эрнестовича. Занятый крестьянской работой в хозяйстве отца, Белокуров сумел попасть в Бурасы только летом. Бауман встретил его как старого знакомого, опять долго и дружески с ними беседовал и дал ему адрес одного из своих саратовских знакомых, с которым, как считал Бауман, Белокурову было бы очень полезно побеседовать. Впоследствии Белокуров вспоминал: «Мы проговорили тогда всю ночь до рассвета… Николай Эрнестович первый покачнул мою веру в бога и царя»{И. Н. Белокуров. Из записок аграрника. М., 1926, стр. 13.}.
Время шло. Шла весна, а вместе с ней приближалось 1 мая.
Николай Эрнестович решил отпраздновать этот всемирный праздник трудящихся. Замысел его был тем более нов и значителен, что маевки нужно было провести в далеком саратовском селе, оторванном от влияния крупных пролетарских центров. В то время (1896 год) не во многих городах, даже с большим фабрично-заводским населением, пытались праздновать 1 мая. Но трудности не остановили Баумана, имевшего уже некоторый опыт подпольной работы в казанских рабочих кружках. Всего несколько человек посвятил Бауман в свой план за два-три дня до 1 мая. К Бауману часто приходил старичок-землемер, сын которого был сослан за народовольческую агитацию. Нередко старичок засиживался у молодого ветеринарного врача заполночь, рассказывал, в каких ужасных условиях «мышеловок», «окольцовывания» и прочих «утеснениях землей» оказались окрестные крестьяне после 1861 года. Его-то и пригласил к себе Бауман под видом рыбной ловли накануне 1 мая. Над починкой наметок и большого бредня на дворе ветеринарного участка хлопотал также местный учитель, восторженный поклонник Писарева и Добролюбова. С удовольствием присоединились к рыбалке несколько молодых крестьянских парней, с которыми Николай Эрнестович завел большую дружбу. Крестьянская молодежь относилась к своему сверстнику — молодому ветеринарному врачу — с большим уважением и симпатией: Бауман держался с ними запросто, приветливо разговаривал, помогал в школьных занятиях. Они видели в нем не «городского», не чиновника, а человека, который участливо беседует с ними о их житье-бытье, не чуждается молодежи, не отсиживается на своем участке, при случае может сыграть с большим успехом два-три кона в городки.
Ранним утром небольшая толпа — человек двадцать «рыболовов» — двинулась от ветеринарного участка к небольшой степной речке, протекавшей неподалеку от околицы. Впереди, заботливо поддерживая большой, аккуратно свернутый бредень, шел ветеринарный врач. За ним с наметками, не торопясь, шагали учитель и землемер. А молодежь, с веселым смехом и переговорами, шла к реке напрямик, по только что вспаханному яровому полю. Вдали, за перелеском зеленела бархатная озимь. Свежий ветер разгонял последние предутренние тучи. Когда «рыболовы» подошли к речке, Николай Эрнестович огляделся вокруг. Место было выбрано удачно: «рыболовы» расположились в небольшой лощинке, закрытой со стороны села прибрежными кустами ольхи и орешника. Если бы урядник и захотел понаблюдать от околицы села за занятиями «рыболовов», он не смог бы что-либо рассмотреть на таком значительном расстоянии.
Николай Эрнестович развернул бредень — и большое красное знамя затрепетало над свежей, черной пашней. Бауман встал на высокий пенек у обрыва речки и обратился к своим спутникам с короткой, но горячей, зажигающей сердца речью о значении первомайского праздника:
— Пока это алое знамя, как яркий огонь, как надежда нашего освобождения, взвилось только над этой тихой степной речкой и пашней! Пока наши товарищи-рабочие только небольшими, но сплоченными, сильными группами выходят в это утро приветствовать свой рабочий праздник. Но пройдет немного лет — и наше красное знамя, трепещущее на ветру, взовьется над всеми городами и селами, победно взовьется над всем миром!..
…Поздно вечером вернулись с речки «рыболовы»… Даже десятки лет спустя вспоминали участники маевки горячую речь Баумана…
Летом трудовую, полную разъездов и агитационной работы жизнь в далеком степном селе еще более оживил приезд Эльзы, любимой сестры Николая Эрнестовича. Она приехала к брату на каникулы в сопровождении одной из своих казанских подруг. Эльза привезла письма от родителей, от казанских друзей, несколько новых, только что полученных в казанских социал-демократических кругах брошюр и книг по рабочему вопросу, по политической экономии. «Приезд ее был принят восторженно всей нашей радикальной молодежью, вышел за пределы события в селе Бурасы», — так вспоминал об этих чудных летних днях Николай Эрнестович. О приезде подруг молодые ветеринары известили своих новых знакомых, в которых чувствовали возможных единомышленников: землемера, рассказывавшего Николаю Эрнестовичу горькую правду о «размежевании» крестьян с помещиками после 1861 года; учителя, исключенного из семинарии «за неодобрительное поведение»; сына дьякона из соседнего села.
Молодежь восторженно читала новинку — напечатанное в начале марта 1895 года в «Самарской газете» стихотворение М. Горького «В Черноморье» (с подзаголовком «Песня»). В этом изумительно певучем, сверкающем морем и солнцем смелом призыве воспевался храбрый сокол, которого даже смерть не могла оторвать от неба, свободы…
Девушка с необычайным волнением, проникновенно читала заключительные строки этой песни о свободе:
— «Пускай ты умер! Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!..»
И Николай Эрнестович, перебивая ее, с восторгом повторял:
Безумству храбрых поем мы песню!..Вечеринка закончилась на рассвете. Первые лучи солнца гости Баумана встретили, по предложению хозяина, бессмертной «Вакхической песней» Пушкина:
Да здравствует солнце, Да скроется тьма.…Быстро пролетело время каникул. Эльза со своей подругой — веселой, энергичной девушкой — стала собираться в дорогу. Возвращались они из Саратова в Казань на пароходе, и Николай Эрнестович вместе с В. Г. Сущинским поехал провожать их до Саратова. Здесь молодые люди вновь провели несколько дней в кружке Дьяковой. Проводы Эльзы и ее подруги были шумными и веселыми. Провожать их явилась на пристань чуть ли не вся «социал-демократическая колония Саратова и его окрестностей», — как шутливо называл впоследствии в одном из писем родным Николай Эрнестович молодежь кружка Дьяковой.
Глядя «а уходивший вверх по течению пароход, еле различая беленький, становившийся все меньше и меньше платочек сеетры, Николай Эрнестович промолвил стоявшему около него Сущинскому:
— Эх, брат… и нам не пора ли ехать?
— В Бурасы? — переспросил его друг.
— Нет, туда… в большой город… к настоящему делу… — тихо, но твердо ответил Бауман.
Через день они, однако, вернулись на свои ветеринарные участки. Перед отъездом в село Бауман и Сущинский разговаривали со старым народовольцем Н. Балмашовым, сын которого впоследствии убил министра внутренних дел Сипягина. Бауман с интересом вслушивался в яркие, красочные воспоминания одного из «последних саратовских могикан», пешком исходившего, агитируя среди крестьян, не одну тысячу верст. Но с обычной своей Политической прямотой и твердостью Николай Эрнестович резко оспаривал «теоретический фундамент» террора, единичных выступлений против представителей царской бюрократии.
— У царя слуг всякого ранга и калибра много, всех их по одиночке не перебьешь, — убежденно говорил Бауман, — дело не в одиночных восстаниях сел и деревень — трагедия Бездны это доказала с полной очевидностью. Бороться с царским строем и капитализмом надо не по деревням, а в городах, плечом к плечу с рабочей массой!..
С новыми мыслями, с еще более укоренившимися намерениями вернулись Бауман и Сущинский в свои села, к месту службы.
Поездки молодых ветеринарных врачей Баумана и Сущинского в Саратов, их встречи с кружком Дьяковой и беседы, которые вел Бауман с окрестными крестьянами во время своих разъездов по участку, — все это, разумеется, не могло остаться незамеченным местной полицией. Работой Баумана заинтересовался не только пристав того стана, в котором находилось село Новые Бурасы, но и сам «хозяин уезда» — исправник. Бауман вскоре по приезде в Новые Бурасы заметил, что урядник что-то слишком часто наведывается к его соседям. Нередко урядник «случайно» попадался молодому ветеринарному врачу и на проселках, интересовался, куда и к кому едет Бауман. А становой пристав прямо-таки «воспылал симпатией», по его словам, к Николаю Эрнестовичу и нередко заезжал на ветеринарный пункт «побеседовать и отдохнуть». Эти «беседы» были крайне неприятны: Бауман, с его открытым, жизнерадостным характером, не переносил столь плохо скрытой слежки и сдерживался, чтобы как-нибудь во время «беседы» не высказать становому свое откровенное мнение о полиции и ее методах «уловления душ». Но становой не огорчался явной холодностью своего невольного собеседника и настойчиво продолжал непрошенные визиты.
Урядник также все чаще мелькал перед воротами ветеринарного участка, расспрашивал крестьян, о чем беседовал с ними врач во время осмотра скота. Все эти усиленные «любезности» местных властей становились в конце концов нестерпимыми. Николай Эрнестович чувствовал, что его революционная работа будет гораздо плодотворнее в центре рабочего движения — в Петербурге. Из бесед в кружке Дьяковой и из редких писем, доходивших к нему от казанских друзей, он знал, что в Петербурге в 1893–1894 годах зародилось рабочее движение. В конце 1894 года, в связи с забастовкой на Семянниковском заводе, появились подпольные листовки. Все эти вести крайне волновали Николая Эрнестовича.
Посоветовавшись со своим другом Владимиром Сущинским, Бауман глубокой осенью 1896 года решил покинуть работу ветеринара и уехать в Петербург. Его уже давно манила дорога профессионального революционера. Ускорило это решение и то обстоятельство, что губернатор не утвердил Сущинского в должности ветеринарного врача.
Друзья подали заявления об отставке и, несмотря на уговоры председателя земской управы, твердо решили уехать. К обязанностям ветеринарного врача Бауман относился горячо, «с душой»: в архиве сохранилась благодарность земской управы «ветеринарному врачу Н. Э. Бауману за усердную и полезную деятельность на участке». Но Николай Эрнестович справедливо полагал, что его деятельность будет гораздо полезнее среди петербургских рабочих. Скромный и нетребовательный в личной жизни, молодой ветеринарный врач сумел скопить небольшие сбережения; к моменту отъезда из Бурас в Петербург у Баумана было около 500 рублей. На эти средства и решили жить оба друга в Петербурге до приискания «работы по душе».
И в октябре 1896 года Бауман и Сущинский отправились в Петербург. Перед отъездом Бауман послал Белокурову письмо с просьбой приехать к нему попрощаться. Белокуров немедленно явился и застал Баумана за укладкой вещей. Николай Эрнестович дружески простился с Белокуровым, еще раз пожелал ему «выйти на правильный путь» и с большим оживлением говорил о Петербурге, о своей будущей работе в крупнейшем городе, с сотнями больших фабрик и заводов.
V. В ПОДПОЛЬНЫХ КРУЖКАХ ПЕТЕРБУРГСКИХ РАБОЧИХ
Осенью 1893 года в Петербург приехал Ленин. В очень короткий срок «необыкновенно глубокое знание Маркса, умение применять марксизм к экономической и политической обстановке России того времени, горячая, несокрушимая вера в победу рабочего дела, выдающийся организационный талант — все это сделало Ленина признанным руководителем петербургских марксистов»{«История ВКП(б). Краткий курс», стр. 17–18.}.
Лучшие силы петербургских социал-демократов (Г. М. Кржижановский, А. А Ванеев, Л. М. Книпович, Н. К. Крупская, З. П. Невзорова и др.), начинавших работу в подпольных кружках, сплотились вокруг Ленина.
Ленин поставил своей важнейшей задачей объединить разрозненные подпольные кружки в единый, революционно действующий рабочий союз. Такого рода объединение рабочих должно было, по мысли Ленина, стать основой, зародышем революционной партии, опирающейся на широкое рабочее движение. В течение последующих (1894–1895) лет Ленин неуклонно, со всей присущей ему силой и твердостью, борется за осуществление намеченной великой задачи.
Ленин сыграл важнейшую роль в объединении первых социал-демократических кружков Петербурга. В 1895 году Владимир Ильич объединил около 20 кружков в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Это объединение, это создание единого союза имело поистине историческое значение, так как организацией «Союза борьбы» Ленин подготовил создание революционной марксистской рабочей партии.
«Союз борьбы за освобождение рабочего класса» «не только занимался революционным просвещением—пропагандой, но и агитацией среди рабочих, он руководил массовым рабочим движением. Знаменитая стачка 1896 года в Петербурге происходила уже под руководством петербургского «Союза борьбы».
В то время не только отдельные товарищи, но и целые кружки, чтобы труднее было полиции их выследить, назывались разными кличками вместо настоящего имени. Ленина называли «Стариком», «стариками» звали и других его сторонников, хотя они были сравнительно молодыми еще людьми, не достигшими 30 лет»{Ем. Ярославский. Биография В. И. Ленина. М., 1940, стр. 28.}.
Летом 1896 года в столице произошла забастовка текстильщиков, принявшая по тому времени большие размеры. Достаточно вспомнить, что 17 бумагопрядильных фабрик сразу, выполняя решение стачечного комитета, прекратили работу. Эта быстрота и, главное, одновременность забастовки, показывавшая значительную спайку, организованность рабочих, в сильной степени обеспокоили предпринимателей и власти. Остановились крупнейшие мануфактуры — Екатерингофская, Калинкинская, Митрофановская, Невская…
Через 3–5 дней к забастовавшим рабочим присоединился еще целый ряд фабрик и заводов, расположенных за Невской заставой, в районе Нарвской заставы, на Охте. Полиция с огромной тревогой доносила в министерство внутренних дел, что число забастовавших достигло 35 тысяч.
Эта забастовка внушила революционерам уверенность в силу рабочего класса, показала, какая мощь таится в столичном пролетариате. А. И. Ульянова-Елизарова в своих «Воспоминаниях об Ильиче» пишет:
«Какое-то окно открылось в душном и спертом каземате российского самодержавия, и все мы с жадностью вдыхали свежий воздух и чувствовали себя бодрыми и энергичными, как никогда»{А. И. Ульянова-Елизарова. Воспоминания об Ильиче. М., 1934, стр. 68.}.
Стачка текстильщиков дала вместе с тем толчок для дальнейшего развития подпольных социал-демократических кружков, для продолжения работы организованного Лениным «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Ленин так направлял и организовывал работу своих сотоварищей по руководству подпольными рабочими кружками, чтобы добиться в возможно широком масштабе соединения социализма с рабочим движением. Руководители «Союза борьбы» на материале самой действительности воспитывали петербургских металлистов и ткачей политически.
Условия работы на петербургских заводах и фабриках были в то время крайне тяжелы. Они с исключительной правдивостью запечатлены в воспоминаниях одного из верных учеников Ленина — Ивана Васильевича Бабушкина. Вот описание рабочего «дня» на Семянниковском заводе в Петербурге:
«Идя перед вечером через мастерскую нижним этажом, мы с озлоблением смотрели на висевший у стены фонарь, в котором горела свеча, а на стеклах была надпись: «Сегодня полночь: работать от 7 ч. Вечера до 11,5 ч. вечера» или «Сегодня ночь: работать от 7,5 ч. вечера до 2,5 ч. ночи». Эти надписи чередовались изо дня в день, то-есть сегодня полночь, завтра ночь. Таким образом, приходилось вырабатывать от 35 до 45 рабочих дней в месяц, что на своеобразном остроумном языке семянниковцев выражалось так: «у меня или у тебя в этом месяце больше дней чем у самого бога»; и действительно, несчастными полночами и ночами иногда нагоняли в течение месяца до 20 лишних дней»{«Воспоминания И. В. Бабушкина (1893–1900 гг.)». Л., 1925, стр 36.}.
Рабочие трудились до изнеможения, до обмороков. И. В. Бабушкин вспоминает, что, измученный этой бесконечной, низкооплачиваемой сверхурочной работой, он прямо-таки засыпал на ходу и нередко просыпался от удара… лбом о фонарный столб. Незабываемы его описания рабочих каморок, похожих скорее на нору зверя, чем на жилище тружеников столицы в самом конце XIX века:
«У нас пропала охота осматривать дальше общую кухню, прачечную и помещение для семейных, где серая обстановка скрашивалась лишь одеялом, составленным из бесчисленного множества разного рода лоскуточков ярких цветов и которое покрывало кровать, завешенную пологом. Полог служил двум целям: с одной стороны, он должен был прикрыть нищету, с другой — он удовлетворял чувству элементарной стыдливости, ибо рядом стояла такая же семейная кровать с такой же семейной жизнью. Все это было слишком ужасно и подавляло меня…»
Таковы были условия существования рабочих не на одном Семянниковском заводе. И эти живые, конкретные факты повседневной жизни руководители подпольных рабочих кружков умело использовали на занятиях со своими слушателями-рабочими. Иван Васильевич рассказывает, как руководил одним из марксистских рабочих кружков Ленин. Члены этого подпольного кружка, организованного Лениным, обычно собирались в комнате Бабушкина. В кружке было всего 6–8 человек. С каким вниманием, с каким интересом слушали они объяснения своего лектора!
Ленин начал «занятия по политической экономии, по Марксу. Лектор излагал нам эту науку словесно, без всякой тетради, часто стараясь вызвать у нас или возражения или желание завязать спор, и тогда Подзадоривал, заставляя одного доказывать другому справедливость своей точки зрения на данный вопрос. Таким образом, наши лекции носили характер очень живой, интересный, с претензией к навыку стать ораторами; этот способ занятий служил лучшим средством уяснения данного вопроса слушателями. Мы все бывали очень довольны этими лекциями и постоянно восхищались умом нашего лектора…»{«Воспоминания И. В. Бабушкина (1893–1900 гг.)». Л., 1925, стр. 51.}
Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», как определил сам Ленин, являлся зачатком революционной партии, опирающейся на рабочее движение.
«Ленин ставил перед «Союзом борьбы» задачу связаться теснее с массовым рабочим движением и политически руководить им. От пропаганды марксизма среди небольшого количества передовых рабочих, собранных в пропагандистских кружках, Ленин предложил перейти к злободневной политической агитации среди широких масс рабочего класса. Этот поворот в сторону массовой агитации имел серьезное значение для дальнейшего развития рабочего движения в России»{«История ВКП(б). Краткий курс», стр. 18.}.
Повсюду — в Москве, Тифлисе, Костроме, Ярославле, Ростове на Дону, Киеве, Самаре, Казани — в десятках городов европейской и азиатской части России возникают марксистские организации, растут социал-демократические подпольные рабочие кружки.
Работа Владимира Ильича по объединению и укреплению рядов «Союза борьбы», а также по руководству движением находила широчайший отклик среди молодежи, тяготевшей к социал-демократическому движению, к марксизму. Исключительное значение для формирования российской социал-демократической рабочей партии имела написанная Лениным в 1894 году в Петербурге работа «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?». В этом классическом произведении Ленин гениально завершил идейный разгром народничества, показав всю никчемность и фальшь народников. Ленин негодующе-ироническими, меткими словами заклеймил позицию народников, отказавшихся, по сути дела, от революционной борьбы с правительством и думающих, «что если попросить хорошенько да поласковее у этого правительства, то оно может все хорошо устроить»{В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 1, стр. 242.}.
Ленин выдвинул совершенно иной, принципиально отличный путь борьбы с самодержавием: путь организации из разрозненных рабочих кружков единой социалистической рабочей партии.
Важное значение для формирования социал-демократических организаций на местах имела написанная Лениным (совместно с И. В. Бабушкиным) в конце 1894 года прокламация — обращение к бастующим рабочим Семянниковского завода и написанная В. И. Лениным осенью 1895 года большая листовка «К рабочим и работницам фабрики Торнтона».
Ц. С. Зеликсон-Бобровская, работавшая в эти годы в рабочих подпольных кружках, вспоминает:
«Карманы Елены (приятельница Ц. С. Зеликсон-Бобровской, ученица петербургских фельдшерских курсов, приехавшая к своей подруге в город Велиж. — M. H.) полны нелегальщины, привезенной ею из Петербурга, напечатанными на гектографе воззваниями к бастующим ткачам и прядильщикам.
Среди этих коротких листков есть одна более объемистая листовка, озаглавленная «К рабочим и работницам фабрики Торнтона».
Про эту листовку Елена рассказывает, что она была выпущена осенью 1895 года, когда к общей забастовке ткачей и прядильщиков еще только шла подготовительная работа, что написана она человеком, вскоре после того очутившимся в тюрьме, где он пребывает и сейчас. Зовут этого человека «Старик». Сидя в тюрьме, он руководит повседневной революционной работой петербургских социал-демократов, связь с которыми не прерывалась у него и после ареста. Настоящей фамилии «Старика» она не знает, но если бы и знала, не стала бы сообщать, строго придерживась конспирации»{Ц. С. Зеликсон-Бобровская. Незабываемые встречи. Воспоминания о Ленине. M., 1947, стр. 8.}.
Уже в то время Ленин обращал внимание не только на идейный разгром народничества. Он также решительно выступал и против «легальных марксистов»{«Легальными марксистами» называли буржуазных интеллигентов, «попутчиков» революционного движения пролетариата, выхолащивавших важнейшие стороны марксизма (учение о диктатуре пролетариата, вооруженном захвате власти и т. д.). Они пытались «приспособить марксизм к условиям российской действительности» и печатали свои статьи в разрешенных правительством (легальных) газетах и журналах.}, среди которых главную роль играл П. Б. Струве. После поездки за границу (в мае 1895 года), а затем посещения Вильны, Москвы. Орехово-Зуева Владимир Ильич прилагает все усилия для создания единой рабочей партии. Период работы в разрозненных рабочих кружках должен был, по гениальному плану Ленина, завершиться организацией всероссийской партии социал-демократов. Владимир Ильич работает над выпуском нелегальной газеты «Рабочее Дело». Для этой газеты Ленин пишет статью «К русским рабочим» и статью «О чем думают наши министры?».
Кипучая деятельность руководителя «Союза борьбы» была прервана неожиданно: в ночь на 9(21) декабря 1895 года Ленин был арестован и отправлен в Дом предварительного заключения.
Однако и в тюремных условиях великий Ленин нашел способы и средства поддерживать теснейшие связи с товарищами из «Союза борьбы». В тюрьме Ленин написал проект программы партии, листовки о рабочем движении. Н. К. Крупская помогала Ленину переписываться с оставшимися на свободе членами «Союза борьбы» и пересылать «на волю» свои указания.
«Владимир Ильич, — вспоминает А. И. Ульянова-Елизарова, — был неистощим на хитрости и очень строг в конспирации, так что все обошлось для него счастливо, и рабочие читали его вновь выходящие воззвания и листовки, в то время как производилось строгое расследование жандармами прежних «преступлений» автора. Своим бодрым, деятельным настроением в тюрьме Владимир Ильич заражал и товарищей, умудряясь вести, несмотря на все запреты, переписку и сношения с ними»{А. И. Ульянов а-Елизарова. В. И. Ульянов (Н. Ленин). 1934, стр. 35.}. И вплоть до своей ссылки из Петербурга в далекое сибирское село Шушенское Владимир Ильич оказывал непосредственное влияние на работу «Союза борьбы».
Поэтому, когда осенью 1896 года Бауман приехал в Петербург, в столице деятельностью Ленина уже было подготовлено поле для широкой подпольной работы в рабочих кружках.
Бауман и В. Сущинский через две-три недели пребывания в столице ознакомились с положением дел в подпольных кружках и со всем энтузиазмом юности взялись за любимое дело. Еще в Казани Бауман находил пути к рабочим различных профессий необычайно быстро и умело. Но теперь в петербургских рабочих кружках он ведет дело глубже. Он озабочен прежде всего подбором и проверкой состава членов кружка, их отношением к своим занятиям. К горячности, энергии молодости у агитатора-петербуржца прибавился житейский опыт, опыт подпольной работы в слободках Казани. Петербургский рабочий класс, уже искушенный в организации стачек, в открытых выступлениях против предпринимателей и властей, давал несравненно большее поле деятельности для агитатора-пропагандиста марксизма, чем рабочие казанских фабричных слободок. К тому же агитатору было легче проникнуть на громадные петербургские заводы, окруженные со всех сторон жилыми домами. Заводы находились нередко почти в центральных районах столицы.
По воспоминаниям современника, Бауман «сходился с петербургскими металлистами, ткачами, судостроителями-рабочим и очень быстро и умело… его невольно привлекающая внимание манера говорить просто и доходчиво, уменье самые, казалось бы, мелкие, будничные вопросы рабочей жизни освещать, осмыслить в духе основных задач рабочего класса — все это через пару недель делало его другом многочисленных слушателей». Опыт борьбы с филерами, приобретенный уже в Казани, еще более обогатился в условиях Петербурга. Одним из наиболее удачных приемов, которыми пользовался Бауман для «потери следов», было «очищение водой». Этот прием, примененный еще народовольцами, состоял в следующем. Заметив за собой слежку, Бауман неторопливо, словно прогуливаясь, направлялся к Неве и подходил к перевозу. Как только ялик отчаливал, он прыгал в лодку и садился рядом с перевозчиком, говоря, что крайне торопится. В то же время «очищаемый водой» зорко смотрел на берег, где филер напрасно метался в поисках другого ялика. Переехав Неву, Бауман поспешно выскакивал из лодки и стремился уехать на конке в противоположный конец города. Умело он уходил от наблюдения и проходными дворами, разделявшими многоэтажные столичные здания. Лишь вечером, с противоположной огороды, приходил в этих случаях Бауман на свою квартиру. С такими же предосторожностями посещал Бауман и рабочих, в особенности Царева и Осипова, проживавших на Слоновой улице. Там (дом № 67, квартира 18) несколько раз происходили нелегальные сходки рабочих фабрик и заводов ближайшего района. По-двое, по-трое приходили на отдаленную Слоновую улицу члены подпольных рабочих кружков. С большими предосторожностями, в глубоких сумерках, пробирались туда же по окрестным пустырям и задворкам Бауман и его сотоварищи по руководству подпольными кружками — братья и сестра Сущинские и студент технологического института Александр Спицын. Как правило, пропагандисты никогда не ходили большой группой: два-три мастеровых, в субботний вечер пробиравшиеся «под хмельком» окраинными переулками, меньше привлекали внимание шпиков. Когда в комнате Царева или в просторных теплых сенях Осипова набиралось человек 15–20 рабочих, Бауман или Сущинский проводили очередную беседу-занятие кружка. Окна были самым тщательным образом закрыты плотными занавесками, и говорить старались не громко, хотя нередко в пылу спора хозяин квартиры, плотный, приземистый петербургский металлист, первый забывал о конспирации и с жаром, громко рассказывал об «очередном фокусе» заводчиков или владельца верфей.
В это же время Бауман был озабочен подысканием квартиры, достаточно отдаленной и обособленной, в которой можно было бы без большого риска проводить конспиративные собрания. Агентура охранного отделения отметила в своих ежедневных донесениях, что «Макар Иванович{Подпольная кличка H Э. Баумана в то время.} нередко встречался (в первой половине января и в начале февраля 1897 года) с лишенным всех прав состояния Александром Дементьевым, давно находившимся под негласным наблюдением как лицо, имеющее большое знакомство среди лиц, в политическом отношении крайне подозрительных». Бауман и Сущинский дважды посещали А. Дементьева в деревне Исаковке (Черновская улица, дом № 60), за Большой Охтой. Отдаленность этого пригорода и вместе с тем расположенные неподалеку от Охты крупные заводы и фабрики казались Бауману удобным местом для создания конспиративной квартиры. Бауману не удалось нанять поблизости от местожительства Дементьева конспиративную квартиру, но на квартире по Черновской улице он провел несколько собраний рабочих, разъясняя «Устав рабочей кассы», задачи «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». На этих собраниях (одно из них происходило 10 (23) марта вечером) присутствовали Сущинский, Пилипец, Царев, Осипов и около пятнадцати рабочих охтенских заводов и фабрик.
17 февраля (1 марта) Бауман провел нелегальное собрание с рабочими в одном из излюбленных петербургским рабочим людом «трактире 3-го разряда» — на углу Калашниковской набережной и Смольного проспекта.
Трактиры для ночных извозчиков, торговцев в разнос, ходивших по улицам с зари до глубокой ночи, были очень удобным местом для конспиративных встреч и собеседований.
Рабочие ночной смены заходили туда на часок выпить «пару чаю» в ожидании фабричного гудка, перекинуться в картишки или просто послушать хриплое пенье трактирной «машины», безустали заводимой проворными половыми — ярославцами или костромичами. Никого не удивляло поэтому, если в дальней горнице усаживалась целая компания молодых рабочих, требовавшая себе несколько «пар чаю» и немудреной закуски, вроде воблы, баранок и студня.
Николай Эрнестович раза два собирал там рабочих, среди которых были члены руководимых им кружков — Царев, Осипов, Пилипец и другие.
На одном из собраний Бауман читал «Устав рабочей кассы», сопровождая каждый параграф подробными объяснениями. Он стремился, чтобы этот важный документ как можно более отражал политические требования рабочих. Поэтому беседа затянулась заполночь. Уже прогудел в половине первого гудок за Нарвской заставой, а рабочие все еще не расходились. На этом же нелегальном собрании Николай Эрнестович передал одному из членов кружка 11 рублей для уплаты за квартиру.
14 (26) марта Бауман опять явился на конспиративное свидание в трактир «Кострома», находившийся на Большой Болотной улице. Там он беседовал с несколькими членами рабочего кружка, обсуждая события на Екатерининской мануфактуре — летнюю стачку рабочих, вынудившую администрацию фабрики пойти на уступки. В конце беседы Николай Эрнестович передал рабочему Пилипецу тщательно завернутые в газетную бумагу 10 экземпляров «Объяснения закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах». Это «Объяснение» написал Ленин осенью 1895 года; работа была в декабре нелегально издана в Петербурге отдельной брошюрой, и рабочие столицы зачитывались на собраниях подпольных кружков правдивым описанием своей жизни, мастерски нарисованным Лениным.
Рабочие подпольного кружка, руководимого Николаем Эрнестовичем, с увлечением читали также написанную И. В. Бабушкиным прокламацию «Что такое социалист и политический преступник?». Эту прокламацию Бауман распространил через кружковцев и в рабочих пригородах столицы{Помещена в сборнике «Листовки петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» 1895–1897 г.г.». М., 1940, стр. 20.}. Бауман передал Пилипецу и 80 экземпляров воззвания «Товарищи, почти каждый день мы не досчитываемся…». В этой прокламации метко и сжато описывалась «хитрая механика» хозяйских обсчетов и притеснений рабочих. «Чаепитие» в трактире затянулось, — лишь вечером Бауман и его слушатели поодиночке и по-двое, чтобы не привлекать внимания, разошлись из «Костромы».
Подобного рода «чаепития» или прогулки с двумя-тремя членами кружков по отдаленным окраинным улицам за заставой Бауман устраивал нередко. Целые дни уходили у него на организационно-пропагандистскую работу. И лишь поздней ночью приходил Николай Эрнестович на свою квартиру-«коммуну», где он жил совместно с братьями Сущинскими. «Коммуна» эта была достаточно своеобразной. В самом конце 1896 года Бауман и его друзья, в целях экономии и лучшего устройства бытовых мелочей, отнимавших массу драгоценного времени, решили устроить на своей квартире, на Каменном острове, «коммуну», отчасти под влиянием идей Чернышевского, а более всего из желания разгрузить каждого пропагандиста и агитатора рабочих кружков от «мелочей жизни». Обедать в кухмистерских зачастую было не по карману, так как сбережения, которые сделал Бауман, работая ветеринарным врачом, вскоре растаяли. Поэтому «коммунары» решили выбрать «организатора продовольственных закупок» и «казначея», которые и заботились по очереди об ежедневных обедах и ужинах. Все наличные средства и случайные заработки членов «коммуны» (от уроков, переписки, занятий в этнографическом обществе и т. п.) поступали в распоряжение «казначея». Такого рода «организация быта», по воспоминаниям «коммунаров», позволяла сэкономить немало времени для самообразования.
Занимаясь в подпольных кружках, помогая развитию сознания рабочего, Бауман ъ то же время усиленно работает над собой. Он по ночам читает и перечитывает тот «золотой фонд» пока еще немногочисленной марксистской литературы, который можно было получить в петербургских революционных кругах половины девяностых годов. С популярным изложением учения К. Маркса, данным Каутским («Экономическое учение К. Маркса»), Бауман ознакомился еще в Казани. Точно так же была прочтена и на многочисленных рефератах-собеседованиях с товарищами обсуждена работа Плеханова «Наши разногласия». Теперь же в столичных условиях можно было пополнить свои знания еще более глубокими марксистскими произведениями. Бауман с глубоким вниманием знакомится с работами Ленина — победоносным оружием развивающегося марксизма, в особенности с исключительно важной для окончательного разгрома народничества классической работой Ленина «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?», а затем с написанной Лениным в конце 1894 и начале 1895 годов работой «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве (отражение марксизма в буржуазной литературе)».
Эти классические произведения В. И. Ленина стали боевым, острым оружием революционных марксистов, направленным против народников и «легальных марксистов».
Одновременно Николай Эрнестович читает и перечитывает, делая многочисленные выписки, первый том «Капитала». В особенности большое впечатление произвели на него главы о первоначальном накоплении капитала.
Немало книг прочитал Бауман и по этнографии. В половине 1896 года он получил работу от этнографического общества и для выполнения поручения должен был расширить свои знания о быте, верованиях, одежде и особенностях земледелия национальных меньшинств на севере России. Кроме того, занятия этнографией давали «непрактикующему ветеринарному врачу», как Бауман иногда называл себя в шутку, средства для жизни.
Все новые и новые сведения об усилении рабочего движения поступали к руководителям подпольных кружков. Бауман и его соратники решили издавать пока непериодический, приуроченный к тем или иным событиям рабочей жизни, «Петербургский рабочий листок». Николай Эрнестович вместе с братьями Сущинскими и другими членами «Союза борьбы» деятельно участвовал в подборе материалов, а затем и в печатании «Листка». Январь и февраль 1897 года промелькнули в особо напряженной работе.
«Союз борьбы» решил организовать 1 мая демонстрацию рабочих.
После ареста «стариков», во главе с Лениным, руководить «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса» стали новые люди, получившие название «молодых» (Катин-Ярцев, Тахтарев и др.). Вскоре выяснилось, что «молодые» неправильно понимают задачи рабочего движения, неправильно намечают пути дальнейшей борьбы рабочих. «Молодые» уже с начала 1896 года стали уклоняться от ленинского пути, от указаний Ленина о необходимости сочетания экономической борьбы с борьбой политической.
«Увлекшись стачечным движением, принявшим в Петербурге летом 1896 года широкие размеры, «молодые» в своей пропаганде и агитации выдвигали лозунги, отрывающие экономику от политики, принижающие политическую борьбу рабочего класса до борьбы за «пятачок», — пишет Ц. С. Зеликсон-Бобровская об этом периоде работы Н. Э. Баумана. — Бауману, ставшему деятельным пропагандистом, которого часто можно было встретить в рабочих районах столицы, приходилось вести идейную борьбу с этими «экономистами», с этими будущими меньшевиками»{Сборник «Н. Э. Бауман». М, 1937. стр. 12–13.}. Так, в практической живой работе среди подпольных кружков, в непрерывном, тесном общении с рабочими столицы, в борьбе с «молодыми» развивался пропагандист и агитатор «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Бауман энергично доказывал, что на маевке должны преобладать требования политического, а не узко экономического характера. Но «молодые» колебались: им казалось «все еще преждевременным» поднимать петербургских рабочих на чисто политическую борьбу{В феврале 1897 года Ленин, перед отъездом в ссылку в Восточную Сибирь, встретился «с другими освобожденными перед ссылкой «старыми» членами «Союза борьбы» и с «молодыми». На собрании «старых» и «молодых» членов «Союза» Ленин резко критикует намечающийся «экономизм» «молодых» (В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 2, стр. 528).}. Бауман ссылался на указания «стариков», в особенности на директивы, полученные из Дома предварительного заключения от
— Ленина. Николай Эрнестович решил ориентировать членов своих подпольных кружков на первомайское лолитическое выступление. С каждым месяцем Бауман работал все напряженнее и плодотворнее. Но охранка и жандармерия усиленно разыскивали всю зиму 1896/97 года руководителей подпольных рабочих кружков и оставшихся на свободе членов «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В начале марта 1897 года в Петербурге, на Варшавском вокзале, был задержан уезжавший к себе на родину в Витебскую губернию член подпольного кружка рабочий Пилипец. В его вещах оказалось немало «литературы возмутительного содержания», как отметил департамент полиции (фонд департамента полиции, особый отдел — «Справка о революционной деятельности Н. Э. Баумана»): 10 экземпляров брошюры «Объяснения новых правил для рабочих», 5 экземпляров брошюры «Рабочий день», 4 экземпляра «Петербургского рабочего листка», 19 воззваний «Союза борьбы», датированных 6 марта 1897 года. На допросе Пилипец не выдержал и дал ряд ценных для жандармов признаний. Он показал, что все эти издания он получил от Баумана и что тот поручил ему распространить нелегальную литературу на одной из фабрик города Риги, где Пилипец работал до переезда в Петербург. Одновременно жандармское управление получило сведения от своих филеров и об участии Баумана в «коммуне» на Каменноостровском проспекте. Департамент полиции решил ликвидировать «очаг крамолы», и сам начальник петербургского охранного отделения полковник Пирамидов приступил к обыску и допросам членов «коммуны». Глубокой ночью в квартире, где проживал Бауман, раздался резкий стук: жандармы в сопровождении филеров и дворников явились с обыском. Многочисленные обыски, предпринятые жандармерией и полицией в марте 1897 года, обещали охранному отделению и жандармам «громкое дело», большой политический процесс. Кроме того, в охранных донесениях Бауман упоминался не раз как один из виднейших руководителей подпольных рабочих кружков. Поэтому полковник Пирамидов буквально поставил все вверх дном в небольшой комнатке, занимаемой Бауманом: жандармы взломали подоконник, подняли несколько половиц пола, выстукивали печь, думая найти там тайник для прокламаций, взрезали обивку дивана и усиленно копались в ней. Обыск длился около шести часов. Бауман вел себя крайне спокойно, изредка подавая иронические реплики-советы: как удобнее, по его мнению, «как бывшего хозяина комнаты», ломать пол, как сразу вывернуть наизнанку обивку кресла и т. п. Полковник бросал на него весьма нелюбезные взгляды, но держался достаточно корректно, ограничившись лишь одной угрозой:
— Посмотрим, каково будет ваше самообладание, когда вы годик-другой проведете в иной комнате!
Бауман в ответ на это усмехнулся и так же иронически попросил разрешения закурить, потому что от «его папиросы разыскиваемые жандармами рукописи пострадать вряд ли смогут».
Жандармы тщательно перечитали малейшую записку, каждую бумажку, найденную на письменном столе и в вещах Баумана. Полковник Пирамидов сосредоточенно составил особую «опись отобранного по обыскам, произведенным 20, 21 и 22 марта 1897 г. по списку под лит. Б»:
«Рукописные: 1. тетрадь, не сшитая, озаглавленная «Теория ценности и денег» — К. Маркса; 2. тетрадь, озаглавленная «Прибавочная стоимость»; 3. тетрадь из 9 листов по рабочему вопросу с указанием на полях авторов соответствующих сочинений».
Все это немедленно было весьма тщательно упаковано и перевязано. Пирамидов сделал на этих материалах крупную надпись: «Особые сведения к дознанию», и приступил к рассмотрению остальных документов. В опись отобранного при обыске у Баумана были затем включены дополнительные «материалы явно преступного содержания:
1. тетрадь, в которой помещен рассказ «Мокрая курица» тенденциозного содержания;
2. тетрадь с заметками по рабочему и общественному вопросам;
3. тетрадь, в которой трактуется о выработке программы для систематического чтения в социал-демократическом духе;
4. тетрадь, в коей изложены программы систематического чтения в том же духе».
В заключение жандармы отобрали и «приобщили к найденным противоправительственным материалам» около трех десятков книг, хотя и изданных в легальных типографиях с разрешения цензуры, но «подобранных для воздействия на рабочих в том же социал-демократическом направлении». Отобрана была вся переписка, включая письма родным в Казань, отобраны все фотографические карточки, лежавшие на столе и находившиеся в ящике письменного стола. Пирамидов и филеры с разочарованием вглядывались в эти карточки: ни одной фотографии лиц, работавших с Бауманом в подпольных кружках! Но полковник «приобщил к делу» даже карточки родных Баумана, внеся их в протокол обыска.
В «описи обыска» далее указано, что отобраны: «8. фотографические карточки Герцена и Лассаля». Когда пристав, торжествуя, поднес Пирамидову эти фотографии, жандармский полковник не удержался от насмешливого вопроса:
— Конечно, писателями интересуетесь?
Но Бауман вместо ответа хладнокровно указал ему на карточку И. А. Крылова:
— А вас, может быть, и баснописцы интересуют? Полковник побагровел, но сдержался и с особым старанием закончил «опись обыска»:
«10. револьвер, заряженный шестью патронами». Это «сугубо вещественное доказательство» он немедленно разрядил и завернул в особый пакет.
— Для чего револьвер у вас? Ведь это — оружие! — обратился он к Бауману.
— Знаю. И даже хорошее оружие, — спокойно ответил тот. — Но я ветеринарный врач и по роду своей работы могу иметь оружие для уничтожения острозаразных или заболевших бешенством животных.
Обыск закончился на рассвете. У подъезда уже стояла полицейская карета с маленькими окошечками, наглухо затянутыми шторами. В ней обычно отвозили арестованных в Дом предварительного заключения. Но Бауман вскоре понял, что его везут в какое-то иное место. Карета то и дело меняла направление, жандармы старались проехать окружным путем, минуя многолюдные улицы.
На попытку Николая Эрнестовича узнать, куда его везут, сидевшие рядом жандармы ответили угрюмым молчанием. Когда же карета мягко застучала колесами по торцовой настилке мостовой, а затем в окне на секунду мелькнула широкая, занесенная снегом лента Невы, Николай Эрнестович все понял.
«Петропавловская крепость…» — подумал он и решительным жестом потянул занавеску. Сомнений больше не оставалось: карета подъезжала к высоким стенам и бастионам крепости. И навеки в памяти запечатлелись просторы реки, одинокий водовоз у проруби да пара мальчишек с салазками… Жандарм грубо и резко, что-то угрожающе ворча в прокуренные до желтизны усы, задернул занавеску. Другой спутник, сидевший слева, хотел было схватить арестованного за руки, но Николай Эрнестович, усмехнувшись, засунул руки в рукава пальто и откинулся на сиденье. Он заставил себя успокоиться и на окрик жандарма: «Выходи!», не торопясь, вышел из кареты. Бауман сразу узнал железные решетчатые ворота Трубецкой куртины, бастионы, где столько лет томились народовольцы… Сколько же лет придется провести здесь ему?..
После тщательного обыска и переодевания в арестантское платье его повели на второй этаж. Он стал узником одиночной камеры № 56.
VI. УЗНИК ОДИНОЧКИ № 56
Безмолвно и мрачно, окруженная непреодолимым водным барьером — широкой Невой, возвышалась Петропавловская крепость.
Царское правительство пыталось подавить смелых революционеров холодом и одиночеством крепостных казематов Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей.
Трубецкой бастион крепости — это целая летопись непередаваемых страданий и в то же время непередаваемого геройства отважных борцов с самодержавием.
Огромное двухэтажное здание расположено замкнутым пятиугольником. Оно напоминает кольцо; в нем обречены на медленное умирание узники одиночек. Небольшой дворик окружен со всех сторон массивными, старинной кладки крепостными стенами. Унылые, чахлые деревца еще более подчеркивают гнетущую подавленность, настоящую крепостную замкнутость. По этому дворику, по дорожке длиной в 25–30 метров, раз в день на 15–20 минут узникам разрешается прогулка, если крепостное начальство считает их поведение «одобрительным».
Здание бастиона — двухэтажное. Глубокие амбразуры (более метра) окон выходят прямо в крепостные стены. Сравнение камер-одиночек с мрачными, сырыми погребами как нельзя более точно характеризует положение заключенных в них узников: через полгода-год пребывания в таком погребе-одиночке узник заболевает. Туберкулез на почве острого малокровия, глубокое расстройство нервной системы — неизбежные следствия продолжительного заключения в Петропавловской крепости.
Камеры устроены с таким расчетом, чтобы даже во втором этаже царствовал вечный полумрак. Лишь с большим трудом, напрягая зрение, можно около полудня часа полтора-два читать, да и то не слишком мелкий шрифт. В остальное время дня, до зажигания огня вечером, заключенный вынужден быть в полном смысле слова наедине с самим собой, — даже чтения лишен узник одиночной камеры. Проходят дни за днями, до утомления похожие один на другой: поздний петербургский рассвет, в особенности сырой весною, быстро и как-то незаметно сменяется такими же мрачными сумерками.
Камера № 56, куда был посажен Бауман, находилась во втором этаже. Она ничем не отличалась от соседних одиночек, плотно закрытых тяжелыми железными дверями. Строители крепости постарались о том, чтобы сломить крепкую волю узников: вечный полумрак, гнетущая тишина, неутомимое наблюдение в «глазок»…
Народовольцы, заключенные в Петропавловскую крепость в 1882–1883 годах, называли крепостной режим «медленным умиранием». Вера Фигнер в своих воспоминаниях отмечает, что «самым страшным орудием пытки в тюрьме является тишина. Да! тишина господствует в тюрьме… Тюремное начальство требует этой тишины «для порядка»… Тюрьма должна быть мертва, мертва, как могила, мертва день и ночь. Единственный неизбежный шум, поражающий слух, — это стук отпираемых и запираемых тяжеловесных дверей из дуба, окованных железом, да форточек, сделанных в двери для передачи пищи. Гулко раздается этот грохот, напоминающий, что ты не один в этом здании… В остальное время — ни шороха, ни звука… Вечная тишина! Бесконечно длинная, бесконечно мертвая — ужасна. Быть может, нет средства более сильного, чтобы вконец испортить нервы человека»{В. Фигнер. Запечатленный труд, т. 2. М., 1933, стр. 51–52.}.
Убийственное действие на нервы узника производил методический, заунывный перезвон курантов. Гнетущая тишина нарушалась с убивающей человека аккуратностью, — куранты словно напоминали, что у узника отняты еще полчаса, час жизни. Мотив «Коль славен» многих заключенных доводил буквально до сумасшествия…
А. С. Шаповалов, заключенный в Петропавловскую крепость почти одновременно с Бауманом (по делу Лахтинской типографии и по работе в «Союзе борьбы»), в своих воспоминаниях о крепостном режиме писал:
«Если бы кто-нибудь ухитрился в те мрачные времена, когда Россия стонала еще под игом последнего из царей, пробраться незаметно от стражи в коридоры тюрьмы для государственных преступников в Трубецком бастионе, он поразился бы могильной тишиной, царившей там, — так тихо бывает только в гробу.
Редко-редко звякнут ключи жандарма, медленно крадущегося по коридору от двери к двери; случайно забренчат у него ключи; застучат тяжелые засовы отворяемой двери, и затем опять все погружается в безмолвие могилы.
Но тем не менее тюрьма полна своеобразной жизни, протестующей против неволи. Приложите ухо к двери камеры, приподнимите «глазок», и вы услышите и увидите, как заключенный быстро шагает и бегает из угла в угол по своей камере. Так бьется птица в клетке»{А. С. Шаповалов. В борьбе за социализм. М., 1934, стр. 143.}.
Ко всем гнетущим условиям заключения — тишине, сырости и промозглому воздуху старинных крепостных казематов, к полнейшему одиночеству прибавлялось еще одно глубокое страдание — неизвестность об участи арестованных друзей.
Баумана заключили в крепость 22 марта (3 апреля) 1897 года. Долгие месяцы он не знал, какая участь постигла его друзей, куда отвезли Сущинских. Надзиратели крепости принимали все меры к тому, чтобы узник оказался полностью изолированным от внешнего мира. Более года Бауман не знал, что В. Г. Сущинский также заключен в Петропавловскую крепость, но в одиночку в другом коридоре, а М. Г. и П. Г. Сущинские помещены в Дом предварительного заключения. На все вопросы Баумана надзиратели отмалчивались, стараясь поскорее поставить скудную еду на привинченный к стене и полу камеры узенький столик.
Следователь также не торопился с допросом. Жандармы решили хорошенько донять узника полной изоляцией, полным одиночеством. Они по опыту знали, какое разрушающее действие на психику человека оказывает длительное одиночное заключение. На первых порах Бауману пришлось очень тяжело. Он, как врач, понимал, что необходимо мобилизовать все силы, всю волю для преодоления тяжелых условий крепостного заключения. И узник одиночки № 56 вступает в борьбу со страшным врагом — одиночеством.
Прежде всего Бауман старается поддержать бодрость духа ежедневной, систематической гимнастикой. Наблюдавшие в «глазок» смотрители с удивлением замечали, что едва забрезжит рассвет — Бауман быстро поднимается с постели и, поеживаясь от холода, приступает к гимнастике. Вечером, перед сном, он также неизменно и аккуратно проделывал разнообразные Приседания, прыжки и даже обход камеры «гусиным шагом». Затем он переходил на нормальный шаг и отправлялся в «очередную длительную прогулку». Да, узник камеры № 56 ввел в режим своего дня и прогулки. По диагонали камеры можно было сделать всего лишь шесть-семь небольших шагов, то-есть около трех метров, но тысячекратное «путешествие» из угла в угол и обратно давало шесть тысяч метров, или уже шесть километров. И, систематически расхаживая перед обедом, а затем и перед вечером по узкой, мрачной камере, Бауман вспоминал прогулки по заволжским лугам и полям, купанье за Услоном, плоты и беляны на широкой водной дороге красавицы Волги…
Пока что приходилось заменять волжские просторы тусклым, туманным полумраком решетчатого окошка… Но гулять, хотя бы и заставляя себя, необходимо. Бауман, как врач, более всего опасался цынги и малокровия — этих частых и страшных спутников одиночного крепостного режима. Регулярные же «прогулки» восстанавливали кровообращение, уменьшали головные боли. Поэтому Бауман, в каком бы он настроении духа ни находился ежедневно «гулял» по нескольку /километров под низкими и промозглыми сводами своего каземата. Тяжелее всего было узникам в вечерние и бесконечно медленно тянувшиеся ночные часы, когда, казалось, все огромное здание крепости замирало и цепенело… Надзиратели бесшумно, в специальных войлочных туфлях, скользили по коридорам, бесшумно поворачивали круглую задвижку «глазка» и, убедившись в безмолвном сидении узников, так же бесшумно исчезали в полумраке длинных, узких коридоров. Электрические лампочки, заменившие в камерах керосиновые лампы вскоре после трагической смерти Марии Ветровой{А. С. Шаповалов вспоминает: «Однажды к вечеру я был поражен необыкновенным шумом и беготней по коридорам… Слышались торопливые выкрики, глохнувшие в тюремных коридорах. Все это было необычайно для Петропавловской крепости, где в камерах и коридорах царствовала могильная тишина. «Что-то произошло особенное», — думал я. Уже позднее… я узнал, что в то время сожгла себя, облив керосином, заключенная Ветрова. Она покончила с собой не первая: история Петропавловской крепости насчитывает много случаев самоубийств заключенных… На воле ходили слухи, что Ветрова была изнасилована в тюрьме. По поводу ее смерти петербургским студенчеством была устроена демонстрация протеста на улицах Петербурга» (А. С. Шаповалов. В борьбе за социализм. М., 1934, стр. 168). Это произошло в феврале 1897 года.}, были полуприкрыты колпачками. Читать можно было с трудом, и многие узники крепости уже через год безнадежно расстраивали свое зрение. Да и что читать?
Бауман в первые же дни своего заключения справился о книгах крепостной библиотеки. Увы, их выбор был более чем ограничен, вернее, подобран со специальной целью «смирить и ввести в христианское русло мировоззрение противоборствующей молодежи». Старые журналы, среди которых видное место занимали духовные журналы, еще более старые книги, главным образом по географии, — вот и вся «духовная пища» заключенного Петропавловской крепости.
Но пользование хотя бы и этими, крайне тенденциозно подобранными «душеспасительными» книгами имело для узников-одиночек большое значение: еле заметными, почти невидимыми точками над некоторыми словами в определенных страницах заключенные умудрялись сообщать своим товарищам по камерам, кто и когда посажен в крепость. В корешках книг, несмотря на тщательные осмотры надзирателей, иногда удавалось переслать товарищу по заточению пару дружеских слов, написанных на микроскопическом клочке бумаги.
Бауман изобретал различные способы, чтобы завязать переписку или хотя бы перестукиванием узнать что-либо о своих соседях по камере. Еще в подпольных рабочих кружках Бауман освоился с «техникой телеграфа» — условным стуком в стену. Первый удар обозначал ряд буквы, а затем после небольшой паузы следовали удары, обозначавшие место нужной буквы в этом ряду. Рядов было четыре, а в каждом ряду — шесть букв. Так свою фамилию Бауман передавал соседу стуком: один — пауза — два; один — пауза — один; четыре — пауза — один и так далее. Более всего приходилось трудиться над передачей буквы «м»: два удара — пауза — шесть ударов. При «телеграфном перестуке» все «ненужные» буквы алфавита, вроде й, ь, ъ, отбрасывались.
Не всегда удавалось довести перестук до желаемого ответа: зачастую стук обрывался на половине, дверь камеры распахивалась, и на пороге появлялись надзиратели или даже комендант крепости. Начинались угрозы лишить письменных принадлежностей, отобрать все книги, перевести в темный карцер…
Вот один из любопытных документов, отразивший условия жизни узника камеры № 56:
«Его превосходительству
С. Э. Зволянскому,
директору департамента полиции
Во время содержания в крепости Николай Бауман за то, что стучал в соседние камеры, был посажен, по приказанию моему, на сутки в темный карцер и переведен в другую камеру. Взыскание это мало на него подействовало. Пользуясь разрешением иметь письменные принадлежности, оборвал поле книги, написал на нем в соседний номер (Акимова) записку, заложил написанное в корешок книги и посредством стука сообщил, какую книгу следует потребовать из библиотеки, чтобы найти там написанное. Вследствие принятых мер книга не была выдана и написанное по назначению не дошло. За подобный проступок арестованный Бауман, по приказанию моему, совершенно уединен и лишен права иметь письменные принадлежности».
Далее комендант крепости А. Эллис доводит до сведения директора департамента свое заключение, что «Бауман по поведению своему недостоин того, чтобы ему была оказана особая милость свиданий с двоюродной сестрой Мякотиной».
Мало того, Эллис просит предоставить ему, как коменданту крепости, право «не разрешать свиданий с Бауманом ввиду его неодобрительного поведения».
«Неодобрительное поведение» Баумана особенно сильно проявилось при его допросах в крепости жандармами и прокуратурой Петербургского окружного суда. Жандармы надеялись сломить упорство и волю своего узника.
Но расчеты жандармерии и царской прокуратуры провалились целиком. Длительное одиночное заключение в жутких казематах Петропавловской крепости несколько надломило физические силы Баумана, но тюрьма еще более закалила его дух. Несмотря на все ухищрения следователя и прокурора, им так и не удалось вынудить у него нужного им признания. Член «Союза борьбы» и в условиях крепостного одиночного заключения оставался непреклонен и непоколебим.
Допросы вели опытные в своем деле подполковник жандармского корпуса Ковалевский и товарищ прокурора Петербургского окружного суда Утин.
В архиве фонда департамента полиции (VII делопроизводство, д. № 96, т. III, 1897 год, «Союз борьбы за освобождение рабочего класса») находится следующий красноречивый документ:
«Зовут меня Николай Эрнестович Бауман. На предложенные мне вопросы отвечаю. В квартире Марии Сущинской мне случалось бывать, случалось встречать у нее и ее братьев Петра и Владимира, но такого случая, чтобы во время моих посещений ее квартиры я видел там какие-либо нелегальные листки или брошюры, не было. Вообще у меня в руках никаких нелегальных изданий никогда не бывало. Никаких добавлений или разъяснений к своим прежним показаниям я не могу сделать».
Придравшись к случаю, в виде наказания за новую попытку перестукиваться с соседом по одиночке комендант вновь перевел Баумана в карцер. Тюремные власти надеялись, что ужасные условия карцерного режима сломят волю и энергию заключенного и вынудят его дать хоть сколько-нибудь «пространные показания».
Стояло «отзимье» (как метко называют в народе переход от зимы к весне), когда в сырых и холодных могилах-одиночках крепости особенно тяжело и мрачно, а в неотапливаемом каземате — узкой и крошечной каморке, совершенно лишенной света, просто невыносимо… Каземат был построен с чисто инквизиторской целью: у заключенного от холода буквально не попадал зуб на зуб; каменный пол (никакой подстилки, не говоря уже о кровати, в каземате не полагалось) леденил узника, и в то же время заключенный слышал, как рядом, в коридоре, усиленно топили печь, которая должна была обогревать каземат. Но дело в том, что печь была устроена так хитроумно, что нагревалась лишь с самого верху, у потолка. Узник тщетно ждал, когда же хоть немного станет теплее в его каменном гробу-каземате. Жандармы и надзиратели заявляли, что каземат — одно из средств «дошкурить» узника, то-есть добиться от него нужных показаний.
Но Бауман стоически вынес и это испытание. Не добившись никаких признаков «покорности», комендант перевел Баумана вновь в его одиночную камеру, и жандармы с представителями прокуратуры решили вновь взяться за допросы.
4(16) апреля 1897 года тот же товарищ прокурора Утин и отдельного корпуса жандармов подполковник Кузубов допрашивали Баумана, стараясь во что бы то ни стало выведать хоть какие-нибудь сведения о деятельности «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».
Однако Николай Эрнестович категорически отказался расширить круг сведений жандармов и прокуратуры. Он заявил: «Я не признаю себя виновным в принадлежности к какому бы то ни было преступному сообществу, и о том, что в Петербурге существует преступное сообщество, носящее название «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», я в первый раз услышал сегодня на допросе. Ни с кем из рабочих петербургских фабрик и заводов я не знаком и в том числе с рабочими фабрики Штиглица Осиповым, Царевым и Пилипецом. Среди рабочих себя Иваном Макаровичем не называл, со студентом С.-Петербургского технологического института Александром Спицыным не знаком, и он меня с рабочим Осиповым нигде не знакомил».
Категорически отказался Бауман также и от каких бы то ни было показаний относительно своих встреч с рабочими в трактирах, на квартирах Дементьева и Царева.
Выведенные из себя этой стойкостью узника помощник прокурора Утин и жандармы недвусмысленно пригрозили Бауману новыми «осложнениями и отягощениями» крепостного режима: карцером, лишением прогулок и т. п.
— Помните, что вы наш пленник! — закричал подполковник Кузубов.
— А пленные своим врагам не помогают! — твердо ответил Бауман.
В крайне раздраженном тоне Кузубов заявил, что допрос окончен и «арестованный может отправляться на свое место».
Вновь потянулись долгие, томительные дни, недели и месяцы…
Лишь однажды, на очень короткий срок — всего на несколько минут — удалось Бауману поговорить перестукиванием с В. Г. Сущинским. Произошло это благодаря случайной оплошности надзирателей, за которую их потом нещадно разнес комендант крепости.
Весной 1898 года В. Г. Сущинского в административном порядке, без суда, направили по этапу в ссылку в Вятскую губернию. Ему даже не удалось перед отправкой из крепости сообщить о своей высылке другу детства и юности. По возвращении Баумана из карцера комендант крепости лишил его возможности перестукиваться с соседями, поместив Николая Эрнестовича в камере, с обеих сторон которой находились пустые одиночки. Попытки Баумана перестукиваться с заключенными первого этажа решительно пресекались надзирателями. Да и почти невозможно было различить ряд и место букв в шифрованном стуке на таком расстоянии.
Весна и лето 1898 года прошли особенно тяжело для заключенного в крепостной одиночке. Николай Эрнестович не знал ни о готовящейся ему участи, ни об участи друзей по «коммуне» и «Союзу борьбы». А затем ранняя осень, с ее беспросветными туманными днями, похожими на вечера, еще более ухудшила настроение узника. Здоровье стало заметно убывать: появились признаки цынги, развивалось малокровие… Лишь одно светлое пятно на тусклом фоне крепостного заключения было у Баумана: ему разрешили переписку с родителями.
В письмах к родным ярко, как в капле воды, отразился твердый, целеустремленный характер убежденного революционера.
Несмотря на тяжелейшие условия крепостной одиночки, на полное одиночество (комендант вновь грозил карцером за «малейшее нарушение крепостных правил»), Бауман с уверенностью и мужеством смотрел в будущее. Его письма, как и письма из тюрьмы другого твердокаменного большевика-ленинца — Ф. Э. Дзержинского, — документы высокого мужества, непоколебимости убеждений и горячей, страстной веры в правду рабочего дела, в его неизбежную победу.
Вместе с тем письма Баумана из Петропавловской крепости носят следы заботы Николая Эрнестовича о том, чтобы по возможности не слишком огорчать родителей известием о том, что их сын — узник знаменитой Петропавловской крепости. Первое письмо Бауман послал родным 3 (15) апреля 1897 года:
«Дорогие родители, братья и сестра.
Тяжело писать. Не знаю, как начать. Невеселую новость узнаете с этим письмом. С 21 марта я арестован и сижу в одиночном заключении в Петропавловской крепости. В чем меня обвиняют, не знаю еще до сих пор. Допроса не было. Если же даже скоро узнаю обстоятельства дела, то и тогда едва ли сумею вас уведомить об этом. Здешняя цензура, кажется, не допускает касаться в письмах подобных вопросов. Завтра будет две недели моего заключения; несмотря на полнейшую неопределенность положения, чувствую себя сносно; нервы не шалят, и физически совершенно здоров.
Не тревожьтесь и вы, мои дорогие, не проливайте слез над моей судьбой. Я молод, силы не надорваны — жизнь моя впереди. Прямо, без препятствий, без разочарований и страданий едва ли кому-нибудь удавалось пройти свой жизненный путь».
Затем Бауман заботливо спрашивает родных о новостях в их жизни, беспокоится о том, что материальное положение семьи не улучшается, и просит их не заботиться о нем, так как он «живет здесь на всем готовом, кроме чая и сахара», но на эти мелочи у него денег хватит, так как Петя (брат Николая Эрнестовича) должен получить 50 рублей за работу Н. Э. Баумана по этнографии. Он советует далее сестре Эльзе «провести лето в деревне у подруги, с которой ты вместе гостила у меня в Бурасах», и не надрываться на экзаменах. Жалеет Бауман о том, что от братьев «Эрочки и Саши давненько ничего не получал».
О своем же положении в одиночке он писал:
«Никакими слезами, никакими сожалениями нельзя помочь в моем настоящем. Личная воля, личные страдания не могут хоть чуточку изменить положения. Жду и надеюсь, пользуюсь тем, что достижимо при такой исключительной обстановке, т. е. читаю и философствую».
Забота, тревога о здоровье своих близких проглядывают и в письме Баумана от 14 (26) апреля 1897 года:
«От вас едва ли скоро придет письмо; отсюда и ко мне корреспонденция двигается медленно, поэтому пишу второе, не дождавшись весточки из Казани… Пребываю все в том же интересном учреждении, и сколь долго засижусь здесь, трудно предугадать… придется вооружиться терпением и ждать, куда ветер подует и соблаговолит пригнать участь моей персоны. Так-то обстоят мои делишки. Ваши же, по Петиным письмам, повидимому, тоже не могут назваться блистательными. Что это за болезнь ушей у папаши? Продолжается она или уже прошла?.. Эльза тоже «выглядывает не особенно здоровой», как пишет Петя. Наверно, занимается усердно, зубрит анатомию и химию. Она должна непременно летом провести время в деревне и заняться физическим трудом на свежем воздухе… Сестренка, будь осторожнее, не надрывайся через силу! Как поживают мамаша, Саша, Эрочка? О них я никаких сведений не имею».
В заключение Бауман добавляет несколько слов о себе:
«С тюремной обстановкой я освоился, здоров».
Через неделю, 21 апреля (3 мая) 1897 года( он вновь пишет родным и сообщает, что у него «началась война с одиночеством»… но «застрахованный от всяких назойливых вопросов «к чему, зачем», не видя перед собой страшных картин, прямо и храбро гляжу на своего несложного, бесстрастного, но зато действительного неприятеля — ка своды тюремной камеры. План кампании выработан, тактика изобретена и проверена, и я выступил на поле сражения, твердо надеясь вести победоносную борьбу. Вот почему, дорогие родители, убедительнейше прошу вас не тревожиться, не причинять себе лишних страданий, узнавши о постигшей меня судьбе».
Затем Бауман, как и в предыдущих письмах, заботится о сестре и братьях. Он радуется, что брат Эрочка «поехал давать концерты. Вот тебе на!.. Куда наши хватают!.. Послушал бы и посмотрел бы на восходящую звезду… Не поленись, Эрочка, поведай мне о своем путешествии. Что Саша поделывает, как его баритон, не вторит он тенору?»
А сестре Эльзе Бауман пишет:
«С тебя же, сестренка, хочу взять слово. И ты мне должна его непременно дать (эту фразу Бауман подчеркнул. — М. Н.). — Вот какое: думать об экзаменах и не отвлекаться моей персоной. Во всяком случае мое положение лучше твоего, когда ты стоишь перед анатомом и должна копаться в своей памяти, чтобы вспомнить какую-нибудь tuberculum или foramen»{Анатомические термины.}.
Сохранилось в архиве Музея Революции и еще одно письмо Баумана родным, написанное более чем через год, 30 июля (11 августа) 1898 года.
Он попрежнему бодро и стойко борется с режимом одиночного заключения, энергично сопротивляется мертвящему воздействию «мира абсолютного покоя» и предвидит, что его могут подвергнуть высылке в административном порядке. И вновь обращается к родным с просьбой не горевать об его участи.
«К сожалению, — пишет Бауман, — сам не могу писать Вам распространенные письма, так как для тем моих писем установлены очень узкие рамки, да, кстати сказать, из этого мира абсолютного покоя нельзя ждать ничего интересного. Поэтому не берите примера с меня и пишите, что вздумается, без разбора, мне же здесь — все интересно, что идет с воли. Вероятно, мне не удастся в ближайшем будущем погреться у вашего семейного очага, ибо нельзя надеяться, что меня выпустят на все четыре стороны, скорее придется путешествовать в Сибирь на несколько лет. В последнем случае мне хотелось бы повидать Вас и Эрочку в Москве, где партии ссыльных ждут отправки, кажется, порядочное время». Бауман заканчивает это письмо напоминанием о том, что он ждет обещанной карточки родителей: «Из-за карточки ворчу: по губам только мажете».
Родители, братья и сестра Баумана были в сильном беспокойстве и тревоге за судьбу Николая Эрнестовича. Одно название места его заключения наводило родных на самые мрачные мысли…
Мина Карловна подала директору департамента полиции прошение, в котором умоляла облегчить участь узника петропавловской одиночки.
Неподдельная материнская скорбь сквозит в каждой строке этого документа:
«Вот уже 14 месяцев, как родной сын мой, Николай Бауман, сидит в крепости. Сперва я не хотела верить этому. Единственное мое утешение на старости лет — любимый сын мой, которым я жила, — этот сын в тюрьме. Только мать или отец, горячо любящие своего ребенка, могут понять, как велико поразившее меня горе. В последнее же время оно еще усилилось, когда я узнала, что здоровье моего сына расстроилось. А вы знаете, ваше превосходительство, что значит для матери болезнь ее ребенка. Сколько слез и бессонных ночей прибавит она к моей уже и без того нерадостной жизни!»
Мина Карловна просила директора «понять всю глубину ее горя» и исполнить просьбу матери, которая «только на вас возлагает всю надежду»; просьба заключалась в том, чтобы Бауман был переведен из крепости в Дом предварительного заключения, где условия были все же лучше, чем в крепости. «Может быть, здоровье моего сына поправится, — писала Мина Карловна, — это — единственная надежда, которая у меня остается. Не отнимайте же ее, ваше превосходительство, у бедной старой матери, не откажите исполнить мою просьбу…»
Но вице-директор департамента полиции в сухом и холодном официальном ответе на имя казанского губернатора (3 (15) ноября 1898 года) сообщил «об объявлении мещанке Мине Карловне Бауман на прошение 7 октября, что ходатайство ее об освобождении Николая Баумана из-под стражи или переводе из СПБ крепости для дальнейшего содержания в Дом предварительного заключения удовлетворено быть не может». Причина отказа в том, что дело Баумана «находится на рассмотрении в Министерстве юстиции и будет разрешено в самом непродолжительном времени».
Действительно, 12 (24) декабря 1898 года Николаю II был представлен «всеподданнейший доклад» министра юстиции «о лицах, арестованных по делу «Союза борьбы». Министр намечал в качестве «меры пресечения и наказания за их преступную деятельность» высылку на различные сроки (от 3 до 8 лет) в Сибирь и северо-восточные губернии европейской части России. Николай II «соизволил собственноручно на докладе г. министра начертать «С» (согласен)».
Тяжелые двери Петропавловской крепости наконец-то открылись: после двадцатидвухмесячного заключения Бауман 22 января (3 февраля) 1899 года был отправлен на четыре года в административную ссылку в один из захолустных уездных городков Вятской губернии.
Брат Николая Эрнестовича — Петр Эрнестович, хлопотавший вместе с Миной Карловной о смягчении условий крепостного заключения, обратился в департамент полиции с просьбой разрешить ссыльному следовать в Вятку не этапом, а за свой счет. Разрешение было получено, и Николай Эрнестович на этот раз избежал тяжелого, мучительного этапного пути. По дороге в Вятку он заехал в Казань — повидаться с родителями и друзьями. Его товарищ по ветеринарному институту, профессор H. H. Богданов, пишет в своих воспоминаниях о Баумане: «он наконец-то (после заключения в Петропавловской крепости. — M. H.) показался у меня на квартире, в Академической слободке… Обо многом и долго говорилось. Обросший бородой Бауман много говорил о приближении грозной схватки с самодержавием»{Сборник «Товарищ Бауман», изд. 2. М., 1930 стр. 41.}.
VII. В ССЫЛКЕ
Местом ссылки Баумана департамент полиции выбрал Орлов — уездный город Вятской губернии. Затерянный среди лесов северо-востока, этот небольшой городок, походивший в то время скорее на большое село, насчитывал в половине девяностых годов всего лишь 4 тысячи жителей. Население занималось главным образом лесным кустарным промыслом — Сплавная, судоходная река Вятка служила столбовой дорогой, связывавшей летом Орлов с внешним миром. Зимой же, отброшенный более чем на 60 километров от своего губернского города — Вятки, городок казался почти необитаемым: на пристани, занесенные снегом, мирно дремали десятки рыбачьих судов, несколько барж и один-два пароходика. Никаких более или менее крупных фабрик и заводов ни в Орлове, ни поблизости не было. Из учебных заведений были лишь средние: реальное училище, женская гимназия да духовная семинария. Весь город состоял из двух-трех мощенных булыжником улиц, площади перед присутственными местами (весной и осенью редкие отваживались не только проходить, но и проезжать это море грязи) и целой сети маленьких, кривых переулков и рыбачьих слободок, лепившихся у самого берега Вятки.
Население Орловского уезда состояло в значительной степени из представителей национальных меньшинств — удмуртов, татар, отчасти мордвы. Необъятные леса, протянувшиеся на сотни верст по течению Вятки, доставляли главные продукты питания: охота была почти единственным занятием орловских крестьян. В сильной степени развито было и рыболовное дело: вязание рыбацких снастей — одно из основных занятий не только женского, но и мужского населения глухих лесных починков{Починок — выселок, небольшой новый поселок; чаще всего — на расчищенных под пашню лесных полянах.} и деревушек Орловского уезда, разбросанных по полянам и гарям безбрежного лесного океана. Курились также в лесных чащах смолокурни, слышались удары молота о наковальню в маленьких кузницах, — население занималось кузнечным, деревообделочным промыслами. И, как характерная особенность, во многих деревнях, даже крохотных — всего в 5—10 дворов, слышались не только в праздники, но и в будние дни заливистые, разноголосые трели гармошек: орловский деревенский житель, полукрестьянин-полукустарь, издавна занимался производством хороших, «голосистых» гармоний и свирелей с пронзительно-тонким ладом.
Таков был бедный, забытый в неоглядных лесных просторах край, куда в «административном порядке» прибыл в самом начале 1899 года Николай Эрнестович.
Но в Орлове в девяностых годах уже находилось несколько ссыльных социал-демократов. Вятская губерния была местом, куда департамент полиции направлял «на длительное наблюдение» наиболее опасных правительству революционеров. Так, в селе Кай Вятской губернии находился в ссылке Ф. Э. Дзержинский.
Владимир Сущинский также был выслан з Вятскую губернию, но не в Орловский, а в Нолинский уезд. Однако ссыльные не имели возможности встречаться: выезд из Орлова или Нолинска категорически запрещался.
Ссыльные подвергались «гласному надзору», который заключался в том, что «полицейский чин» ежедневно доносил исправнику о местонахождении каждого ссыльного. Квартиры, в которых поместились ссыльные, находились под надзором полиции; круг знакомых ссыльных также находился под наблюдением исправника; корреспонденция поступала адресатам с большим запозданием, — пока местные власти не убедятся, что в письмах и посылках нет ничего подозрительного. Существовала особая полицейская инструкция о «правилах поведения поднадзорных политических ссыльных». Инструкция регламентировала своими многочисленными параграфами почти каждую мелочь ссыльного быта: до какого времени разрешено быть в гостях, когда надо являться на обязательную отметку в полицию и т. п. Запрещалось также выходить «за городскую черту для прогулок и охоты далее 2 верст».
Но на практике эта инструкция применялась в весьма скромных формах. Николай Эрнестович вскоре после своего водворения в Орлове пристрастился к охоте. Товарищи Баумана по ссылке также частенько ходили на охоту, это занятие, помимо возможности побыть несколько часов на воле, без надзора со стороны всевозможных полицейских чинов, давало немалое подспорье к скудному питанию. Почти никто из ссыльных Орловской колонии не получал сколько-нибудь значительной помощи от родных. Жить на казенное пособие в размере 6–8 рублей в месяц было весьма затруднительно, даже в условиях крайней дешевизны жизни в тех глухих, отдаленных местностях. Поэтому охотники «совмещали приятное с полезным», как говорил впоследствии Николай Эрнестович об этом периоде своей жизни: отдых на лоне природы, вне поля зрения полиции, дополнялся весьма полезными трофеями — рябчиками, тетеревами, глухарями. Осенью и зимой к богатой добыче прибавлялись зайцы, которых удачливые охотники в изобилии коптили и даже солили впрок, на долгую и суровую северную зиму. Охота и рыбная ловля на широкой суровой Вятке, осененной вековыми задумчивыми елями и соснами, скрашивали одиночество ссыльных.
Но зимой жизнь в далеком, затерянном в лесах уездном городке текла нудно и скучно. Обильные снега засыпали городок. Сильные, доходившие до 40° морозы заставляли ссыльных ютиться в своих маленьких комнатках.
Монотонная жизнь города нарушалась только ранней весной, когда по широкой, полноводной реке Вятке с оглушительным грохотом трогался лед. Смотреть ледоход собирался весь город, от школьников-мальчишек до представителей местной интеллигенции и «именитого купечества». Картина действительно была красочной: словно разбитая армия, в беспорядке и смятении отступала по широкой Вятке суровая зима, громоздя с неимоверным шумом и треском огромные льдины…
Весну 1899 года орловцы встречали, как обычно.
На ледоход пришли любоваться все, даже местные власти. В окружении частных приставов и городовых, неодобрительно глядя на сломавший оковы лед, возвышался, как некий монумент, на высоком берегу реки исправник. Вокруг, соблюдая некоторую дистанцию, стояли и делились впечатлениями о высоте полой воды в нынешнем году «отцы города» — купцы.
Вдруг внимание всех любителей ледохода было привлечено неожиданным событием. На берегу, значительно выше (по течению реки) того места, где находилось начальство и купечество, появилась небольшая группа политических ссыльные во главе с Бауманом. Он что-то тщательно скрывал под накинутым на плечи пальто. И вдруг все любовавшиеся ледоходом с удивлением, а начальство к тому же и с явным негодованием, увидели, как на громадную льдину, медленно плывшую мимо самого берега, вскочило несколько ссыльных. Они встали на краю этого вятского айсберга и, взявшись за руки, громко запели. Находившийся в центре льдины Бауман поднял над головой красный флаг, и вешний ветер донес до столпившихся на берегу зрителей волнующий мотив:
Волга, Волга! Весной многоводной Ты не так заливаешь поля…Исправник, побагровев и почти лишившись речи, молча следил вытаращенными глазами за удалявшейся льдиной и тыкал обеими руками в пристава. Молодежь на берегу, с восторгом бежавшая вслед за льдиной, подхватила знакомый с детства напев:
Как великою скорбью народной Переполнилась наша земля!..Ссыльные проплыли несколько сот сажен и почти у черты города, где Вятка делала крутой поворот, перебрались на берег, пользуясь ледяным затором. Зрители встретили их бурным одобрением.
— Хоть четверть часа, а побыли на воле!.. Уж очень комичны были физиономии начальников города, когда мы с песней плыли мимо них на льдине!.. — долго вспоминал этот день Николай Эрнестович.
Исправник ограничился «строгим внушением», и особых последствий «ледяная демонстрация» для ссыльных не имела.
Смелость и мужество Баумана подчеркивает и другой эпизод из его жизни в ссылке.
По воспоминаниям ветеринарного врача А. А. Петрова, группа ссыльных, среди которых находился и Бауман, каталась летним вечером по Вятке. Внезапно налетел сильный, порывистый ветер. Одна из лодок, в которой сидели две молодые курсистки, опрокинулась. Николай Эрнестович немедленно бросился в одежде на помощь погибающим. Несмотря на свое превосходное уменье плавать, на закаленный с детства организм, Бауман с большим трудом доплыл до утопающих девушек. Он передал подоспевшим на лодке товарищам одну из них и нырнул за скрывшейся под водой подругой спасенной. Борясь из последних сил, еле переводя дыхание, появился Бауман с потерявшей сознание девушкой на поверхности воды.
Вечером, когда отогревшийся и, по обыкновению, веселый и жизнерадостный Николай Эрнестович сидел в тесном кругу друзей за чаем, один из товарищей спросил его:
— Ведь вы могли бы утонуть сами!.. Как у вас хватило сил броситься второй раз?
— Если нужно — силы всегда должны найтись, — просто и спокойно ответил Бауман.
Дальние походы на охоту, рыбалки и прогулки за грибами в окрестные леса были, однако, только внешней стороной жизни орловских ссыльных. Оторванные от цели своей жизни — политической, революционной работы, они ни на минуту не забывали о «внутренней цели своего существования» — так Николай Эрнестович называл происходившие между ссыльными дебаты и споры на политические темы. Среди ссыльных были и сторонники «стариков» и люди, склонявшиеся, как и «молодые», к «чисто экономической» борьбе рабочих.
Большое внимание уделяли орловские ссыльные социал-демократы рефератам на самые жгучие, боевые темы развивающегося социал-демократического движения.
На этих рефератных битвах, например, горячо обсуждались решения I съезда партии, происходившего в Минске в марте 1898 года. Съезд имел большое значение как попытка объединения во всероссийском масштабе целого ряда отделений «Союза борьбы» — петербургского, московского, киевского и др. В своем манифесте съезд провозгласил создание Российской социал-демократической рабочей партии. Николай Эрнестович, просидевший в условиях строгого одиночного крепостного заключения около двух лет, лишь в Орлове мог ознакомиться с основными решениями I съезда и его манифестом. Бауман в спорах с товарищами по ссылке крайне интересовался вопросом о судьбе избранного съездом Центрального Комитета партии — до отдаленного Орлова не скоро дошли вести об аресте ЦК. Одним из частых оппонентов Баумана в ссылке был А. Н. Потресов, с которым Николай Эрнестович в этот период своей жизни нередко встречался. В дальнейшем, в искровский период работы Баумана, когда Потресов примкнул к меньшевикам, товарищи по орловской ссылке оказались в разных лагерях; Бауман стал верным ленинцем, а Потресов окончательно увяз в болоте оппортунизма. Впоследствии, после Октябрьской революции, Потресов оказался в лагере контрреволюции.
Особенно важным событием в этот период жизни Баумана было участие орловских ссыльных в знаменитом «Протесте российских социал-демократов» («Протесте семнадцати»), составленном Лениным в сибирской ссылке.
Как известно, в 1899 году группа «экономистов» (Прокопович, Кускова и др.) напечатала свой манифест, в котором изложила свое отношение к задачам революционной борьбы рабочих. В этом «credo» («символе веры») «экономисты» проявили себя как убежденные, законченные оппортунисты, требовавшие, чтобы рабочие занимались лишь экономической борьбой с предпринимателями, так как политической борьбой с царизмом должна заниматься либеральная буржуазия. Авторы «credo» впоследствии стали кадетами, докатившись до лагеря контрреволюции. После Великой Октябрьской социалистической революции они открыто встали в ряды наиболее заядлых врагов советской власти.
Владимир Ильич Ленин с самого начала оформления течения «экономистов» решительно выступал против таких антиреволюционных, антимарксистских утверждений. Товарищ Сталин так оценивает роль «экономистов» и отношение к ним Ленина:
«Экономисты» утверждали, что рабочие должны вести только экономическую борьбу, что же касается политической борьбы, то ее пусть ведет либеральная буржуазия, которую должны поддерживать рабочие. Ленин считал подобную проповедь «экономистов» отступничеством от марксизма, отрицанием необходимости самостоятельной политической партии для рабочего класса, попыткой — превратить рабочий класс в политический придаток буржуазии»{«История ВКП(б). Краткий курс», стр. 24.}.
Как только «credo» «экономистов» стало известно сибирским политическим ссыльным, Ленин немедленно выступил с решительным протестом против ренегатов.
Об этом сохранились подробные воспоминания ряда соратников Ленина, отбывавших ссылку в том же Минусинском уезде, неподалеку от села Шушенского. Немедленно по получении из Петербурга «credo» Ленин составил план резкой отповеди авторам манифеста «экономистов». «Было решено «Протест» сделать коллективным и для этой цели всем товарищам собраться в селе Ермаковском»{П. Н. Лепешинский. На повороте. М., 1935, стр. 117.}.
«Предварительное оживленное собрание… происходило у меня на квартире, — пишет П. Н. Лепешинский, — причем я помню, как Владимир Ильич горячо доказывал многим из нас, что «credo» очень симптоматично, что прозевать этого явления нельзя, что «экономизм» — грядущая болезнь нашей социал-демократии»{П. Н. Лепешинский. На повороте. М., 1935, стр. 118.}.
В своем «Протесте» Ленин и его товарищи клеймили позицию «экономистов» как прямой отход, прямую измену рабочему делу, рабочему революционному движению.
«Протест» подписали 17 ссыльно-политических во главе с Лениным (Н. К. Крупская, Г. М. Кржижановский, А. С. Шаповалов, Ф. В. Ленгник, В. К. Курнатовский, О. Б. Лепешинская, П. Н. Лепешинский, А. А. Ванеев и др.).
Затем Ленин обратился ко всем марксистским организациям России с предложением присоединиться к «Протесту семнадцати» и также осудить изменническое «credo» «экономистов». «Протест» Ленина был послан и политическим ссыльным, находившимся в Сибири и на северо-востоке России. Ленин считал необходимым поднять против «экономистов» всех истинных марксистов, всех настоящих борцов за революционную победу рабочего класса.
Орловские ссыльные также получили «Протест семнадцати» Ленина с предложением присоединиться к борьбе против «экономистов».
Бауман, уже в Петербурге столкнувшийся с деятельностью «молодых» и выступавший в защиту «стариков», сразу же встал на точку зрения автора «Протеста семнадцати». Он увидел, что Ленин намечает единственно правильный путь победоносного развития рабочего революционного движения. Орловская колония ссыльных посвятила несколько вечеров обсуждению «Протеста семнадцати». Николай Эрнестович выступал ярым защитником идей Ленина, изложенных в «Протесте семнадцати». Политические ссыльные города Орлова присоединились к «Протесту» Ленина и постановили сообщить при первой же возможности о своем решении в Швейцарию для опубликования в нелегальной печати. Сообщение о присоединении к «Протесту» послано было и Ленину.
Как вспоминает один из товарищей Баумана по ветеринарному институту — профессор H. H. Богданов, «связующим звеном» с ссыльными была сестра В. Г. Сущинского Мария Гавриловна Сущинская. Она ездила в глухое село Кай Вятской губернии повидаться с братом:, который был переведен туда из Нолинска «за строптивый нрав и возражения начальству». М. Г. Сущинская, как и другие казанские друзья сосланных, стала информатором и поставщиком литературы для «вятичей». Через нее «вятичи» (в том числе и орловская колония) держали связь с Казанью, Петербургом и Сибирью.
Значение «Протеста семнадцати» было исключительно велико, так как «к «Протесту» присоединился ряд колоний ссыльных социал-демократов. Резолюции о присоединении к нему были присланы от группы ссыльных Туруханска, из вятской ссылки (Бауманом) и другими. «Протест» был перепечатан в астраханской типографии и распространен по всем городам Поволжья — от Астрахани до Нижнего. С появлением «Протеста семнадцати» началось резкое размежевание внутри местных социал-демократических организаций и в колониях ссыльных»{Ю. Полевой. Ленинская «Искра» и искровские организации в России. М., 1941, стр. 9.}. После присоединения к протесту Ленина против «credo» Бауман начал еще усиленнее изучать марксистскую литературу. Николай Эрнестович изучил ряд экономических работ по истории русского народного хозяйства, по истории рабочего движения на Западе, в особенности о положении рабочего класса в «классической стране капитализма» — Англии. Беседы и споры с товарищами по ссылке на политические и экономические темы, изучение отдельных работ по экономической истории России все острее и острее ставили перед Бауманом вопрос о том, что лучшие годы — годы молодости — могут пройти бесплодно, в глухой ссылке, почти на краю света. Петербург, горячая революционная борьба, товарищи из рабочих кружков все чаще заслоняли перед умственным взором Баумана страницы книг и брошюр… И Бауман, чувствуя себя достаточно подготовленным для продолжения революционной работы, решает бежать из медвежьего угла своей ссылки. Но бежать надо не в Петербург, где его, конечно, скоро выследят и арестуют, а туда, где зарождался центр теоретической и практической работы российской социал-демократии, где Ленин вскоре собрал лучших бойцов рабочей социал-демократической партии. В то время таким штабом была Швейцария. Именно туда, за рубеж, в центр кипучей революционной работы и решил бежать Бауман из захолустного Орлова.
Все лето и начало осени 1899 года он провел в приготовлениях к побегу. Не так легко было пробраться, не обратив на себя внимания полиции, из лесного уездного городка Вятской губернии за границу. Николай Эрнестович внимательно изучил несколько маршрутов, в том числе и через Казань, чтобы хоть на несколько часов повидаться с родителями. Лучше всего оказывался путь, который надо было совершить в одежде простого рабочего или лесосплавщика лесными дорогами до верховьев Волги, затем по Волге до Казани, а оттуда, заручившись необходимыми адресами и явками, следовало двинуться уже по железной дороге к границе и попытаться перейти ее где-нибудь в Польше или вблизи Румынии.
Летом 1899 года план побега был почти разработан. В это время ссыльного навестила его сестра Эльза. Она приехала к брату так же, как и в Саратовскую губернию, — пользуясь каникулами. Радостной и веселой была встреча брата и сестры.
Бауман очень любил Эльзу, — с ней были связаны воспоминания детства, она живо напомнила брату родные казанские места, детские игры и проказы… Николай Эрнестович немедленно познакомил Эльзу со всей колонией орловских политических ссыльных, и молодежь дружески встретила сестру Баумана. Несколько недель гостила Эльза у брата з Орлове, и эти дни пролетели как на крыльях: Бауман то затевал путешествия на лодках по широкой, полноводной Вятке, то отправлялся с сестрой и друзьями по ссылке в окрестные леса, то устраивал вечеринки с хоровым пением и мелодекламацией к немалой тревоге полицейских, наблюдавших за «ссыльными политиками».
Эльза подробно рассказывала брату о семейных делах, о том, что отец все чаще страдает сердечными припадками, о хлопотах Мины Карловны, когда Бауман сидел в крепости, о ее огорчениях, связанных с ходатайствами о смягчении тюремного режима сына…
Николай Эрнестович, в свою очередь, говорил сестре о своих убеждениях, о том, что счастье человека — «в равновесии духа, т. е. в неуклонном следовании по раз и навсегда им избранному пути». Он написал большое письмо Эрнесту Андреевичу и Мине Карловне, прося их не отягощать свою старость горестными думами о нем, что бы ни случилось с ним в дальнейшем. Эльза поняла, что брат вряд ли останется в Орлове до конца ссылки, — прошло ведь всего около года, как он приехал в этот городок, а срок ссылки был установлен четырехлетний…
Впоследствии, в киевской Лукьяновской тюрьме, в беседе с друзьями Бауман вспоминал, что среди тусклых и мрачных долгих лет крепостной одиночки, ссылки в глухих вятских лесах вдруг, как луч света, всплывали два-три радостных, светлых эпизода, «без которых и жизнь была бы не в жизнь». К таким редким, но тем более радостным эпизодам относился приезд Эльзы.
Николай Эрнестович вспоминал с Эльзой саратовские поля, вечеринки в Новых Бурасах во врем «приезда Эльзы к нему на каникулы и с увлечением повторял любимые им стихи Пушкина:
Во глубине сибирских руд Храните гордое терпенье. Не пропадет ваш скорбный труд И дум высокое стремленье!..Но лето кончилось, приближалась холодная северная осень… Эльза собралась в обратный путь. Бауман проводил ее до Вятки, сердечно распрощался с любимой сестрой и передал еще раз свои лучшие пожелания родителям и братьям.
***
Недолго оставался он после этого в Орлове. 15 (27) октября полицейский сообщил исправнику, что «ссыльный Н. Э. Бауман, повидимому, скрылся в неизвестном направлении». Немедленно был произведен обыск в его комнате, но, кроме нескольких десятков «дозволенных цензурою» книг и картины «явно аллегорического, даже почти преступного содержания», ничего обнаружить не удалось. На картине был изображен молодой рабочий, высоко поднявший руку на фоне ярко разгорающейся зари. Вятский губернатор, получив спешное донесение из Орлова о побеге Баумана, в свою очередь, немедленно сообщил в Петербург, департаменту полиции, что «состоящий в городе Орлове под гласным надзором полиции ветеринарный врач, Николай Эрнестович Бауман, 15 сего октября из места жительства неизвестно куда скрылся». При этом отношении губернатор счел необходимым выслать в департамент полиции и эту аллегорическую картину, «найденную в квартире названного лица при описи оставшегося его имущества».
Департамент полиции, получив донесение вятского губернатора, немедленно составил справку о революционной деятельности Баумана, подробно описав приметы скрывшегося: «рост 2 аршина 6 3/4 вершка, телосложение хорошее, белокурый, борода слегка рыжеватая, глаза серые, размер их в 3 сантиметра, нос с небольшим горбом, размер его 6 1/2 сантиметра, на переносье рубец, лицо овальное, цвет кожи белый с легким румянцем, тембр голоса — баритон, походка скорая, слегка развалистая…»
В этой справке о разыскиваемых имеется особая графа: «Как поступить по разыскании и особые примечания». Департамент предлагает чинам полиции всех губерний и уездов:
«Арестовать и препроводить в распоряжение вятского губернатора, уведомив о сем департамент полиции», и, кроме того, делает следующее указание: «Обратить особое внимание».
Но как ни старались местные губернаторы, полицмейстеры и исправники обнаружить в пределах «вверенных им губерний и уездов» бежавшего ссыльного со столь подробно описанными департаментом полиции приметами, в департамент пришлось послать лишь трафаретные ответы: «разыскать не удалось… разыскиваемого Н. Э. Баумана не обнаружено».
План побега Николая Эрнестовича был рассчитан на то, что полиция три-четыре дня не обратит внимания на отлучку из Орлова «завзятого охотника». «Закисала лиственница» — так на охотничьем языке называлась пора, когда глухари с особым удовольствием при первых морозах садились на молодые лиственницы, лакомясь прихваченными первыми морозами иглами. Охотники с собаками-лайками подкрадывались к птицам и возвращались с богатой добычей.
Бауман скрылся из Орлова под видом дальней охоты. Уже несколько раз он уходил в глухие окрестные леса за 40–50 верст на несколько дней. Ему удалось установить связи с вятской колонией политических ссыльных. Переодевшись в простую крестьянскую одежду, ничем не отличаясь от простого деревенского парня, сел Бауман на один из последних пароходов. По реке Вятке уж шло «сало» — мелкий лед, предвестник скорого наступления настоящих холодов и окончания навигации. Затем Николай Эрнестович кружным путем, с пересадками и случайными попутчиками, по лесным малоезжечным дорогам добрался до родины. В Казани он лишь показался родителям — к ним прежде всего бросится с розысками полиция, узнав о его побеге из Орлова. Николай Эрнестович заглянул на денек к одному из своих товарищей по ветеринарному институту. Его друг с трудом узнал в деревенском парне ловкого и стройного Баумана. Друзья проговорили до рассвета… А через день, переодевшись в обычную одежду, молодой революционер тронулся в дальний путь, за границу. Вскоре он сумел перейти австрийскую границу с контрабандистами под видом скрывающегося от преследований полиции старообрядца.
VIII. УЧЕНИК В. И. ЛЕНИНА
Бауману удалось через Австрию и Германию уехать в Швейцарию. В то время в Швейцарии, предоставлявшей политическим эмигрантам право убежища, находилось немало русских социал-демократов.
Ленин, по окончании своей ссылки в Сибири, также направился летом 1900 года в Швейцарию. Перед отъездом за границу он весной 1900 года побывал во многих городах России (Уфе, Москве, Пскове), обсуждая с товарищами (Стопани, Лепешинским, Радченко и др.) план создания за границей революционной, марксистской газеты, которая явилась бы могучим орудием в борьбе с царизмом и объединила бы все марксистские подпольные кружки. Особенное значение имели совещания в Пскове, здесь Ленин подробно беседовал об издании общерусской революционной газеты с целым рядом своих соратников, в частности со специально приехавшим к своему великому учителю И. В. Бабушкиным.
Идея объединения рабочих, идея издания общерусской боевой, политической газеты была крайне полезной, крайне своевременной в создавшихся в 1900 году условиях.
«Несмотря на состоявшийся в 1898 году 1 съезд Российской социал-демократической партии, объявивший об образовании партии, партия все же не была создана. Не было программы и устава партии. Центральный Комитет партии, избранный на I съезде, был арестован и больше уже не восстанавливался, ибо некому было его восстановить. Более того. После I съезда идейный разброд и организационная распыленность партии еще больше усилились»{«История ВКП(б). Краткий курс», стр. 30.}.
В этих условиях Ленин и выдвинул свой гениальный план создания партии, план создания партийной газеты, объединяющей все местные социал-демократические организации.
Ленин писал, что «газета не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор».
В статье «С чего начать?» Ленин наметил конкретный, подробный план создания целой сети агентов газеты. «Эта сеть агентов, — писал Ленин, — будет остовом именно такой организации, которая нам нужна: достаточно крупной, чтобы охватить всю страну; достаточно широкой и разносторонней, чтобы провести строгое и детальное разделение труда; достаточно выдержанной, чтобы уметь при всяких обстоятельствах, при всяких «поворотах» и неожиданностях вести неуклонно свою работу…»{В. И. Ленин, Соч., изд. 4, т. 6, стр. 11.}.
За границей в это время существовало издательство «Рабочее дело», но Ленин считал его совершенно неспособным объединить все поистине марксистские, революционные организации, так как «рабочедельцы» склонялись к «экономизму», становились явными оппортунистами. Поэтому Ленин и предлагал создать новую газету, действительно способную выполнить великую роль партийного организатора.
Кипучая деятельность Ленина вызывает усиленное наблюдение за ним полиции. Начальник московского охранного отделения Зубатов доносит департаменту полиции: «…приехал известный в литературе (под псевдонимом «Ильин») представитель марксизма Владимир Ульянов, только что отбывший срок ссылки в Сибири…» Зубатов сообщает, что В. И. Ульянов, А. И. Елизарова, ее муж М. Т. Елизаров и М. И. Ульянова находятся под «неослабным надзором полиции», так как между социал-демократами Москвы, Орла, Екатеринослава ведутся оживленные сношения.
«Царское правительство чувствовало, что в лице Ленина оно имеет опаснейшего врага. В своей тайной переписке царский охранник, жандарм Зубатов, писал, что «крупнее Ульянова в революции сейчас никого нет», ввиду чего он считал целесообразным организовать убийство Ленина»{«История ВКП(б). Краткий курс», стр. 25.}.
После нового ареста в Петербурге В. И. Ленину с трудом удалось 16(29) июля 1900 года уехать за границу.
Бауман приехал в Швейцарию несколькими месяцами ранее Ленина. Он сразу же ознакомился с состоянием революционной работы в швейцарской колонии русских политических эмигрантов, в особенности с работой социал-демократов, группировавшихся в Женеве. Николай Эрнестович тут же примкнул к возглавляемой Г. В. Плехановым группе «Освобождение труда».
В Швейцарию вскоре приехал также бежавший из ссылки В. Г. Сущинский. В апреле 1900 года Бауман, по предложению Плеханова, поехал в Женеву для участия в «частном съезде социал-демократов».
Но с течением времени отношения между Плехановым и Бауманом ухудшились. Бауман, изучивший в Петербурге работы Ленина о значении массового движения рабочих для достижения пролетариатом своих политических целей, не мог удовлетвориться «общими вопросами», которые развивал в своих подчас весьма остроумных по форме выступлениях Плеханов. Некоторую роль сыграло здесь также и то высокомерное, иногда даже несколько презрительное отношение к рядовым работникам, которое нередко проскальзывало у Плеханова.
Н. К. Крупская приводит весьма характерное свидетельство:
«Приезжали часто в «Искру» рабочие, каждый, конечно, хотел повидать Плеханова. Попасть к Плеханову было гораздо труднее, чем к нам или Мартову, но даже если рабочий попадал к Плеханову, он уходил от него со смешанным чувством. Его поражал блестящий ум Плеханова, его знание, его остроумие, но как-то оказывалось, что, уходя от Плеханова, рабочий чувствовал лишь громадное расстояние между собой и этим блестящим теоретиком, но о своем заветном, о том, о чём он хотел рассказать, с ним посоветоваться, он так и не смог поговорить.
А если рабочий не соглашался с Плехановым, пробовал изложить своё мнение, — Плеханов начинал раздражаться: «Ещё ваши папеньки и маменьки под столом ходили, когда я…»{Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. М., 1934, стр. 51.} Отношение Ленина ко всем товарищам, приезжавшим из России и заходившим в редакцию «Искры» или в маленькую, скромную квартирку, в которой жили Ленин и Крупская, было полнейшей противоположностью. Ленин дружески, запросто целыми часами беседовал с ними о новостях рабочего движения, о позиции того или иного местного комитета и т. п.
Бауман, впервые познакомившийся с Лениным летом 1900 года, увидел всю силу и мощь, а вместе с тем и личную простоту, скромность вождя партии.
Квартира Ленина за границей стала подлинным штабом, центром революционной мысли и практики. Об этом периоде работы основателя «Искры» Ем. Ярославский пишет:
«К Ленину приезжали за границу товарищи из разных городов посоветоваться, как им поступить в том или ином случае, как им лучше вести работу, как вести борьбу с оппортунистами. Ленин всех охотно принимал и внимательно выслушивал. Ленин умел исключительно внимательно слушать своих собеседников, умел узнать всё, что делается в России. Иной товарищ неразговорчивый, не умеет толком слова сказать, но Ленин его заставит разговориться, разными наводящими вопросами узнает всё, что необходимо, условится о дальнейшей работе»{Ем. Ярославский. Биография В И. Ленина. М., 1940, стр. 41.}.
Владимир Ильич оценил способности Баумана как революционера-массовика, организатора подпольных рабочих кружков. Великий вождь российского пролетариата видел в Баумане человека, который может оказать большую помощь «Искре» именно как один из практических организаторов печатания и распространения газеты.
По совету Владимира Ильича Бауман приступает к практическому делу по изданию будущей общероссийской марксистской газеты. В частности, он учится наборному делу и вскоре с гордостью может сообщить своему великому руководителю, что достиг в этом нужном для профессионального революционера искусстве значительных успехов.
Лето 1900 года прошло в напряженной подготовительной работе к выпуску первого номера газеты. Решено было назвать ее «Искрой», поставив в заголовке известные пророческие слова декабриста А. И. Одоевского — «Из искры возгорится пламя»— в ответ на знаменитое обращение к декабристам Пушкина.
В октябре 1900 года редакция в отдельных листовках объявила о скором выходе в свет новой газеты. 24 декабря появился первый номер «Искры» со знаменитой передовицей, написанной Лениным.
Бауман принимает самое активное участие буквально во всех работах, связанных с изданием и распространением «Искры»: он едет вместе с Лениным в Германию; работает наборщиком «Искры» в Мюнхене; держит по поручению Ленина связи с «транспортерами» — социал-демократами, отвозившими при помощи всякого рода хитроумных приспособлений (чемоданы с двойным дном, громадные коробки для дамских шляп в т. п.) «Искру» в Россию.
Печатая «Искру» за границей, Ленин в то же время принимал меры к перепечатке материалов газеты непосредственно в России. Огромную помощь в этом важнейшем деле оказал Владимиру Ильичу Иосиф Виссарионович Сталин — организатор и руководитель большевиков Закавказья.
Великий соратник Ленина в борьбе за создание партии большевиков, Сталин провел исключительно большую работу среди батумских и тифлисских рабочих, воспитывая их в духе революционной борьбы., в духе ленинской «Искры».
«В январе и феврале 1902 г. в Батуме под руководством товарища Сталина, — пишет Л. Берия, — активно заработали 11 социал-демократических рабочих кружков, которыми были охвачены такие предприятия, как заводы Манташева, Ротшильда, Сидеридиса и др…
В январе 1902 года товарищу Сталину удалось организовать небольшую нелегальную типографию. Вначале типография была весьма примитивна, помещалась в квартире, где проживал сам товарищ Сталин, но впоследствии товарищ Сталин расширил и улучшил технику типографии: из Тифлиса были привезены печатный станок, кассы, шрифт»{Л. Берия. К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье. М., 1949, стр. 30–31.}.
Вместе с тем И. В. Сталин руководит работой местных социал-демократических организаций; в частности, он руководит работой Ладо Кецховели, который в сентябре 1901 года выпустил в Баку первый номер газеты «Брдзола» («Борьба»). Эта газета была органом тифлисской организации социал-демократов.
Один из наборщиков бакинской нелегальной типографии, В. Цуладзе, вспоминает:
«Товарищ Сталин являлся тогда самым подготовленным и активным в руководящей партийной группе тифлисских социал-демократов. Знаю, что он лично практически руководил рабочими революционными социал-демократическими кружками и во все трудные моменты мы, активисты, обращались к нему за советами и указаниями…
…В типографии печатались четыре номера газеты «Брдзола» — органа тифлисской революционной социал-демократической организации, несколько номеров газеты «Искра», разные брошюры, как, например, «Четыре брата», «Пауки и мухи», много прокламаций, листовок и т. д»{Л. Берия. К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье M, 1949, стр 43–44.}.
Когда в январе 1902 года И. В. Сталин организовал в Батуме крупную забастовку передовых рабочих на заводе Манташева, окончившуюся победой рабочих, так как администрация завода пошла на ряд уступок, а затем в феврале возглавил работу стачечного комитета (началась забастовка на заводе Ротшильда) и 9 (22) марта организовал грандиозную демонстрацию батумских рабочих, в которой участвовало около 6 тысяч человек, ленинская «Искра» (№ 26, 15 октября 1902) подробно осветила эти события.
Товарищ Сталин руководил работой газеты «Брдзола», которая «вслед за «Искрой», заявлявшей в статье В. И. Ленина — «Мы, русские социал-демократы, должны сплотиться и направить все усилия на образование крепкой партии, борющейся под единым знаменем революционной социал-демократии…», выдвигала задачу широкого развертывания агитации и пропаганды идей революционной борьбы пролетариата»{Л. Берия. К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье. М., 1949, стр. 45.}.
По указаниям товарища Сталина «Брдзола» с первого же номера, в отличие от газеты «Квали» (орган правого крыла «Месамедаси»), решительно отстаивает и пропагандирует ленинскую идею гегемонии пролетариата в российском революционном движении»{Л. Берия. К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье. М., 1949, стр. 47.}.
В дальнейшем, после ареста Кецховели и временной ликвидации бакинской подпольной типографии, эта типография была «восстановлена по поручению Ленина т. Л. Красиным и др., и до ноября 1903 г. она обслуживала ленинскую «Искру»{Л. Берия. К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье. М., 1949, стр. 50.}.
Ленин очень высоко оценивал работу закавказских социал-демократических организаций, руководимых Сталиным. Не будучи лично знаком со Сталиным (как известно, первая встреча великих вождей пролетариата произошла позже, в декабре 1905 года на I (Таммерфорсской) конференции партии), Ленин систематически вел переписку с закавказскими искровцами. Он горячо приветствовал план закавказских искровцев перепечатывать «Искру» в бакинской подпольной типографии.
В мае 1901 года В. И. Ленин писал товарищам ь Астрахань, тесно связанным с бакинскими искровцами:
«Каким образом думаете Вы поставить «Искру» в России? В тайной типографии или в легальной? Если последнее, то напишите немедленно, имеете ли определённые виды: мы готовы бы были обеими руками ухватиться за этот план (возможный, как нас уверяли, на Кавказе), и средств он потребовал бы немного»{«Ленинский сборник» VIII, стр. 146.}.
Наряду с вопросом о перепечатке «Искры» в России Ленина очень беспокоил вопрос о пересылке искровских изданий в Россию из-за границы.
Летом 1901 года вопрос о перевозке «Искры» в Россию приобрел особо важное значение. «Вообще весь гвоздь нашего дела теперь — перевозка, перевозка и перевозка. Кто хочет нам помочь, пусть всецело наляжет на это», — писал Ленин местным организациям «Искры».
Владимир Ильич считал Баумана одним из самых активных и аккуратных агентов «Искры», среди которых было немало лучших работников великой партии Ленина — Сталина.
Поэтому именно Бауману он дал ряд поручений, связанных с перевозкой искровской литературы, зная, что верный агент «Искры» с ответственным заданием справится.
26 июня 1901 года Ленин пишет Н. Бауману из Мюнхена:
«…Итак, вот какое предложение мы Вам делаем: поезжайте тотчас на место, съездите с одним из Ваших паспортов к Николаю{Э. X. Роллау; в переписке редакции «Искры» с ее агентами подпольная кличка Роллау была «X» или «Николай».} в Мемель, узнайте от него всё, затем перейдите границу по Grenzkarte{Пограничная карта.} или с контрабандистом, возьмите лежащую по сю сторону (т. е. в России) литературу и доставьте её повсюду. Очевидно, что для успеха дела необходим на помощь Николаю и для контроля за ним ещё один человек с русской стороны, всегда готовый тайно перейти границу, главным же образом занятый приёмом литературы на русской стороне и отвозом её в Псков, Смоленск, Вильно, Полтаву… Вы для этого были бы удобны, ибо (1) были уже раз у Николая и (2) имеете два паспорта. Дело трудное и серьезное, требующее перемены местожительства, но зато дело самое важное для нас»{«Ленинский сборник» VIII, стр. 164–165.}.
Бауман не раз выполнял подобного рода поручения Ленина. Во время своей заграничной работы в «Искре» Николай Эрнестович организовал «транспортное бюро» — так искровцы называли в те годы пункты по пересылке искровских изданий через границу, находившиеся и на западной и на северной границах России (в Польше и Финляндии). Работа эта требовала чрезвычайно больших усилий, опыта и хладнокровия. Опасность подстерегала агентов ленинской «Искры» на каждом шагу. Были случаи крупных неудач: так, полностью «провалился» первый транспорт «Искры». Но Бауман не терял веры в свое трудное дело: Николай Эрнестович умел налаживать связи с контрабандистами, умел использовать для перевозки «Искры» самые, казалось бы, безобидные, с точки зрения департамента полиции, поездки служащих, учащихся.
Бауман, кроме того, прекрасно справлялся и с другой, не менее важной задачей — распространением «Искры» в рабочих организациях Пскова, Смоленска и ряда других городов. Ленин в своем некрологе о Баумане указал на то, что Николай Эрнестович «неоднократно ездил нелегально в Россию»{В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 9, стр. 405.}.
Осенью 1901 года штаб ленинской «Искры» начал получать все более тревожные вести о деятельности в Москве «рабочих обществ», организуемых по инициативе начальника московского охранного отделения Зубатова. Зубатовщина — весьма характерная для того времени попытка насаждения «полицейского социализма», как метко назвали кадровые пролетарии старания охранки заманить в свои сети рабочих. «Рабочие общества» стремились разъединить пролетариат, натравить одну часть его на другую, стремились противопоставить революционному движению рабочих «мирное движение» под сенью… охранного отделения. Зубатов в своих длительных беседах с арестованными по политическим делам рабочими увещевал их не «портить до конца свою жизнь», не итти вместе с революционерами, а «тихо и мирно ходатайствовать перед батюшкой-царем» и его ставленниками-сановниками об улучшении материального положения, о прибавке за сдельные работы и т. п.
Сам Зубатов вел себя крайне «либерально»: ласково разговаривал с арестованными, посылал им в тюрьму улучшенную пищу, даже вызывал их к себе на квартиру и угощал чаем…
Конечно, сознательная часть рабочих сразу поняла волчьи ухватки этой мягко стелющей лисы. Громадное значение для вскрытия истинного лица зубатовцев имела кампания, открытая «Искрой». В своих статьях («Новые «друзья» русского пролетариата», «Еще о политическом разврате наших дней» и др.) «Искра» систематически освещала затаенные цели зубатовских организаций. В своей знаменитой работе «Что делать?» Ленин предопределил неизбежный провал всех зубатовских организаций. Он писал, что легализация рабочего движения, попытка поставить это движение под контроль полицейско-предпринимательских организаций неизбежно вызовет привлечение внимания ещё более широких и самых отсталых слоев рабочих к социальным и политическим вопросам. Действительность вполне оправдала это указание Ленина: через несколько лет (в 1903–1904 годах) «зубатовщина» потерпела полный крах, и сам Зубатов по приказу Плеве был отрешен от должности и даже выслан; но истинной причиной крушения зубатовщины была повысившаяся сознательность рабочих, среди которых все большее влияние приобретала ленинская «Искра».
Однако в конце 1901 года зубатовские «рабочие общества» еще усиленно насаждались в Москве, и наиболее передовая, революционная часть русской социал-демократии должна была начать с зубатовщиной непримиримую борьбу.
Надо было неустанно разъяснять и наглядно показывать рабочим весь вред, всю подлость задуманной Зубатовым ловушки, усиленно пропагандировать искровскую линию, вести рабочих за «Искрой» Ленина.
Вот почему Ленин и остановил выбор на одном из наиболее талантливых своих учеников — отличном пропагандисте идей ленинской «Искры» и опытном организаторе — на Баумане. По поручению Ленина Николай Эрнестович в ноябре 1901 года начал готовиться к поездке в Россию для подпольной работы в Москве и окрестных районах в качестве агента ленинской «Искры». Он беседовал с отдельными товарищами — социал-демократами, привозившими из Москвы сведения о зубатовских кружках-ловушках, особо выясняя настроение рабочих масс в подмосковных текстильных районах. Вместе с Бауманом собирался в дорогу и В. Г. Сущинский; он также должен был вести борьбу с зубатовскими «рабочими обществами».
Товарищи по ленинской «Искре» вспоминают, что Бауман «буквально горел при мысли о том, какую громадную и важную работу придется ему провести в Москве». Вот характеристика Баумана, данная ему одним из его товарищей по транспортировке ленинской «Искры» — В. С. Бобровским:
«Он был прирожденным, твердокаменным большевиком… Он был таким не только по своим убеждениям, но и по своему душевному складу. Верный товарищ, коренной партиец-подпольщик, он нес с собою, помимо горячей веры в дело, за которое он отдал свою жизнь, бодрость, смелость, неутомимость, жизнерадостность».
Как-то В. С. Бобровский в беседе с Бауманом упомянул, что в Москве крайне сложная и опасная обстановка для работы по распространению «Искры» и по борьбе с зубатовскими «рабочими организациями» и что, по последним сообщениям, средняя продолжительность работы искровских агентов не превышает трех месяцев. Николай Эрнестович улыбнулся и ответил своей любимой с детства поговоркой:
— Желать — значит сделать! Если взяться за дело как следует, то и трех месяцев окажется достаточным для разрушения зубатовских цитаделей.
В Россию он выехал в декабре 1901 года. Следившие за границей за деятельностью политических эмигрантов царские шпионы не смогли во-время сообщить охранному отделению, под каким именем Бауман выехал в Москву. У Николая Эрнестовича было два «настоящих», то-есть принадлежавших живым людям, паспорта, официально оформленных (прописанных) в полиции. С одним из этих паспортов Бауман и появился в Москве в декабре 1901 года.
В. Г. Сущинскому не повезло: выехав в Казань и поволжские города для упорядочения там партийной работы, он вскоре был выслежен филерами. Сущинского арестовали в Казани, на его родине, в самом начале 1901 года и выслали по этапу для продолжения ссылки в село Кай Вятской губернии. Больше Бауману и Сущинскому{В/ Г. Сущинский — персональный пенсионер, жил в Ессентуках и умер там весной 1941 г.} уже не довелось встретиться.
Во время напряженной работы по подготовке материалов и печатанию ленинской «Искры» Бауману пришлось познакомиться с немалым числом революционной молодежи, стремившейся из России в Швейцарию.
В. Г. Сущинский, бывший в это время также в Швейцарии, вспоминает, что в Женеве Бауман познакомился с Капитолиной Саниной, вдовой, по мужу Медведевой:
«Это была высокая и красивая женщина, энергичная и деятельная. Николай любил жену и был счастлив. «Медовый» месяц у молодых Бауманов проходил весело и интересно — в прогулках на Юнгфрау, в поездках по озеру. На голубом озере мы, однако, часто вспоминали Кабан и Казань…»{Сборник «Товарищ Бауман», изд. 2. М., 1930, стр. 38.}
Медведева приняла деятельное участие в революционной (подпольные клички «Надя» и «Ирина») работе и в дальнейшем была верным другом и спутником Николая Эрнестовича вплоть до грандиозной демонстрации — похорон Баумана 20 октября (2 ноября) 1905 года.
IX. АГЕНТ «ИСКРЫ»
Николай Эрнестович приехал в Москву в конце 1901 года, когда московская организация социал-демократов переживала очень трудный период: полиции удалось выследить и арестовать (в ночь на 3 (14) марта 1901 года) руководителей организации — М. И. Ульянову, М. Т. Елизарова и др.
«Оставшиеся на свободе члены организации и новоприбывшие руководящие работники — И. И. Степанов-Скворцов, В. Л. Шанцер (Марат) — все лето (1901 год. — M. H.) занимались восстановлением комитета. Они подготовили к изданию ряд листков и брошюр («Что такое демонстрация?», «Добровольные помощники охранки»). Однако вскоре последовал новый провал. И. И. Степанов-Скворцов, В. Л. Шанцер, Никифоров и другие были арестованы»{ «Из истории московской организации ВКП(б) (1894–1904 гг.)». М., 1947, стр. 78.}.
Этим обстоятельством воспользовались оппортунисты, враждебные искровскому движению. Создалось трудное для революционного, марксистского рабочего движения положение, так как «вследствие частых арестов и отъезда многих деятельных революционных марксистов в Московский комитет проникла группа «экономистов»… Враги ленинской «Искры» — «экономисты» и эсеры — пытались превратить Москву в свой опорный пункт»{«Из истории московской организации ВКП(б) (1894–1904 гг.)». М., 1917, стр. 78.}.
Надо было иметь громадную энергию, настойчивость, волю к победе, чтобы разоблачить в глазах рабочих масс врагов ленинской «Искры», отстоять московскую организацию социал-демократов от покушения «экономистов». Нехватало на первых порах связей, — частые провалы заставляли неделями и даже месяцами выжидать, работать медленнее, с крайней осторожностью.
И все же Бауману удалось через три-четыре месяца после своего приезда в Москву создать целый ряд кружков на фабриках и заводах Лефортова, Замоскворечья, Сокольников. Кружки по условиям конспирации были небольшие — в 3–5 человек. С большим трудом, но все же удалось наладить в Измайловской больнице маленькую типографию. Здесь Бауман сумел выпустить четыре листовки общим тиражом в 1 200 экземпляров, Любопытное свидетельство — оценку работы Николая Эрнестовича (декабрь 1901 года) — приводит одна искровская корреспондентка, посетившая по поручению «Искры» целый ряд городов:
«Из всех мест, где я была, по-моему, лучше всего, разумнее всего и основательнее всего дело ведется и поставлено у «Грача». Гораздо более правильное понимание общих организационных задач… так что можно рассчитывать на будущее… Одним словом, все идет к тому, что «мы» здесь будем господами положения»{К. Осипов. Николай Эрнестович Бауман. М., 1946, стр. 28–29.}.
И действительно, Бауман с полным правом, основываясь на первых результатах своей работы, мог сказать о будущем поражении «экономистов», о переходе московских организаций к ленинской «Искре»: «не завтра — послезавтра я буду хозяином…»
Работать приходилось в крайне трудных условиях. Нехватало средств для налаживания хотя бы небольшой типографии, на разъезды по рабочим подмосковным городам. Бауман в своих отчетах редакции «Искры» нередко называл деньги, средства «самым узким местом».
Ведя огромную организационную работу, Бауман стремился сэкономить буквально каждый рубль из партийной кассы. Он старался как можно меньше расходовать на себя лично. Бауман аккуратно посылал Ленину подробные отчеты о своей работе и необходимых расходах. Так, в письме Ленину от 30 мая 1901 года он пишет о своих расходах за месяц: «…почтовые и канцелярские—1 р. 80 к.; …железная дорога — 6 р. 50 к.; Богдану (Бабушкину. — М. Н.)—30 р.; ему же на привоз «чая» от Паулины — 20 р …На мое содержание ушло из кассы 31 р. 64 к.». В течение целого месяца Бауман израсходовал лично на себя очень небольшую сумму, но считал своим долгом отчитаться перед редакцией «Искры» с изумительной точностью и аккуратностью.
Обратив основное внимание на оживление деятельности подпольных организаций, на укрепление связей фабрично-заводских рабочих с ленинской «Искрой», Бауман не мог оставить в тени и работу с интеллигенцией. Среди московской учащейся молодежи, работников умственного труда были люди и сочувствующие революционному движению и активно поддерживавшие его. Это обстоятельство заставило ленинского агента «Искры» завязать тесные связи с лучшими представителями революционной интеллигенции того времени. Московские высшие учебные заведения уже с 1870–1880 годов скрывали в своих стенах революционные студенческие кружки. Широко известна роль студентов Московского университета — руководителей и организаторов ряда демонстраций и протестов всего московского студенчества. Поэтому «московская организация «Искры» организовала в Московском университете и других высших учебных заведениях студенческие социал-демократические группы, которые вели борьбу как против либерально-буржуазного крыла московского студенчества, так и против активизировавшихся в 1902–1903 г.г. эсеров»{«Из истории московской организации ВКП(б) (1894–1904 гг.)». М., 1947, стр. 90.}.
Члены студенческих социал-демократических организаций оказывали большую помощь агентам «Искры» в распространении искровских изданий, в подыскании подходящих для подпольных типографий помещений, в агитации среди трудового населения самых отдаленных районов города Москвы (например, работа «петровцев», как тогда называли студентов Петровской сельскохозяйственной академии, в Бутырском районе, пропаганда искровских изданий «межевиками» — студентами Межевого института — в районах Подмосковья, где они проводили студенческие практики, и т. п.){В 1905 году в Техническом училище создана была боевая дружина; студенты в подпольном помещении, в котельной, практиковались в стрельбе в цель. В Межевом институте в октябре 1905 года, во время похорон Баумана, группа студентов, вооруженных берданками, хотела встретить похоронную процессию траурным салютом, но им предложили просто присоединиться к шествию, так как выстрелы могли дать повод для нападения черносотенцев.}.
Установив связи с рабочими и студенческими группами, Бауман организовал несколько подпольных явочных квартир. Один из подпольных явочных адресов — Измайловская больница. Через знакомого доктора Бауман организовал здесь явку. Второй адрес — Русское страховое (от огня) общество. Явившись по этому адресу, нужно было спросить М. И. Стеллецкую и передать ей заранее заготовленную записку с просьбой о «рекомендации к Францу Францевичу». Никаких личных переговоров с самой Стеллецкой при этой явке вести не следовало.
Так конспиративно, меняя адреса и явки, нередко изменяя свою наружность умелым гримом, вел боевую работу с зубатовщиной деятельный агент «Искры» Николай Бауман.
В этой борьбе у Баумана с зубатовщиной оказалось в руках могучее оружие — ленинская «Искра». «Я наблюдал, я следил буквально с замиранием сердца, — вспоминал впоследствии в разговоре с делегатами II съезда РСДРП Николай Эрнестович, — как падала, разрушалась уничтожалась зубатовщина, срывалась эта мерзкая, липкая паутина после каждого полученного на московских фабриках и заводах номера «Искры».
Действительно, «Искра» систематически, из номера в номер, вела убийственный огонь по зубатовским организациям. Особенное значение имела статья «Новые «друзья» русского пролетариата», в которой «Искра» вскрыла с предельной глубиной весь подлый, шпионский путь Зубатова, его холопскую преданность царизму, его провокационные методы допросов и «увещеваний» арестованных рабочих. Прочитав эту статью, рабочие убеждались, что ни о каком «мирном союзе» предпринимателей и рабочих под крылышком охранника и провокатора Зубатова и говорить нечего. «Полицейский социализм» — вот меткая кличка зубатовских организаций, данная им искровцами Москвы в годы работы в московском подполье Баумана.
«Грач» неуловимо для зубатовских агентов проносил искровскую литературу на рабочие подпольные собрания в различных районах Москвы.
Но Бауман не ограничивал свою деятельность чертой города. Установив тесные связи с рабочими Москвы (Лефортова, Замоскворечья, Сокольников, Пресни), неутомимый агент «Искры» обратил свое внимание на подмосковные районы: Николай Эрнестович не раз выезжал в окрестные города для укрепления связи ленинской «Искры» с рабочими подпольными организациями. Основное внимание московская организация в копне 1901 года — начале 1902 года уделяет «Северному союзу РСДРП» — областному объединению социал-демократических организаций Владимирской, Ярославской, Костромской и Тверской губерний с центром в Иваново-Вознесенске. Громадную роль в укреплении ленинских позиций среди московских рабочих, в распространении ленинской «Искры» сыграл в этот период Иван Васильевич Бабушкин — верный ученик и соратник великого Ленина. Бабушкин создал в Орехово-Зуеве настоящий боевой штаб «Искры». Орехово-зуевские рабочие, руководимые и объединяемые Бабушкиным, первыми в России заявили в социал-демократической печати о том, что они признают ленинскую «Искру» единственным органом, полно и глубоко выражающим классовые интересы рабочих. Занятия Ленина в подпольных петербургских кружках дали богатые всходы, — его верные ученики стали выдающимися организаторами-пропагандистами. Бауман не раз встречался и беседовал с «первым русским рабкором», как Н. К. Крупская называла Бабушкина.
Бабушкин и Бауман с полным правом могут быть названы верными учениками великого Ленина, твердыми и убежденными до конца своей жизни борцами за партию Ленина — Сталина.
Обоим агентам «Искры» — Бауману и Бабушкину — работать было нелегко, так как «распространение «Искры» в нелегальных условиях было сопряжено с большими трудностями. Бабушкин и Бауман, как наиболее деятельные агенты «Искры», постоянно подвергались опасности ареста. В этих труднейших условиях их усилия были направлены на то, чтобы установить связи с большим количеством пунктов и вступить в наиболее тесные сношения с рабочими»{«Из переписки редакции «Искры» с И. В. Бабушкиным и Н. Э. Бауманом». «Пролетарская революция», 1939, № 1, стр. 225.}.
Бабушкин провел огромную работу по распространению «Искры» среди рабочих окрестных текстильных районов. Он поддерживал постоянную переписку с секретарем редакции «Искры» — Крупской.
«Искра», — писал Бабушкин, — читается нарасхват, и, сколько доставлено, вся находится в ходу. Благодаря ей чувствуется большой подъем у рабочих. Особенно много толков по поводу статьи по крестьянскому вопросу в номере 3 (речь идет о широко проникшей в рабочие и крестьянские массы статье Ленина «Рабочая партия и крестьянство». — М. Н.), так что требуют доставить этот номер. А на частном собрании рабочие выразили желание, чтобы «Искра» напечатала еще несколько статей по этому вопросу».
Бабушкин организует среди рабочих коллективное чтение и обсуждение помещаемых в «Искре» статей. Вместе с тем он неустанно заботится о посылке в «Искру» свежей информации об условиях труда и быта рабочих в подмосковных, главным образом текстильных районах.
Ленин очень высоко оценивал работу этого агента «Искры»:
«Пока Иван Васильевич остается на воле, «Искра» не терпит недостатка в чисто-рабочих корреспонденциях. Просмотрите первые 20 номеров «Искры», все эти корреспонденции из Шуи, Иваново-Вознесенска, Орехово-Зуева и др. мест центра России: почти все они проходили через руки Ивана Васильевича, старавшегося установить самую тесную связь между «Искрой» и рабочими. Иван Васильевич был самым усердным корреспондентом «Искры» и горячим её сторонником»{В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 16, стр. 332.}.
Ленин не раз отмечал также исключительную добросовестность, настойчивость Баумана, его преданность искровскому делу.
Бауману приходилось в очень трудных условиях разоблачать среди рабочих зубатовцев и их приспешников. Агенту «Искры» пришлось затратить немало усилий, проявить немало изобретательности и ловкости для укрепления связей рабочих комитетов с ленинской «Искрой». Бауман не раз выезжал в Иваново-Вознесенск, Шую, Серпухов, Орехово-Зуево и другие города Подмосковья для бесед с рабочими об основных принципах ленинской «Искры», о непримиримой борьбе группы Ленина с «рабоче-дельцами», «экономистами» и прочими изменниками рабочего движения. При этом Бауман регулярно сообщал редакции «Искры» о своей борьбе с «экономистами», о встречающихся на этом нелегком пути удачах и неудачах{Материалы (в частности, письма, написанные рукой Н. К. Крупской) хранятся в архиве Института Маркса — Энгельса — Ленина (ИМЭЛ). Частично переписка редакции «Искры» с ее московскими агентами опубликована в «Ленинском сборнике» VIII и в журнале «Пролетарская революция», 1939, № 1, стр. 222–228. Редакция этого журнала отмечает, что «наибольший интерес из неопубликованных писем представляет переписка с двумя выдающимися партийными деятелями того времени, агентами «Искры», И. В. Бабушкиным и Н. Э. Бауманом» (стр. 222).}.
Выполняя указания своего великого учителя, Бауман принимает все меры к возможно большему получению Московским комитетом партии ленинских материалов: в первую очередь «Искры», затем проектов листовок, составляемых в редакции «Искры» Лениным.
В апреле — мае 1901 года Бауман переправил Ленину несколько писем от рабочих подмосковного района. Рабочие сообщали редакции, что они всецело поддерживают ленинские установки, и посылали несколько корреспонденции из своей повседневной фабрично-заводской жизни.
Борьба с зубатовщиной, борьба с отзвуками «экономизма», кое-где еще наблюдавшимися в партийных комитетах Подмосковья, наконец подготовка к первомайскому дню — таковы очередные задачи партийной работы. Бауман пишет редакции «Искры» о большом, все растущем интересе рабочих к газете, прося увеличить количество экземпляров «Искры», посылаемых для московского района.
По поручению Ленина Крупская отвечает Бауману:
«Можете ли Вы устроить у себя большой склад, тогда к Вам аккуратно будет приходить литература с Кавказа (там налажен новый, скорый путь, есть своя типография, где будут печататься «Искра» и брошюры), народ очень надежный. Надо будет брать все привозимое. Пишите поконкретнее о своих связях»{«Пролетарская революция». 1939, № 1, стр 224.}.
Ленин придавал очень большое значение установлению прочных связей между отдельными районными организациями «Искры», в особенности между теми, где перепечатывалась присылаемая из за границы «Искра». Бауман успешно выполняет все указания Ленина, и количество транспортируемой искровской литературы в Московском комитете растет из месяца в месяц.
«За последнее время я получил № 1—30 (то-есть 30 экземпляров первого номера «Искры». — M. H.), № 3—420, № 4—500, № 5—376, № 6—170, «Заря» — 15, «Женщина-работница»—100, «Красного знамени» — 35, по требованию товарищей — 12, «Манифеста» — 10, «8-часовой рабочий день»—10. Послана литература в Москву, Богдану (И. В. Бабушкину. — M. H.), Саратов, Самару, Казань, Астрахань, будет в Нижнем, Вятке, Малмыже, Елабуге, Твери и по мелочам в другие города и провинции». «Цифровые данные в месячном отчете»{«Пролетарская революция». 1939, № 1, стр. 225.}.
В конце лета 1901 года Бауман побывал в ряде городов, всюду организуя комитеты на платформе ленинской «Искры».
Яркое свидетельство об этом периоде работы имеется в воспоминаниях М. Багаева{М. Багаев. Моя жизнь. Иваново, 1949, стр. 141–142.}:
«Я получил явку и пароль к Бауману и заграничные адреса для корреспонденции в «Искру»… Чтобы увидеться с Н. Э. Бауманом, следовало явиться в Екатерининскую больницу к фельдшерице А. Н. Лосевой. Обменявшись с ней условленными паролями, я попросил ее… «вызвать «Грача» для свидания с «Медведем» (кличка М. Багаева по «Северному рабочему союзу». — M. H ).. Свидание с «Грачом» (Н. Э. Бауманом) состоялось позднее вечером.
Сначала Н. Э. Бауман мне не понравился своим внешним щегольским видом. Я привык видеть революционеров небрежно одетыми, не заботящимися о своей внешности. Между тем я встретил молодого человека, гладко причесанного, с закрученными усиками и одетого с иголочки. Но, как только мы вступили в разговор, первое впечатление быстро рассеялось.
Бауман оказался товарищем, прекрасно осведомленным по всем партийным вопросам… У нас сразу установились доверчивые товарищеские отношения…
Бауман посоветовал мне связаться с присланным «Искрой» в Орехово-Зуево бывшим петербургским рабочим Иваном Васильевичем Бабушкиным и дал мне адрес и пароль к нему».
В ноябре 1901 года Бауман писал Крупской, что в октябре он проектировал организовать комитет из членов одной местной группы, у которой были значительные связи с рабочими. Но в это время в Москву приехал «союзник» — представитель заграничного центра «экономистов» («Союза русских социал-демократов за границей») и стал убеждать членов группы признать не «Искру», а «Рабочее дело». И уже совсем было налаженное Николаем Эрнестовичем дело объединения этой группы на платформе ленинской «Искры» резко затормозилось, так как приехавший «союзник» требовал прекращения сношений с «Искрой». «…Группе, которая согласилась работать со мной, — писал Бауман в редакцию «Искры», — грозили бойкотом, раз она будет иметь сношения с «Искрой». «Союзник»… грозил, что, соединяясь с «Искрой», москвичи будут оторваны от всех комитетов, так как все комитеты признают только «Рабочее дело»{«Из переписки редакции «Искры» с И В. Бабушкиным и H Э Бауманом». «Пролетарская революция», 1939. № 1, стр. 227.}.
Неудача не подорвала у Николая Эрнестовича веру в силу ленинской «Искры». Он отлично сознавал, каким могучим оружием является в его руках каждый новый номер, каждый лишний экземпляр ленинского боевого органа. Поэтому Бауман посылает в редакцию новые материалы — рабочие корреспонденции, добавляя:
«Поместите, что возможно, в «Искре», так как рабочие будут очень рады этому. Они очень любят «Искру». Это мне поможет бороться с комитетами и «Рабочим делом».
Николай Эрнестович после каждого объезда регулярно сообщает Ленину и Крупской о настроениях рабочих, об их отношении к помещаемым в «Искре» статьям. Так, в начале октября 1901 года Бауман писал:
«Если у меня будет в достаточном количестве товара (искровская литература, в особенности последние номера «Искры». — М. Н.), то я могу удобно доставлять (без значительных проволочек) в Нижний, Казань, Самару, Саратов, Астрахань, Вятскую губернию, Тамбов, Центральный район, Ярославль, Кострому, Воронеж, Тверь, Орел. Со всеми этими пунктами установлены способы доставки… Постепенно я надеюсь поставить на должную высоту корреспондентскую часть в упомянутых городах, включая сюда еще Тулу, Калугу и другие города этого района»{«Из переписки редакции «Искры» с И. В. Бабушкиным и Н. Э. Бауманом». «Пролетарская революция», 1939, № 1, стр. 226.}.
Одним из самых важнейших районов распространения «Искры» Ленин считал Закавказье: «…в этот период «Искра» поддерживала самые тесные сношения с закавказскими искровскими организациями, руководимыми И. В. Сталиным. Благодаря неутомимой деятельности товарища Сталина искровские организации Закавказья стали прочной опорой В. И. Ленина в борьбе с врагами «Искры». Через Закавказье (Батум, Баку) шли важнейшие пути транспортировки «Искры» в Россию. В Баку под руководством товарища Сталина была организована искровская типография, в которой перепечатывалась «Искра». В. И. Ленин считал поэтому исключительно важным установление самых прочных связей Москвы с городами Закавказья»{«Из истории московской организации ВКП(б) (1894–1904 гг.)». М., 1947, стр. 83.}.
Конец 1901 года был посвящен Бауманом огромной работе по укреплению связей московской организации с редакцией «Искры», с «Северным союзом РСДРП» и с закавказскими искровскими организациями. Крупская ведет с этим деятельным агентом «Искры», твердым и последовательным искровцем-ленинцем, систематическую переписку зимой 1901–1902 годов. Так, «в январе 1902 года Н. К. Крупская опять напоминает московским искровцам о необходимости держать тесную связь с искровскими организациями Закавказья в целях получения из Баку и Батума «Искры» и искровской литературы. Одновременно Н. К. Крупская в своем письме в бакинскую организацию «Искры» просит как можно быстрее пересылать «Искру» в Москву»{«Из истории московской организации ВКП(б) (1894–1904 гг.)». М., 1947, стр. 84.}. Во время своих поездок в ближайшие к Москве рабочие центры Бауман убедился в преданности московских и подмосковных рабочих идеям Ленина. Николай Эрнестович считал подмосковные районы одной из главных крепостей ленинской «Искры».
Но в начале 1902 года Бауман обращал большое внимание и на киевскую организацию «Искры», пытаясь провести в Киеве большое совещание социал-демократов, работающих в юго-западном районе России. Необходимо было претворить в жизнь идею Ленина о создании общерусской организации «Искры». Ленин послал свой проект такой организации в целый ряд социал-демократических комитетов, стоявших уже на платформе «Искры». Однако не все эти комитеты способны были понять все великое значение ленинской идеи. В это время (конец 1901 года) южно-русская организация «Искры» переживала период колебаний: отдельные члены этой группы поддерживали мысль о создании некоей самостоятельной «южно-русской организации» и сообщили редакции «Искры», «чтобы Фекла (конспиративное название «Искры». — M. H.) ни во что не мешалась и чтобы устроить нечто вроде южной организации»{«Ленинский сборник» VIII, стр. 203.}.
Конечно, эта попытка «самоопределения» являлась в тех условиях вредным для дела кустарничеством. Поэтому редакция «Искры» ответила киевской группе «Искры» весьма определенно и категорически:
«Вы знаете, что цель Феклы не только издавать газету, но при помощи этой газеты создать общерусскую организацию, которая имела бы в виду не интересы того или иного района, а интересы всей русской партии, эта организация должна связывать и объединять работающие на месте организации, служить связующим звеном. Она должна таким путем создать возможность планомерного и единодушного образа действий. Отсюда ясно, что мы относимся крайне отрицательно ко всяким попыткам создавать местные органы или особые порайонные организации»{«Ленинский сборник» VIII, стр. 203–204.}.
В этих условиях было крайне важно провести на месте, в Киеве, решение о создании не узко местной, а общероссийской организации «Искры». За выполнение этой важной и сложной задачи взялся Бауман. По его инициативе в Киеве был намечен съезд искровских организаций. Однако съезд не состоялся, так как в январе — феврале 1902 года произошли массовые аресты.
Поездка Баумана в Киев не ускользнула от внимания охранки.
Бауман почти с первых же шагов в этом городе убедился, что за ним неотступно следуют сыщики. Действительно, как это видно из донесений чиновника для поручений московского охранного отделения, специально командированного в Киев для наблюдения за Бауманом, каждый шаг Николая Эрнестовича отмечался и записывался.
Получив сведения о надвигающейся опасности, о широко раскинутой сети шпионских наблюдений, Бауман отправился в Воронеж, имея ряд адресов-явок к служащим губернской земской управы и аптеки. Но и в этом городе приехавшие с ним в одном поезде из Киева филеры продолжали «негласное наблюдение». Тогда Бауман решил вернуться в Москву, но не прямым, а кружным путем, и с этой целью сел в поезд, отходивший на Задонск. В первые часы своего путешествия Николай Эрнестович не заметил ничего подозрительного. Но в сумерках через вагон, в котором он сидел, прошел невзрачный, с бегающими, прищуренными глазами человечек. Опытный взгляд Баумана сразу различил в этом торопливо шагавшем пассажире очередного филера охранки. Попытка перейти в другой вагон не удалась: на площадке своего вагона Бауман увидел такого же суетливого, как бы старавшегося скрыться от глаз всех людей, шпика. Тогда Николай Эрнестович принял смелое решение: он вернулся в вагон, вышел на другую площадку и на довольно значительном ходу поезда спрыгнул под откос. Бауману помогла спортивная привычка, физическая закалка еще с детских лет — он отделался лишь сильным ушибом ноги.
Быстро темнело. Впереди мелькнули красные огоньки в хвосте поезда и скрылись. Вокруг перелески, покрытые снегом поля, незнакомая местность. С большим трудом, опираясь на палку, Бауман, ковыляя и останавливаясь, побрел к ближайшему селению. Он сознавал, что его городской костюм вызовет излишнее любопытство и привлечет к себе внимание первого же встречного. Поэтому Николай Эрнестович подумал прежде всего о том, чтобы найти поблизости кого-нибудь из сочувствующих революционному движению. Узнав от случайно встретившегося старика-крестьянина о том, что в селе Хлебном, находящемся в семи верстах, живет врач, Бауман решил обратиться именно к нему. Он рассчитывал найти у своего коллеги по профессии помощь и хотя бы временный приют. Нога сильно опухла, каждый шаг причинял мучительную боль. Много часов провел в пути Николай Эрнестович. С огромным трудом добрался, наконец, непреклонный искровец до села Хлебного. Пробираясь задворками и переулками, чтобы меньше обращать на себя внимания, пришел Николай Эрнестович к дому, где жил врач П. А. Вележев. Бауман сообщил врачу, что он, его коллега по профессии, находится сейчас в незнакомой ему местности и просит помощи. Вележев внимательно выслушал гостя, но вместо того, чтобы оказать помощь… сообщил о нем местной полиции. В «Искре» (№ 20, 1 мая 1902 года) так были изложены обстоятельства этого чудовищного предательства:
«Явившись к Вележеву, он (Бауман. — M. H.) рассказал, в каком затруднительном положении он находится, навел справки о железной дороге и просил накормить. Великодушный врач ответил, что обед у него будет только через три часа, и вообще выразил удивление, что к нему обращаются с подобными просьбами. Через некоторое время он удалился под предлогом приема больных. Вслед за этим явилась прислуга и потребовала от имени барина, чтобы Бауман немедленно удалился. Вележев донес полиции. Как только Бауман вышел из села, его арестовали и отвезли в г. Задонск».
Впоследствии (1 февраля 1903 года) в № 33 «Искры» Бауман подтвердил сообщение газеты:
«Факт предательства Вележева вполне правильно изложен в № 20 «Искры». К этому могу добавить только следующее: перед началом разговора с Вележевым я спросил его, одни ли мы в квартире. Вележев ответил утвердительно, что в квартире, кроме нас, никого нет и что я могу говорить вполне откровенно. В течение нашего разговора Вележев выходил два или три раза под предлогом посешения амбулатории.
Вскоре по уходе Вележева в последний раз явилась женская прислуга и потребовала от имени барина, чтобы я немедленно удалился. Уходя, я заметил в одной из комнат находящегося в засаде дворника, который старательно прятался от моих взоров. Не прошло и восьми минут, как я вышел из квартиры Вележева, у околицы села меня арестовали. Донести мог только Вележев».
Бауман при аресте назвался мещанином Петровым и объяснил свое пребывание в Воронежской губернии поездками по торговым делам. Как только задонским и воронежским властям стало известно об аресте в селе Хлебном «неизвестного, назвавшегося Петровым, в городском платье, без каких-либо вещей… с сильно ушибленной ногой», немедленно филеры поспешили в Задонск и установили, что арестован «неизвестный, ускользнувший от наблюдения» по дороге в Задонск.
Бауман на допросах держался так же стойко к твердо, как и на следствии в Петропавловской крепости; жандармы, конечно, не получили от него никаких сообщений или признаний.
Установив, что арестованный — так долго разыскиваемый агент «Искры», местная полиция не знала, как поступить с таким важным преступником. На основании циркуляра департамента полиции о розыске Баумана, задонский исправник решил отправить арестованного искровца «в распоряжение вятского губернатора»… по этану. Между департаментом полиции и местными властями, а также и вятским губернатором происходит усиленный обмен телеграммами и запросами. Задонский исправник отправил Баумана этапным порядком в Вятку по маршруту Елец — Самара — Вятка, о чем начальник воронежского губернского жандармского управления немедленно донес департаменту полиции: «…16 февраля Бауман… отправлен из г. Задонска этапным порядком в г. Елец для дальнейшего препровождения его в Вятскую губернию…» Но департамент полиции ответил воронежскому губернатору срочной телеграммой-приказом: «Придавая личности Баумана первостепенное значение и опасаясь побега, прошу ваше превосходительство безотлагательно телеграфировать на соответствующий этапный пункт о приостановлении следования Баумана в Вятскую губернию и об отправлении его под надежным конвоем, с обеспечением полной невозможности побега, в распоряжение начальника Киевского губернского жандармского управления». Такая же шифрованная срочная телеграмма полетела из Петербурга начальнику Самарского жандармского управления: «При отправлении Киев Баумана снарядите надежный конвой, обеспечив полную невозможность побега».
Между тем Николай Эрнестович уже прошел несколько переходов по этапу, направляясь из Задонска в Елец. Впоследствии, в беседах с товарищами-искровцами во время заключения в Лукьяновской тюрьме, Бауман с самым тяжелым чувством вспоминал эти незабываемые этапные переходы.
В сравнении с этапными мытарствами даже одиночка Петропавловской крепости, по словам Баумана, была мягким наказанием: «Я насмотрелся и натерпелся на этом проклятом этапе всего: и голода, и холода, и всевозможных оскорблений, и унижений… конвойные обращались с нами буквально как с гуртом скота… а ведь по этапу гнали не только здоровых мужчин, но и больных, и женщин, и детей…» В суровые морозы, плохо одетый, среди уголовных арестантов, шел Николай Эрнестович. В эти годы правительство, желая сломить стойкость и неукротимую волю политических заключенных, отменило все льготы и предписало отправлять их «наравне с прочими, не делая никаких послаблений». Конвойные офицеры и солдаты считали не только своим правом, но как бы даже обязанностью издеваться над пересылаемыми по этапу людьми. За малейшую «провинность» били прикладами…
Эта «дорога в ад», как называл этапный путь Николай Эрнестович, была прервана внезапным изменением «пути следования арестованного первостепенной важности»: Баумана под двойным караулом отправили поездом в Киев.
В начале 1902 года начальнику киевского губернского жандармского управления генерал-майору Новицкому удалось арестовать ряд агентов «Искры», работавших в юго-западном районе России. Его агентура выследила одного из представителей организации «Искры» на юге России — В. Крохмаля{В. Крохмаль вскоре, на II съезде РСДРП, оказался в лагере меньшевиков.}. Некоторые явки в результате расшифровки писем на имя Крохмаля попали в руки жандармов.
Охранное отделение направляло всех арестованных искровцев в Лукьяновский тюремный замок, находившийся в пригороде Киева.
И как только Николай Эрнестович был привезен в киевское жандармское управление, перед ним открылись двери Лукьяновской тюрьмы.
X. ПОБЕГ ДЕСЯТИ ИСКРОВЦЕВ
Начальник киевского жандармского управления Новицкий в феврале 1902 года почти торжествовал победу. В киевской тюрьме наконец-то собран весь цвет искровской организации, так долго и тщательно разыскиваемый департаментом полиции по всему юго-западу России. Новицкий сам принимал участие в допросах, писал пространные доклады в департамент полиции и предвкушал удовольствие организовать «большой политический процесс», на котором, конечно, неоднократно будет упомянуто его имя как «своевременно пресекшего развитие крамольной деятельности». Поэтому бравый генерал старательно подбирал обвинительный материал для предстоящего «процесса искровских агентов». Новицкого сильно беспокоило лишь то обстоятельство, что по сложившимся за последние два-три года условиям в киевской тюрьме почти невозможно было поддерживать строгий тюремный режим, который изолировал бы заключенных по политическим делам от уголовных; нельзя было и полностью пресечь всяческие попытки сношений заключенных политиков с волей. Охранное отделение несколько раз обращало внимание губернатора и администрации тюрьмы на «необходимость строжайшего обеспечения невозможности побегов заключенных по делам государственных преступлений». Но губернатором Киева был в то время Ф. Трепов, сановник «несколько даже либеральных взглядов», как он любил называть самого себя; он был в некоторой мере противоположностью своему брату, печально-знаменитому мракобесу Д. Трепову. Камеры политических заключенных с санкции губернатора разрешено было держать открытыми от утренней до вечерней проверки. Вскоре политические добились открытия дверей своих камер и после ужина, то-есть до 8 и даже 9 часов вечера. Таким образом, искровцы почти весь день могли проводить на тюремном дворе, в постоянном общении друг с другом, в прогулках, беседах и даже в совместных играх — в городки, чехарду. Чтобы понять причину столь «либеральных порядков» в киевской Лукьяновской тюрьме, надо представить себе обстановку, сложившуюся в украинских и центрально-черноземных губерниях к началу 1802 года.
Лукьяновская тюрьма («крепостной замок») находилась в предместье города. Лукьяновка (так в просторечии называли эту тюрьму) была обнесена надежной высокой стеной. Часовые и надзиратели следили за соблюдением тюремного режима и должны были, согласно тюремной инструкции, «не только пресекать в корне, но и не допускать попыток каких-либо покушений заключенных выйти каким-либо способом за ограду крепостного замка».
Летом 1902 года Лукьяновка была буквально переполнена многочисленными представителями города и деревни. В Киеве в феврале 1902 года возникли сильные студенческие «беспорядки». Студенческая демонстрация 2(15) февраля застала киевское начальство почти врасплох. Молодежь вышла с красными знаменами, с большими плакатами: «Долой самодержавие!», с лозунгами, призывавшими рабочих к тесному объединению с крестьянством и революционной учащейся молодежью. Испуганное активностью студентов, начальство города ответило на демонстрацию массовыми арестами. В марте — апреле того же 1902 года произошли крестьянские волнения в селах Киевской губернии. Они захватили затем целый ряд других губерний Украины и часть центрально-черноземной полосы (Полтавскую, Харьковскую, Черниговскую, Тамбовскую и др.). «Крестьянство задыхалось от безземелья, от многочисленных остатков крепостничества, оно находилось в кабале у помещика и кулака», — отмечает «История ВКП(б). Краткий курс». В связи с экономическим кризисом и периодическими неурожаями росло число крестьянских выступлений.
Из уездов Киевской губернии в Лукьяновку полиция присылала сотни «аграрщиков», так называли тогда крестьян, арестованных за участие в аграрном движении.
Эти «чрезвычайные меры» киевских городских и губернских властей «сильно отзывались на составе населения киевских тюрем, в частности и Лукьяновской. Нельзя было сохранять прежней изоляции политических от уголовных, пришлось отменить некоторые строгости тюремного режима. В тюрьме появилось множество новых политических арестантов; у их родственников было много влиятельных знакомых; благодаря всякого рода протекциям и хлопотам заключенные добились больших льгот. Связь с «волей» стала более доступной, в камерах заключенных появилась своя мебель: табуретки, столики, венские стулья. Как большинство царского чиновничества, тюремная администрация была крайне подкупна…»{Н. П. Копычевский. H. Э. Бауман М., 1940, стр. 42–43.}
Ослабленный тюремный режим Лукьяновки показался Николаю Эрнестовичу совсем не похожим на условия его заключения в одиночке Петропавловской крепости. Уже одна возможность неограниченных бесед с товарищами позволяла переносить тюремное заключение сравнительно легко.
Искровцы большую часть времени посвящали дружеским беседам о текущих партийных событиях, об отношении к ленинской «Искре», о наметившихся разногласиях в редакции «Искры». Бауман, так еще недавно находившийся в непосредственном общении с Лениным, с увлечением передавал своим товарищам по заключению подробности о работе редакции «Искры», рассказывал о том, что группа Ленина установила прочные связи со многими городами России. Ближайшими товарищами Николая Эрнестовича были «твердые искровцы» — M. M. Литвинов, В. С. Бобровский. Эти искровцы нередко спорили с «колеблющимися» — так называл Бауман политических заключенных Лукьяновской тюрьмы, которые не полностью, с различными оговорками, признали правильность позиции ленинской «Искры». После II съезда РСДРП эти «колеблющиеся» примкнули к меньшевикам.
Бауман и его друзья нередко делали устные доклады и даже писали рефераты (конечно, весьма немногословные, скорее краткие тезисы для доклада) по наиболее интересующим их вопросам, читали книги по географии, этнографии и истории; спорили по историко-экономическим вопросам, о рабочем движении на Западе, о восстании декабристов.
Литературу ухитрялись передавать «с воли»; в частности, немало усилий приложила к этому делу жена Баумана, приехавшая в Киев в начале августа.
Томительно тянулись недели и месяцы. Политзаключенные старались скоротать время в беседах, чтении и физических упражнениях.
Николай Эрнестович с первого дня своего заключения в Лукьяновке стал душой всех «ограниченных тюремным двором развлечений» искровцев. Почти во всех воспоминаниях его товарищей, сидевших вместе с Бауманом в Лукьяновке, упоминается о неистощимой энергии, жизнерадостности и веселье Николая Эрнестовича. Он организовал «правильную чехарду». Участники игры прыгали друг через друга в строгом порядке. Затем победители торжественно объезжали верхом на побежденных весь тюремный двор.
Неистощим был Бауман и в придумывании всякого рода забав и игр, связанных с шумом и громкими возгласами: искровцы, по совету Николая Эрнестовича, старались приучить тюремную администрацию ко всякого рода крикам и шуму на тюремном дворе — это входило в дальнейшие планы искровцев.
С этой целью иногда принимались в шутку кого-нибудь из искровцев «наказывать телесно», и «наказуемый» кричал во весь голос, так что даже прибегали надзиратели, но, узнав, что это просто игра, удалялись на свои посты. Конечно, «за беспокойство» тюремная стража получала от заключенных и табак, и закуски, и даже спиртное…
Но совершенно неподражаем был Николай Эрнестович в танцах: он вспоминал свою раннюю юность, казанских друзей и исполнял на тюремном дворе лихую мазурку, гопак, а чаще всего русскую…
В. С. Бобровский вспоминал, что, зная о юношеском увлечении Николая Эрнестовича танцами, «товарищи по заключению в Лукьяновской тюрьме прозвали Н. Э. Баумана балериной. Ловок, гибок, силен он был и умел в минуты бесшабашного веселья, которое порою находило на всех нас, ловко подражать танцам балерины…»
«Льготные условия тюремного режима» — так называли искровцы распорядок в Лукьяновке, дали возможность Бауману и его друзьям почти с первых же дней заключения приступить к разработке плана побега. Прежде всего были установлены связи с Киевским городским комитетом социал-демократов. Оставшиеся на воле товарищи сообщили, что в точно назначенное время искровцев будут ждать на Днепре, в определенных местах, лодки для перевоза; в пригородах их должны были встретить товарищи и принести им одежду и обувь. План побега, разработанный искровцами, был крайне прост и в то же время дерзок и смел до чрезвычайности. Для его выполнения надо было «постоянно приучать» администрацию тюрьмы к шуму, крику и песням на дворе для прогулок. В течение нескольких недель Бауман и его товарищи усиленно играли в городки, бегали и устраивали возню с товарищами по заключению, упражнялись в постройке «пирамиды». Этому упражнению заключенные уделяли особенно много внимания — от быстрого и крепкого построения пирамиды (или «слона») зависел весь успех намеченного плана. «Слон» строился так: на спины двух наиболее физически крепких искровцев становились двое менее тяжеловесных, но гибких и ловких друзей. Наконец на вершину «пирамиды» взбирался наиболее ловкий, гимнастически натренированный искровец с балансиром — палкой — в руках. Эту вершину «пирамиды» всегда украшал собою Бауман — ловкий, сильный, гибкий. С вершины «пирамиды» до верхушки крепостной стены оставалось не так уж далеко. И искровцы по десятку раз в день упражнялись в создании «слона», стараясь достигнуть совершенства в быстроте проведения этой своеобразной гимнастической тренировки.
Вскоре искровцы вполне освоили технику создания «слона». По сигналу Баумана «пирамида» строилась меньше чем в минуту.
В это же время, в начале августа, заключенные получили весьма ценный подарок. «С воли» им иногда пересылали продукты, цветы и даже спиртные напитки. Начальник тюрьмы капитан Сулима, сам неравнодушный к спиртному, не препятствовал передачам, тем более, что родственники и друзья заключенных и ему передавали бутылку-другую лучшего коньяка.
Однажды в тюрьму на передачу явилась жена Баумана и попросила разрешения передать мужу-«имениннику» большой пирог, закуску и огромный букет роз. Она так очаровательно просила Сулиму передать цветы непомятыми, что капитан не стал рассматривать букет. Когда заключенные получили именинные подарки, то страшно обрадовались именно розам: в середине букета была искусно спрятана небольшая, но очень прочная «кошка» (стальной крючок). Теперь можно было в глубоких сумерках, после ужина, попробовать свое уменье и сноровку в забрасывании «кошки» с веревкой на зубцы крепостной стены. Веревку исподволь сплетали и связывали из отдельных прочных кусков, передаваемых «с воли», и из простыней, аккуратно разрезанных на длинные полосы и туго скрученных. Ступеньками должны были служить ножки стульев и табуреток, находившихся в камерах, и просто обломки палок (битки от городков).
Август в тот год стоял сырой, дождливый и холодный. В начале восьмого уже темнело. Семь раз (с половины июля до половины августа) побег назначался, товарищи на воле получали точное время намечаемой попытки освобождения, но каждый раз в результате каких-либо непредвиденных осложнений побег откладывался.
Однако заключенные продолжали упорно готовиться к побегу. Бауман с шутками и смехом, но удивительно настойчиво и твердо убеждал своих товарищей, что «представление непременно состоится… пока оно лишь отложено по непредвиденным техническим причинам». И действительно, восьмая по счету попытка побега увенчалась полным «успехом.
Побег произошел вечером 18 (31) августа 1902 года. Искровцы устроили «именины» одного из заключенных — Басовского. Это послужило предлогом для того, чтобы хорошенько угостить спиртным надзирателя и даже часового. В спиртное, кроме того, добавили снотворного порошка, с таким расчетом, чтобы сон тюремщиков продолжался несколько часов. Затем после ужина, часов в 8 вечера, когда вокруг уже стало совсем темно, искровцы вышли «подышать перед сном свежим воздухом, после именин».
Заключенные с обычными песнями и шумом гуляли во внутреннем дворе тюрьмы. План побега был разработан до мелочей. Каждый знал, за кем он должен подниматься на «пирамиду», за кем спускаться по веревке со стены. Точное выполнение всех деталей намеченного плана содействовало успеху побега.
Бауман был в числе первых, подошедших к крепостной стене. Под накинутыми на плечи халатами заключенных были «ступеньки» из обломков стула и веревка с «кошкой».
«Слона!» — раздался условный возглас, и Бауман в два прыжка оказался около часового. Через секунду часовой лежал на земле, с закутанной одеялом головой, трое искровцев крепко держали его за руки. Заключенные продолжали громко разговаривать и смеяться, чтобы заглушить возможный крик часового. В то же время один из искровцев с одного броска укрепил «кошку» наверху стены. Поодиночке, в строгом порядке, поднимались на стену по веревке искровцы; некоторые взбирались с трудом, несколько раз срываясь с «пирамиды» и вновь начиная подтягиваться по веревке к верхушке крепостной стены. По желанию самого Баумана, ему пришлось взбираться одному из последних. Вот тут-то и пригодилась спортивная сноровка. Бобровский пишет в своих воспоминаниях о друге: «Лучше, красивее всех взобрался и исчез тов. Бауман. Когда я в эти минуты напряжения всех человеческих нервов наблюдал за всеми мелькавшими передо мною при тусклом свете тюремного фонаря фигурами товарищей, движения Баумана мне показались взмахом крыльев легкой птицы»{Сборник «Товарищ Бауман, изд. 2. М., 1930, стр. 49.}.
Наконец часовой высвободился из плена и выстрелом поднял тревогу (второпях заключенные не успели или попросту забыли разрядить его винтовку). Немедленно в тюрьме поднялась суматоха: забегали с фонарями надзиратели, солдаты, помчался гонец к самому начальнику тюрьмы.
Между тем, не теряя ни минуты, все беглецы рассыпались по окрестностям, стараясь поодиночке и по-двое пробраться на конспиративные квартиры в предместьях города.
Бобровский в своих воспоминаниях пишет, что он несколько отстал от товарищей по побегу, так как спускался с тюремной стены по веревке последним. Но шел он быстро и вскоре различил силуэт Баумана. Николай Эрнестович только что выкарабкался из небольшой ямы.
Два друга пошли дальше вместе, не торопясь, прислушиваясь к каждому звуку, шороху. Оставалось всего несколько сот шагов до начала городских улиц. Вдруг впереди послышался стук экипажа. Беглецы решили разделиться и спрятаться. Бобровский укрылся в каком-то придорожном рве, Бауман — под небольшим мосточком.
Когда Бобровский выглянул изо рва, поблизости никого уже не было. Бауман скрылся в темноте.
Каждый из бежавших, благодаря стараниям Киевского социал-демократического комитета, был снабжен 100 рублями денег и бланками для паспорта. Кроме того, каждому искровцу были даны адреса конспиративных квартир в Киеве, куда можно было явиться немедленно после побега. Жена Баумана заранее заняла номер в «Северной гостинице»; сюда должен был явиться после побега Николай Эрнестович. Но непредвиденные обстоятельства помешали Бауману тотчас же отправиться в условленное место. Николай Эрнестович сильно «обжег» руку о веревку при спешном спуске с тюремной высокой стены; затем у самой почти тюремной ограды он споткнулся и попал в овражек: местность вокруг Лукьяновской тюрьмы сильно пересеченная; подметки на сапогах при этом оторвались, фуражка потерялась, а лицо и руки беглеца были забрызганы грязью. Конечно, явиться в таком виде в «Северную гостиницу» к прекрасно одетой даме было более чем рискованно: швейцар непременно обратил бы внимание на весьма подозрительного пришельца. Поэтому Бауман отправился по другому конспиративному адресу — к одному из товарищей, который должен был, по поручению городского социал-демократического комитета, ждать бежавших. Только к ночи Бауману удалось добраться до конспиративной квартиры.
Немного отдохнув, переодевшись в более приличное платье, Николай Эрнестович отправился со знакомой хозяина квартиры в «Северную гостиницу». Под ручку, точно возвращающаяся из гостей парочка, они дошли до гостиницы Там Баумана ожидала жена. Несколько дней он прожил в гостинице, а затем около двух недель скрывался на квартире сочувствующего социал-демократам киевского адвоката. Благодаря стараниям жены и друзей Николай Эрнестович хорошо отдохнул и принял «вполне независимый вид», как он шутливо вспоминал впоследствии. А недели через две к вокзалу подкатил лихач. Изящно одетые Бауман и его жена медленно проследовали на глазах жандармов, не узнавших в загримированном господине недавнего беглеца из Лукьяновской тюрьмы, к билетной кассе.
Поезд умчал их за границу… Полиция и жандармерия буквально сбились с ног, разыскивая организаторов смелого побега.
Особенное рвение проявляли филеры охранного отделения и полицейские в розысках Баумана. Департамент полиции прислал генералу Новицкому несколько грозных шифрованных телеграмм, предлагая «принять действенные меры к недопустимости перехода границы означенным государственным преступником».
Однако отовсюду в департамент полиции поступали ответы начальников губернских жандармских управлений о том, что «разыскиваемого Н. Э. Баумана обнаружить не удалось…», «преступник не обнаружен…» Так же как и при побеге из города Орлова в 1899 году, Бауману удалось беспрепятственно уехать за границу. Он временно поселился в Берлине, где находилось несколько агентов «Искры». Чувствуя себя «вне сферы полиции», Бауман послал отцу в Казань письмо, в котором сообщал о своем здоровье, спрашивал о семейных делах, заботливо осведомлялся о матери и в конце письма, вероятно, в целях конспирации, добавлял, что думает «переменить место жительства коренным образом» — эмигрировать в Америку. Письмо это было, конечно, вскрыто казанскими жандармами. 6 (19) ноября 1902 года исполняющий должность начальника казанского губернского жандармского управления сообщил департаменту полиции, что «разыскиваемый циркуляром департамента… ветеринарный врач Николай Эрнестович Бауман, проживающий ныне в Берлине, в письме, присланном на-днях к отцу своему Эрнесту Андреевичу Бауману, сообщает, что в скором времени намерен переехать на постоянное местожительство в Америку». Но не в Америку стремился верный ученик Ленина, — Бауман направился к своему гениальному учителю; приближались ответственные дни подготовки II съезда РСДРП.
XI. ТВЕРДОКАМЕННЫЙ БОЛЬШЕВИК
Николай Эрнестович приехал за границу осенью 1902 года и направился в Лондон, где в то время находился Владимир Ильич Ленин. Но вскоре, в апреле 1903 года, Бауман вслед за Лениным уехал в Женеву. В это время искровцы усиленно готовились к важнейшему событию — созданию партии нового типа на II съезде РСДРП.
Ленин отмечал, что главная задача II съезда состояла «в создании действительной партии на тех принципиальных и организационных началах, которые были выдвинуты и разработаны «Искрой»{В. И. Ленин. Соч., изд., 4, т. 7, стр. 193.}.
Сталин, освещая задачи этого периода, указывал на «необходимость новой партии, партии боевой, партии революционной, достаточно смелой для того, чтобы повести пролетариев на борьбу за власть, достаточно опытной для того, чтобы разобраться в сложных условиях революционной обстановки, и достаточно гибкой для того, чтобы обойти все и всякие подводные камни на пути к цели.
Без такой партии нечего и думать о свержении империализма, о завоевании диктатуры пролетариата.
Эта новая партия есть партия ленинизма»{И. В. Сталин. Соч., т. 6, стр. 170.}.
К 1903 году «Искра» сыграла свою историческую роль. Местные социал-демократические организации присоединились к ленинскому организационному плану.
Все это давало возможность приступить, как указывал Ленин, к созданию действенной, боеспособной партии.
Исключительно большое значение Ленин придавал организационным вопросам партийного строительства, которые должен был решить II съезд. Поэтому он обратился к местным социал-демократическим организациям с просьбой представить наиболее полные доклады о состоянии партийной работы. В сопроводительном письме В. И. Ленин писал:
«Наш 2-ой съезд будет носить еще более учредительный характер, чем первый, и потому надо приложить все силы, чтобы доклады были полнее и солиднее: чем большую долю идеальной программы доклада выполнит каждая группа, тем полнее и точнее будет представлено на нашем съезде все движение в целом, тем прочнее будут результаты съезда»{В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 6, стр. 259.}.
Бауман по поручению Ленина изучил материалы, освещающие положение партийной работы в Москве («Искра», «Работник», «Рабочее дело» и др.). Кроме того, Николай Эрнестович беседовал по этому вопросу с активными работниками московской организации социал-демократов.
В результате тщательной работы был составлен обширный, глубокий доклад о рабочем движении и партийной работе в Москве в половине и конце девяностых годов. Бауман в этом докладе не просто излагал события, — он рассматривал их с позиций ленинской «Искры»: «…ценность доклада Баумана заключается в систематизации почти всего известного в то время материала по истории социал-демократического движения в Москве и в освещении этого материала с точки зрения активного искровца»{«Доклады соц. — демократических комитетов Второму съезду РСДРП». М., 1930, стр. 13.}.
В это время в Москве происходили выборы на II съезд РСДРП. Они шли в весьма сложных и трудных условиях. Нелегальные собрания московских искровцев оказывались под угрозой налета полиции. В июне 1903 года многие старые члены московской организации «Искры» были арестованы. Вследствие этого «выборы на II съезд происходили на нелегальном собрании московских искровцев, в обстановке борьбы с неустойчивыми элементами. После длительного обсуждения кандидатур московская организация РСДРП послала на съезд двух делегатов: Н. Э. Баумана, который был известен московским социал-демократам как стойкий сторонник Ленина, и молодого студента, только что вступившего в московскую организацию «Искры», — Л. С. Цетлина»{«Из истории московской организации ВКП(б) (1894–1904 гг.);». М., 1947, стр. 99.}. Бауман на съезде участвовал под псевдонимом Сорокина, а Цетлин — Белова.
Получив мандат на II съезд, Бауман окончательно обработал свой большой доклад о положении московской организации социал-демократов в 1900–1902 годах.
В этом докладе Бауман особое внимание уделил борьбе с зубатовщиной. Следует отметить, что по своей обычной скромности Николай Эрнестович не называет своего имени в числе имен ведущих работников Московского комитета социал-демократов в период 1900–1901 годов.
Бауман начал свой доклад с освещения рабочего движения в Москве в 1894–1895 годах. В эти годы произошло несколько стачек, рабочие провели свою первую маевку. Стачки возникли в депо Московско-Курского вокзала, на ткацкой фабрике Прохорова, на складе чаеторговцев К. и С. Поповых.
В феврале 1896 года значительным событием была посылка адреса-приветствия французским рабочим от имени 605 рабочих 28 крупных московских предприятий по поводу двадцатипятилетия Парижской Коммуны. Приветствие было приурочено к знаменательной дате провозглашения Коммуны — 18 марта.
Весной возникли стачки на заводе К. Вейхельта, но полиция приняла все меры к их подавлению в связи с коронационными «торжествами» и приездом в Москву царской фамилии. Начались аресты. Однако в июне, под влиянием знаменитой петербургской стачки ткачей, возник Московский рабочий союз. Вновь забастовали рабочие мастерских Курской и Смоленской железных дорог, а также рабочие крупных заводов — «Новый Бромлей» и Гужона. «Еще несколько дней, — писал в своем докладе Бауман, — и в Москве разразилась бы всеобщая забастовка, но 6 (19) июля были произведены большие аресты»{«Доклады соц. — демократических комитетов Второму съезду РСДРП». М., 1930, стр. 109.}. Конец года ознаменовался новым нарастанием стачечной волны: на заводах Дангауэра, «Старый Бромлей», Фогельзанга и других, в железнодорожных мастерских Ярославской, Смоленской, Рязанской железных дорог рабочие активно боролись за уменьшение рабочего дня, за улучшение условий труда.
Последующие три года (1897–1899), несмотря на отдельные выступления рабочих (например, однодневная стачка на Прохоровской бумаготкацкой мануфактуре, стачка на фабрике шелка и парчевых изделий Сапожникова, на парфюмерной фабрике Келлера) характеризовались некоторым уменьшением рабочего движения, спадом стачечной волны. Причина этого понижения боеспособности московского пролетариата заключалась, как отмечает Бауман, в глубоком промышленном кризисе, с одной стороны, и в решительных мерах предпринимателей против революционно настроенных рабочих, с другой стороны: «…с фабрик и заводов рассчитывались прежде всего наиболее развитые, сознательные рабочие, следовательно, самые беспокойные головы»{«Доклады соц. — демократических комитетов Второму съезду РСДРП». М., 1930, стр. 111.}. Сильно тормозил партийную работу также крайний недостаток средств.
Затем Бауман переходит к освещению условий появления в Москве зубатовщины, выявляет подлинное лицо самого Зубатова. Бауман глубоко вскрывает методы провокаторских допросов Зубатова: «Зубатов указывал арестованным, что он сам — социал-демократ, не разделяющий только революционных методов борьбы. На прощание он просил выпущенных заходить к нему так, попросту, чайку попить, о теории поговорить. И некоторые, действительно, ходили к нему». Зубатову удалось поймать в свои сети Л. Рума, Кварцева и некоторых других деятелей молодой социал-демократической организации.
Приводя письма (из архива редакции «Искры») московских рабочих в связи с делом Рума и его сообщников по предательству, Бауман показывает, «как хитро умел воспользоваться новый начальник охранного отделения (Зубатов. — M. H.) гнусностью одних и непростительным легкомыслием других…» Он бичует «непростительное разгильдяйство и полное пренебрежение к революционным традициям» людей неустойчивых, морально разложившихся, легко подпадавших под влияние Зубатова.
Ослабление работы социал-демократического комитета, подорванного провокаторской деятельностью зубатовцев, сказалось особенно сильно в феврале 1901 года: «… когда, можно сказать, вся Москва волновалась… социал-демократический комитет молчал. Рабочие вышли на демонстрацию без вся; кого руководительства. В марте же комитет проваливается почти в полном составе»{«Доклады соц — демократических комитетов Второму съезду РСДРП» М., 1930, стр. 122.}.
Далее Бауман рисует тяжелую, но правдивую картину состояния московской социал-демократической организации весной — летом 1901 года, то-есть в тот период, когда он по поручению Ленина приехал в Москву для борьбы с зубатовщиной, для укрепления влияния ленинской «Искры». Не указывая своего имени, Николай Эрнестович красочно изображает труднейшую работу «русского отдела организации «Искры», который, «найдя Москву в таком печальном положении, вынужден был при первых же своих шагах обратить особое внимание на восстановление здешнего комитета». «Вся весна и лето проходят в поисках остатков комитета и связей с рабочими… Только в августе удается познакомиться с одним из деятелей комитета. По его словам, он разрывается на части, почти один на своих плечах выносит всю организационную работу. Нужда в людях, нужда в литературе, нужда во всем. Правда, в течение осени ожидается присоединение нескольких новых товарищей и, следовательно, улучшение дела», — отмечает Бауман. Но в начале 1902 года в Москве «жандармы начали генеральную чистку… почти ежедневно арестовывались до 50 человек. Среди захваченных оказались почти все наиболее активные и сознательные рабочие, весь рабочий комитет и студенты-пропагандисты, а часть организаторов-искровцев попала в ловушку в других городах».
Главную причину этих провалов Бауман видит в зубатовщине: «несомненно… здесь вполне оправдываются слова «Искры», что полицейский разврат нам страшнее полицейского насилия».
Бауман отмечает, что «в особенности опасным оказались его (Зубатова) происки в рабочей среде. Он уже тогда, благодаря своему оригинальному, но несомненному таланту, завербовал довольно значительное количество провокаторов из рабочих. Афанасьев, Красивский, Слепов — теперешние лидеры полицейского социализма (1902–1903 годов. — M H.), сначала очень скромно подвизались, расплываясь в рабочей массе»{«Доклады соц — демократических комитетов Второму съезду РСДРП». М, 1930, стр. 126.}.
Кроме зубатовщины, Бауман освещает в своем докладе и другие причины, затруднявшие развитие социал-демократического движения в Москве: отсутствие опытных революционеров («Москва тщательно очищается от неблагонадежных элементов, и раз скомпрометированный человек, если он не желает поступить на службу в охранное отделение, почти на всю жизнь лишается права въезда в Москву»), недостаток революционной молодежи (по сравнению, например, с Петербургом). Наконец Бауман указывает и еще на один тормоз в развитии широкого социал-демократического движения среди рабочих Москвы: жилища московских рабочих «крайне неудобны для пропагандистских и агитационных целей… Не говоря даже о фабричных рабочих, живущих преимущественно в казармах, даже заводская, наиболее оплачиваемая и культурная часть пролетариата ютится обыкновенно в очень многолюдных квартирах с фиктивными перегородками, даже семейные часто не имеют отдельных каморок. Всего чаще рабочие снимают «углы». Поэтому в большинстве случаев приходящий интеллигент принужден агитировать или пропагандировать на глазах совершенно посторонних людей. В такой обстановке всякая конспирация теряет свою силу»{«Доклады соц — демократических комитетов Второму съезду РСДРП». М, 1930, стр. 128–129.}. Бауман подчеркивает вместе с тем, что «работницы почти совершенно не затронуты до сих пор социал-демократическим влиянием».
Какие же пути улучшения, развития социал-демократической работы намечал в своем докладе Бауман?
Он писал, что одни московские работники социал-демократии не в силах добиться крупных успехов. «Но то, что недоступно отдельным организациям, — отметил Бауман, — то может и должна сделать партия». Прежде всего партия при помощи Центрального Комитета должна взять в свои руки распределение революционных сил.
И на самой первой очереди стоит Москва. Сюда необходимо командировать сразу значительную группу истинных революционеров, чтобы они взяли все дело в свои руки, поставили организацию на принципы строгого разделения труда».
В конце своего доклада Н. Э. Бауман выразил уверенность в том, что «московский пролетариат проявит немедленно свою могучую, революционную силу, как только во главе него встанет крепкая социал-демократическая организация»{«Доклады соц — демократических комитетов Второму съезду РСДРП». М., 1930, стр. 129.}.
II съезд открылся в Брюсселе 30 июля (12 августа) 1903 года, в 2 часа 55 минут дня. На съезде присутствовало 43 делегата от 26 организаций. Но так как не все организации использовали свое право послать двух делегатов, а некоторые послали лишь одного делегата, то у 43 делегатов был 51 решающий голос. Явные «экономисты» на съезд не были выбраны: к моменту II съезда в результате энергичной работы искровцев они были уже в достаточной степени разоблачены. Однако некоторые делегаты все же оказались скрытыми «экономистами»; они ожесточенно нападали по всякому поводу на ленинскую группировку искровцев. На позициях «экономистов» стояли, по сути дела, и делегаты Бунда (Всеобщий еврейский социал-демократический союз, созданный в октябре 1897 года в западных губерниях России).
Расстановка сил на II съезде оказалась следующей: «сторонников «Искры» было 33, то-есть большинство. Но не все причислявшие себя к искровцам были настоящими искровцами-ленинцами. Делегаты разбились на несколько группировок. Сторонники Ленина, или твердые искровцы, имели 24 голоса, 9 искровцев шли за Мартовым. Это были неустойчивые искровцы. Часть делегатов колебалась между «Искрой» и ее противниками — таких на съезде насчитывалось 10 голосов. Это был центр. Открытые противники «Искры» имели 8 голосов (3 «экономиста» и 5 бундовцев). Достаточно было искровцам расколоться, и враги «Искры» могли взять верх»{«История ВКП(б). Краткий курс», стр. 39.}.
С большой страстностью происходило на II съезде обсуждение важнейшего вопроса — принятия программы партии, когда против ленинских предложений с ожесточением выступили оппортунисты, не согласные с важнейшим требованием Ленина — признать необходимость диктатуры пролетариата. I Возражали оппортунисты и против включения в программу партии требования по крестьянскому вопросу. При обсуждении съездом вопроса об уставе партии особо острые споры вызвало требование Ленина считать членом лишь того, кто признает программу партии, поддерживает партию в материальном отношении и состоит членом одной из ее организаций. Мартов, опираясь на неустойчивых искровцев и всех оппортунистов съезда, предлагал рассматривать партию «как нечто организационно неоформленное, члены которого сами зачисляют себя в партию и не обязаны, стало быть, подчиняться дисциплине партии, коль скоро они не входят в одну из организаций партии»{«История ВКП(б). Краткий курс», стр. 41.}.
При голосовании этого важного вопроса неустойчивые искровцы пошли за Мартовым, а не за Лениным, и съезд первый параграф устава партии принял (28 голосов — за, 22 голоса — против, 1 воздержался) в формулировке Мартова. Этот раскол искровцев еще более обострил борьбу на II съезде.
Вскоре работа съезда привлекла внимание полиции. За делегатами началась усиленная слежка со стороны бельгийской секретной службы и русских охранников, посланных главным образом из Берлина, где известный царский охранник Гартинг (Линднер) организовал отделение тайного политического сыска. Следили и за Бауманом и за его товарищами, в особенности когда делегаты по окончании вечерних заседаний расходились по гостиницам. Один из делегатов приводит характерный эпизод этой слежки за Николаем Эрнестовичем:
«Помню, пошли мы как-то после заседания прогуляться с Бауманом… Замечаем, что кто-то в десяти шагах от нас идет упорно за нами. Мы ускоряем шаги — он тоже, мы замедляем — он тоже. Явный шпик. Ну, мы попробовали русский прием: повели его за товарные склады на станцию. Людей, а тем паче полиции тут уже не было: дело было позднее. Он идет за нами. Мы быстро и неожиданно для него оборачиваемся и довольно внушительно заявляем ему, что если он моментально не исчезнет, будет жестоко избит. Для большего форс> делаем вид, что в карманах у нас имеется по револьверу, хотя, конечно, никакого оружия с собой не было. Маневр подействовал: шпик очень быстро исчез куда-то, а мы по путям выбрались на вокзал и оттуда в гостиницу»{M. H. Лядов. О Втором съезде партии М… 1933, стр 7.}.
Но так как за рядом делегатов слежка продолжалась, а четырем делегатам бельгийская полиция предложила даже в двадцать четыре часа покинуть Бельгию, то съезд решил перенести свою работу из Брюсселя в Лондон. Там и проходила вторая часть работ II съезда.
По воспоминаниям М. Н. Лядова{В беседе с автором этой работы.}, Николай Эрнестович во время переезда в Лондон на пароходе оживленно беседовал с Лениным о складывающейся на съезде расстановке сил. Бауман был полон уверенности в победе «твердых искровцев».
Действительно, «своим голосованием по вопросу о центральных учреждениях партии съезд закрепил поражение сторонников Мартова и победу сторонников Ленина.
С этого момента сторонников Ленина, получивших на съезде большинство голосов при выборах, стали называть большевиками, противников же Ленина, получивших меньшинство голосов, стали называть меньшевиками»{«История ВКП(б) Краткий курс», стр 42.}.
На протяжении всего съезда Бауман боролся с явными оппортунистами, сторонниками Мартова — антиленинцами.
Свой весьма обстоятельный доклад о социал-демократической работе в московской организации Бауман сделал 6 (19) августа, на тринадцатом заседании съезда.
Выступая в прениях по докладам других делегатов под псевдонимом Сорокина, Бауман неуклонно поддерживал «твердых искровцев», группировавшихся вокруг Ленина. Подробно освещая в своей знаменитой книге «Шаг вперед, два шага назад» ход борьбы на II съезде между искровцами и их противниками, Ленин все время считает Баумана в числе «твердых искровцев».
Так, излагая ход прений о приглашении группы «Борьба» на II съезд, Ленин отмечает, что рабоче-дельцы высказываются за участие этой группы в работе съезда, а искровцы (Павлович, Сорокин и др.) — против.
Бауман решительно и твердо отстаивает принципиальность, независимость убеждений каждого члена партии. Единственный критерий выступления члена партии, по мнению Баумана, — это политические задачи, политические соображения, а не временные преходящие мотивы, зачастую носящие недостойный члена партии узко личный характер. Именно в этом духе Бауман и выступил на съезде с резким протестом против меньшинства, пытавшегося занять «принципиально неправильную и недопустимую позицию обывательских соображений»{В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 7, стр. 291.}.
Ленин в своей классической работе «Шаг вперед, два шага назад», разгромившей меньшевистский оппортунизм в организационных вопросах, указывает на совершенно справедливые протесты Сорокина, выступившего против Дейча, который пытался, по определению Ленина, «пригвоздить к позорному столбу товарищей, несогласных с ним»{В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 7, стр. 291.}.
Бауман заявил Дейчу: «мы здесь члены партии и должны, следовательно, поступать, руководствуясь исключительно политическими соображениями»{«Протоколы II съезда РСДРП». М., 1932, стр. 369.}. При всех голосованиях (заседания съезда нередко носили крайне бурный характер, причем оппортунисты, например, в лице «экономиста» Акимова, устраивали настоящие обструкции, внося по 20 «поправок») Бауман неизменно оставался на стороне Ленина. Второй член московской делегации, Л. С. Цетлин, «перешел на сторону Мартова и определился как меньшевик»{«Из истории московской организации ВКП(б) (1894–1904 гг.)». М., 1947, стр. 99.}, так что московская делегация на II съезде раскололась.
Бауман твердо и решительно отстаивал на съезде позиции Ленина, позиции твердых искровцев. Он неизменно голосовал вместе с Лениным, поддерживал все вносимые Лениным предложения и формулировки. При принятии первого параграфа устава партии («а 23-м заседании, 2 (15) августа) о членстве в партии Бауман голосовал в числе 22 сторонников Ленина за формулировку Ленина, против формулировки Мартова{«Протоколы II съезда РСДРП». М., 1932, стр. 282.}.
Съезд работал до 10 (23) августа 1903 года и провел 38 заседаний.
На другой же день после окончания работы съезда, II (24) августа, делегаты-большевики во главе с Лениным посетили могилу Карла Маркса на Хайгейтском кладбище. Когда Ленин предложил делегатам съезда поехать с ним на кладбище Хайгейт, на могилу Карла Маркса, вспоминает M. H. Лядов, делегат II съезда, то «мы с радостью согласились. Ленин хорошо знал Лондон, и он повез нас через весь громадный город. Мы несколько раз пересаживались с одного омнибуса на другой. Владимир Ильич предложил попробовать спросить у сторожей кладбища, знают ли они, где расположена могила Маркса. Ни один из сторожей этого не знал. «Могила мистера Маркса редко посещается, поэтому они ее не знают. Они знают только могилы известных людей». Ленин сам хорошо знал, где она, и прямиком провел нас к ней»{M. H. Лядов. О Втором съезде партии. М., 1933, стр. 36.}.
На могиле — «простая каменная потрескавшаяся плита с надписью: «Карл Маркс». По всему видно — забыта эта могила. Вокруг нее собралась лишь маленькая кучка рядовых партийцев, — пишет M. H. Лядов, — съехавшихся со всех концов необъятной России, во главе с Лениным, с человеком, который тогда был известен только очень небольшой прослойке русских профессионалов-революционеров. Но эта кучка уже хорошо изучила своего вождя, твердо поверила в него и готова была итти с ним до конца. И как раз у могилы великого учителя мирового пролетариата Карла Маркса мы поняли, что во главе с нашим вождем Лениным на «ас, большевиков, ляжет не только забота о могиле Маркса, но и великая задача — во весь могучий рост возродить его революционную теорию, создать ту партию, которую именно он мечтал когда-то создать»{M. H. Лядов. О Втором съезде партии. М., 1933, стр. 36–37.}.
В глубоком молчании стояли с обнаженными головами большевики — делегаты II съезда РСДРП перед скромной могилой великого ученого, борца, мыслителя. Двадцать лет прошло с тех пор, как К. Маркс, подорвавший свое здоровье поистине гигантской работой на благо трудящегося человечества, тихо уснул навеки в своем рабочем кресле 14 марта 1883 года…
И теперь у его могилы, обрамленной невысокими столбиками — оградой, украшенной лишь свежей травой и двумя-тремя кустиками вечнозеленого кустарника, склонились продолжатели великого дела освобождения всех трудящихся.
Чувствуя огромный прилив энергии, уверенные в своей окончательной победе, покинули Хайгейтское кладбище делегаты-искровцы во главе с Владимиром Ильичем.
Они знали, что II съезд, несмотря на колебания, сыграл исключительную роль в истории борьбы российского рабочего класса за свое освобождение:
«1) Съезд закрепил победу марксизма над «экономизмом», над открытым оппортунизмом;
2) Съезд принял программу и устав, создал социал-демократическую партию и построил, таким образом, рамки для единой партии;
3) Съезд вскрыл наличие серьезных организационных разногласий, разделивших партию на две части, на большевиков и меньшевиков, из которых первые отстаивают организационные принципы революционной социал-демократии, а вторые катятся в болото организационной расплывчатости, в болото оппортунизма;
4) Съезд показал, что место старых, уже разбитых партией, оппортунистов, место «экономистов»— начинают занимать в партии новые оппортунисты, — меньшевики»{«История ВКП(б). Краткий кур», стр. 42–43.}.
После II съезда перед большевиками встала громадной важности политическая задача — разоблачить меньшевиков в глазах широких рабочих масс. Ленин подчеркивал, что «экономизм» видоизменился в «меньшевизм». «Отстаивание революционной тактики старой «Искры» создало «большевизм»{В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 21, стр. 302.}. Большевизм выковывался и крепнул при неуклонном проведении в жизнь ленинского организационного плана.
Как отмечает Сталин, «победа этого плана заложила фундамент той сплочённой и закалённой коммунистической партии, равной которой не знает мир»{И. В. Сталин. Соч., т 4, стр. 309.}.
Вскоре же после окончания работ съезда выяснилось, что меньшевики- не намерены всерьез выполнять резолюции съезда. II съезд партии «оказался не на высоте своего положения в области организационных вопросов, испытывал колебания, иногда давал даже перевес меньшевикам, и хотя он поправился под конец, все же не сумел не только разоблачить оппортунизм меньшевиков в организационных вопросах и изолировать их в партии, но даже поставить перед партией подобную задачу»{«История ВКП(б). Краткий курс», стр. 43.}. Меньшевики немедленно после съезда решили овладеть центральными органами партии, надеясь затем сорвать решения съезда.
Меньшевики старались провести в редакцию «Искры» такое количество своих представителей, чтобы они имели явный перевес над представителями большевиков. Это требование шло вразрез с резолюцией II съезда по организационному вопросу, но меньшевики не остановились перед прямым и явным нарушением решений только что закончившегося съезда. Меньшевики одновременно потребовали, чтобы в ЦК партии было столько же представителей меньшевиков, сколько и большевиков. Это требование также открыто противоречило постановлениям II съезда. Более того: меньшевики, во главе с Троцким, Мартовым и Аксельродом, решили поднять «восстание против ленинизма» (выражение Мартова) и создали свой особый центр — «Заграничную Лигу» русских социал-демократов. Эта оторванная от широких масс рабочего класса России интеллигентская группа и явилась «крепостью меньшевизма», из которой меньшевики пошли в открытый поход против большевизма. На помощь им пришел Плеханов. «На II съезде Плеханов шел вместе с Лениным. Но после II съезда Плеханов дал меньшевикам запугать себя угрозой раскола. Он решил во что бы то ни стало «помириться» с меньшевиками. К меньшевикам Плеханова тянул груз его прежних оппортунистических ошибок. Из примиренца к оппортунистам-меньшевикам Плеханов вскоре стал сам меньшевиком»{«История ВКП(б). Краткий курс», стр. 44.}.
Все более переходя на сторону меньшевиков, Плеханов совершил крупнейшее нарушение решений II съезда по вопросу о составе редакции «Искры». Он кооптировал в редакцию старых редакторов, представителей антиленинской группы. Эта меньшевистская часть редакции только что была съездом отвергнута. Но Плеханов, несмотря на это решение, все же создал такую редакцию, в которой меньшевики, после включения в ее состав «кооптированных», получили большинство голосов. Тогда Ленин вышел из состава редакции.
Таким образом, начиная с № 52, появилась новая «Искра», меньшевистская, оппортунистическая. Ленин перенес борьбу в ЦК партии, чтобы влиянием ЦК укрепить местные комитеты (в крупнейших районах России) на большевистских принципиальных позициях четкой классовой борьбы с капиталистами, четкой борьбы с оппортунизмом. Ленин работал в это время над своей знаменитой книгой «Шаг вперед, два шага назад». Положения, изложенные Лениным в этой работе, стали, как отмечает товарищ Сталин, «организационными основами большевистской партии»{«История ВКП(б6). Краткий курс», стр. 45.}. Ленин дал исключительно глубокий анализ создавшегося после II съезда положения в партии, вскрыл дезорганизаторский, оппортунистический характер действий меньшевиков. Вместе с тем Ленин в этой классической работе разработал учение о партии, о значении партии как передового отряда пролетариата. Пролетариат должен выковывать свое главнейшее оружие — партию, стремясь к победе над буржуазией, стремясь к своей диктатуре.
Книга Ленина «Шаг вперед, два шага назад» появилась в мае 1904 года. Это произведение явилось грозным оружием большевизма: большинство местных партийных организаций стало на платформу большевиков, сплотилось вокруг Ленина.
Период времени с окончания работ II съезда (август 1903 года) до появления книги «Шаг вперед, два шага назад» (май 1904 года) был чрезвычайно ответственным в ожесточенной идейной и организационной борьбе большевиков с меньшевиками. Меньшевики подготовляли атаку (после «завоевания» редакции «Искры», вследствие измены Плеханова) на ЦК партии, надеясь и там создать свое оппортунистическое большинство. Мало того, «меньшевики, захватившие после II съезда в свои руки центральные учреждения партии, вместе с тем захватили и все технические возможности общения с партией: и полиграфическую базу, и аппарат связи, и партийные финансы. Все это В. И. Ленину и горстке большевиков, остававшихся в Женеве после съезда около В. И. Ленина, и среди них Бауману, пришлось заново налаживать»{Сборник «Н. Э. Бауман». M. 1937, стр 20.}.
Николай Эрнестович, в течение всего съезда последовательно и безоговорочно проводивший линию большевиков, все время шедший в тесных рядах ленинцев, так же твердо и решительно проводит идеи Ленина и после II съезда, в напряженных условиях борьбы с меньшевиками. Талантливый организатор, неутомимый пропагандист ленинской «Искры», подготовившей победу большевизма на съезде, оказался и после съезда незаменимым и убежденным агитатором.
Для настроения Баумана в период работы съезда характерно его письмо сестре Эльзе, отправленное из Брюсселя 25 августа (7 сентября) 1903 года:
«Милая Эльзурка. Давным-давно у меня нет никаких сведений от тебя. Быть может, ты писала мне, но твои письма могли случайно еще не дойти до меня, так как я все еще скитаюсь по белу свету.
На жизнь свою пожаловаться не могу: дни, недели, месяцы пролетают незаметно, не успеваешь справляться с впечатлениями».
Затем Николай Эрнестович участливо спрашивает о настроении, об условиях работы сестры, просит ее «не полениться и немедленно ответить».
Бауман шлет Эльзе сердечный привет, кланяется и просит передать поцелуй братьям Саше и Эрочке, справляется об их службе.
Бодрость духа и твердость характера Баумана сказываются с особой силой в эти дни создания партии, в период сплачивания лучших ее сил вокруг В. И. Ленина.
Бауман выступает как непреклонный сторонник Ленина на состоявшемся 26 октября 1903 года II съезде «Заграничной Лиги» русских социал-демократов. Из конспиративных соображений он принял псевдоним «Сарафский». «Лига» оказалась в руках меньшевиков. Меньшевики «окопались в «Заграничной Лиге» русских социал-демократов, 9/10 которой составляли оторванные от работы в России интеллигенты-эмигранты, и стали обстреливать оттуда партию, Ленина, ленинцев»{«История ВКП(б). Краткий курс», стр. 43.}. Эти вылазки не могли смутить верных Ленину твердокаменных большевиков (так В. И. Ленин называл товарищей, до конца преданных партии пролетариата). Бауман ведет среди находившихся за границей социал-демократов разъяснительную работу о значении II съезда, о правильности ленинской принципиальной линии.
Ц. С. Зеликсон-Бобровская в своих воспоминаниях о совместной работе с Николаем Эрнестовичем именно в этот период пишет:
«Непосредственно после съезда Бауман группирует вокруг себя временно очутившихся в заграничной эмиграции товарищей, не успевших еще как следует разобраться в существе происшедшего раскола, разъясняет им правильность ленинской линии, заражает энергией и бодростью…»{Сборник «Н. Э. Бауман», изд. 2. М., 1937, стр. 19.}
Ленин высоко ценил работу Баумана. В конце 1903 года великий учитель и вождь большевиков дает своему верному ученику новое, крайне важное поручение; Ленин направляет Баумана на подпольную работу в Россию для завоевания местных комитетов на сторону большинства. Ленин переносит работу с меньшевиками непосредственно в рабочую массу, зная, что рабочие отбросят оппортунистов со своей дороги и присоединятся к ленинской, большевистской партии. Но для этого необходимо было внести живое, могучее слово большевистской агитации в широкие слои рабочих, обратиться непосредственно к местным комитетам.
Ленин направил в Москву, на Кавказ, в Киев ряд большевиков для разоблачения дезорганизаторской политики меньшевиков после II съезда РСДРП.
«В целях создания в Москве Северного бюро Центрального Комитета из крепких, устойчивых большевиков, — пишет Ц. С. Зеликсон-Бобровская, — Владимир Ильич прежде всего отправил туда нашего общего любимца Николая Баумана, беглеца из Киевской тюрьмы и главного организатора этого известного в истории нашей партии смелого побега 10 искровцев»{Ц. С. Зеликсон-Бобровская. Незабываемые встречи. Воспоминания о Ленине. М., 1947, стр. 44.}.
Вторым членом «Северного бюро» Ленин направил в Москву Ф. В. Ленгника. Партия Ленина — Сталина шла в новые бои, к новым победам.
XII. ПРОПАГАНДИСТ И ОРГАНИЗАТОР
Готовясь к новой поездке в Россию, Бауман приобрел паспорт на имя Вильгельма Земпфега, германского подданного, коммивояжера по профессии. С помощью друзей ему удалось значительно изменить свою наружность, применительно к приметам, обозначенным в паспорте.
Бауман намеревался переехать границу в Австрии. Его жена также должна была выехать в Москву, но через некоторое время после его отъезда, во избежание слежки.
12 (25) декабря Бауман поездом направился в Россию.
Однако отъезд его не остался незамеченным заграничной агентурой царской охранки. Почти немедленно полетела шифрованная телеграмма директору департамента полиции Лопухину: «В четверг утром уехал из Цюриха в Россию через Вену и австрийскую границу, вероятно Граево, Николай Бауман; его жена поедет через три дня на Вержболово или Александрово. Ее необходимо филировать».
Вице-директор департамента полиции тотчас же телеграфировал во все смежные пограничные пункты (Граево, Сосновицы, Граница, Радзивилов, Волочиск): «Разыскиваемый Николай Бауман направился из Цюриха через Вену нелегально Россию. Примите меры аресту».
Но Бауману удалось пересечь границу беспрепятственно. Владея немецким языком, умея хорошо конспирироваться в самых трудных обстоятельствах подпольной жизни, «Грач» сумел и на этот раз «перелететь» границу без осложнений. Труднее оказалось в Москве. Едва лишь Бауман 19 декабря (1 января 1904 года) остановился в московской гостинице «Париж», как заметил за собой явную, хотя и искусно маскируемую слежку филеров.
Бауман немедленно покинул гостиницу «Париж». Он нашел надежное убежище у одного из корифеев Художественного театра, талантливейшего артиста МХАТ, гордости и славы русского сценического искусства — Василия Ивановича Качалова. Его квартира была конспиративным адресом для связи редакции «Искры» с московскими искровцами. В архиве ИМЭЛ имеются письма Ленина, написанные в московскую организацию «Искры» Крупской. Письма эти шли в адрес Качалова. У Качалова встречались агенты «Искры» и обменивались искровской литературой. Бауман также неоднократно укрывался от преследований шпиков в квартире Качалова. И на этот раз он был радушно встречен хозяином, который позаботился о том, чтобы «Грач», по крайней мере, с неделю не появлялся на улице.
Вскоре наступили святки, и Качалов пригласил своего гостя на встречу Нового года в Художественный театр. На этом веселом новогоднем маскараде большинство участников было загримировано, что оказалось очень кстати для «отдыхавшего» у Качалова Баумана. По личным воспоминаниям Качалова, «Грач» в этот незабываемый вечер веселился и танцовал со всей присущей ему жизнерадостностью и неутомимостью. Возвратившись на рассвете в квартиру Качалова, Бауман с увлечением рассказывал ему о танцах швейцарских крестьян-горцев в окрестностях Юнгфрау.
Когда через неделю-полторы Бауман решил, что первый, самый опасный период розысков его шпиками миновал, он начал с большой осторожностью ранним утром выходить из квартиры Качалова и возвращался лишь поздним вечером.
Как опытный конспиратор, Бауман всегда принимал большие меры предосторожности: была изобретена целая система «крестов и точек» мелом на водосточной трубе одного из домов, расположенных неподалеку от квартиры Качалова. Изменение в условном знаке должно было служить сигналом о провале конспиративной явки, и Бауман с присущей ему в подпольной работе аккуратностью и точностью, прежде чем возвратиться на квартиру Качалова, неизменно убеждался в «отсутствии дождя», то-есть в наличии условной пометки на водосточной трубе.
Бауман встречался с нужными ему людьми и на «капустниках» — вечерах в Художественном театре во время поста, когда каждый артист обычно избирал роль, вовсе не соответствующую его амплуа. Во время этих веселых, оживленных интермедий, когда знаменитый трагик выступал в качестве «благородного отца», а резонер превращался в «первого любовника», переодетому Бауману удавалось незаметно переговорить со связными из Лефортова, Сокольников и приезжавшими в Москву искровцами из Подмосковья{Все эти сведения сообщены автору В. И. Качаловым. В. И. Качалов также показывал автору серию стереоскопических фотографий, запечатлевших различные эпизоды грандиозной демонстрации — (похорон Баумана. В настоящее время эти материалы хранятся у Н. Н. Литовцевой.}.
Бауман поддерживал связи с товарищами по подпольной работе и на других конспиративных явках — в Измайловской больнице, в конторе Морозова. Несколько раз Николай Эрнестович скрывался, переодевшись наборщиком, в тесных каморках рабочих в глухих переулках Лефортова. Таким образом, пользуясь поддержкой рабочих и виднейших представителей московской революционной интеллигенции, агент «Искры» удачно избегал встречи с разыскивавшими его охранниками и полицией.
При конспиративных встречах Бауман пользовался кличкой. Вот одно из условий встречи с Бауманом в то время: «лицо, желавшее видеться с «Грачом», должно было явиться по московскому адресу Ногина: Варварка, контора Викулы Морозова (большой красный дом), подняться во второй этаж, вызвать Павла Ногина и наедине сказать ему: «позвольте получить по счету Леопольда». В студенческой форме не приходить».
Находясь в квартире Качалова, Бауман не терял связей с рабочими московских заводов. Он живо интересовался текущей работой Московского комитета РСДРП, борьбой московских большевиков с меньшевиками. Бауман жадно следил за тем, как проводятся в жизнь решения II съезда РСДРП, как «комитеты большинства» овладевают местными партийными организациями.
Когда охранное отделение, по мнению Баумана, несколько ослабило свои поиски, он появился в Москве, оставаясь, конечно, все время на нелегальном положении. Теперь у Баумана было уже новое подпольное имя — «Иван Сергеевич».
Перед Бауманом раскрылось буквально необъятное поле деятельности. Сухой перечень «очередных дел Ивана Сергеевича» ярко показывает, что пришлось сделать в этот период Николаю Эрнестовичу: «Завоевание местных комитетов для большинства», то-есть разоблачение оппортунистических, раскольнических действий меньшевиков, налаживание новых и восстановление старых связей в широких слоях московских рабочих (организация конспиративных квартир, явок для проведения бесед, собраний); издание большевистской литературы, в особенности листовок и брошюр Ленина, разъяснявших рабочим смысл и значение раскола партии на II съезде, — таков далеко не полный перечень очередных дел большевика, посланного в Москву В И. Лениным.
Громадную работу пришлось проделать Бауману по организации «Северного бюро ЦК» партии большевиков.
Вместе со своими ближайшими товарищами и соратниками — Е. Д. Стасовой, С. Черномордиком, Ф. В. Ленгником — Бауман создал в Москве прочный центр большевистского влияния, ленинского руководства рабочим движением не только в Москве, но и в целом ряде крупных промышленных городов северо-востока России. В это же время Николай Эрнестович являлся связным Центрального Комитета партии большевиков с Московским комитетом.
Ленин и Крупская поддерживали тесные связи с «Северным бюро ЦК». Так, в январе 1904 года Крупская от имени Ленина писала Бауману об усилившейся дезорганизаторской работе меньшевистских агентов и указывала на необходимость немедленной подготовки к созыву III съезда партии. «…Все более становится очевидным, — писала она, — что так дальше итти не может. Перед ЦК стоит дилемма — или сдать все меньшинству и уйти оплеванным и оклеветанным, или немедля созвать съезд. Одно только это может спасти честь большинства, да и честь партии вообще. Нет другого выхода, кроме как съезд, и так как, в конечном счете, это зависит от комитетов, а не от ЦК, то надо вести агитацию по комитетам и подготовлять делегатов… Повредить это ничему не может. А быть на-чеку необходимо»{«Из истории московской организации ВКП(б) (1894–1904 гг)». M., 1947, стр. 100.}.
Вот почему поистине боевой задачей дня и становится, как не раз указывал Ленин, завоевание местных организаций на платформе большинства.
Работа эта была трудной. В Москве она осложнялась тем обстоятельством, что в московской организации в конце 1903 — начале 1904 года работали не только виднейшие члены большевистской партии (Е. Д. Стасова, Н. Э. Бауман, Р. С. Землячка, Ф. В. Ленгник, Сурен Спандарян, В. Л. Шанцер), но и меньшевики. Стараясь лишить большевиков возможности обратиться к рабочей массе с живым, действенным словом ленинской пропаганды, меньшевики захватывают шрифт, средства, бумагу. Меньшевики в Москве вели себя так же дезорганизаторски, так же изменнически, как и их коноводы в ЦК (в результате чего меньшевики не только захватили ЦК путем кооптации, но даже выпустили «декларацию», направленную против Ленина).
Таким образом, перед Бауманом встала важнейшая задача — создать большевистскую типографию. Подыскать подходящее помещение для подпольной типографии было нелегко. Большую организационную и практическую помощь Бауману оказал в этой работе старый металлист Николай Николаевич Кудряшев, долгие годы проведший на иваново-вознесенских и московских фабриках и заводах. У товарища Кудряшева были связи с рабочими многих типографий, и ему удалось частично достать в Москве, а частично привезти из других городов необходимое количество шрифта. Печатный стан был довольно примитивный — простая рама и валик, шрифт старый, побитый. Но все же при упорной работе нескольких человек на нем можно было отпечатать не одну тысячу листовок. Помещение для типографии вначале нашли на задворках церкви — в церковном домике на Плющихе, где жил знакомый H. H. Кудряшеву студент с женой. Неподалеку находился полицейский участок, и Бауман, смеясь, говорил, что вряд ли полиция догадается сделать обыск почти что на своем дворе. Однако прошло более месяца в подготовке к печатанию, а «синодальная типография», как шутливо называл Николай Эрнестович помещение в церковном доме, все не могла приступить к работе из-за недостатка опытных наборщиков.
Тогда Бауман обратился к товарищам в Петербург, и оттуда вскоре приехала А. М, Тараева{Умерла в 1942 году в Ленинграде, во время блокады.}, которая вместе с женой Баумана и Кудряшевым принялась за издание большевистской литературы.
Имея шрифт, станок и достаточное количество наборщиков, Бауман и его ближайшие друзья переменили, по конспиративным соображениям, квартиру. На этот раз снято было небольшое помещение во втором этаже, в районе Таганки, но вскоре выяснилось, что и эта квартира выбрана неудачно. Как раз под типографией оказался обширный зал, в котором нередко происходили танцы. Работа печатного станка неизбежно вызывала сильный резонанс. Поэтому Бауман вновь подыскивает помещение, временно отправив все оборудование типографии на квартиру жены. Жена его проживала по паспорту умершей Надежды Кузьминой. Полиция же разыскивала Надежду Уварову, и поэтому жене Баумана удавалось избегнуть слежки и ареста..
После длительных поисков более подходящего помещения было решено начать работу в той же квартире, где жила жена Баумана. Решение это, конечно, было рискованным, но иного выхода Бауман и Кудряшев не видели: надо было немедленно печатать листовки, полученные от Ленина, и времени на поиски новой квартиры не оставалось.
И зимой 1903/04 года в квартире Кузьминой в доме № 69 (по старой нумерации — 13) по Нижне-Красносельской улице Н. Э. Бауманом была создана подпольная большевистская типография.
Бауман вел огромную организационную работу, укреплял связи с районными (в особенности с Лефортовским, Замоскворецким, Сокольническим) партийными комитетами, следил за отправкой отпечатанных прокламаций на большие заводы и фабрики. Он нередко поздним вечером появлялся в подпольной типографии, приносил текст листовок, помогал наборщикам. Но, конечно, паспорт на имя коммивояжера Земпфега в доме № 13 по Нижне-Красносельской улице прописан не был.
Прокламации нарасхват читались рабочими московских предприятий. Листовки удавалось распространять и в Лефортове, и в Сокольниках, и в Бутырском районе, и в Замоскворечье.
Ободренные большим успехом первомайской листовки, Бауман и Кудряшев энергично взялись за расширение подпольной группы наборщиков, чтобы текущие события (война с Японией, нарастающая волна стачек в городах и аграрных волнений в деревнях) осветить в десятках тысяч листовок. Усилия их увенчались успехом: к весне 1904 года вокруг подпольной большевистской типографии на Нижне-Красносельской улице группировалось около 20 наборщиков, транспортеров, связистов.
Но еще в марте 1904 года Бауман заметил опасные признаки; филеры, по всем данным, получили какое-то косвенное указание о местонахождении типографии.
Для того чтобы спутать наблюдение охранки, Бауман и его жена решили ранней весной 1904 года выехать в более отдаленный район Москвы, в дачный пригород.
«Дачники поневоле» — метко назвал этот переезд Бауман. Жена Баумана сняла дачу в Петровском парке. Типографию перевезли на квартиру Кудряшева, который поселился неподалеку от Бутырской заставы, на 2-й Вятской улице. Сюда приходили работать в типографию Тараева и жена Баумана. Ц. С. Зеликсон-Бобровская пишет в своих воспоминаниях: «Одна, бывало, шумит на швейной машинке, чтобы производить впечатление, будто здесь портняжная мастерская, т. Кудряшев в это время печатает, другая помогает ему. Печатали максимум по две тысячи листовок, причем часто самим же работающим в типографии приходилось искать пути к читателям этих листовок, к рабочим. Тут много помогали Серов от «Листа» и водопроводчик Чукаев»{Сборник «Н. Э. Бауман», изд. 2. М., 1937, стр. 22.}.
Баумана и его товарищей не могло удовлетворить довольно примитивное оборудование типографии, ее ограниченные возможности.
Поэтому Николай Эрнестович предпринимает поиски для расширения работы, для замены печатного станка более совершенной машиной.
К 1 мая 1904 года подпольщикам большевистской типографии удалось напечатать несколько тысяч листовок. Текст первомайских прокламаций был составлен Бауманом. Эти большевистские листовки просто и доходчиво объясняли рабочим положение рабочего класса.
Но в это время (апрель — май 1904 года) жандармы и полиция, крайне обеспокоенные появлением большевистских первомайских листовок, решают во что бы то ни стало разыскать подпольную типографию.
И Бауман, обладавший большим опытом профессионального революционера, вскоре почувствовал, что за дачей в Петровском парке начинается очередное «наблюдение». Он еще более конспирирует свои посещения подпольной типографии в Зыкове. Однако полицейско-охранная сеть стягивается все туже. В начале июня 1904 года дача Баумана оказалась под явным наблюдением. Поэтому Бауман в течение суток не выходил из дачи и послал свою «прислугу» к Кудряшеву с просьбой дать ему рабочий костюм. У Кудряшева запасного костюма не оказалось. Пришлось ему самому пойти на дачу Баумана, и Николай Эрнестович переоделся в старенький, потрепанный костюм Кудряшева. Поздней ночью Бауман, под видом мастерового, задворками скрылся. Но лишь только Кудряшев в изящном костюме и заграничной шляпе «коммивояжера» вышел утром из дачи Баумана, как он увидел, что по пятам за ним двинулись сыщики. Все же ему удалось в малонаселенной дачной местности скрыться от «наблюдателей». Он поспешно вернулся к себе в Зыково, снял элегантный костюм Баумана и облачился в кое-какое старье.
Лишь только он успел превратиться из заграничного коммивояжера в обычного мастерового, в дверь послышался стук: полиция с дворником, филерами произвела форменную облаву на «интеллигентов в шляпе». Увидев вместо этого более чем скромно одетого рабочего, полицейские не стали даже производить обыск в бедно обставленной, маленькой и тесной комнатке Кудряшева. Гроза на этот раз прошла мимо.
Но через небольшой промежуток времени Бауману пришлось вновь, по самым неотложным делам, появиться на своей даче. На нем был попрежнему костюм Кудряшева. И в ночь на 19 июня «в квартире дочери коллежского советника Надежды Константиновны Кузьминой, на даче Дубровина, 2 участка Сущевской части, — как значится в справке из дела № 514, 1904 года, — был произведен обыск». В квартире, кроме прописанных Медведевой (Кузьминой) и «прислуги» Тараевой, оказался еще «неизвестный человек, ночевавший без прописки». Его задержали и доставили в московское охранное отделение. Здесь, несмотря на костюм рабочего (Кудряшева), шпики опознали давно разыскиваемого ими Баумана. Николай Эрнестович, а также и арестованная вместе с ним его жена и А. М. Тараева от каких-либо показаний отказались. Жандармы при обыске на даче Кузьминой нашли немало подпольной литературы.
В «Описи предметов, оказавшихся 19 июня месяца 1904 года при обыске», значатся. 5 экземпляров № 53 «Искры» 1903 года, столько же экземпляров № 54, 14 экземпляров брошюры (В. И. Ленина) «К деревенской бедноте», 171 экземпляр несброшированной брошюры «Ко всему рабочему народу», изданной в апреле 1904 года Московским комитетом Российской социал-демократической партии, 1 527 экземпляров брошюры МК от 10 июня 1904 года «Ко всем запасным рядовым», 34 экземпляра брошюры МК от 9 апреля 1904 года «Уроки истории» и т. п. Найдена также тетрадь-рукопись «Материалы к вопросу о провокаторских приемах Зубатова». Особое внимание полиции при обыске привлекло обращение ЦК РСДРП «Ко всем гражданам России», изданное в январе 1904 года. Этого обращения было найдено 61 экземпляр.
Все эти материалы жандармы тщательно перенумеровали, упаковали и отправили вместе с арестованными в охранное отделение.
И перед Николаем Эрнестовичем вновь открылись двери тюрьмы.
XIII. В ТАГАНСКОЙ ТЮРЬМЕ
Обрадованные удачей — арестом «видного деятеля социал-демократической организации, столь долго и до сих пор безуспешно разыскиваемого», власти заключили Баумана в Таганскую тюрьму.
Жандармы и прокуратура опасались нового побега «Грача — птицы весенней», и к узнику применили ряд специальных мер. Баумана поместили в изолятор — крайнюю камеру в конце коридора. Эта камера предназначалась для «особо важных преступников». Маленькое окошечко ее было почти постоянно закрыто железным колпаком; лишь изредка, при уборке камеры, с режущим по нервам скрежетом на несколько минут этот колпак открывался, но почти тут же надзиратели торопились его задернуть снизу вверх. Из окна вместо света струился какой-то мутный полумрак; даже встав на табуретку, ничего нельзя было увидеть, кроме клочка неба. Тюремные власти, усердно инструктируемые охранным отделением, приняли «все зависящие меры» к полной изоляции узника: у дверей камеры-изолятора неотлучно дежурил специально приставленный надзиратель, двое других находились в коридоре.
Судебные власти не спешили с допросами и составлением обвинительного заключения — месяц за месяцем проходил в ожидании.
В первое время заключения единственной «льготой» было разрешение поддерживать переписку с родителями.
И Николай Эрнестович пишет отцу несколько задушевных, теплых писем. Почти семь лет назад писал он родителям из Петропавловской крепости, намечая свой путь и готовясь к трудной борьбе.
Мужеством и твердостью звучал тогда его голос:
«Я твердо надеюсь вести победоносную борьбу».
Прошли годы ссылки, подпольной работы, тюремного заключения, этапных мытарств… И вновь тот же мужественный, уверенный тон. В ответ на письмо отца, в котором Эрнест Андреевич сожалеет о судьбе своего сына, Николай Эрнестович пишет 27 августа (9 сентября) 1904 года:
«Мне очень прискорбно слышать, что Вы до сих пор не можете или не желаете понять меня. Неужели Ваш долгий жизненный опыт не подсказывает Вам, что каждый человек должен итти своим собственным путем, что в жизни нет широкой проторенной дороги для тех, кто способен мыслить и чувствовать?.. В действительности же тот несчастен, кто сбился со своей настоящей дороги или не мог найти ее вовсе; а счастлив тот, кто идет неуклонно, без страха и сомнения, туда и прямо, куда указывают ему его совесть и убеждения. Не может быть счастлив человек, если он обречен на постоянную борьбу со своим внутренним голосом, если он вступил в сделку со своей совестью».
Он убеждает отца, что единственным критерием достоинства человека, его личного счастья является такая деятельность, такие общественные поступки, которые продиктованы ему его внутренним «я», его идейными убеждениями.
Николай Эрнестович пишет далее, что не было бы современной культуры, не было бы прогресса, если бы люди мирились «на идеале близкого благополучия».
Горячо и взволнованно звучат последние строки: «…Мы так любим человеческий гений, красоту, свободу, что с радостью и бодростью смотрим в лицо самой страшной опасности, не боимся тернистой дороги, лишь бы перед нами светила яркая заря нашего идеала. Вы же советуете мне — в своем прошлом письме — свернуть с моей дороги. Если бы я поступил таким образом, то бросил бы себя в пропасть самых ужасных, неизлечимых мук. Нет, милый и дорогой папа! Постарайтесь вникнуть в мое сердце, и Вы поймете, что иначе я не могу жить: мой путь давным-давно намечен, свернуть с него — значит убить свою совесть. Последнее же — самое ужасное преступление, для него нет искупления. Если бы Вы могли видеть меня сейчас, то, я уверен, к Вам никогда не вернулась бы подобная мысль, Вы благословили бы меня итти дальше и оставаться самим собой. Пишите больше о себе. Целую крепко. Ваш Коля»{Все письма Н. Э. Баумана родителям хранятся в фондах Музея Революции. Опубликованы в сборнике «Н. Э. Бауман». М., 1937, стр. 117–125.}.
28 октября (10 ноября) 1904 года Бауман вновь пишет отцу о состоянии своего дела, которое все еще «на точке замерзания. По крайней мере, до сих пор я не получил ни одного извещения, ни одной бумаги». Касается он и условий содержания в тюрьме — они «гораздо лучше, чем, например, в Петропавловской крепости».
Затем Николай Эрнестович возвращается к теме, затронутой в предыдущем письме: он получил ответ отца, в котором Эрнест Андреевич вновь убеждал сына в правоте своих мнений.
«Вы пытаетесь доказать мне, — отвечает Николай Эрнестович, — что все мои рассуждения и убеждения лишь плод холодного ума. Поверьте, дорогой папа, Вы жестоко ошибаетесь. Только потому, что у меня мозг и сердце идут нога в ногу, неразлучно, я так непоколебим в избранном мною пути».
Переписка с родными скрашивала одиночество долгих месяцев заключения.
Заключенные в Таганскую тюрьму большевики держались весьма сплоченно и твердо.
Большое значение для «тюремной колонии», как иногда называла себя группа политических заключенных в Таганской тюрьме, имел «приход» в эту тюрьму соратницы Баумана по «Северному бюро ЦК» Е. Д. Стасовой, носившей в большевистском подполье кличку «Абсолют». Е. Д. Стасова была арестована почти одновременно с Н. Э. Бауманом (в Нижнем Новгороде, 26 июня 1904 года) и привезена в Таганскую тюрьму.
Когда иод влиянием неудач русско-японской войны тюремные власти осенью 1904 года несколько ослабили режим надзора за политическими заключенными, «с воли» заключенным ухитрялись передавать деньги, записки и даже литературу. Е. Д. Стасова вспоминала{В беседе с автором.}, какое огромное впечатление произвела на большевиков, сидевших в Таганской тюрьме, знаменитая работа Ленина «Шаг вперед, два шага назад», осенью 1904 года появившаяся среди московских большевиков:
«…Мы так горячо, так подробно обсуждали эту книгу! — Даже, помнится, написали целую статью о ней в нашем подпольном тюремном журнале».
Осенью же 1904 года в Таганской тюрьме произошло важное событие, еще сильнее повлиявшее на улучшение положения политических заключенных. Незадолго перед этим, в июне 1904 года, правительство ввело в действие новое уголовное уложение. Несколько политических заключенных Таганской тюрьмы, дела которых уже были решены в административном порядке, неожиданно вновь были привлечены, на основании нового уголовного уложения, к судебному разбирательству. Вместо административной высылки заключенным предстоял вновь мучительный путь по этапу, ожидание суда и т. п.
Для начала действия нового уголовного уложения власти неожиданно увезли в Одессу троих политических, дело которых было уже решено без суда, и эти политические, готовясь к высылке, пользовались некоторыми льготами (общей прогулкой на тюремном дворе, свиданиями с родными). В знак протеста политические заключенные, которым грозило новое судебное преследование, заявили, что они требуют назначения над ними суда не позже января (1905 года); если же судебный процесс замедлится, то они объявляют голодовку. Все остальные политические заключенные Таганской тюрьмы, дела которых еще не рассматривались, решили присоединиться к голодовке своих товарищей на пятый-шестой день. Это решение объяснялось тем, что в Таганке находилось среди политических заключенных немало совсем еще молодых людей, которые, не рассчитав свои силы, могли сорвать голодовку. Присоединение же к голодающим на шестой день обеспечивало длительное и стойкое сопротивление. 1 ноября, не получив ответа на свое заявление, политические заключенные, которым угрожало привлечение к суду по новому уголовному положению, начали голодовку. В тюрьме появился прокурор, безуспешно пытавшийся уговорить заключенных прекратить голодовку. Со своей стороны, родные заключенных хлопотали об освобождении родственников на поруки, под залог. Тюремные власти, прокуратура под давлением общественного мнения (широких кругов рабочих, служащих и интеллигенции) вынуждены были пойти на уступки. Постепенно голодающих политических заключенных стали освобождать под залог. Но к 6 ноября в тюрьме все еще оставалось восемь человек голодающих, которых власти «не успели» выпустить под залог.
Тогда к голодающим примкнули все остальные политические заключенные тюрьмы. Голодовка приняла массовый характер, и общественное мнение было возбуждено еще более. Вновь появился в тюрьме прокурор, убеждавший присоединившихся к голодающим заключенным, что «это их не касается», что дела привлеченных по новому судебному уложению «будут разобраны согласно закону» и т. п. Политические ответили категорическим отказом и стойко продолжали голодать: выбрасывали еду в коридор, разрешая себе выпить в сутки лишь полстакана воды… Со второго дня массовой голодовки к заключенным стал являться тюремный врач, следил за пульсом и всячески уговаривал прекратить голодовку. Но заключенные держались стойко. Тогда власти пошли на дальнейшие уступки: многих политических заключенных освободили от суда под залог. В частности, была освобождена 18 декабря 1904 года под залог, после длительных хлопот родных, Е. Д. Стасова.
Однако Баумана, также голодавшего наряду со своими товарищами по заключению, власти освободить под залог отказались.
Осень 1904 года и затем зима были богаты крупнейшими политическими событиями. В ряде городов возникли стачки, произошли открытые выступления рабочих не только против своих хозяев-предпринимателей, но и против властей. Неудачи царских войск в русско-японской войне еще более обострили внутриполитическое положение. Падение Порт-Артура нанесло сильный удар престижу царского правительства. По определению Ленина, это было началом падения самодержавия. «Царь хотел войной задушить революцию. Он добился обратного. Русско-японская война ускорила революцию»{«История ВКП(б). Краткий курс», стр. 54.}.
В стране в это время (осень — зима 1904/05 года) происходило дальнейшее накопление революционных сил. Громадное значение для развития событий имела стачка рабочих Баку, проведенная Бакинским комитетом большевиков в декабре 1904 года.
Эта стачка, по определению товарища Сталина, «послужила сигналом славных январско-февральских выступлений по всей России».
Январские (1905 год) выступления рабочих на петербургском Путиловском заводе быстро превратились в стачку десятков крупных предприятий столицы.
И, наконец, все это вылилось в «кровавое воскресенье» — 9 января, когда царское правительство встретило пулями тысячи рабочих, шедших с петицией к «царю-батюшке».
Все эти исключительной важности обстоятельства заставили администрацию тюрьмы еще более смягчить условия заключения: узникам разрешили пользоваться книгами из тюремной библиотеки, разрешили прогулки на тюремном дворе, даже позволили в хорошую погоду открывать окна.
Бауман обладал удивительным уменьем воздействовать на своих врагов, подчинять своему влиянию даже тюремную стражу. Еще летом 1904 года, когда Бауман сидел в изоляторе, ему удалось заставить дежурившего около его камеры надзирателя нарушить строгие тюремные «правила содержания политических заключенных».
Вот характерный эпизод из воспоминаний П. Ларионова (С. Черномордика) о совместном с Бауманом заключении в Таганской тюрьме:
«Среди наших партийцев в старые годы была славная порода людей, которые с головы до ног были пропитаны духом революционного энтузиазма и самоотвержения. Таким именно и был, сколько я его знаю, Николай Эрнестович Бауман. Самоотверженный революционер, прекрасный, с большой выдержкой организатор и жизнерадостный, веселый человек, которому «ничто человеческое не было чуждо». Да, этим веяло от всей его прекрасной и крепко сложенной фигуры, от открытого лица, от приветливых его глаз. Впервые я встретился с Бауманом в Таганской тюрьме летом
1904 года.
В один прекрасный день в часы прогулок открывается «форточка» в дверь моей камеры и просовывается симпатичнейшая голова с широким лбом, веселыми глазами, русой бородкой — лицо необычайное, сразу останавливающее на себе внимание. Познакомились. Пожали друг другу руки. Поболтали. И здесь же надзиратель, который открыл «форточку» по просьбе этого «арестанта», умевшего, очевидно, влиять на людей, так как редко кому удавалось уговорить тюремных надзирателей нарушить «правила». Этот «политик» был Н. Э. Бауман. Его держали под строгой охраной в изоляторе, а «форточку» моей камеры все-таки открыли».
Позже, когда под давлением нараставших революционных событий и в результате голодовки таганских политических заключенных режим был значительно смягчен, Бауману удалось установить «телефонную связь» с друзьями, сидевшими в других камерах, и в особенности со своей женой. Один из политических заключенных, сидевший в том же крыле Таганской тюрьмы, где помещена была К. Медведева, пишет:
«Мне пришлось наловчиться действовать «телефоном», передавая письма Николая Баумана его жене, которая сидела наискосок под моей камерой. Сам Николай Бауман сидел в изоляторе против моей камеры, и мое географическое положение обязывало меня к роли почтальона. Переписка между ними была оживленная.
У Баумана было приятное открытое лицо с рыжеватой бородкой и быстрые, решительные движения. Бауман с точки зрения жандармов был очень важным преступником, поэтому его заключили & изолятор… Казалось, человек лишен всякой возможности сношений с внешним миром: у дверей страж, из окна ничего не видно, но это не помешало мне, его соседу, ходить ежедневно к его камере за корреспонденцией, благодаря содействию одного из надзирателей».
Бауману удалось при помощи этого же надзирателя передавать свои письма жене в нижний этаж тюрьмы «по телефону», то-есть на ниточке, опускавшейся из окна верхнего этажа и искусно попадавшей вместе с запиской в камеру Медведевой. Как только раздавалось условное «телефон, телефон!..», так тут же открывалась форточка в камере нижнего этажа, Бауман ловко забрасывал в нее привязанную на нитке записку, а его сосед по камере, помещавшейся над камерой жены Баумана, не менее ловким маневром перебрасывал затем эту бумажку на нитке (с мешочком песка для веса) в форточку, находившуюся в камере Медведевой.
Надзиратели, напуганные событиями осени 1904 года и зимы 1905 года («кровавое воскресенье», рост забастовок), не препятствовали этой оригинальной перекличке заключенных.
Когда же заключенным были разрешены свидания с родными, товарищи заключенных, находившиеся на воле, стали широко пользоваться этой новой уступкой тюремной администрации. Под видом «невест» в тюрьму к политическим заключенным приходили их друзья, передавали в папиросах, булках и тому подобных предметах крохотные, микроскопическим почерком написанные шифрованные сообщения на узеньких и маленьких клочках папиросной бумаги. К Николаю Эрнестовичу также несколько раз приходила «невеста» — Л. А. Мышецкая. Бауман беседовал с ней «эзоповым языком» о здоровье «общих знакомых», о «состоянии погоды» в Саратове, Казани, Киеве и особенно интересовался «погодой» в Москве и подмосковных промышленных центрах. Уходя, посетители ухитрялись передать заключенным коротенькие записки, в которых содержались сведения о положении «близких родственников Ивана Сергеевича»{Подпольная кличка Н. Э. Баумана.}. Таким образом, Бауман, находясь в заключении, за высокими стенами Таганской тюрьмы, имел все же представление о событиях, происходивших на воле. Друзья по подпольным рабочим кружкам почти каждую неделю ухитрялись или путем «телефона» из соседних камер, или при свидании «невесты» сообщать Николаю Эрнестовичу, как крепнет и развивается во всероссийском масштабе борьба против царизма.
Но самым главным для заключенных большевиков было то, что Бауман получал вести не только ст московских товарищей-рабочих, но и от самого Ленина.
Вождь и организатор большевистской партии — партии нового типа — внимательно следил за судьбой своего верного ученика. Ленин и Крупская несколько раз пересылали Бауману и его товарищам по заключению свои указания и информацию о текущих событиях партийной жизни.
Ленин вел в это время энергичную борьбу за созыв III съезда партии. Под его руководством в Швейцарии в августе 1904 года произошло «совещание 22 большевиков». Совещание приняло обращение «К партии» о необходимости созыва III съезда.
Ленин решил полностью разоблачить на этом съезде меньшевиков и добиться создания нового ЦК партии. Большевистские комитеты на трех конференциях — Южной, Кавказской и Северной — избрали Бюро комитетов большинства — орган, энергично взявшийся за практическую подготовку к III съезду партии. Громадным событием в партийной жизни был выход 4 января 1905 года большевистской газеты «Вперед». Большевики получили теперь свой печатный орган.
Вскоре после «совещания 22 большевиков» посланные Лениным большевики привезли в местные комитеты резолюции этого совещания и повели энергичную разъяснительную работу. Резолюция эта была написана Лениным. В Москву ее привезла Р. С. Землячка (в зеркале, хранящемся теперь в Музее Революции). Этот документ вскоре стал широко известен московским рабочим. Вокруг призыва Ленина сплотились московские большевики в борьбе против меньшевиков, в борьбе за созыв III съезда:
«…В результате ожесточенной длительной борьбы с меньшевиками, к концу 1904, началу 1905 г. г-, накануне III съезда партии, московские большевики оформились в самостоятельную партийную организацию — Московский Комитет большевиков.
Борьба между большевиками и меньшевиками в Москве между II и III съездами партии и оформление московских большевиков в самостоятельную организацию имели огромное общепартийное значение»{«Из истории московской организации ВКП(б) (1894–1904 гг.)». М., 1947, стр. 109.}.
Все эти великие события партийной жизни стали известны большевикам, заключенным в Таганской тюрьме. Обращение 22 большевиков вызвало «горячий отклик среди находившихся в эти дни в Таганской тюрьме группы руководящих деятелей московской организации, членов «Северного бюро ЦК» (Бауман, Ленгник, Стасова, Черномордик и др.).
В своем замечательном, дышавшем полной уверенностью в победе письме они просили Ленина разрешить им выступить с обращением к партии»{«Из истории московской организации ВКП(б) (1894–1904 гг.)». М., 1947, стр. 102.}.
Московские большевики намеревались обратиться ко всем местным комитетам с призывом стать под знамя Ленина, на основе резолюции «совещания 22 большевиков».
«По нашему мнению, — писал 22 августа (4 сентября) 1904 года Ф. В. Ленгник из Таганской тюрьмы, — «Старику» нужно во что бы то ни стало организовать литературную группу для систематической атаки на вымирающую «Искру». Без этого мы ничего не можем здесь сделать»{«Ленинский сборник» XV, стр. 161.}.
Крупская от имени Ленина немедленно ответила товарищам: «Дорогие друзья! Нас бесконечно обрадовало Ваше письмо, оно дышит такой бодростью, что придало и нам всем энергии. Ваш план осуществите непременно. Он прекрасен и будет иметь громадное значение… Ваш совет об издательстве уже наполовину осуществлен. Литературные силы есть, готового материала масса»{«Ленинский сборник» XV, стр. 214.}.
И вместе с ободряющим, приветственным голосом вождя партии, великого Ленина, до слуха заключенных в Таганской тюрьме большевиков все слышнее стали доноситься отзвуки колоссальных революционных событий, происходивших по всей России:
«За высокие стены и крепкие затворы Таганки к нам все же доносилось веяние живой, свободной, могучей жизни пробудившегося народа. Забастовка типографских рабочих взбудоражила нас; особенно радовали и волновали известия о многолюдных митингах, о народных собраниях на улицах, о столкновениях народа с полицией… «Москва всколыхнулась, Москва воскресла», — повторяли мы друг другу»{М. Сильвин. Освобождение (памяти Н. Э. Баумана), «Новая жизнь», 1905, № 3, стр. 55.}.
Революционные события нарастали невиданными темпами. 9 января — расстрел царскими властями «веры народа в царя» — дало мощный толчок дальнейшему развитию стачек в городе и аграрных волнений в деревне. Даже сухой перечень важнейших событий в течение весны — лета 1905 года дает достаточно полное представление о грозных признаках надвигавшейся революции: стачки в Петербурге, Москве, Варшаве, Риге, Баку, Иваново-Вознесенском промышленном районе (стачка 70 тысяч ткачей), первомайские столкновения с полицией и войсками почти во всех городах России, восстание в Черноморском флоте, массовое аграрное движение…
Все это отразилось на поведении судебных властей: для некоторых политических заключенных прокуратура «нашла возможным изменить, впредь до суда, меру пресечения».
Вместе с тем об освобождении Баумана усиленно хлопотали его друзья. Особенно большую роль сыграла в этом деле Е. Д. Стасова, которая, как только ее выпустили из Таганки, поехала в Петербург и хлопотала о Баумане с помощью своего отца, присяжного поверенного Д. В. Стасова.
По воспоминаниям Е. Д. Стасовой, ей «было товарищами дано поручение немедленно снестись с тов. Лениным, так как целому ряду товарищей, сидевших в Таганке, предстоял суд в январе 1905 г., после голодовки в течение 11 дней в ноябре 1904 г… Я привлекалась по делу «Северного бюро ЦК», в состав которого входили т.т.: Ник. Эрн. Бауман, П. А. Красиков («Август Иванович»), Ф. В. Ленгник, Гальперин («Коняга», «Валентин») и я»{«Ленин и тактика социал-демократов на суде (1905 г.)» «Пролетарская революция», 1924, № 7 (30), стр 248.}.
Е. Д. Стасовой вскоре же удалось установить связь с В. И. Лениным и спросить его письмом, какой тактики должны держаться большевики, заключенные в Таганской тюрьме, на предварительном следствии и на суде: во-первых, следует ли во время следствия попрежнему держаться «прежней тактики отказа от всяких показаний, ибо следствие ведется теми же жандармами, хотя и в присутствии прокуроров»{«Ленин и тактика социал-демократов на суде (1905 г.)» «Пролетарская революция», 1924, № 7 (30), стр 248.}, во-вторых, какую позицию необходимо занять на суде (приглашать ли защитников, какие инструкции им давать и т. п.). Дело заключалось в том, что на основании нового уголовного уложения «политикам» было разрешено приглашать защитников для выступления на судебном процессе.
На обращение заключенных большевиков Ленин ответил большим письмом, имевшим огромное политическое значение: вождь великой партии пролетариата дал своим соратникам руководящие указания о том, как надо вести борьбу не только на свободе, в рядах рабочего класса, но и в условиях тюремного заключения. В этом «Письме Е. Д. Стасовой и товарищам в Московской тюрьме» от 6 (19) января 1905 года Ленин указывал:
«Речь с изложением profession de foi{Символ веры, программа, изложение миросозерцания. В данном случае — изложение революционером своих убеждений. — М. Н.} вообще очень желательна, очень полезна, по-моему, и в большинстве случаев имела бы шансы сыграть агитационную роль. Особенно в начале употребления правительством судов следовало бы социал-демократам выступать с речью о социал-демократической программе и тактике. Говорят: неудобно признавать себя членом партии, особенно организации, лучше ограничиваться заявлением, что я социал-демократ по убеждению. Мне кажется, организационные отношения надо прямо отвести в речи, т. е. сказать, что-де по понятным причинам я о своих организационных отношениях говорить не буду, но я социал-демократ и я буду говорить о нашей партии. Такая постановка имела бы две выгоды: прямо и точно оговорено, что об организационных отношениях говорить нельзя (т. е. принадлежал ли к организации, к какой etc.) и в то же время говорится о партии нашей. Это необходимо, чтобы социал-демократические речи на суде стали речами и заявлениями партийными, чтобы агитация шла в пользу партии»{В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 8, стр. 50.}.
Переходя к вопросу о приглашении защитников для развернутого выступления на суде, Ленин писал:
«Брать адвокатов только умных, других не надо. Заранее объявлять им: исключительно критиковать и «ловить» свидетелей и прокурора на вопросе проверки фактов и подстроенности обвинения, исключительно дискредитировать шемякинские стороны суда. […] Будь только юристом, высмеивай свидетелей обвинения и прокурора, самое большое противопоставляй этакий суд и суд присяжных в свободной стране, но убеждений подсудимого не касайся, об оценке тобой его убеждений и его действий не смей и заикаться. Ибо ты, либералишко, до того этих убеждений не понимаешь, что даже хваля их не сумеешь обойтись без пошлостей»{В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 8, стр. 51.}.
Давая практические советы о тактике большевиков на суде, Ленин еще раз подчеркивает необходимость принципиального, глубоко партийного поведения политических подсудимых, членов партии большевиков как на следствии, так и во время суда:
«Во всяком случае речь о принципах, программе и тактике социал-демократии, о рабочем движении, о социалистических целях, о восстании — самое важное»{В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 8, стр. 52.}.
Ленин заканчивает письмо дружеским пожеланием заключенным в Таганской тюрьме большевикам здоровья и бодрости для предстоящих решающих боев с самодержавием:
«Большой, большой привет Курду, Рубену, Бауману и всем друзьям! Не унывайте! Дела у нас теперь пошли хорошо»{В. И. Ленин. Соч., изд 4, т. 8, стр. 52.}.
Это письмо оказало на заключенных в Таганской тюрьме большевиков необыкновенное влияние. И на подпольной работе и в условиях тюремного заключения они все время чувствовали твердое и уверенное руководство своего вождя и учителя — великого Ленина.
Вдохновленный указаниями Ленина, Бауман энергично готовился к выступлению на суде.
До осени 1905 года шла подготовка этого судебного процесса. По воспоминаниям М. Ф. Владимирского «у него долгое время хранилась судебная повестка, на обороте которой Бауман набросал тезисы своей речи»{К. Осипов. Николай Эрнестович Бауман М., 1946, стр. 61.}. Стараниями Московского комитета партии Бауману заранее была обеспечена хорошая защита на предстоящем процессе. Е. Д. Стасова немедленно предупредила защитников, что большевистская партийная организация видит в этом деле большое политическое значение и защищать Баумана на суде необходимо без всяких попыток в какой бы то ни было степени «смягчить» приговор и т. п. Выделенный кружком адвокатов защитник (Муравьев) в своих воспоминаниях отмечает, что с чисто юридической точки зрения можно было попытаться суд над Бауманом «провести в мягких тонах», то-есть всемерно затушевать политическое значение Баумана — профессионального революционера. Обвинение было предъявлено по 126-й статье 2-й части.
«Однако, — по воспоминаниям защитника, — при попытке внести примиряющий, мягкий тон в процесс личные и партийные друзья Баумана заявили самый решительный протест… Друзья Баумана самым категорическим образом заявили, что сам Бауман никогда не согласится получить свободу путем принижения революционного значения своей партии.
Было решено вести процесс с распущенными партийными знаменами, не приспуская их древка перед тяжестью угрожающего наказания»{«Н. Э Бауман (по воспоминаниям его защитника)». «Былое», 1926, № 1, стр. 108.}.
Когда защитник явился на свидание в тюрьму к Бауману, «в камеру для свиданий ввели человека, прежде всего и больше всего поражающего своей необыкновенной простотой, отсутствием всякой аффектации… В нем чувствовалась большая глубина, недюжинная сила воли и безмерная преданность революционному делу Но все это сдерживалось уравновешенным спокойствием и исключительным тактом, так присущим Бауману».
Как только речь зашла о тоне, в котором надо вести судебный процесс, Николай Эрнестович заявил так же твердо и решительно, что «процесс является для него очередной партийной задачей», к которой он отнесется со всей добросовестностью партийного работника. Он категорически заявил, что процесс должен итти «под распущенными партийными знаменами».
Защитнику осталось лишь принять это заявление к руководству.
Наконец, после долгих оттяжек и проволочек, на 27 августа (9 сентября) 1905 года был назначен судебный процесс над заключенными в Таганской тюрьме Бауманом и его товарищами (Ленгником и другими).
Однако на судебное заседание Ленгник не явился. Сделано было это в знак протеста по решению всей группы большевиков, заключенных в Таганской тюрьме, так как он привлекался по одному и тому же делу вторично, уже пробыв в заключении в Петропавловской крепости и затем в ссылке. Судебная палата и главным образом прокурор решили отложить дело, несмотря на требование защитников заслушать дело в отсутствии Ленгника. Тогда защитники обратились к судебной палате с просьбой об освобождении под залог тех заключенных, которые еще оставались в Таганской тюрьме. Палата удовлетворила эту просьбу защитников.
Казалось бы, двери тюремной камеры Баумана будут раскрыты…
Однако в дело вмешалась, не имея на то никаких юридических оснований, прокуратура. Прокурор решил освободить всех заключенных, кроме Баумана. Чтобы замаскировать свое участие в этом, прокурор сообщил защите, что Баумана задерживают в тюрьме по требованию охранного отделения. Конечно, именно охранное отделение было крайне заинтересовано в возможно более долгом оставлении Баумана в тюрьме. Стараясь оттянуть освобождение Баумана, прокуратура ссылалась на охранное отделение, а оно запрашивало департамент полиции.
Департамент не торопился с ответом. Как показывает секретная переписка департамента полиции с иркутским генерал-губернатором, петербургские жандармы задумали было сослать Баумана в Енисейскую губернию. И пока шла переписка между судебными органами Москвы и департаментом полиции Петербурга, Баумана продолжали держать в Таганской тюрьме. Его жену и всех арестованных в связи с его делом уже освободили. Лишь главного организатора подпольных типографий охранка держала весьма крепко.
Эта неизвестность, конечно, была крайне тяжела. Защитник вспоминает слова Николая Эрнестовича. «Пока мы сидели все вместе, а, главное, пока свобода мне представлялась чем-то далеким и недоступным, я чувствовал себя совершенно спокойным. Но когда уже состоялось определение о моем освобождении, я стал считать себя уже на свободе. Я думал, что зайду в свою камеру только на минуту, чтобы взять свои вещи. И опять быть запертым на неопределенный срок — это очень тяжело»{«Н. Э. Бауман (по воспоминаниям его защитника)». «Былое», 1926, № 1, стр. 125–126.}.
Департамент полиции, игнорируя решение судебной палаты, телеграфировал в тюрьму о «задерживании Баумана в порядке охраны». Жена Баумана поехала хлопотать в Петербург — в департамент полиции и в министерство юстиции. Вскоре она вернулась из Петербурга: ее заверили, что «Бауман будет вскоре освобожден», как только выяснятся «некоторые дополнительные обстоятельства».
«Но, — пишет защитник, — департамент полиции, быстрый на аресты, не особенно торопился исполнить свое обещание относительно освобождения Баумана, я не знаю вообще, был бы освобожден Бауман, если бы не события, страшные для правительства, которые уже не назревали, а властно чертили «на стене» «грозные буквы»{«Н. Э. Бауман (по воспоминаниям его защитника)». «Былое», 1926, № 1, стр. 125–126.}.
Осенью 1905 года вся Россия оказалась охваченной массовым движением рабочих и крестьян. С каждым годом в городах росли стачки, в деревнях развивалось широкое аграрное движение. Громадное влияние на дальнейший ход событий сказала стачка печатников, начавшаяся в Москве 19 сентября. К ней присоединились печатники Петербурга, Киева, Одессы, Смоленска и целого ряда крупных городов центрально-черноземной области Поволжья и Приволжья. Эта стачка вскоре охватила рабочих других профессий, превратилась в общую политическую забастовку. В первых числах октября началась забастовка рабочих и служащих Московско-Казанской железной дороги и с невиданной быстротой охватила весь Московский железнодорожный узел. К московским железнодорожникам с такой же небывалой в истории российских стачек быстротой присоединились железнодорожники всех дорог России. Транспорт оказался парализованным. Прекратились даже перевозки войск. Когда же к железнодорожникам присоединились работники телеграфа и почты, царское правительство увидело всю опасность своего положения. Пролетариат переходил в открытое наступление. Московский комитет партии публиковал в своих бюллетенях: «15 октября. Университет продолжает быть оцепленным войсками… 17 октября. В Межевом институте — общий митинг… 17-го бастовало в Замоскворецком районе 23.900 рабочих»{«Листовки московских большевиков 1905 г.». М., 1941, стр. 224–226.}. Такую же картину рисует в своих воспоминаниях и С. И. Мицкевич:
«…С начала сентября во всех высших учебных заведениях начались народные митинги, не только в Москве, но и во всей России. В Москве в это время было четыре высших учебных заведения (не считая Петровской сельскохозяйственной академии за городом): университет, Техническое училище в Лефортове, Институт инженеров путей сообщения на Бахметьевской и Межевой институт в Гороховском переулке. Все они открыли свои двери для широких масс. Начались в аудиториях лекции, доклады, речи, выступления ораторов разных партий, собрания профессиональных союзов, партийные конференции и совещания. Партийные организации делали то или другое учебное заведение своей штаб-квартирой. Большевики обосновались в Техническом училище…
Много докладов и лекций прочитали на этих митингах члены нашей группы… Вчера в Межевом институте и Инженерном училище состоялось три митинга… Было до тысячи человек»{С. И. Мицкевич. Революционная Москва (1888–1905). М., 1940, стр. 386–387.}.
Положение страны в те исторические дни исчерпывающе освещено товарищем Сталиным:
«Забастовка охватывала фабрику за фабрикой, завод за заводом, город за городом, район за районом. К бастующим рабочим присоединялись мелкие служащие, учащиеся, интеллигенция — адвокаты, инженеры, врачи.
Октябрьская политическая забастовка стала всероссийской, охватив почти всю страну, вплоть до самых отдаленных районов, охватив почти всех рабочих, вплоть до самых отсталых слоев»{«История ВКП(б). Краткий курс», стр. 74.}.
Эта все усиливающаяся борьба рабочего класса и вынудила царское правительство наконец-то освободить политических заключенных. Товарищ Баумана по заключению в Таганской тюрьме М. Сильвин под непосредственным впечатлением своих встреч с Николаем Эрнестовичем писал в «Новой жизни», выходившей в «дни свобод», в конце 1905 года:
«Грандиозность событий повлияла, невидимому, даже на жандармов. Они стали освобождать по 2 и по 3 человека в день, новых привозили все меньше… Мы вспоминали с ним (Бауманом. — M. H.) 1902 год. В то время шла горячая борьба с зубатовщиной, Московский комитет социал-демократов пытался противодействовать монархической демонстрации, организованной Зубатовым перед памятником Александру II. Условия работы были очень тяжелыми, листовки Московского комитета не смогли предотвратить этого затеянного зубатовскими агентами выражения «верноподданнических чувств». А теперь, всего лишь через три с небольшим года, революционная обстановка в корне изменилась: ни полиция, ни жандармерия уже не в силах задержать рабочую массу, рвущуюся на улицы с красными знаменами, флагами, политическими лозунгами.
Бауман был крайне рад развитию событий.
«Какой переворот!..» — говорил он, пока мы гуляли на тюремном дворе, делясь впечатлениями от потрясающих известий, приходивших «с воли»{«Новая жизнь», 1905, № 3, стр. 55.}.
Наконец, под давлением массового движения московских рабочих, требовавших освобождения политических заключенных, Николай Эрнестович 5 (21) октября 1905 года вышел из стен Таганской тюрьмы, где он пробыл с 19 июня (2 июля) 1904 года.
XIV. ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ
Бауман вышел из тюрьмы в исключительно напряженные, полные исторических событий дни: разгоралась всероссийская забастовка, рабочий класс открыто выступил на улицы, требуя уж не экономических уступок от предпринимателей, а политических свобод от правительства.
Начавшаяся в Москве 19 сентября забастовка печатников охватила ряд крупных заводов и фабрик.
Николай Эрнестович немедленно связался с Московским комитетом большевиков и был кооптирован в члены этого комитета.
МК большевиков работал в 1905 году весьма напряженно. «В незабываемых событиях 1905 г Москва, московский пролетариат, Московский Комитет большевиков, «один из образцовых комитетов нашей партии», как его назвал Ленин, заняли почетнейшее место. Общую оценку того, какое место заняла Москва в первой русской революции, дал Ленин в следующих словах: «Москва и Петербург поделили между собой честь революционного пролетарского почина».
Всей своей историей московская организация заслужила эту ленинскую оценку.
Несмотря на аресты членов организации и «особенно ее руководящего состава осенью 1904 года (что дало основание охранному отделению доносить в департамент полиции о «полной ликвидации» МК РСДРП), Московский комитет в 1905 году был, Вопреки стараниям охранки, восстановлен и вел напряженную работу. Разрастались, под влиянием общего подъема рабочих масс, низовые организации, насчитывающие в одной только Москве свыше тысячи организованных рабочих-большевиков»{«Листовки московских большевиков 1905 г.». М., 1941, стр. IV.}.
В первые дни после своего освобождения Бауман хотел отдохнуть, войти в курс событий — «осмотреться в обстановке», как он говорил товарищам по работе в МК большевиков. Но не такова была кипучая, боевая натура большевика-ленинца, прирожденного массовика-организатора, чтобы ограничиться только «ознакомлением с обстановкой». Уже на четвертый день по выходе из тюрьмы Бауман посещает рабочие собрания в Лефортовском и Сокольническом районах. Рабочие радостно приветствуют своего старого друга и руководителя. А Николай Эрнестович с неменьшей радостью видит, как далеко вперед шагнула революционная, рабочая Москва за те шестнадцать месяцев, которые он провел в стенах Таганской тюрьмы. Непрерывные митинги в высших учебных заведениях, остановка фабрик и заводов, агитация даже в воинских частях — все это захватывало своей новизной, широтой невиданного доселе размаха событий. Бауман посещает железнодорожные мастерские Курской дороги — один из наиболее революционных центров рабочего движения в смежном с Лефортовским районе. Где бы ни появился Бауман — всюду он видит картины, совершенно несравнимые с обстановкой июня 1904 года, когда Николая Эрнестовича арестовали и отправили в Таганскую тюрьму. Бастуют печатники, металлисты, работники связи, текстильщики… даже официанты присоединились к забастовавшим. На улицах и площадях — демонстрации, с пением революционных песен, с красными флагами, с антиправительственными лозунгами.
Полиция напрягает последние силы в бесплодных попытках остановить разлившиеся волны народного негодования.
В противовес рабочему движению в отдельных районах начинает поднимать голову черная сотня. Полиция и охранное отделение усиленно формируют отряды, подбирая головорезов, для «защиты царя-батюшки».
На Гавриковой площади издавна темнело большое серое здание хлебной биржи. Здесь «хлебные короли» вершили свои дела, поучали многочисленных весовщиков, надсмотрщиков и приказчиков, как надо «вести без убытка» торговые дела. С неистовой злобой вели они речи о забастовках, натравливая зависящих от них служащих и рабочих на революционеров, твердили о том, что «красные и студенты против бога и царя идут».
Но, конечно, эти заправилы и воротилы «большой коммерции» сами в открытых выступлениях против рабочих-демонстрантов не участвовали. Совместно с полицией купцы и домовладельцы, содержатели трактиров и чайных лишь вербовали черную сотню.
Они предпочитали загребать жар чужими руками, натравливая на революционеров деклассированных, опустившихся «на дно» уголовников, пропойц.
Царское правительство хваталось, как утопающий, за каждую соломинку, пытаясь в организации подонков, деклассированных элементов найти помощь и поддержку.
Вместе с тем оно решилось на издание пресловутого манифеста 17 октября, пытаясь этим шагом затормозить развитие революционных событий. Царизм надеялся выиграть время, перестроить ряды своих защитников и, выждав момент, нанести революции решительный удар. Николай II в лицемерных выражениях призывал своих подданных к спокойствию. Манифест 17 октября широковещательно обещал «незыблемые основы гражданской свободы», в том числе неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний… Ленин дал исчерпывающее определение этому хитрому шагу царизма: царь уже не может править страной при помощи грубой силы, вынужден обещать «гражданские свободы» и даже «законодательную думу».
«Самодержавие уже не в силах открыто выступить против резолюции. Революция еще не в силах нанести решительного удара врагу. Это колебание почти уравновешенных сил неизбежно порождает растерянность власти, вызывает переходы от репрессий к уступкам, к законам о свободе печати и свободе собраний»{В. И. Ленин, Соч., изд. 4, т. 9, стр. 363.} — писал В. К. Ленин.
Большевики с первого же момента появления манифеста призвали рабочие массы не верить ложным обещаниям царизма.
И Московский комитет, на заседаниях которого неизменно присутствовал Бауман, немедленно повел широкую агитационную работу о задачах партии, о задачах рабочих в эти решающие дни.
Глубоко вскрыта настоящая цель манифеста в прокламации Московского комитета большевиков:
«Товарищи! Наша грозная стачка нанесла ненавистному правительству страшный удар. Растерявшееся правительство хватается за единственное оставшееся у него средство, — оно бросается в объятия буржуазии и умеренно-либеральных его прислужников…
Наша стачка нанесла царскому правительству страшный удар, но вместе с тем она ярко доказала нам, что одной забастовкой убить его, стереть с лица земли нельзя. Оружие! Дайте нам оружие!..»{«Большевистские прокламации и листовки по Москве и Московской губернии:». М. — Л., 1926, стр. 301.}
Наступил день 18 (31) октября 1905 года.
В этот день по всей Москве произошли большие демонстрации рабочих, интеллигенции, служащих, учащейся молодежи. Трудящиеся требовали освобождения политических заключенных. Народ требовал выполнения, реального доказательства одной из обещанных манифестом 17 октября «свобод». Так как рабочие справедливо полагали, что правительство попытается всячески оттянуть освобождение политзаключенных, то демонстранты двинулись со всех концов Москвы к Бутырской и Таганской тюрьмам, где еще находилось большое число арестованных революционеров. В эти дни в Москве, по инициативе Московского комитета большевиков, уже возникали вооруженные дружины рабочих. В Лефортове дружинники практиковались в стрельбе на огромных пустырях неподалеку от Синичкина пруда, в больших подвалах Технического училища на Коровьем Броду. Создавались запасы оружия и патронов, главным образом револьверов системы «Смит и Вессон». Возникали своеобразные штабы боевых дружин, причем место для этих военных точек выбиралось с таким расчетом, чтобы можно было контролировать две-три улицы или площадь. Так, на углу Селезневской и Долгоруковской улиц, в больших подвалах отделения булочной Филиппова, обосновался штаб дружины и небольшой склад оружия. Место было выбрано удачно: обширный двор граничил с тремя улицами; кроме того, перебравшись через невысокий забор, дружинники могли свободно сообщаться с Косым переулком, где тоже образовалась «точка» вооруженных рабочих. Точно так же организовывалась дружина и на углу Ирининской улицы и в районе Немецкой улицы: здесь дружинники держали тесную связь с большевиками, прочно обосновавшимися в стенах Технического училища.
И когда из многих районов Москвы двинулись группы рабочих к стенам Бутырок и Таганки, в рядах демонстрации шли многочисленные представители различных московских фабрик, заводов, и предприятий — Густава Листа, Гужона, «Новый Бромлей», типографии Кушнерева, Миусского парка кондитерской фабрики «Реномэ».
Демонстранты запрудили улицы и переулки около тюрьмы, повсюду пение революционных песен, боевые лозунг«, флаги.
Участники этого похода московских рабочих пишут, что демонстрация растянулась от Страстного монастыря до Бутырок. Красные знамена развевались вокруг тюрьмы. Вышедшие из тюремных ворот политические были встречены «громким «ура». — Ура! — неслось по всей улице. Заключенных целовали, поднимали на руки. Предусмотрительно для многих захватили другую одежду и парики. Несмотря на «объявленные свободы», никто не был уверен в том, что это не будет нарушено через два дня.
В рядах рабочей демонстрации порядок поддерживали дружинники. Но оружия с собой почти никто не взял, — такова была директива руководителей колонн, чтобы избежать столкновения и кровопролития, если черносотенцы попытаются организовать контрдемонстрацию. Такие попытки, действительно, были и близ Бутырской и близ Таганской тюрьмы. Рабочие фабрик Сиу, «Дукат» и Брестских железнодорожных мастерских уже на обратном пути от Бутырской тюрьмы встретились с организованным полицией отрядом черной сотни. С пением «Спаси, господи» черносотенцы выступили вблизи Тверской улицы против рабочих: «черная сотня налезала на передние ряды демонстрации. Послышались первые выстрелы с их стороны. Ясно было, что стреляли не наши, а провокаторы. Оказались раненые. Тогда мы решились ответить градом камней. Нужно сказать, что огнестрельное оружие мы вообще, как правило, старались не применять». Рабочие фабрики Сиу зашли в тыл черносотенцам, и те поспешно бросились наутек. Рабочая колонна сумела пройти на Тверскую и разошлась по своим заводам.
Выступления черносотенцев против рабочих демонстраций, в связи с освобождением политических заключенных, прошли в тот день и в других районах. Особенно же трагически события развернулись в Лефортовском районе, на Немецкой улице… Получив ночью 17 (30) октября известие о манифесте, Московский комитет большевиков, помещавшийся в Техническом училище, решил на другой же день утром возглавить рабочую демонстрацию. Рабочие собирались итти к Таганской тюрьме — встречать освобожденных политических. МК решил показать рабочим, насколько нереальны широковещательные обещания царского манифеста. Вместе с тем поход рабочей демонстрации должен был показать готовность московского пролетариата к близким событиям…
И 18 (31) октября «с утра, как всегда в те дни, — вспоминает один из ближайших друзей Баумана, — все аудитории Технического училища были полны рабочими, слушавшими ораторов. Были мобилизованы все силы МК для успешного проведения приступа на московскую Бастилию. Все наши почти были в сборе. Среди нас был и «дядя Коля» — Николай Эрнестович Бауман… Настроен он был, как и всегда, жизнерадостно, и эта жизнерадостность передавалась всем его окружающим»{Сборник «Товарищ Бауман», изд. 2. М., 1930, стр. 83–85.}.
В это время в актовом зале Технического училища происходил громадный митинг: ораторы Московского комитета большевиков требовали немедленного освобождения всех политических заключенных.
К Бауману и М. Н. Лядову подошли товарищи и сообщили решение митинга: всем присутствующим итти в Таганскую тюрьму.
Громадное оживление, необыкновенный подъем духа царили и в до отказа набитых рабочими обширных аудиториях Технического училища и на дворе, где уже строились колонны с флагами, знаменами, плакатами.
«Свобода заключенным!..»
«Требуем всеобщей амнистии!..»
«Долой царский произвол!» — таковы были требования рабочих, наскоро написанные мелом на красных полотнищах.
Николай Эрнестович, только что сам покинувший стены тюрьмы, шел освобождать оставшихся ^ще там товарищей с необыкновенной радостью.
«Подумать только — идем открыто, во главе тысяч рабочих! И куда? — в тюрьму, освобождать друзей!.» — бросил он на ходу одному из своих спутников.
С. Черномордик (П. Ларионов) справедливо замечает, что «человеку подполья, каким был Бауман (и какими мы были все), имевшему до своего заключения дело с конспиративными кружками, группами и в лучшем случае «массовкой», где-нибудь в лесу, пришлось натолкнуться на невиданное до того в России явление — на всеобщую всероссийскую политическую забастовку, в которой участвовали миллионы рабочих. Для всех нас это было ново, но мы, принимавшие активное участие в подготовке этих событий, подошли к ним постепенно, так сказать, политически учились. В другом положении очутились товарищи, как Бауман, которые после долгого отрыва от партийной работы попали как бы из одной эпохи политической жизни в другую»{Сборник «Товарищ Бауман», изд. 2. М., 1930, стр. 83–84.}.
Вот почему в это утро, по свидетельству буквально всех окружавших его товарищей, Бауман был исключительно одухотворен, весел и жизнерадостен…
МК большевиков руководил движением огромной колонны. Впереди шла боевая дружина, которая должна была отразить возможное контрвыступление черной сотни. Угрозы черносотенцев были известны руководителям МК.
В Техническом училище на митингах присутствовали в одной-двух аудиториях и эсеры. Они вначале, при объявлении похода к тюрьме, выразили свое явное недовольство тем, что инициатива демонстрации принадлежит МК большевиков, и пытались было заявить свои претензии на руководство движением. Но рабочие указали «а их более чем скромное место, заявив, что «обойдутся и без их помощи и сочувствия».
Около двух часов дня демонстрация, насчитывавшая несколько тысяч рабочих, студентов, интеллигентов, тронулась от Технического училища к Таганке.
При самом начале шествия, когда демонстрация выходила на Коровий Брод, произошел характерный эпизод, сильно поднявший и без того боевое настроение рабочих: демонстрацию приветствовали из своих казарм солдаты резервного батальона. Вместо выстрелов со стороны солдат раздались сочувственные возгласы!.. Один из руководителей колонны, подбежав к казармам поближе, произнес краткую, но сильную речь, убеждая солдат пойти вместе с рабочими «освобождать своих братьев, долго томившихся в царских застенках за наше общее дело». Однако солдаты жестами показали, что офицеры не выпустят их из казарм.
Демонстрация направилась на Немецкую улицу (ныне улица Баумана). Николай Эрнестович шел в первых рядах демонстрации. Он очень сожалел, что не удалось присоединить к рабочей колонне и солдат-резервистов. Впереди, у фабрики Дюфурмантеля, виднелась группа рабочих.
— Они пойдут вместе с нами!.. — воскликнул Николай Эрнестович и быстро направился к фабрике. Он сильно торопился, чтоб не отстать от двинувшейся дальше демонстрации. В это время по улице проезжал извозчик — большая редкость в те дни, когда, при объявлении всеобщей забастовки, бастовали и извозчики. Бауман на ходу вспрыгнул на пролетку, торопясь к толпе рабочих. Один из демонстрантов успел передать Николаю Эрнестовичу красное знамя.
— Не пройдет пяти минут, как я буду с вами!.. — крикнул, уезжая, Бауман.
И в памяти участников демонстрации навек запечатлелось: «одухотворенный «дядя Коля» на извозчике с развевающимся красным знаменем в руках. Все повернулись направо, устремивши свой взгляд к «дяде Коле» в ожидании возвращения его с рабочими»{Сборник «Товарищ Бауман», изд. 2. М., 1930, стр. 85.}.
Но в этот момент из ворот близ фабрики Щапова{Фабрика Щапова — ныне «Красная работница», фабрика Дюфурмантеля — «III конгресс Профинтерна».}, как шакал, выскочил «»перерез извозчику черносотенец Михалин. Он служил хожалым{Хозяйский надсмотрщик за порядком в рабочих общежитиях, на фабричном дворе а т. п.} на фабрике Щапова и был завербован приставом 2-й Басманной части в «патриотическую», то-есть черносотенную, организацию для нападения» на «красных». Он трусливо озирался на удалявшуюся демонстрацию, сжимая в руке тяжелый отрез водопроводной трубы.
Миг — и Михалин, подбежав сзади к пролетке, ударил Баумана в голову…
Николай Эрнестович упал… красное знамя покрыло его.
Убийца стремглав бросился к поджидавшим в воротах сообщникам.
Но со всех сторон уже бежали рабочие, видезшие трагическую картину нападения черносотенца. Тогда Михалин направился в надежное укрытие — в полицейский участок. Вслед трусливо бежавшей черной сотне раздались револьверные выстрелы. Рабочие выбежали из рядов колонны, бросились к пролетке, в которой лежал их товарищ и руководитель.
Друзья подняли Николая Эрнестовича на руки и понесли в ближайшую амбулаторию, чтобы оказать ему первую медицинскую помощь. Н. Э. Бауман лишь слабо хрипел и изредка тяжело вздыхал… жизнь угасала…
В амбулатории фельдшер Константинов{В беседе с автором этой работы тов. Константинов, работавший в тридцатых годах в ВТУ имени II. Э. Баумана, вспоминал, что «удар был смертельным: в большой, раздробленной раме виднелся поврежденный мозг. Николай Эрнестович умер почти на моих руках…»} пытался помочь тяжело раненному, но все средства были бессильны… Николай Эрнестович, не приходя в сознание, через несколько минут скончался.
В колонне шла жена Николая Эрнестовича. Узнав о трагическом событии, она вначале как бы оцепенела… Затем, поняв ужас совершившегося, она собрала всю силу воли и вместе с ближайшими друзьями понесла труп Николая Эрнестовича в Техническое училище. Красное знамя, которое Бауман так недавно еще высоко поднимал над рядами рабочей колонны, теперь покрывало его бездыханное тело…
«Труп Баумана внесли в Техническое училище, — вспоминает один из очевидцев убийства Баумана. — Рядом с носилками шла совершенно окаменевшая жена Баумана, тов. Ирина (партийная кличка). Едва успели поставить носилки, как вдруг она обратилась к собравшейся толпе с потрясающей речью. Эта женщина-революционерка, свежее горе которой могло выразиться революционным призывом к толпе, эта женщина, которая свой плач над трупом мужа обратила в революционный клич, произвела сильное впечатление на всех собравшихся».
Не прошло и нескольких часов, как в Техническое училище стали звонить по телефону из университета, с различных фабрик и заводов Сокольнического, Лефортовского, Замоскворецкого районов, из подмосковных железнодорожных мастерских, из Петровской сельскохозяйственной академии. Вскоре на дворе училища появились группы рабочих, пришедших отдать последний долг своему погибшему другу и товарищу.
Суровы и грозны были лица рабочих с заводов Гужона, Густава Листа. Они пришли одними из первых и тут же, у тела предательски убитого Баумана, поклялись отомстить за смерть своего любимого «Ивана Сергеевича», «дяди Коли»- А к вечеру 19 октября (1 ноября) «асе университетские аудитории на Моховой были набиты доотказа массой рабочих, студентов, интеллигенции, всюду говорили о Баумане, речи ораторов дышали ненавистью к поработителям, раздавались требования беспощадной мести за смерть большевика — за убийство Баумана»{Сборник Н. Э. Бауман»., изд 2. М., 1937 стр. 27.}.
Тысячи рабочих, учащихся, ремесленников, интеллигентов устремились по окончании митингов из центра города к Техническому училищу. Здесь, в актовом зале, на простом столе, лежал, покрытый алым полотнищем, погибший большевик… Рядом стоял столик, на который приходившие труженики Москвы клали деньги, — все знали, что они пойдут на вооружение рабочих дружин, для отпора подлым вылазкам черносотенцев. В соседней аудитории шили большое красное покрывало на гроб и траурные черно-красные флаги. У изголовья виднелось большое красное знамя. На нем горели золотые буквы:
Погибшему борцу за свободу От рабочих фабрик и заводов.Многочисленные делегации проходили в торжественно-скорбной тишине мимо погибшего борца, низко наклоняли знамена, приносили новые и новые венки. Венков было так много, что не только изголовье погибшего большевика, но и весь стол вскоре был покрыт ковром живых цветов…
Рабочие вполголоса расспрашивали друзей Баумана о подробностях убийства, клялись, что черная сотня поплатится за этот подлый выпад, спрашивали о дне похорон. Вопрос о похоронах обсуждали члены МК большевиков.
Полиция и жандармерия всеми средствами пытались не допустить публичных похорон, которые неминуемо должны были превратиться в грандиозную демонстрацию. Не решаясь послать за трупом Баумана наряд полиции, так как вокруг Технического училища дежурили вооруженные отряды рабочих, поклявшихся пронести гроб убитого ленинца по всей Москве, полиция решила применить обходный маневр. В Техническое училище явился полицейский пристав, заявивший членам Московского комитета большевиков, что для предания убийцы Баумана суду необходимо труп убитого подвергнуть вскрытию, так как «это требуется по правилам судебного следствия». Товарищи Н. Э. Баумана разгадали этот ход полицейских властей, и пристав вынужден был, после краткого и категорического ответа членов МК, весьма поспешно покинуть здание Технического училища.
Московский комитет большевиков постановил: похороны любимого московскими рабочими большевика-ленинца должны послужить поводом к решительному, гневному выступлению пролетариата.
«Убитый Бауман должен еще раз повести за собой толпу, как не раз вел ее живой!» — решили друзья и соратники верного ленинца.
XV. ПОХОРОНЫ БОЛЬШЕВИКА
Площадь перед Техническим училищем, прилегающие переулки, улицы — все заполнено рабочими. Даже из отдаленных Хамовнического и Пресненского районов еще с утра 20 октября (2 ноября) — день похорон Н. Э. Баумана — стали прибывать делегации многих фабрик и заводов. Тесными рядами, плечо к плечу, с траурными флагами и красными знаменами, перевитыми крепом, входили во двор Технического училища рабочие заводов Густава Листа, Гужона, «Нового Бромлея», «Богатырь», железнодорожных мастерских, типографий.
Серьезны и строги лица пришедших отдать последнюю почесть своему любимому «дяде Коле».
Весть о злодейском убийстве верного ученика Ленина, как на крыльях, облетела всю рабочую Москву — от Благуши до Замоскворечья и от Сокольников до Пресни. И везде раздались громкие голоса протеста, везде гневом и негодованием зажглись сердца рабочих. Даже из окрестных городов — из Орехово-Зуева, Шуи, Серпухова, Павлово-Посада — были присланы на похороны Баумана делегации с венками и флагами. Революционно настроенная интеллигенция, союзы служащих различных профессий, студенческие организации — все спешили примкнуть к рабочим колоннам. Вскоре вокруг Технического училища скопилось несколько тысяч демонстрантов. В Лефортовском, Сокольническом районах, а также на Пресне и в Хамовниках рабочие десятков фабрик и заводов в знак протеста против подлой вылазки черносотенцев направились на похороны.
Организованно, плотными рядами шли к Техническому училищу рабочие делегации с далекой Пресни и из Хамовников. Над ними развевались знамена и наспех написанные огромными четкими буквами лозунги:
«Долой самодержавие!»
«Долой подлых убийц:»
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
«Да здравствует диктатура пролетариата!»
«Смерть царизму и его агентам!»
Красные ленточки, красные цветы, чаще всего бумажные, виднелись на отворотах пиджаков и на пальто рабочих. Решение Московского комитета большевиков о превращении похорон Баумана в грандиозную политическую демонстрацию вызвало единодушный отклик трудовой Москвы — с каждым часом прибывали и прибывали рабочие, студенты, интеллигенты.
В полдень в зале Технического училища, где стоял гроб с телом Баумана, состоялась последняя гражданская панихида.
Медленно, под звуки оркестра, игравшего траурный марш, подняли члены Московского комитета большевиков покрытый широким яркокрасным полотнищем гроб Баумана.
Тысячи голов склонились перед прахом верного ленинца, когда гроб показался в дверях старинного здания Технического училища.
В. Л. Шанцер (Марат) произнес последнюю речь. От волнения и скорби о погибшем соратнике он говорил прерывающимся, глухим голосом:
— Прощай, наш дорогой товарищ, наш друг!..
Выстроились рабочие колонны. Рабочие образовали прочную двойную цепь с обеих сторон колонны, крепко взяв друг друга за руки. Можно было опасаться предательского нападения черной сотни из-за угла — многочисленные узкие и кривые переулки давали полиции и провокаторам возможность внезапного налета, создания паники. Руководители похорон, члены Московского комитета, приняли все меры предосторожности. Процессия вышла из Технического училища около часу дня и через Красные ворота, Мясницкую улицу и центр города направилась к отдаленному Ваганьковскому кладбищу.
Во главе шли члены Московского комитета большевиков, принявшие все меры к организованному, внушительному движению этой невиданной в истории Москвы демонстрации рабочего класса. Красное знамя на двух древках с надписью: «Порядок охраняют граждане», было видно издалека. И участники похорон Баумана обеспечили строгий порядок. Громадная, все увеличивающаяся толпа была разделена на десятки. Десятки составляли группы в 200–300 человек. Такая организация шествия лучше всего обеспечивала порядок и служила надежной защитой от возможных провокационных нападений черносотенцев.
Большое красное бархатное знамя Московского комитета большевиков, с золотой каймой, золотыми кистями, реяло над процессией. Оно, как бы указывало путь десяткам и сотням тысяч московских рабочих, пришедших отдать последние почести, последний долг одному из своих самых верных товарищей…
Гроб попеременно несли члены МК большевиков — распорядители демонстрации. Группа военных, присоединившаяся к похоронной процессии и все время шедшая неподалеку от знамени МК, также несла гроб в районе Красных ворот и Мясницкой улицы. Это объединение рабочих и солдат производило большое впечатление на всех участников демонстрации. Впереди и сзади процессии шли летучие отряды студентов-медиков с повязками красного креста на рукавах. В самом конце ехали три фуры «Красного креста» Старо-Екатерининской больницы. Заводы, фабрики, мастерские, больницы, школы — десятки учреждений и предприятий Москвы старались хоть чем-нибудь принять участие в похоронах верного сына партии пролетариата. Остановки в движении процессии производились по указанию распорядителей.
Градоначальник пытался было «убедить» руководителей похорон «не следовать, для безопасности провожающих, через центральные улицы», но большевики уведомили градоначальника, что он на этот раз напрасно беспокоится о безопасности десятков тысяч московских рабочих. Если же последуют новые насилия со стороны полиции или руководимых ею убийц, то рабочие сумеют дать должный отпор. И градоначальник должен был, увидев огромный размах протеста рабочих, отступить от своего «предостережения-совета». На протяжении всего пути демонстрация не встретила препятствий со стороны напуганных властей.
Городовые, филеры, жандармы, казаки — все слуги самодержавия были буквально смыты разгневанным рабочим морем. Московский пролетариат под руководством большевиков впервые в истории своей борьбы стал фактическим хозяином города. Во время похорон Баумана — с полудня до глубокого вечера — рабочие шагали по центральным улицам столицы с развернутыми красными знаменами, с революционными лозунгами и песнями.
На пути шествия демонстрации к рабочим колоннам подходили все новые пополнения. Присоединялись не только рабочие и студенты, — подошло еще несколько делегаций от воинских частей, а это по тому времени было весьма важным показателем.
Одна из участниц похорон Баумана вспоминает: «Вот усеяли весь забор железнодорожники Московско-Казанской линии и ждут. Чего они хотят? Присоединятся или нет? С таким внутренним вопросом встречалась всякая новая, неизвестная группа. Но только поравнялась с ней процессия — «Ура!» — и она вливается в наши ряды за красным гробом.
А вот отряд солдат-саперов смело марширует по направлению к нам и занимает место около самого знамени МК. Их особенно приветствуют демонстранты».
Из Петровской сельскохозяйственной академии приехали студенты и немедленно присоединились к траурной процессии. У многих из них были в руках внушительного размера палки, похожие скорее на дубины, и крепкие, рослые петровцы посматривали на ворота и в переулки, готовясь дать отпор черносотенцам, если те вздумали бы напасть на окружающих гроб руководителей похорон. Студенты Петровской сельскохозяйственной академии не раз уже вступали в настоящие сражения с полицией, и поэтому шпики и дворники хорошо знали, какую силу представляют в руках «земледелов» их традиционные, весьма солидного вида, палки. При приближении траурной процессии к Земляному валу, к ней присоединился новый отряд — студенты Межевого института.
Когда процессия проходила мимо чайной, где обычно ютились черносотенцы, кто-то сообщил руководителям похорон, что там затаилась засада под руководством переодетых полицейских. Немедленно члены МК большевиков направили в эту чайную отряд дружинников-большевиков. Дружинники вошли в чайную, держа под полой маузеры. Это предостережение подействовало: ни «молодцы» «королей» Гавриковой хлебной биржи, ни черная сотня из чайных Разгуляя и Елоховской не посмели напасть на демонстрацию всей рабочей Москвы. Полицейские поспешно покидали свои посты при приближении процессии. Улицы не вмещали многотысячные колонны демонстрантов, — балконы, даже крыши домов были полны народа.
Вы жертвою пали в борьбе роковой Любви беззаветной к народу…—пела многотысячная рабочая масса.
Настанет пора — и проснется народ, Великий, могучий, свободный Прощайте же, братья, — вы честно прошли Свой доблестный путь благородный!..Трудно в точности указать, сколько человек участвовало в похоронах Баумана. Все источники — и архивные материалы и опубликованные воспоминания участников похорон — указывают, что число демонстрантов превышало двести тысяч человек. В самом деле, о грандиозности процессии можно судить даже по одному красноречивому факту: когда передние ряды колонны шли уже по Большой Никитской (теперь улица Герцена), последние шеренги демонстрантов находились еще у Красных ворот. Поэтому нельзя считать преувеличением цифру в двести тысяч человек рабочих, студентов, интеллигентов, служащих, следовавших за гробом Баумана.
По мере приближения к центральным площадям города демонстрация приобретала все более внушительные размеры.
Траурные флаги, алые знамена появились на балконах и в окнах некоторых домов на Мясницкой и Никитской улицах, на Театральной площади.
Рабочие многих замоскворецких фабрик и заводов, мастерских Брянского, Александровского вокзалов поджидали траурную процессию неподалеку от Большого театра. Они решили присоединиться к своим товарищам в полном боевом порядке. Здесь же остановились делегаты многих городов. Вот живое свидетельство участника демонстрации.
«На Театральной площади стоял длинный ряд делегаций с венками.
Совершенно неожиданно вижу в этом ряду своего знакомого из Саратова.
— Вы как? — спрашиваю.
— Делегатом на похороны из сараевской парторганизации».
По дороге все время присоединялись новые и новые делегации, рабочие приносили новые венки, траурные флаги с самодельными, но искренними, скорбными надписями. «Трогательное впечатление, — пишет один из участников похоронной процессии, — производило множество маленьких простых венков, несомых на высоких древках, очевидно, от рабочих отдельных фабрик и групп». Не было, кажется, ни одной московской фабрики, ни одного завода, не приславшего со своей делегацией венок. Невозможно было прочитать и запомнить эти сотни траурных дат и надписей: от Московско-Казанской железной дороги, от Курских железнодорожных мастерских, печатников Лефортовского района, булочников Мясницкой части, рабочих заводов — «Новый Бромлей», Густава Листа, Гужона, «Богатырь» и т. д.
Над необъятной, неоглядной толпой реяли звуки революционных, боевых песен. Тысячи голосов пели «Марсельезу», «Варшавянку», «Красное знамя». Несколько оркестров играли похоронные марши.
Когда демонстрация от университета повернула по Никитской улице к Ваганьковскому кладбищу, оркестр и хор Московской консерватории в полном составе вышли навстречу профессии. Дирижер взмахнул рукой, и совершенно неожиданно, покрывая весь шум манифестации, летя ввысь выше толпы, выше реющих знамен, уносясь в синеву неба, зазвучали величавые и торжественные звуки похоронного марша:
Вы жертвою пали в борьбе роковой Любви беззаветной к народу…Процессия остановилась, как один человек, остановилась без всякой команды.
Молодые, свежие, прекрасно обученные голоса под стройный аккомпанемент великолепного оркестра консерватории, сливаясь с общим настроением и как бы вторя ему, звенели в воздухе:
Вы отдали все, что могли, за него, За жизнь его, честь и свободу.…Все стояли, как зачарованные… И затем тихо тронулись дальше…»{«Былое», 1926, № 1, стр. 90.}
Все дальше и дальше двигалась процессия по Никитской, потом по Пресне.
Вот уж виднеется, в дрожащих отблесках факелов, ограда Ваганьковского кладбища…
И, как бы по невидимому знаку, сначала окружавшие гроб Баумана товарищи-друзья, а затем и все ближайшие сотни, тысячи рабочих тихо и скорбно запели любимую песню Ленина «Замучен тяжелой неволей». Эта песня более всего была уместна именно здесь, на похоронах его верного ученика и соратника…
В борьбе за народное дело Ты голову честно сложил… Служил ты недолго, но честно Для блага родимой земли… И мы, твои братья по делу, Тебя на кладбище снесли, —пели провожавшие Николая Эрнестовича большевики, его друзья по подпольным кружкам, по подпольным массовкам. Грозно и сурово, как вызов врагу, и вместе с тем как великое пророчество, как непреодолимая уверенность в близкой победе звучали заключительные слова траурной песни:
Но знаем, как знал ты, родимый, Что скоро из наших костей Подымется мститель суровый И будет он нас посильней!Когда грандиозная процессия подошла к Ваганьковскому кладбищу, было уже больше восьми часов вечера.
Медленно несли красный гроб Баумана его друзья и товарищи и в полном молчании остановились у вырытой могилы. Она находилась довольно далеко от входа на кладбище, почти на самом его краю, вблизи подъездных путей железной дороги.
На кладбище вошли распорядители похорон и члены партии, ближайшие друзья и родственники Баумана. Громадное большинство провожающих не смогло войти на кладбище. Рабочие теснились у ограды, влезали на деревья, чтобы хоть издали взглянуть на погребение, послушать отрывки прощальных речей.
Наступила последняя минута…
После прощания жены и родных с покойным гроб медленно, под звуки похоронного марша, опустили в могилу. Целый холм живых цветов, венков, знамен вырос на месте могилы.
Первым у могилы говорил В. Л. Шанцер (Марат). Его речь звучала сильно, взволнованно.
— Мы опускаем в могилу гроб одного из передовых бойцов за права пролетариата. Всю жизнь он боролся за эти права и не переставал бороться тогда, когда бывал в тюрьме или ссылке. Как только ему удавалось вырваться на свободу, он опять был на своем посту!..
Оратор вкратце осветил важнейшие вехи славного жизненного пути погибшего большевика: работу Николая Эрнестовича в ленинской «Искре», его участие во II съезде партии…
Проникновенно звучали слова о твердом, непоколебимом большевике, ни разу не отступившем перед трудностями подпольной работы, крепостной одиночки, ссылки, высылки по этапу, тюрьмы…
Затем у могилы появилась жена Баумана. Она произнесла исключительно сильную речь, призывая рабочих Москвы продолжать борьбу за то дело, которому верно служил, за которое сражался всю свою жизнь Николай Эрнестович.
«Перед вами женщина, оплакивающая не только мужа, но и друга, товарища, в котором она всегда находила поддержку в борьбе. Я плакала здесь, как человек, потерявший одну сторону своей жизни — личную жизнь, — с необычайным подъемом говорила К. Медведева. — Враги хотели нам нанести ущерб этой смертью, совершенной наемным убийцей, но вышло наоборот. Несметная толпа пролетариата вышла на улицу, организовалась там, произвела грандиозную манифестацию… она расправила крылья и показала свои силы врагам!..»{«20 октября 1905 г. (речь жены Баумана на его могиле)». М., 1905, стр 3.} Это выступление жены погибшего большевика произвело на присутствующих незабываемое впечатление…
Среди густой тьмы яркими световыми пятнами выделялись то там, то здесь группы рабочих, — в руках их горели факелы, фонари, у многих — простые стеариновые свечи.
Поэт Максим Горемыка (М. Л. Леонов) с подъемом прочел свое стихотворение «Памяти борца (Н. Э. Баумана)»:
В дни движения народного С нами нет тебя, свободного. Мы над раннею могилою Вдохновимся новой силою!..Затем выступило еще несколько друзей и товарищей. Во всех речах звучала скорбь о трагически прервавшейся жизни пламенного большевика, звучали призывы к восстанию, к отмщению.
В последний раз низко-низко, до самой земли, склонились знамена, отзвучали аккорды траурного марша…
Участники процессии расходились так же организованно, как и шли сюда через весь огромный город. Ни полиции, ни черносотенцев вокруг кладбища не было видно.
И лишь поздним вечером черная сотня и царские слуги осмелели. Большая группа рабочих, интеллигентов, студентов возвращалась по Большой Никитской улице, направляясь в Замоскворечье мимо Долгоруковского переулка, манежа и университета. Было уже совсем темно, тускло мерцали фонари у огромного, длинного здания манежа. Участники демонстрации шли тихо, невольно вновь и вновь возвращаясь в своих думах к засыпанной венками и цветами могиле Николая Баумана…
Внезапно раздался выстрел, — явно с провокационной целью. Стреляли со стороны университета. И вдруг из манежа, словно дождавшись этого момента, выскочили затаившиеся там казаки и полицейские. Через минуту залп, а затем частые одиночные выстрелы прорезали тишину глубокого вечера. Вновь раздался залп, другой… Стреляли на близком расстоянии в толпу народа, теснившуюся у ворот университетского двора. Ворота оказались по чьему-то приказанию запертыми. Раздались отчаянные крики, стоны раненых, полилась кровь… Некоторые пытались перелезть через высокую металлическую решетку университетского двора, но падали убитыми или ранеными… Расстрел безоружных продолжался несколько минут.
Это новое злодейское преступление царского правительства вызвало огромную волну возмущения не только среди трудящихся Москвы, но и по всей России.
В пламенных листовках, выпущенных через несколько дней, Московский комитет большевиков призывал рабочих Москвы к отмщению, к дальнейшей борьбе с правительством, подсылающим из-за угла наемных убийц:
«Товарищи!
18 октября у Технического училища убит Николай Эрнестович Бауман, наш товарищ социал-демократ, талантливый и смелый партийный работник, только на-днях освобожденный из Таганской тюрьмы, где он просидел около полутора лет…
Мщение, товарищи!.. Вот как борется с нами наш царь, на душе которого уже миллионы убийств, вот как действуют его наемники, убивающие нас за деньги из-за угла!..
Готовьтесь к вооруженному восстанию, товарищи!..»{«Листовки московских большевиков 1905 г.» M. 1941 стр. 229–230.}
В другой листовке МК отмечал значение похорон Баумана и звал рабочих на дальнейшую борьбу: «Товарищи!
Московские рабочие и все население никогда не забудут день 20 октября. Мы хоронили одного из наших вождей, товарища Баумана, предательски убитого царским черносотенцем. Но печальная похоронная процессия превратилась в торжественное победное шествие организованного пролетариата, всеми признанного творца и вождя великой русской революции. С десятками красных знамен, с нашими грозными песнями шли мы через всю Москву, шли стройными рядами, смело и гордо, и сотни тысяч московского населения приветствовали нас».
Далее в листовке освещалась картина расстрела безоружных около университета, когда «толпа ночных убийц стреляла в темноте из засад». Листовка заканчивалась гневным призывом: «Теперь весь мир убедился, что мы были правы, требуя революционного устранения всей царской администрации, начиная с самого царя и кончая последним городовым. И мы добьемся этого, товарищи, добьемся вооруженной рукой!..»{«Большевистские прокламации и листовки по Москве и Московской губернии». М.—Л., 1926, стр. 345–346.}
И действительно, кровь большевика Баумана и жертв расстрела демонстрантов, участников похорон, еще крепче спаяла рабочих Москвы с ее передовым отрядом — партией пролетариата.
XVI. В ПОБЕДНЫЕ ДНИ ОКТЯБРЯ
Шли годы.
Это были годы самой тяжелой, самой свирепой, столыпинской реакции, когда в России «черносотенный террор свирепствовал во-всю. Царский министр Столыпин покрыл виселицами страну. Было казнено несколько тысяч революционеров. Виселицу в то время называли «столыпинским галстуком»{«История ВКП(б) Краткий курс», стр. 94.}.
Рабочий класс, потерпев временное поражение в революции 1905 года, отступил с боем и накапливал силы для нового, победоносного наступления.
И. В. Сталин, оценивая события 1905 года, указывал: «Нет, товарищи! Российский пролетариат не разгромлен, он только отступил и теперь готовится к новым, славным боям. Российский пролетариат не опустит обагренного кровью знамени, он никому не уступит руководства восстанием, он будет единственным достойным вождем русской революции»{И. В. Сталин, Соч., т. 1, стр. 205.}. Партия большевиков «неустанно собирала силы для нового подъема революционного движения». Великие вожди партии Ленин и Сталин — неустанно работали над укреплением боеспособности партии пролетариата, над расширением ее влияния на массы, над укреплением тесных связей партии с массами трудящихся. «Нас недаром прозвали твердокаменными», — говорил Ленин о большевиках.
В апреле 1912 года рабочий класс начал переходить в наступление: расстрел безоружной толпы венских шахтеров вызвал мощный протест рабочих всех районов России. Это был ураган, всколыхнувший «успокоение», о котором трубили столыпинские усмирители. И товарищ Сталин в своей знаменитой статье «Тронулась!..», помещенной в газете «Звезда», гениально предвидя события, писал:
«Ленские выстрелы разбили лед молчания, и — тронулась река народного движения. Тронулась!..»{И. В. Сталин, Соч, т 2, стр. 238.}
Рабочий класс вновь встал плечом к плечу, вспоминая недавние годы открытых выступлений против царизма. Рабочие всей России и в особенности Москвы помнили как свою первую победу незабываемый день похорон Баумана — демонстрацию протеста. И рабочие вновь и вновь шли на далекое Ваганьково… Могила Баумана для московского пролетариата стала символом новых, грядущих боев.
Убийство и в особенности похороны твердокаменного большевика еще более сплотили пролетариат с его передовым отрядом — партией большевиков. Ц. С. Зеликсон-Бобровская пишет, что «кровь Николая Баумана сцементировала рабочий класс и трудящихся Москвы с московской большевистской организацией, поведшей их через ряд испытаний к другому октябрю — к победному Октябрю 1917 года»{Ц. С. Зеликсон-Бобровская. Незабываемые встречи. Воспоминания о Ленине. М., 1947, стр. 44–45.}. Рабочие Москвы и всей России увидели, кто действительно борется не на словах, а на деле за победу пролетариата, за его ведущую роль в надвигающейся революции. Похороны Баумана, когда буквально вся рабочая революционная Москва шла в колоннах нескончаемой процессии, всколыхнули московский пролетариат. В отчетах районных комитетов большевиков сообщалось, что после демонстраций-похорон «наша партия приобрела еще большее влияние на московских рабочих», что «похороны большевика-ленинца Баумана значительно укрепили наши связи с рабочей массой». Рабочая Москва стала охотнее прислушиваться к большевистским лозунгам — таковы многочисленные отзывы районных партийных работников 1905–1907 годов.
Ежегодно, в первомайские дни и в годовщину похорон своего любимого руководителя и друга, московские рабочие небольшими группами, по три-четыре человека, пробирались на Ваганьково. Бережно и любовно украшали они могилу Баумана алыми и красными цветами. Полиция запрещала какие-либо сборища, речи. Более того, сторожам кладбища был отдан строжайший приказ: не допускать возложения венков и цветов на могилу. Правительство боялось нового взрыва рабочего гнева и старательно пыталось уничтожить все проявления памяти трудящихся Москвы о их верном товарище.
Но вновь и вновь появлялись у могилы, на ближайших дорожках, как капли свежей крови, красные гвоздики, алые розы и огненные маки. Девушки-работницы с Пресненской мануфактуры, пожилые металлисты от Гужона и Густава Листа, наборщики, железнодорожники — все считали своим почетным долгом навестить могилу «дяди Коли».
Между ушедшим в грозные дни 1905 года бойцом и борющимися за его дело оставшимися на боевых постах товарищами-рабочими протянулись крепкие, незримые нити. Рабочая Москва помнила о Баумане; с негодованием и ненавистью вспоминали рабочие о подлой вылазке черносотенца{Михалин был осужден Московским окружным судом лишь к тюремному заключению на полтора года. Но уже через 5.месяцев Николай II его помиловал. Лишь в двадцатых годах убийца-черносотенец был обнаружен органами ГПУ и понес заслуженную кару.}.
На подпольных собраниях, на маевках в Сокольниках в 1910–1912 годах, когда в Москве вновь и вновь разрасталась стачечная волна, рабочие с любовью и уважением произносили имя Николая Эрнестовича Баумана.
И с особой силой эта кровная связь московского пролетариата с деятельностью верного ученика Ленина сказалась в Октябрьские дни 1917 года.
Московский комитет РСДРП(б) на заседании (под председательством М. Ф. Владимирского) 20 октября (2 ноября) в годовщину похорон Баумана, рассмотрел вопрос «о чествовании памяти т. Баумана». Исполнительная комиссия Московского комитета предложила делегировать от МК двух товарищей на Ваганьковское кладбище: «со всех сторон идут делегации… у могилы т. Баумана будет устроен митинг».
И в воскресенье 23 октября (5 ноября) 1917 года, за два дня до получения из Петрограда первой вести о начавшихся боях за власть Советов, на Ваганьковском кладбище произошло волнующее, знаменательное событие.
По постановлению Пресненского районного совета многие фабрики и заводы отправили делегатов-рабочих в Ходынские казармы. Рабочие несли знамена с надписями: «Да здравствует единение рабочих и солдат!»
На грандиозном митинге выступили ряд ораторов. И рабочие и солдаты говорили о своей готовности пойти в бой за победу рабоче-крестьянской власти.
А затем с Ходынского поля «огромная процессия выстроившихся солдат с оркестром музыки, вместе с рабочими делегациями, в пятом часу двинулась на Ваганьковское кладбище, на могилу г. Баумана.
…Под звуки похоронного марша клялись рабочие и солдаты умереть за дело революции!..
Эта картина единения рабочих и солдат, их клятвы на могиле борца никогда не изгладятся из памяти участников шествия»{Документы Великой пролетарской революции (сост. г. Костомаров), т. 11. M., 1948, стр 46.}.
Свое слово пролетарии Москвы сдержали. Через несколько дней из-за подъездных путей Брестской железной дороги, вблизи от кладбища, артиллеристы, перешедшие на сторону большевиков, наводили орудия на позиции юнкеров у Кудринской площади.
Орудийные удары гулко разносились по всей Москве…
Пролетариат шел в свой последний, решительный бой.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н. Э. БАУМАНА
1873. 17 (29) мая. Рождение Н. Э. Баумана в Казани.
1881. Поступление в приготовительный класс второй Казанской мужской гимназии.
1887. 4 (16) декабря. Выступление В. И. Ленина на демонстрации в Казанском университете.
1888–1889. Организация в Казани рабочего кружка H. E. Федосеевым.
1891. Н. Э. Бауман уходит из 7-го класса гимназии и поступает в Казанский ветеринарный институт.
1892. 1 (13) мая. H Э. Бауман участвует в первой рабочей маевке (в Адмиралтейской слободке Казани).
1892–1893. Н. Э. Бауман и А. М. Стопани работают в подпольных рабочих кружках Казани.
1893. Н. Э. Бауман организует выступления студентоз ветеринарного института на похоронах студента Аполлонова — бывшего сельского учителя.
1893 (декабрь) — 1894 (январь). H Э. Бауман вместе с В. Г. Сущинским посещает крестьян села Ромодан Спасского уезда Казанской губернии.
1895. Окончание Н. Э. Бауманом ветеринарного института.
1895 (весна) — 1896 (осень). Н. Э. Бауман работает участковым ветеринарным врачом в селе Новые Бурасы Саратовского уезда Саратовской губернии.
1896. Январь. Н. Э. Бауман знакомится с И. Н. Белокуровым — организатором крестьянской библиотеки в селе Павловском Саратовского уезда.
1896. 1 (13) мая Н. Э. Бауман организует среди местных крестьян празднование 1 мая.
1896. Осень. Отъезд H. Э Баумана в Петербург.
1896 (осень) — 1897 (весна). Н. Э. Бауман работает в «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса» в Петербурге.
1897. 21 марта (2 апреля). Арест Н. Э. Баумана в Петербурге.
1897. 22 марта (3 апреля) — 22 января (3 февраля) 1899. Заключение Н. Э. Баумана в Петропавловской крепости.
1899. Январь — октябрь. Ссылка Н. Э. Баумана в город Орлов Вятской губернии (ныне Халтурин Кировского края).
1899. Н. Э. Бауман присоединяется к написанному В. И. Лениным «Протесту семнадцати».
1899. 15 (27) октября. Н. Э Бауман бежит из орловской ссылки
1900. Лето. Первая встреча Н. Э. Баумана с В. И. Лениным. Бауман принимает участие в подготовке к изданию и транспортировке «Искры».
1900. 11 (24) декабря. Выход первого номера ленинской «Искры».
1901. Бауман работает по поручению В. И. Ленина агентом и транспортировщиком «Искры».
1901. Декабрь. По поручению В. И. Ленина Н. Э. Бауман выезжает на нелегальную работу в Москву в качестве представителя ленинской «Искры».
1901 (декабрь) — 1902 (февраль) H Э. Бауман работает членом Московского комитета РСДРП, распространяя ленинскую «Искру» и организуя подпольные рабочие кружки.
1902. Январь. Н. Э. Бауман выезжает в Киев для установления связи с киевской организацией «Искры».
1902. 8 (21) февраля. Арест H Э. Баумана в селе Хлебном Задонского уезда Воронежской губернии.
1902. 16 февраля (1 марта). Отправка Н. Э. Баумана по этапу из Задонска в Вятку.
1902. Март — август. Н. Э. Бауман находится в заключении в киевской тюрьме.
1902. 18 (31) августа. Побег 10 искровцев во главе с Н. Э. Бауманом из киевской тюрьмы
1902 (осень) — 1903 (весна). Н. Э. Бауман работает за границей под руководством В. И. Ленина и готовится к докладу о работе московской организации РСДРП на II съезде РСДРП.
1903. Июль — август. Участие Н. Э. Баумана под псевдонимом Сорокин (как делегата московской организации) на II съезде РСДРП.
1903. Октябрь Н. Э. Бауман участвует на II съезде «Заграничной Лиги» русских социал-демократов.
1903. 12 (25) декабря. Н. Э. Бауман по поручению В. И. Ленина выезжает в Россию для борьбы с меньшевиками и создания в Москве «Северного бюро ЦК».
1903 (декабрь) — 1904 (июнь). Н. Э. Бауман работает в «Северном бюро ЦК».
1903 (декабрь) — 1904 (весна). Организация Н. Э. Бауманом подпольной большевистской типографии на Нижне-Красносельской улице и затем в дачном районе Зыково.
1904 (июнь) — 1905 (октябрь). Заключение Н. Э. Баумана в Таганской тюрьме.
1904. Август. Совещание под руководством В. И Ленина (в Швейцарии) 22 большевиков, подготовившее созыв III съезда РСДРП.
1904. Октябрь. Обращение Ф. В. Ленгника, H Э Баумана, Е. Д. Стасовой и других большевиков, заключенных в Таганской тюрьме, к В. И. Ленину по поводу «Совещания 22-х большевиков».
1905. 6 (19) января. Ответ В. И. Ленина «Е. Д. Стасовой и товарищам в Московской тюрьме».
1905. 8 (21) октября. Освобождение Н, Э Баумана из Таганской тюрьмы.
1905. 9—17 (22–30) октября Н. Э. Бауман принимает деятельное участие в работе МК большевиков
1905. 18 (31) октября. Убийство Н. Э. Баумана черносотенцем.
1905. 19 октября (1 ноября). Массовые демонстрации протеста рабочих Москвы против убийства H Э. Баумана.
1905. 20 октября (2 ноября). Грандиозная гемонстрация — похороны Н. Э. Баумана.
БИБЛИОГРАФИЯ
I. Основная литература
В. И. Ленин
Соч., изд. 4, т. 1. «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?»; «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве (отражение марксизма в буржуазной литературе)»;
т. 4. «Протест российски «социал-демократов»; «Ка «чуть не потухла «Искра»?»; «Насущные задачи нашего движения»;
т. 5. «С чего начать?»; «Что делать?»;
т. 6. «К вопросу о докладах комитетов и групп РСДРП Общепартийному съезду»;
т. 7. «Шаг вперед, два шага назад»; «Рассказ о втором съезде РСДРП»;
т. 8. «Письмо Е. Д. Стасовой и товарищам в Московской тюрьме»;
т. 9. «Николай Эрнестович Бауман»; «Всероссийская поли тическая стачка»;
т. 13. «Предисловие к сборнику «За 12 лет»;
т. 16. «Иван Васильевич Бабушкин (некролог)»;
т. 21. «Социализм и война (отношение РСДРП к войне)», гл. IV. «История раскола и теперешнее положение социал-демократии в России».
Ленинские сборники
VIII. Письмо В. И. Ленина Н. Э. Бауману. 24 мая 1901 г.
Письмо Н. К Крупской Л. М. Книпович в Астрахань 28 мая 1901 г.
Письмо В. И. Ленина Н. Э. Бауману в Москву. 26 июня 1901 г.
Письмо Н. К. Крупской H Э Бауману в Москву. 3 июля 1901 г.
XV. Письмо Н. К. Крупской М. И. Ульяновой. 14 августа 1904 г.
Письмо Ф. В. Ленгника В. И. Ленину и Н. К. Крупской 4 сентября 1904 г. Москва. Таганская тюрьма.
Письмо Н. К. Крупской от имени В. И. Ленина Е. Д. Стасовой, Ф. В. Ленгнику и проч. 23 сентября 1904 г. Женева.
И. В. Сталин
Соч., т. 1. «Класс пролетариев и партия пролетариев»; «Коротко о партийных разногласиях»; «Две схватки»;
т. 2. «Тронулась!..»;
т. 4. «Ленин, как организатор и вождь РКП»; т. 6. «Об основах ленинизма», VIII — «Партия».
«История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс» М., 1946.
Ленин Владимир Ильич. Краткий очерк жизни и деятельности. Институт Маркса — Энгельса — Ленина 1944.
Ленин и тактика социал-демократов на суде (1905). «Пролетарская революция», 1924 № 7 (30).
Л. Берия. К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье, изд. 8. М., 1949.
Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. М., 1934.
II. Сборники, посвященные Н. Э. Бауману, и основные публикации материалов о его деятельности
Протоколы II съезда РСДРП. М., 1932.
Доклады социал-демократических комитетов II съезду РСДРП. М-, 1930 [стр. 107–139— «Доклад о московском социал-демократическом движении на II съезде Российской социал-демократической рабочей партии» Н. Э. Баумана].
Товарищ Бауман. Сборник воспоминаний и документов, изд. 2. М., 1930.
Н. Э. Бауман, Сборник статей, воспоминаний и документов. М., 1937.
Из переписки редакции «Искры» с И. В. Бабушкиным и Н. Э. Бауманом. «Пролетарская революция», 1939, № 1.
III. Биографические очерки и воспоминания о Н. Э. Баумане
М. Сильвин. Освобождение. «Новая жизнь», 1905, № 3. M. H. Лядов. О Втором съезде партии. 1933.
Его же. Из истории партии в 1903–1905 гг. Воспоминания. М., 1927.
Воспоминания И. В. Бабушкина (1893–1900 гг.). Л., 1925.
И. Н. Белокуров. Из записок аграрника. М., 1926.
Его же. Встречи с Н. Э. Бауманом. «Каторга и ссылка», 1931, № 4 (77).
Большевистские прокламации и листовки по Москве и Московской губернии. М.—Л., 1926.
Н. Э. Бауман (по воспоминаниям его защитника) «Былое», 1926, № 1.
Ц. С. Зеликсон-Бобровская. Записки рядового подпольщика. М., 1930.
Ее же. Незабываемые встречи. Воспоминания о Ленине. М., 1947.
С. Д. Мстиславский. Грач — птица весенняя. М., 1938.
С. И. Мицкевич. Революционная Москва (1888–1905). М., 1940.
К. Осипов. Твердокаменный большевик. К 35-летию убийства Н. Э. Баумана. «Исторический журнал», 1940, № 10.
Его же. Николай Эрнестович Бауман. М., 1946.
Листовки московских большевиков 1905 г. М., 1941.
Н. Гусев. Н. Э. Бауман. В сборнике: «Жизнь замечательных людей в Казани», вып. 1. Казань, 1941.
Ю. Полевой. Ленинская «Искра» и искровские организации в России. М., 1941.
М. Багаев. Моя жизнь. Иваиово, 1949.
Из истории московской организации ВКП(б) (1894–1904 гг.). М., 1947.
Иллюстрации
Памятник Н. Э. Бауману в Москве на площади имени Баумана.
Николай, пяти лет (справа) и его брат Эрнест Бауманы.
Н. Э. Бауман-гимназист.
Я. Е. Федосеев.
Н. Э. Бауман — студент Казанского ветеринарного института.
Обложка III выпуска гектографированного издания книги В. И. Ленина «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» —1894 г.
Группа «стариков» — основателей петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» — во главе с В. И. Лениным.
Медицинская книга, между строчек которой писал В. И. Ленин в Доме предварительного заключения.
Петропавловская крепость. Вид с Невы.
Петропавловская крепость. Стена крепости со стороны Невы у Комендантской пристани.
Петропавловская крепость. Проход Трубецкого бастиона.
Камера Петропавловской крепости.
Заключенный. (С карт. Ярошенко.).
Письмо Н. Э. Баумана родным из Петропавловской крепости.
Первая страница первого номера «Искры».
Дом в Мюнхене, в котором печаталась «Искра».
Организация «Искры» (схема).
Первый номер газеты «Брдзола».
Д. И. Ульянов.
А. И. Ульянова-Елизарова.
М. И. Ульянова.
Н. Э. Бауман.
И. В. Бабушкин.
Агенты ленинской газеты «Искра» 1900–1903 годов: И. В. Бабушкин, М. И. Ульянова, И. В. Сталин, Н. К. Крупская, Н. Э. Бауман, А. И. Ульянова, М. М. Литвинов, М. И. Калинин, Р. С. Землячка.
Читают «Искру» (в рабочем кружке).
Побег десяти искровцев из Лукьяновской тюрьмы (барельеф памятника Н. Э Бауману).
Могила К. Маркса на Хайгейтском кладбище.
Н. Э. Бауман в 1903 году.
Дом № 69 по Нижне-Красносельской улице — подпольная типография большевиков, организованная Н. Э. Бауманом.
Камера Таганской тюрьмы.
Революционное движение в октябре 1905 года (карта).
Дом № 26 (по ул. Баумана), у которого был убит Н. Э. Бауман.
Мемориальная доска на доме № 26 по ул. Баумана.
Похороны Н. Э. Баумана. Общий вид демонстрации.
Листовка МК РСДРП на смерть Баумана.
На баррикаде (1905 год). (С карт. И. Владимирова).
На штурм Кремля (1917 год). (С карт. В. Мешкова).



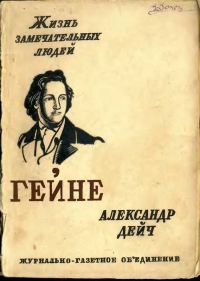
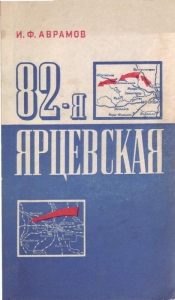
Комментарии к книге «Николай Эрнестович Бауман», Михаил Андреевич Новоселов
Всего 0 комментариев