Посвящаю моим внукам Кате, Даниле, Вите Андрияновым.
АвторКарта фашистских концентрационных лагерей и их филиалов, составленная по трофейным документам, показаниям свидетелей и обвиняемых, в частности, по показаниям коменданта Освенцима Рудольфа Гесса.
От автора
Письмо Льва Петровича Токарева, остарбайтера из Ленинграда, — самое, пожалуй, типичное в той огромной почте, которую я получил после выхода в 1993 году моей документальной повести «Память со знаком OST». Приведу его почти полностью, опасаясь даже упрека в возможной нескромности, потому что это письмо точно и резко обозначает волнующую нас тему.
«Уважаемый Виктор Иванович, дорогой Вы мой! Вчера, наконец-то, получил Вашу книгу «Память со знаком OST» и на одном дыхании прочел ее от корки до корки.
Напиши Вы такую книгу раньше, пришлось бы ей выходить в «Самиздате». Сейчас, слава Богу, Вы смогли сказать всю правду о нас, рабах рейха, отверженных и в своей собственной стране.
Хочется пожелать Вам, чтобы Вы продолжили работу над этой темой. Уверен, таких пожеланий Вы получите много и особенно от ленинградцев, псковичей, новгородцев, белорусов. Они достойны такого же внимания, как Ваши земляки-украинцы, которым вы отдали приоритет в своей «Памяти».
В июне 1991 года, в дни 50-летия начала Великой Отечественной войны, мне довелось побывать в Германии в составе группы несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Скажу я вам, это не та Германия, которую мы видели в войну. Многое они переосмыслили, даже создали общество «Знак искупления». И все же не мешает иногда тактично напомнить, что вытворяли их отцы и деды в России во Второй мировой. Вот тут как раз и пригодится Ваша книга. Понять, если захочешь, можно все, а вот забыть нельзя ничего.
Все, что написано в Вашей книге, я прошел и пережил. Посылаю Вам копию своей справки из КГБ. В ней говорится, что меня угнали в Германию в 1942 году из Нового Петергофа, подтверждается, что я бежал с фабрики в городе Райхенбах в Чехословакию. И здесь присоединился к чешскому партизанскому отряду.
Как живется сейчас таким, как я? Мы признательны президенту России за Указ, по которому несовершеннолетние узники фашистских концлагерей получили такие же льготы, как участники войны. Но почему это коснулось только несовершеннолетних? Полный абсурд! Значит, других и сейчас не реабилитировали?
Лично я получил льготы, но мне стыдно смотреть в глаза тем, кто старше меня. Не понимаю, что происходит.
И еще. Красноармейцы, которые воевали хотя бы один день и попали в плен, считаются участниками войны и получают награды и льготы, а лица гражданские, угнанные в Германию и бежавшие с заводов и лагерей, воевавшие во Франции, Италии, Чехословакии, Югославии в отрядах Сопротивления, не считаются участниками Великой Отечественной войны.
Скажу о себе. Я сейчас получаю льготы участника войны, кажется, все нормально, да не совсем. В начале 1945 года мне было уже 17 лет, я бежал с этапа, сам достал оружие, почти два месяца воевал в небольшом отряде Сопротивления в районе Рудных гор. А доказать этого не могу, хотя и в справке КГБ указано, что «присоединился к чешскому отряду».
Меня могут спросить, а зачем тебе нужно доказывать это, ты и так получаешь льготы? Отвечу. У меня растут три внука и две внучки. И я хотел бы им оставить не справку КГБ, а медаль «За победу над Германией». Да, я честолюбивый человек и думаю, что заслужил такую медаль.
Писал об этом еще маршалу Язову, в то время министру обороны СССР. Из его канцелярии мне ответили, что награды вручают только участникам Великой Отечественной войны. А Вы — участник Второй мировой?!. Вот так. Где еще можно получить такой несуразный ответ? Только у нас. Ну да Бог с ними.
В Германии я работал почти полтора года. В 1943-м по-глупому бежали втроем с завода. Через несколько часов нас с поезда сняли и «объяснили» чисто по-немецки, что остарбайтерам можно в Германии, а что нельзя. После этого «объяснения» мы почти неделю только на животах лежали. Организм молодой был, выдержал. Да, спасибо чехам и французским военнопленным. Если бы не их помощь, не знаю, что стало бы с нами… И еще, заместитель начальника лагеря оказался порядочным человеком, помогал, чем мог. Иначе — быть нам в крематории.
Ну, а второй побег мы подготовили получше.
Еще раз спасибо Вам, Виктор Иванович, за книгу «Память со знаком OST». Она о каждом из нас и очень нужна людям. Надеюсь увидеть новое издание.
Лев Петрович Токарев. Санкт — Петербург, 1993 г.».Так случилось, что вернуться к предложению Льва Петровича Токарева и многих других читателей я смог лишь через десять с лишним лет. Но и в эти годы параллельно с работой над новыми книгами («Одинокий царь в Кремле», «Крестный путь», «Косыгин») шло накопление и осмысление материалов, связанных с судьбами «восточных рабочих».
…Узкая комнатушка на седьмом этаже одного из зданий московского «архивного городка» — Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). Два стола сотрудников архива, всегда точных, обязательных, внимательных. Столы, стулья у тумбочки со старой пишущей машинкой завалены горами папок, — это заказы исследователей. Четверым за ними тесно, пятому остается листать документы на коленях.
«Мои» папки — с материалами Управления Уполномоченного Совнаркома СССР — Совета Министров СССР по делам репатриации. Шесть описей, 2771 единица хранения — тысячи и тысячи писем военных и послевоенных лет, справок, отчетов, ответов, запросов… Как водится, в начале каждого дела — листок, в котором положено записать свою фамилию, цель исследования… Думал — на этих страницах будет тесно от фамилий предшественников… Увы! Не раз и не два приходилось делать первую запись. Эго и стало последним аргументом в моем решении вернуться к жизни «восточных рабочих» в Германии и в России, на Украине, в Белоруссии, рассказать тем, кто никогда и не слышал этого слова, какой же страной была Остландия.
Краткий путеводитель по Остландии
Территория — фашистская Германия в границах 1941 года (Германия, Австрия, протекторат Богемия и Моравия), ряд других оккупированных стран.
В оккупированных районах Советского Союза по указу Гитлера были образованы новые территориально-административные единицы:
Западные области Украины (Львовская, Станиславская, Тернопольская, Дрогобычская) составили «дистрикт Галиция», который прирезали к генерал-губернаторству, как именовались в рейхе остатки Польши;
«Рейхкомиссариат Украина» (РКУ) — остальные области Украины (без Буковины и Одессы) плюс районы южной Белоруссии и Крым;
«Рейхкомиссариат Остланд» (РКО) — Эстония, Латвия, Литва, северная Белоруссия;
Румынская оккупационная зона — Бессарабия (Молдавия и Измаильская область), Северная Буковина (Черновицкая область), Транснисгрия (Одесская область).
Население — остарбайтеры (Ostarbeiter) — «восточные рабочие».
Иностранные рабочие — принятое в официальной пропаганде гитлеровской Германии наименование лиц, вывезенных из оккупированных стран в годы Второй мировой войны для принудительного труда в рейхе; в служебной переписке, в повседневном обращении — «рабы», «скот» и т. п.
OST— знак «восточных рабочих». Вертикальный прямоугольник с бледно-голубой каймой шириной 1 см. На синем фоне белыми буквами высотой 3,7 см было написано OST (Восток). Остарбайтеры были обязаны всегда носить этот знак на правой стороне груди. «Знак, — подчеркивалось в циркулярах гестапо, — должен быть всегда виден и прочно закреплен».
SR — «Советская Россия». Эти белые буквы предписывалось носить на спинах русским в концерне Круппа; «Р» — полякам; остальным выдавались повязки — белые, синие, красные или зелено-белые.
Арбайтс карте — документ «восточного рабочего».
Арбайтс крафт (Arbeitskraft) — рабочая сила.
Бауэр (Bauer) — крестьянин:
Хольцшуэ (Holzschuhe) — колодки.
Особая мера — смертная казнь.
Шнель (schnell) — быстро!
Рус швайн (Russischee Schwein) — русская свинья.
Фрессен (fressen) — жрать.
Уничтожение работой — официальная установка на конечную цель использования «восточных рабочих».
Штеппенфольк (Steppenvolk) — обозначение «восточных рабочих» как дикарей, отсталого, неграмотного народа из степи, далекого от европейской цивилизации.
Тотальная мобилизация (Totaleinsatz) — объявлена 13 января 1943 года. Все немцы (мужчины в возрасте от 16 до 65, женщины от 17 до 45 лет) подлежали привлечению к работам военного назначения. В оккупированных странах «мобилизация» охватывала целые поколения. В Чехии (протекторат Богемия и Моравия) — 1921, 1923, 1924 года рождения, в оккупированных районах Советского Союза — «всех мужчин и женщин рождения 1926, 1927 года», и даже подростков 10–14 лет.
Хиви (Hiwis, Hilfswillige) — желающие помогать, добровольные помощники. Так в частях вермахта, немецких службах называли «Иванов», которые шли к ним в услужение.
Гестапо (Gestapo — сокр. от Geheime Staatspolizei) — тайная государственная полиция. Система органов политического сыска и контрразведки фашистской Германии. Приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге гестапо признано преступной организацией.
СД — SD, сокр. от Sicherheitsdienst — служба безопасности рейхсфюрера СС. Играла ведущую роль в разработке Генерального плана «Ост».
ОКБ — OKW, — Верховное командование вермахта. Начальник штаба ОКВ — генерал-фельдмаршал Кейтель.
ОКХ — ОКН, — Главное командование сухопутных войск.
Гиммлер Генрих — рейхсфюрер СС, министр внутренних дел фашистской Германии. В мае 1945 года покончил жизнь самоубийством.
Геринг Герман — рейхсмаршал, начальник Главного экономического штаба Восток, Генеральный уполномоченный по 4-летнему плану Один из главных организаторов нападения на СССР, разграбления оккупированной советской территории и массового угона советских людей в рабство. Нюрнбергским трибуналом приговорен к смертной казни; покончил жизнь самоубийством.
Заукель Фриц — обергруппенфюрер СС и СА, гаулейтер, имперский наместник Тюрингии. 21 марта 1942 года декретом Гитлера назначен Генеральным уполномоченным по использованию рабочей силы. Казнен по приговору Нюрнбергского трибунала.
Розенберг Альфред — один из идеологов германского фашизма. В июле 1941 — апреле 1945-го возглавлял министерство по делам оккупированных восточных территорий. Казнен по приговору Нюрнбергского трибунала.
Шпеер Альберт — с 1942 года министр вооружений и боеприпасов гитлеровской Германии. По приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге отбыл 20-летнее тюремное заключение.
Сколько помнит себя, столько помнит он увеличенную фотокарточку в самодельной рамке на высоком столике у зеркала в узком простенке между двумя окнами, которые на ночь запирались ставнями. Ставни были непременной принадлежностью каждой хаты в рабочем поселке. Когда темнело и окна мазанок, как экраны немых фильмов, высвечивали жизнь под дешевыми абажурами, он выбегал во двор, сдвигал деревянные створки с облупившейся зеленой краской и прижимал их наискось тяжелой железной перекладиной.
На конце ее болтался стержень, который полагалось внутри прихватить. Но этого, как правило, никто не делал. Так что скорее ставни были неким символом защищенности, прикрытием от чужого скользящего взгляда. Утром, когда мать распахивала ставни и солнце заливало комнату, самым первым, что он видел со своего узкого диванчика, обтянутого черным дерматином, была та фотография. Его старшего брата Ивана, названного по отцу. Брат прикусил веточку белой акации, и в это мгновение щелкнул затвор фотоаппарата.
На том снимке ему шестнадцать. Он пробует акацию, не догадываясь, что это последнее лакомство детства и скоро-скоро он услышит стук других затворов. Завтра — война. Через пару месяцев, еще вроде далекая, она подступит к поселку первым налетом, первыми беженцами… Иван с друзьями соберется в военкомат, но вместо фронта их отправят на Днепр рыть окопы.
Никто никогда не считал, сколько народу туда нагнали. Шахтеров, сформированных на рудниках в отряды, школьников, студентов, домохозяек… Одних, к счастью, успели эвакуировать. Вторые уходили сами. Третьи ждали приказа, который некому было отдать…
Они все еще будут долбить выжженную землю и прислушиваться к далеким раскатам, когда немцы пришлют автоматчиков на этот бесславный сталинский рубеж, собирать в своем тылу Arbeitskraft — рабочую силу для великой Германии. Ах, как весело смеялись те здоровые, сытые парни, хохотали до колик, показывая друг другу на оборванное, голодное воинство с лопатами.
— Поработали на Россию, теперь потрудитесь на Германию. Шнель, Иван, шнель!
Вот и все, что знает мой давний товарищ, Василий Иванович Захарчук, о своем старшем брате Иване, добровольце трудовой армии сорок первого года. Он пытался найти тех, кого успели вывезти в последнюю минуту из окружения, объездил приднепровские села. Но что узнаешь о человеке, когда в той войне бесследно пропадали дивизии и армии. А тех, с лопатами, вообще не считали. Захарчук слышал, что в Германии аккуратно хранятся все документы на «восточных рабочих», добрые люди вроде бы присматривают за их могилами… Может быть, умоляет он, удастся что-нибудь узнать и про Ивана. Вон, ссылается Василий Иванович на газетную публикацию, в городе Ален (Вестфалия), в местном архиве нашлись «арбайтер-карты» трех восточных рабочих — Станислава Орловского, Александра Фираго и Валентина Андреева. Их увезли на принудительные работы в Германию из Белоруссии в сорок третьем году. Германских гимназистов, наткнувшихся на старые документы, интересовало военное прошлое своего городка, жизнь «цивиль-арбайтеров».
Вполне возможно, что они впервые услышали об иностранных рабочих, занятых в Германии во время Второй мировой войны. Иностранные рабочие — такое спокойное слово, их полно вокруг — турки, югославы, поляки. Вот и русские появились, украинцы… Сами просятся… И с теми, в войну, все шло так же? Или иначе?
В деревне Метиж под Минском отыскался Александр Васильевич Фираго, почти Фигаро. Отправляя эшелон, немецкий офицер позволил себе пошутить: «Фираго здесь, Фираго там…»
Архивы, действительно, сохранились. Те, что не сожгли в конце войны. Не упрятали в тайные штольни или на дно затерянных в горах озер. «Все документы концерна Круппа, содержавшие упоминание об иностранных рабочих, военнопленных или заключенных концентрационных лагерей, имели гриф «совершенно секретно» и целые тюки их были сожжены», — пишет биограф династии Круппов У. Манчестер. Но кое-что сохранилось. Когда листаешь их, в глаза бросается совсем другая терминология. Никаких иностранных рабочих. Всюду — «рабы», «рабский труд», «рынок рабов», «скот», «рабовладелец» — так называли Альфреда Круп па.
Могилы? Оставались. Если рабы не истаивали дымом из труб крематориев. Если не разносились пеплом по германским полям под будущий урожай. Если трупы просто не выбрасывали, как мусор.
На «пушечного короля» гнули спину 300–400 тысяч рабов. Такой была только одна, правда, самая большая колония. А еще заводы «И. Г. Фарбениндустри», Сименса, Юнкерса, фирма «Байер», предприятия концерна Геринга, где, по свидетельству немецкого историка Г. Моллика, обращение с «рабочими рабами приобретало особо безобразные формы». Впрочем, продолжает он, такое обращение не слишком отличалось от порядков на других предприятиях. То есть безобразные формы — насилие и жестокость — считались в рейхе нормой.
Фирма «Байер», к примеру, «в связи с проведением экспериментов с новым снотворным» попросила в Освенциме 150 женщин. Немного поспорили о цене — 200 марок за одну голову «исследователям» показалось много. Сошлись на 170. И вскоре отчитались: «Опыты были проделаны. Все подопытные лица умерли. Мы вскоре свяжемся с Вами относительно присылки новой партии».
Не был исключением и немецкий филиал Форда, о чем написал в книге «Американская ось. Генри Форд, Чарльз Линдберг и расцвет третьего рейха» историк и журналист Макс Уоллес. Представители компании «Форд» всегда утверждали, что не могли контролировать использование рабского труда на ее заводе в Германии, так как в 1941 году утратили контроль над этим заводом. Но из приведенных в книге документов, рассекреченных в последние годы, видно, что первые невольники прибыли на завод еще до вступления Америки в войну. Документы дают основания предположить: головная компания знала, что на ее европейских филиалах производится продукция по заказам вермахта, и одобряла это. Министерство юстиции США пришло к заключению, что «есть основания для возбуждения дела» против Эдселя Форда, сына Генри Форда, президента компании до своей смерти в 1943 году.
Ост — восток. Остарбайтер — восточный рабочий. Остландия — их страна. У них отняли родину. Лишили национальности. Приказали забыть свои имена, отзываться на одно для всех — Иван. Не ищите эту страну на современных картах. Так же, впрочем, как и на давних. Она осталась на страницах документов, не предназначавшихся для печати, укрытых в свое время в самых надежных сейфах третьего рейха. Осталась в памяти со знаком OST, в памяти тех, на чью долю выпала фашистская каторга.
«Каждый день, прожитый в чужой стране, в неволе, я помню, вижу ту проклятую фабрику, лагерь, лица мальчиков и девочек, живших рядом со мной, всех полицаев. Могу их нарисовать, как будто и сейчас они передо мной.
Вижу улицы города, дома и станцию, куда нас привезли. Дом — особняк рядом с фабрикой, где из меня вытягивали жилы по двенадцать часов, — голодной, холодной, больной.
Я пишу не для того, чтобы вы рассказали обо мне, нет. Может быть, это письмо поможет полнее восстановить забытую страницу нашей истории. Чтобы боль нашего детства, украденной юности не развеялась, как пыль, по ветру. Нас спасло в рабстве человеческое милосердие, мы выручали, как могли, друг друга…»
Так писала мне Антонина Алексеевна Темнова из подмосковного поселка Михнево, откликаясь на публикацию «Человек с номером» в газете «Труд». Эго было в феврале 1989 года. «Угон советских людей на каторжные работы в Германию — одна из самых малоисследованных страниц Великой Отечественной войны, — говорилось в редакционном послесловии к очерку. — Будем признательны всем, кто своими свидетельствами, воспоминаниями поможет полнее восстановить и эту страницу нашей истории».
«Труд» тогда выходил тиражом в двадцать миллионов экземпляров — можете представить, какой шквал писем обрушился на редакцию. Их считали мешками. И в каждом письме — своя боль, своя судьба, свои свидетельства. О том, как угоняли в Германию и продавали на невольничьих рынках. В каких условиях там жили и работали. Как раскрывалось в людях высокое и подлое. Как ждали своих. И как встретили на Родине.
Вспоминаю об этом не для того, чтобы утвердить за собой какие-то приоритеты. Бесспорный приоритет в открытии страны Остландии принадлежит, на мой взгляд, писателю Виталию Семину, автору пронзительной повести «Нагрудный знак Ост», ее первое издание увидело свет в 1975 году.
Невольничий эшелон увез из Ростова-на-Дону Витальку Семина, когда ему еще не было пятнадцати — рослый подросток попал в облаву. Домой он вернулся через пять лет.
«Вернулся с ощущением, что я знаю о жизни все. Однако мне потребовалось тридцать лет жизненного опыта, чтобы я сумел кое-что рассказать о своих главных жизненных переживаниях».
Сразу после Великой Отечественной войны о судьбах «восточных рабочих» и военнопленных, их борьбе по ту сторону фронта собирался написать военный политработник Евгений Бродский. Еще в 1951 году Евгений Абрамович обратился с подробной запиской к секретарю ЦК ВКП(б) М. А. Суслову. Главный партийный идеолог принял Бродского, но дело закончилось тем, что офицера-коммуниста списали из Советской Армии и едва не выставили из партии. Его книга «Они не пропали без вести» вышла только в 1987 году; через несколько лет в том же издательстве «Мысль» вышла еще одна работа Бродского — «Забвению не подлежит» с трогательным посвящением брату, солдату, «павшему на Барвенковском плацдарме в бою под Лозавеньками за прорыв дивизии из окружения в мае сорок второго года».
Барвенковский плацдарм… Отсюда 12 мая 1942 года начала наступление на Харьков 6-я армия генерал-лейтенанта А. М. Городнянекого. Второй удар из района Волчанска наносила 28-я армия генерал-лейтенанта Д. И. Рябышева. Направления ударов сходились к Харькову… Но той весной немцы еще были сильнее. Гитлеровские части отбили наступление и 23 мая сами «замкнули» Барвенковский выступ. Пути отхода для наших частей были отрезаны. В окружении оказались десятки тысяч советских солдат и офицеров. Следом за харьковской катастрофой грянула крымская. Красная Армия снова оставила Ростов-на-Дону, отступала к Волге…
В Берлине штабные офицеры корпели над новыми планами военной экспансии. Директиву № 32 «Подготовка к периоду после осуществления плана «Барбаросса»» Гитлер одобрил еще в июне 1941 года. В первую очередь после разгрома СССР планировалось развернуть войну против Англии, захватить Северную Африку, Гибралтар, страны Ближнего и Среднего Востока, затем через Афганистан двинуть на Индию. На картах «германской мировой империи» были расписаны судьбы всех континентов. После окончания «Восточного похода» Гитлер намеревался «предпринять энергичные действия против США».
Еще до подписания плана «Барбаросса» правительство Германии приняло директиву о составлении плана «Ост» — плана истребления народов Восточной Европы. В нем нашли концентрированное выражение замыслы фашистской Германии в отношении СССР. Предусматривалось ликвидировать Советский Союз. Территорию прибалтийских советских республик, Украины, Белоруссии, европейской части СССР заселить немцами и включить в состав Германии. Незначительную часть населения гитлеровцы собирались оставить на месте в качестве батраков и чернорабочих, лишенных всяких прав. Остальные были обречены на уничтожение и каторгу. На территории Советского Союза и Польши генеральный план «Ост» предполагал ликвидировать 120–140 миллионов человек. С этой целью еще до войны полиция безопасности и СД подготовили «Особую розыскную книгу СССР». В нее были включены сведения о советских гражданах — коммунистах и беспартийных активистах, которые подлежали немедленному уничтожению.
Через много лет после войны увидели свет записи застольных бесед Гитлера, которые делались по указанию Бормана, второго человека в партийной иерархии Германии. Сентябрь-октябрь 1941 года. Вермахт наступает по всем фронтам, угрожает Москве и Ленинграду. Покоренных русских и украинцев, вещает Гитлер, следует рассматривать исключительно как дешевую рабочую силу. Обе русские столицы он намерен стереть с лица земли. Ленинград, говорит Гитлер 10 сентября 1941 года, «будет лишь взят в кольцо, подвергнут артиллерийскому обстрелу и взят измором. Не имеет значения, сколько это займет времени — несколько дней или даже недель. Осуществить предложенный финнами план отвести воды расположенного на возвышенности Ладожского озера в Финский залив и тем самым затопить Ленинград технически довольно сложно».
Затопить огромный город технически сложно, а вот взять измором — вполне реально. Стоит ли обращать при этом внимание на то, что погибнут несколько миллионов русских?! Нет, они, по убеждению фюрера, «привыкли реагировать только на удары кнута».
«Гитлеровская каторга исковеркала судьбы миллионов наших соотечественников. И пока еще живы люди, на чью долю выпали такие страшные испытания, надо собрать их воспоминания, записать свидетельства очевидцев.
Вот и я пытаюсь хоть небольшим штрихом дополнить общую картину. Хотя мне больно и тяжело писать, ведь речь идет о судьбе моей матери — Анны Антоновны».
Так начал свое письмо Владимир Кулибабчук из Винницы. Примечательная деталь: в большой почте неожиданно много таких писем. Отозвались сыновья, дочери, внуки — люди другого поколения.
««Человеком с номером» была и моя тетя, Вера Андреевна Долгополова, — пишет из Ростовской области Л. Ермолова. — Ее, шестнадцатилетнюю девочку, схватили на улице в Азове и угнали в Германию. Она не любит об этом вспоминать. Мне кажется, потому что таких, как она, после войны не считали за людей, как и наших пленных солдат…»
Наблюдение точное, об этом говорят и многие из тех, кто сам прошел фашистскую каторгу.
«Прочитала очерк «Человек с номером» и всю ночь не спала, думала о тех, кто попал в рабство в Германию. О той девочке, что повесилась у бауэра. О тех, кто погиб в концлагерях, сгорел в крематориях. Прошла то рабство и я» (Татьяна Федоровна Кузьменко, Киевская обл.). «Мне давно за 60, а эхо войны и германской жизни все не покидает меня» (Анна Петровна Ворожбит, с. Русская Поляна, Сумская обл.). «Ваша публикация вернула меня в годы войны. Господи, неужели можно уже писать о нас, кто был в Германии?! Я в декабре 1940 г. приехала к мужу в Брянск, через полгода началась война. В октябре сорок первого немцы взяли Брянск, а в сорок третьем при отступлении погнали нас в Германию… Все годы после войны я живу придавленной, униженной. И вдруг ваша статья! Материнское спасибо за то, что вы считаете нас такими же людьми, как все. Этой статьей вы прибавили силы и желание жить.
Господи, сколько было пережито. Самое главное — я сумела сохранить жизнь детям. Они у меня живы, здоровы. Только сын от испуга при бомбежке заикается» (Антонина Алексеевна Дерябина, г. Пермь).
Эти письма — словно обнаженная боль. «Не могу передать свою горечь, когда думаю о тех годах». «Прошло уже столько лет, а мне все снится фашистская каторга, концлагерь». «Без слез не могу читать о «восточных рабочих». Мне кажется, это написано обо мне, о моей сестре Оле, о маме». «Читала статью «Человек с номером» и рыдала навзрыд. Ведь моего брата Сережу угнали в Германию в неполных 14 лет…»
Не называю всех фамилий — такие или очень похожие строки почти в каждом письме. Не буду их комментировать или пересказывать — попытаюсь отобрать самые характерные, типичные истории и, дополнив архивными документами, сложить, как мозаику, в цельное полотно.
Труд «восточных рабочих», утверждал генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы Ф. Заукель, «имеет решающее значение для исхода войны». Конечно же, это понимал и каждый, кого заставляли ломать хребет на рейх. И, как мог, вредил врагу. «Три года я был рабом немецкого рейха. И не физические тяготы были самым страшным, больнее — ежедневное чувство униженности, горько было сознавать, что ты — раб. А еще жгло сознание, что ты не с Родиной, а в лагере врага ее».
Следом за уроженцем Черкасс Вячеславом Евгеньевичем Дерещуком, к сожалению, уже покойным, эти слова могли бы повторить тысячи и тысячи его ровесников.
Уничтожение трудом
«В среду на утреннем пересчете меня поставили в команду, идущую в литейный цех…
В первые же дни я понял, что в подземелье еще можно было жить. Литейный — пытка, к которой ни притерпеться, ни приспособиться. Когда заводская сирена гудела отбой, — сил не оставалось, чтобы порадоваться этому свободному в лагерной жизни времени: смена закончилась, ночные заступают через четверть часа, и эти пятнадцать минут как бы ничьи, как бы горбушка на пайке, которую можно отрезать».
Подросток из романа Виталия Семина, невольник № 703, не знал, что их уничтожают работой. Нормальный разум не воспринимает такого выражения: «уничтожение работой». Автор этой формулы неизвестен. Известно, однако, что Крупп, как козырную карту на стол, бросил ее во встрече с Гитлером. Крупп заметил, что, конечно, каждый нацист является сторонником ликвидации «евреев, иностранных саботажников, немцев-противников нацизма, цыган, преступников и прочих антиобщественных элементов», но что он не видит причин, почему бы им перед уничтожением не послужить Германии. При правильной постановке дела из каждого заключенного можно за несколько месяцев выжать работу десятка лет. А уж потом покончить с ним.
Предложение пушечного короля очень заинтересовало фюрера.
«Идея уничтожения трудом является наиболее подходящей», — высказался и Геббельс в беседе с министром юстиции Тираком. Военная экономика рейха требовала все больше рабочих рук. И это при том, что к лету 1941 года на германских предприятиях было занято свыше трех миллионов иностранных рабочих и военнопленных и еще столько же вкалывали на Германию в оккупированных странах.
До сих пор, хотя прошло почти три десятка лет, помнится оглушительное впечатление от первой встречи с Политехническим музеем в Праге. Корпункт «Комсомолки», где я тогда работал, был тоже на Летне, по соседству, и в первое же воскресенье я пошел в музей, о котором много слышал от друзей. Посмотреть, действительно, есть что. В громадных, начала прошлого века ангарах стоят на рельсах первые чешские паровозы, императорский вагон, в котором катался незабвенный Франц-Иосиф… Замечательная коллекция автомашин. Самолеты, двигатели… У двигателя «Юнкерса» табличка деловито сообщала технические характеристики, называла точное число моторов, собранных на чешском заводе за время Второй мировой войны. Только здесь во всей реальности увиделся смысл хрестоматийной фразы о том, что на вермахт работали заводы всей оккупированной Европы. В сорок втором году поставки предприятий Франции, Бельгии, Дании, Голландии, Норвегии, Люксембурга, Чехии вермахту составили почти четверть всего военного производства рейха.
Однако и этого было мало. На совещаниях руководителей военного производства Германии раз за разом отмечалось: тяжелое положение с рабочей силой «является самым узким местом военной экономики». Заводы и фабрики, откуда вермахт откачал миллионы людей (только в 1940-м — 2,2 млн), настойчиво добивались новых пополнений. Гитлеровские стратеги рассчитывали на блицкриг — быструю победу над Советским Союзом и возвращение в цеха демобилизованных солдат.
После битвы под Москвой трезвым головам и в рейхе стало ясно, что война затянется надолго. 19 февраля 1942 года в Берлине состоялось совещание об использовании рабочей силы. Протокол снабжен пометкой: «Секретно». Что скрывала бумага с такой прозаической повесткой дня? Вчитаемся в запись доклада министериаль-директора управления по использованию рабочей силы д-ра Мансфельда.
«…Современные трудности в вопросе использования рабочей силы не возникли, если бы мы своевременно решились на использование русских военнопленных в больших масштабах… 3,9 млн русских находится в нашем распоряжении, в настоящее время их осталось всего 1,1 млн. Только в ноябре 1941 — январе 1942 года умерло 500 тысяч русских. Вряд ли представится возможным увеличить количество занятых теперь русских военнопленных (500 тыс.). Если снизится цифра заболеваний тифом, то появится, вероятно, возможность привлечь в хозяйство еще 100–150 тысяч русских.
Напротив, использование русских гражданских лиц получает все большее значение. В общей сложности в нашем распоряжении находится 600–650 тыс. русских гражданских лиц, из которых 300 тыс. — промышленные квалифицированные рабочие и 300–350 тыс. — сельскохозяйственные рабочие. Использование этих русских упирается исключительно в вопрос транспорта. Бессмысленно перевозить эти рабочие руки в открытых или нетопленых закрытых товарных вагонах, чтобы на месте прибытия выгружать трупы».
Доктор Мансфельд не говорил о массовых расстрелах советских военнопленных, о том, что людей морили голодом, — просто умерли. А вот что записано в протоколе допроса на Нюрнбергском процессе второго раппортфюрера в концлагере Заксенхаузен Густава Зорге, прозванного «железным Густавом».
«Прокурор. Что вам известно о совещании в августе 1941 г., на котором обсуждался вопрос об уничтожении русских военнопленных?
Зорге. В августе 1941 г. в лагерь прибыл генерал войск СС Айке, тогдашний командир дивизии «Мертвая голова». Он провел совещание, в котором участвовали некоторые лагерные начальники.
Прокурор. Что конкретно обсуждалось при этом? Спрашивали ли вы, нужно ли заносить в списки советских военнопленных, привезенных в лагерь?
Зорге. По прибытии первого транспорта я спросил своего начальника Зурена, нужно ли мне внести их в списки рабочих. На этот вопрос был дан отрицательный ответ и дано указание уничтожить этих людей.
Прокурор. Сколько человек было там?
Зорге. Около 6 тысяч в первом транспорте.
Прокурор. И прибывшие советские пленные были действительно уничтожены?
Зорге. Так точно. Все советские военнопленные, поступившие в лагерь с августа по октябрь 1941 г., за исключением 1000 человек были уничтожены и сожжены.
Прокурор. Уничтожены и сожжены? Где?
Зорге. В специально построенном бараке вблизи крематория на территории промышленного двора.
Прокурор. А что было с 1000 военнопленных, которые остались в живых?
Зорге. 400 человек умерло в апреле 1942 г. от голода.
Прокурор. А оставшиеся 600?
Зорге. Это были высохшие скелеты.
Прокурор. Следовательно, все советские военнопленные в конце концов были уничтожены?
Зорге. Так точно, в этом случае можно говорить о полном уничтожении».
В марте 1942 года советские бойцы захватили у пленного немецкого офицера секретную инструкцию «Об актуальных задачах в восточных областях».
«Только отправка в Германию нескольких миллионов отборных русских рабочих, за счет неисчерпаемых резервов работоспособных, здоровых и крепких людей в оккупированных восточных областях, — говорилось в документе, который подписал генерал-лейтенант Вейганг, — сможет разрешить неотложную проблему выравнивания неслыханной потребности в рабочей силе и покрыть тем самым катастрофический недостаток рабочих рук в Германии».
Это лишь один из множества документов, которые были приведены в ноте наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова «О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков в оккупированных советских районах и об ответственности Германского правительства и командования за эти преступления» от 27 апреля 1942 года. В этой ноте, направленной веем послам и посланникам стран, с которыми СССР имел дипломатические отношения, аргументированно вскрывались стратегические цели германского командования. В том числе — «насильственный увод в Германию на принудительные работы нескольких миллионов советских граждан — городских и сельских жителей с незаконным их зачислением в разряд военнопленных».
Позже стали известны и другие фашистские документы. «Верховным руководящим началом для каждого вида деятельности во вновь оккупированных восточных областях есть благо германского рейха и народа…» — говорилось в одной из первых директив Розенберга. Глава рейхскомиссариата Украины Эрих Кох уточнял: «Меня знают как жестокого пса. Поэтому меня и направили комиссаром Германии на Украину. Наша задача заключается в том, чтобы, не обращая внимания на чувства, на моральное и имущественное состояние украинцев, выжать из Украины все. Господа, жду от вас абсолютной беспощадности в отношении всех туземцев, населяющих Украину». Не зря этого фанатичного гитлеровца называли «коричневым царем Украины».
7 ноября 1941 года, в тот день, когда Красная площадь провожала войска на фронт, подступивший к Москве, Геринг подписал приказ «Об использовании русской рабочей силы»:
«1. Наличие крупных резервов рабочей силы на родине имеет решающее значение для исхода войны. Русские рабочие показали свою трудоспособность во время строительства гигантской русской промышленности, поэтому эта трудоспособность должна быть теперь использована на благо империи…
При применении мер поддержания порядка решающим является быстрота и строгость. Должны применяться лишь следующие разновидности наказания, без промежуточных ступеней: лишение питания и смертная казнь…»
Свои сети рабовладельцы раскинули по всей оккупированной Европе. Они гнали молодых людей из России и Голландии, из Франции и Дании, с Украины и Белоруссии. Известны цифры по каждой стране и по годам, они ужасают: 1941 год — 3 миллиона гражданских лиц и военнопленных; 1942 год — 4,1; 1943 год — 6,3; сентябрь 1944–7,9 миллиона невольников. Едва ли не каждый третий рабочий в германской промышленности был иностранцем.
21 марта 1942 года Гитлер назначил Фрица Заукеля, гаулейтера Тюрингии, генеральным уполномоченным по использованию рабочей силы. К этому времени нехватка рабочей силы в рейхе оценивалась примерно в 10 процентов всех занятых — 850 тысяч человек. Полномочия фюрера давали Заукелю право распоряжаться «всей наличной рабочей силой, включая иностранных рабочих и военнопленных».
Распоряжался этот господин — отдадим ему должное — весьма энергично. Заукель потребовал от правительственных и военных органов ускорить темпы мобилизации русской рабочей силы и ее отправки в империю. Следом, 10 мая 1943 года, главное командование сухопутных сил Германии издало приказ «О мобилизации русской рабочей силы для империи». Процитирую этот документ:
«Мероприятия по мобилизации не должны ограничиваться городскими районами, в которых имеются учреждения по использованию рабочей силы. Необходимо также в широком масштабе охватить то городское население, которое переселилось в сельские местности, а также местное сельское население в той мере, в которой оно может быть высвобождено по мнению соответствующих сельскохозяйственных учреждений.
Для выполнения этой задачи необходима поддержка военных и местных гражданских организаций (полевых комендатур, местных комендатур, сельскохозяйственных управлений хозяйственного штаба на востоке, районных управлений, бургомистров и т. д.).
Речь идет о мероприятии, имеющем решающее значение для исхода войны. Положение с рабочей силой в империи настоятельно требует, чтобы указанные мероприятия были осуществлены немедленно и в широком масштабе. Это должно стать важнейшей обязанностью всех организаций…»
«В целях выполнения программы железно-сталелитейной промышленности и с тем, чтобы обеспечить требования угольной промышленности, — говорится в одной из директив вермахта, — фюрер 7 июля (1943 г. — В. А.) приказал использовать для этой цели военнопленных».
Представляя этот документ Нюрнбергскому трибуналу, заместитель Главного обвинителя от СССР Ю. В. Покровский особо выделил четвертый пункт: «В нем содержится прямая директива о том. как превращать в военнопленных всех мужчин в возрасте от 16 до 55 лет».
«4. Всех лиц мужского пола в возрасте от 16 до 55 лет, захваченных в боях с партизанами в ходе военных операций, расположения войск восточных комиссариатов, генерал-губернаторства и на Балканах, считать военнопленными. То же самое относится к мужчинам во вновь оккупированных областях на Востоке. Они должны будут посылаться в лагерь для военнопленных и оттуда направляться на работу в Германию».
Эту директиву продублировал начальник ОКВ Кейтель.
Как от чумы, бежали от вербовочных пунктов чехи и голландцы, бельгийцы и французы. Что же предложили ловцы рабов?
Вот характерная документальная запись, 3 ноября 1942 года.
«Шпеер: Ну, хорошо. Что касается промышленности, то мы могли бы разыграть перед французами нашу готовность отдать им сталеваров и прокатчиков, находящихся в плену. Если только они сообщат нам имена.
Роланд: Мы организовали наше управление в Париже. Мне кажется, что вы имеете в виду то, что французы должны сообщить имена сталеваров, которые находятся в плену в Германии?
Мильх: Я просто сказал бы: Вы получите два человека в обмен на одного из таких лиц.
Шпеер: Французские фирмы совершенно точно знают о том, какие военнопленные были сталеварами. В неофициальном порядке Вы должны создать впечатление, что они будут освобождены. Они сообщат нам имена, а затем мы получим их в свое распоряжение. Попытайтесь…
Роланд: Это — идея».
Для выкачки ресурсов из Советского Союза, материальных и людских, Германия организовала целый ряд структур и фирм. Назову лишь некоторые из них:
— «Экономический штаб Ост» (Wirtschaftsstab Ost, BLIJO);
— Имперское министерство по делам восточных земель (Reichsministerium für besetzte Ostgebiete) во главе с Альфредом Розенбергом;
— Ведомство 4-летнего плана Германии, служба Генриха Геринга — он был генерал-уполномоченным по четырехлетнему плану;
— Ведомство Генерального уполномоченного по трудоиспользованию (ГБА) Фрица Заукеля, который подчинялся непосредственно Герингу. Перед ним была поставлена задача «не только обеспечить массовую поставку в Германию иностранцев, и прежде всего русских, при помощи аппарата партии и военных, но и в самой Германии согласовать их максимальную эксплуатацию, политическое угнетение и расовую дискриминацию с задачей использования их труда».
Шеф ГБА разработал четыре программы, известных как «программы Заукеля». Следом за господином Заукелем некоторые российские историки, в частности, автор книги «Жертвы двух диктатур» Павел Полян, говорят о «трудоиспользовании рабочих». Этакое казенно-бюрократическое словечко в лексиконе высшей фашистской иерархии прикрывало откровенно колонизаторскую, рабовладельческую политику. Но российскому историку, думается, следует называть вещи своими именами, как это и делали в откровенных беседах немецкие промышленники, генералы и политики: рабство, работорговля, уничтожение работой.
Эти факты постарался обойти в своей книге «Жертвы Ялты» (заметили, как перекликаются названия?) и Николай Толстой, родственник Льва Николаевича Толстого: «…русская кампания поглощала огромные, невиданные в истории людские и материальные ресурсы, — пишет он, — немецкие фирмы, заводы и шахты испытывали грандиозную нужду в рабочей силе. Поэтому было решено мобилизовать русских рабочих. Несмотря на то, что такая мера помешала бы русским относиться к немцам как к своим избавителям».
Значит, все остальные меры оккупантов вызывали у советских людей сплошное ликование?! Постыдился бы хоть перед памятью Льва Николаевича Толстого. Не может не знать историк и писатель, как опоганили немцы усадьбу великого русского писателя. И только ли в Ясной Поляне остались следы варваров?!
С апреля по сентябрь 1942 года немцы вывезли из оккупированных областей Советского Союза 1,8 миллиона остарбайтеров. Заукель удостоился похвалы Геринга: «…то, что он сделал за короткий срок для того, чтобы быстро собрать рабочих со всей Европы и доставить их на наши предприятия, — является единственным в своем роде достижением». В октябре 1944 года Гитлер осчастливил Заукеля чеком на 250 тысяч марок. Хорош подарочек к 50-летию главного вербовщика — восемь годовых зарплат! За счет тех, кому платили гроши, выжимая в несколько месяцев работу десятка лет.
«Надежда, что с помощью советских военнопленных удастся ликвидировать дефицит рабочей силы, не сбылась, — замечает исследователь военной экономики фашистской Германии Кристиан Штрайт. — Основная причина тому — массовая смертность». В угольной промышленности рейха за первую половину 1944 года скончались 32 тысячи человек — каждый пятый из общего числа, занятых на шахтах. «Даже отдел военнопленных в штабе ОКВ подвергал критике такой слишком высокий «расход пленных», — пишет Штрайт. Но для промышленников главным было требование Заукеля: «Выжимать из военнопленных, поступающих из стран Востока, такую производительность, какую только можно выжать».
Из Советского Союза фашисты намеревались вывезти 15 миллионов человек. Но не все, к счастью, зависело от них. Наступала Красная армия. Спасали от угона партизаны и подпольщики. А те, кому не удалось бежать, на всю жизнь сохранили память со знаком OST.
Угон
Сколько писем — столько и судеб. И в каждом — своя исповедь, своя боль, свои страдания, принесенные войной. Те годы страшно далеки от нас, многими воспринимаются так же смутно, как старый, полузабытый фильм. Но эти люди — наши современники. Кому-то ровесники, кому-то отцы или деды. Те, кто пережил Великую Отечественную хотя бы в самом начале жизни, не говоря уже о ветеранах, фронтовиках, поймут моих соавторов с полуслова… Но хотелось бы, чтобы их понял и принял и молодой читатель.
Представьте, что вам 15 лет и живете вы на берегу самого синего моря. В самом прекрасном городе в мире, конечно же в Одессе. Только что отпразднован день рождения, впереди — целое лето свободы. Младшего братишку отправили в село, к тетке, с утра под окнами свистит компания и — айда все на пляж.
Так начиналось то лето для Саши Стройной.
22 июня лето закончилось. Оборвалась юность.
Отца проводили на фронт. Брат застрял в селе. Саша, закончив краткосрочные курсы сандружинниц, дежурила в госпитале. Помогала эвакуировать раненых. Из госпиталя на Пироговской их отправляли в порт. Предлагали уехать и ей.
«Но я не могла. Не могла оставить маму. 15 октября мы еще эвакуировали раненых, а 16-го в Одессу вошли немцы. На следующий день, наконец, вернулся брат. Он пробирался домой вслед за немцами.
Через неделю на улице Энгельса взорвался немецкий штаб. Оккупанты начали мстить. Хватали всех подряд. Людей вешали прямо на улицах. Проспект Мира, Привокзальная площадь, улица Ленина — везде на деревьях, столбах висели казненные. Забрали и нашу маму.
Остались мы с братом вдвоем и все ждали, что мама вернется. Но больше мы ее не увидели… В конце ноября пришел человек с румынским ордером на нашу квартиру и сказал, чтобы мы выметались. На ночь нас приютила мамина подруга. Утром она вывела нас из города, и мы побрели в село, к родственникам.
Было очень холодно. Брат временами совсем не мог идти. Упадет на снег и плачет: «Оставь меня здесь. Добирайся сама». Ноя поднимала его, и мы плелись дальше, отсела до села. Добрые люди пускали переночевать, давали кусок хлеба и тарелку супа. Дотащились все же до Константиновки. Но и там война добралась до нас. Осенью сорок второго загремела и я в Германию. Было мне 16 лет».
А Дусе Догадайло из села Микольска в Николаевской области не было и шестнадцати. Ей приказали собираться вместо дочери местного доктора, которая вовремя вышла замуж за полицая. Власть, как известно, всегда пользовалась привилегиями.
Александра Могильного, ремесленника из Алчевска (это рабочий городок в нынешней Луганской области на Украине), в апреле сорок второго забрали рыть окопы у станции Фащевка. В том донбасском краю с осени 1941-го держал и оборону шахтерские стрелковые дивизии, 383-я и 395-я. В июне сорок второго им пришлось отступить. Подростки с лопатами попали в окружение. Как на Днепре Иван Захарчук… Тоже типичный путь в Германию.
Семнадцатилетняя Шура Пинтерина жила в городе Шахты — название ему, как понятно, дали угольные разработки. Ребята, девушки собирали по терриконам куски угля, попавшие туда с породой, и на тачках развозили по хуторам, поселкам, меняя на что-нибудь съестное.
В одном из таких рейсов Шура притормозила свой «транспорт» у переезда, который перекрыл товарняк.
У вагонов перекуривали немецкие охранники. Переглянулись, ухмыльнулись — и тут же сильные руки втолкнули девушку в вагон. Тачка кувыркнулась с откоса, тускло блеснули куски донского антрацита. Шура не успела даже опомниться, как поезд застучал по рельсам…
Из вагонов «пассажиров» выпустили лишь в австрийском городе Доновиц. У проходных металлургического завода. Там, в грязном и пыльном цехе, среди «остарбайтеров» в ободранных робах слесарь Карл Лейтгольд разглядел кареглазую казачку. Но это другая история, о ней позже.
…Перелистаем изрядно подзабытую, вычеркнутую из школьных программ «Молодую гвардию». Эту книгу Александр Фадеев начал писать в Краснодоне, небольшом донбасском городке, ныне зарубежном, где во время фашистской оккупации действовала подпольная организация молодежи. На улицах только что освобожденного Краснодона еще стояли подбитые немецкие танки; из старого шурфа, который фашисты превратили в братскую могилу, поднимали тела казненных патриотов.
У большинства героев романа их настоящие, а не вымышленные имена: Олег Кошевой и Иван Туркенич, Люба Шевцова и Ульяна Громова, Сережка Тюленин и Иван Земнухов… Писатель не раз говорил, что «Молодая гвардия» — художественное произведение, не следует отождествлять литературных героев и реальных людей. Это действительно так. И все же «Молодая гвардия» рассказывает о реальных событиях в реальном городе, который в несколько дней стал известен всему миру. Еще в годы Великой Отечественной войны роман, главу за главой, печатала «Комсомольская правда» — эти страницы читали на фронте и в тылу; потом «Молодая гвардия» выходила много раз и на разных языках — у меня сохранилось одно из самых первых изданий, 1947 года, мамин подарок ко дню рождения.
Позже, работая в «Комсомольской правде», я не раз бывал в Краснодоне, познакомился с родными молодогвардейцев, бывал дома у Радика Юркина, летал в командировки с Валерией Борц — в одну из них я захватил с собой тот давний томик «Молодой гвардии». На нем Валерия Давыдовна оставила несколько строк, адресованных моему младшему сыну Жене: «Читай этот роман, люби его героев. Будь мужественным, когда это от тебя потребуется. Пусть жизнь и деятельность моих друзей, описанных в этом романе, будут для тебя примером, достойным подражания!» Не раз в музее «Молодой гвардии» перебирал письма, школьные сочинения, фотографии ребят… Для меня они и сейчас как живые. Вот они освобождают из немецкого плена наших солдат… Поднимают над родным городом в ночь на 7 ноября 1942 года красные флаги… Срывают отправку земляков в Германию.
У входа в школу в горняцком поселке Первомайка однажды появился яркий плакат.
…На плакате была изображена немецкая семья: улыбающийся пожилой немец в шляпе, в рабочем переднике и в полосатой сорочке с галстуком бабочкой, с сигарой в руке, и белокурая, тоже улыбающаяся моложавая полная женщина в чепчике и розовом платье, окруженные детьми всех возрастов, начиная от толстого годовалого с надутыми щеками мальчика и кончая белокурой девушкой с голубыми глазами. Они стоят у двери сельского домика с высокой черепичной крышей, по которой гуляют зобатые голуби. И этот мужчина, и женщина, и все дети, из которых младший даже протягивает ручонки, улыбаются навстречу идущей к ним с белым эмалированным ведром в руке девушке в ярком сарафане, в белом кружевном переднике, в таком же чепчике и в изящных красных туфельках — полной, с сильно вздернутым носом, неестественно румяной и тоже улыбающейся так, что все ее крупные белые зубы наружу. На дальнем плане картины — рига и хлев под высокой черепичной крышей с прогуливающимися голубями, кусок голубого неба, кусок поля с колосящейся пшеницей и большие пятнистые коровы у хлева.
Внизу плаката написано по-русски: «Я нашла здесь дом и семью». А ниже, справа: «Катья».
Таким увидели этот немецкий плакат у входа в их родную школу Уля Громова, Майя Пегливанова и Саша Бондарева, таким представил его Фадеев. Оживленные и веселые, даже озорные за минуту до этой встречи, «они только переглянулись и молча сошли с крыльца…». Через несколько дней к Уле прибежала Валя Филатова, «упала на колени на земляной пол и уткнулась лицом в колени Ули.
— Что с тобой, Валечка?
Валя подняла лицо с полуоткрытым влажным ртом.
— Уля! — сказала она. — Меня угоняют в Германию».
По Краснодону, как и по всем другим оккупированным городам, поселкам, селам, были развешаны приказы о регистрации на бирже, о конфискации топлива, о сдаче теплых вещей для немецкой армии… Каждый листок грозил суровой карой — вплоть до расстрела. И это не было пустой угрозой. Фашисты захватили Краснодон 20 июля 1942 года. В первые же дни оккупации начались расстрелы. В поселке Изварино повесили братьев Якова и Михаила Бекегаевых… В ночь на 29 сентября в городском парке Краснодона фашисты живыми зарыли в землю начальника шахты А. Валько, парторга С. Бесчастного, комсорга П. Зимина, председателя пригородного колхоза А. Шевырева, зав. военным отделом райкома партии Г. Винокурова. Зверская расправа потрясла Краснодон. Оккупанты рассчитывали, что террор сломит город, страх сделает всех, кто еще пытается сопротивляться, послушными исполнителями железной германской воли. В чем-то их надежды оправдались. Посмотрите, как мечется Валя Филатова: вышел приказ о регистрации на бирже, а она все еще не выполнила этого приказа и «жила в ожидании ареста, чувствуя себя преступницей, ставшей на путь борьбы с немецкой властью».
Тем утром по дороге на рынок Валя встретила «несколько первомайцев, уже сходивших на регистрацию; они шли на работу по восстановлению одной из мелких шахтенок, каких немало было в районе Первомайки». И сама пошла на регистрацию. У биржи труда стояла тихая очередь. Пожилых и молодых людей пригнал сюда страх.
К этому времени немцы уже отправили в Германию первую группу краснодонцев, в основном шахтеров, обещая там — хорошие заработки, а здесь — сохранить жилье и позаботиться о родных. Конечно, обещания оказались дешевой уловкой. И каждый, кто мог, старался уклониться от регистрации на бирже.
Теперь фашисты с полицаями готовили список на полторы тысячи человек. Но списки с адресами, справками и всеми документами в одну морозную ночь полыхнули вместе с биржей. «Это одно из самых фантастических дел «Молодой гвардии», — пишет Фадеев, — осуществили вместе Сережка Тюленин и Любка Шевцова с помощью Вити Лукьянченко».
Это строки из романа. А вот документ — допрос капитана немецкой жандармерии Эрнста-Эмиля Ренатуса. Да, подтверждает он, пожар на немецкой бирже труда, флаги в день советского праздника 7 ноября, листовки с призывами избегать вербовки в Германию — все это наводило нас на мысль, что в Краснодонском районе действует подпольная организация. «Мы считали, что этими делами руководят коммунисты, и в первую очередь уничтожали их. Однако борьба против нас продолжалась…»
Рукописная листовка, пяток предложений, обращенных к товарищам-краснодонцам:
«Не верьте той лживой агитации, которую проводят немцы и их холопы.
Они хотят Вас завербовать для каторжных работ.
Впереди Вас ждет смерть и голод вдали от своей отчизны.
Не поддавайтесь на удочки немецких подпевал и не верьте их обещаниям.
Становитесь в ряды защитников своих прав, своих интересов.
Бейте, громите, уничтожайте фашистов!»
Это было в Краснодоне.
Это было в Сталино и Дружковке, Горловке и Красном Луче — во всем Донбассе.
Это было на Украине и в Белоруссии, в оккупированных городах и селах России.
Это было по всей оккупированной, но непокоренной земле. Так что подручные Гиммлера были правы, докладывая шефу о взглядах молодежи на оккупированной территории: «Молодежь сохраняет традиции, приобретенные во время советской власти. Необходимо ее радикальное перевоспитание».
Приведу лишь несколько типичных примеров из разных источников, советских и немецких, о том, как партизаны, подпольщики срывали угон на германскую каторгу.
…Н. Кириченко, свой человек на бирже труда в Каменке — Днепровской, предупреждал молодежь об очередных кампаниях по угону, спас более ста человек.
…В Брусиловском районе Житомирской области врачи и медсестры, объединившиеся в подпольную организацию «Советские патриоты», выдавали фиктивные справки о болезни, «…вместо намеченных к отправке по плану 3 тыс. человек в 1942 г. из района отправлено только около 1 тыс., а в 1943 г. — ни одного человека».
…Белорусские партизаны укрыли в лесных лагерях, их еще называли семейными, десятки тысяч человек, бежавших из городов и сел. Партизаны Минской области спасли от угона около 567 тысяч мирных жителей, покинувших свое место жительства.
…Целые отряды молодых людей с помощью партизан, подпольщиков, разведчиков переходили на советскую сторону. «В январе — феврале 1942 г. из района г. Киров Смоленской области за линию фронта были переправлены 15 тысяч молодых людей призывного возраста». На исходе 1943 года партизаны Белоруссии вывели из оккупированных районов свыше 40 тысяч земляков, которым грозил угон в Германию. А всего, по немецким оценкам, в партизаны ушло не менее полутора миллионов человек, на которых рассчитывал рейх.
Ну, а те, кого удавалось загнать в вагоны, конечно же не сидели, сложа руки. В сентябре 1942 года в Киеве с большими хлопотами собрали для очередной отправки 628 человек. Поезд не успел добраться до Фастова — это меньше сотни километров, — а из вагонов бежали триста человек, почти половина состава. Спустя несколько месяцев начальник охранной полиции и СД Киева докладывал по начальству: задания по вербовке рабочей силы срываются, поскольку многие завербованные, в том числе и добровольцы, «убегают в пути следования».
Иногда это были продуманные и спланированные акции, а чаще — стихийные попытки протеста, когда безоружные люди выступали против мощной, хорошо организованной чужой силы.
Через пару месяцев после разгрома под Сталинградом, перед летними боями 1943 года Генрих Гиммлер, рейхсфюрер СС, инструктировал командиров подчиненных ему дивизий:
«…Мы должны вести войну и наш поход с мыслью о том, как лучше всего отнять у русских людские ресурсы — живыми или мертвыми? Мы это делаем, когда мы их убиваем или берем в плен и заставляем по-настоящему работать, когда мы стремимся овладеть занятой областью и когда мы оставляем неприятелю безлюдную территорию. Либо они должны быть угнаны в Германию и стать ее рабочей силой, либо погибнуть в бою».
Невольничьи маршруты шли в Германию почти всю войну, даже в сорок четвертом, когда фашисты отступали.
11 июля 1944 года статс-секретарь министерства по делам оккупированных восточных территорий (территорий таких оставалось все меньше, а министерство функционировало как ни в чем не бывало) направил своим службам телеграмму:
«Только что узнал, что лагеря беженцев в Белоруссии, Белостоке, Кракове закрыты для вербовки по использованию рабочей силы.
Обращаю внимание на следующее:
1. Необходимо, чтобы военный штаб по использованию рабочей силы «Центр» продолжал свою деятельность по вербовке несовершеннолетней белорусской и русской рабочей силы для военных нужд рейха при всех обстоятельствах. Кроме того, штаб имеет задачу отправлять в рейх несовершеннолетних в возрасте от 10 до 14 лет».
Всего в 44-м году немцы собирались ввезти четыре миллиона человек. Генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы Заукель прилюдно поклялся фюреру «с фанатической волей сделать попытку обеспечить этой рабочей силой».
Опыт у него уже был. Еще в сорок втором году он заявил, отчитываясь, что «уже предоставил около миллиона рабочих для германской промышленности и 700 тысяч для сельского хозяйства». Тогда же, как отмечается в протоколе совещания у Гитлера 10–12 августа 1942 года, фюрер поручил гауляйтеру Заукелю принять все необходимые меры для набора рабочей силы: «Он согласен на любые меры принуждения на Востоке так же, как и на Западе, если этот вопрос не удастся разрешить на принципах добровольности».
«Там, где нет добровольного согласия, должно иметь место принудительное привлечение к трудовой повинности, — давал указания Заукель на заседании руководителей штабов по использованию рабочей силы в Веймаре в январе 1943 года, — это является железным законом в использовании рабочей силы». И дальше Заукель припомнил эпизод из времен Первой мировой войны, о котором ему рассказал Гитлер: «…комендант приказал всей деревне построиться, пересчитал всех, и вся деревня поехала в Германию на работу. Мы должны отбросить остатки нашей глупой гуманности». Которой, замечу, не было и в помине.
Следом за протоколами появлялись приказы по войскам. Как этот приказ по группе армий «Юг», 17 августа 1943 года: «…набрать и перевезти в Германию немедленно всех рабочих, имеющихся на вашей территории, рождения 1926–1927 гг. Срок выполнения — не позже 30 сентября 1943 г.».
Это значит — забрать у матерей и отцов их 16–17-летних детей.
Наталья Ильинична Мирошниченко, г. Северодонецк, Луганская обл.:
«28 августа 1943 года из села Меловое угнали всех парней и девушек 1926 года рождения. Мне эта дата врезалась в память как никакая другая.
На всех дверях висели списки жителей и приказы: «Если завербованный сбежит, вся семья будет расстреляна».
Владимир Коваленко тоже родился в 1926 году. Его родное село — Аджамка, в Кировоградской области. Отец, рассказывает В. Коваленко, воевал в Первую мировую, участвовал в Брусиловском прорыве, после революции сражался в Первой Конной армии Буденного. В годы НЭПа их семья получила от советской власти шесть гектаров земли.
Владимир Коваленко, Закарпатская обл.:
«За несколько лет село стало неузнаваемым. Крестьяне жили зажиточно, работалось отцу в поле весело, особенно в коммуне, в которую добровольно вошли семьи товарищей отца. В то время скота в селе было столько же, сколько сейчас во всем районе. Но во время коллективизации село пришло в упадок. В голодные годы люди либо вымерли, либо разбежались.
У отца был хороший голос, с пяти лет он пел в церковном хоре, и его приняли в капеллу «Век», в Сталино, нынешнем Донецке. Позже он забрал в Донбасс всю нашу семью. Когда капеллу закрыли, отец устроился рабочим на шахту № 6/14, занимался в художественной самодеятельности… Ну, а потом война, оккупация, голод. До конца сорок первого года мы продержались, меняя вещи, а в январе собрались пешком в свою Аджамку.
Где-то под Александрией в февральский, вьюжный день нас обогнал немецкий рогатый грузовик с кузовом, обтянутым брезентом. Обогнал и остановился. Шофер жестом предложил сесть в кузов, а солдаты помогли поднять саночки с пятилетним братом, дали ему пачку леденцов, отца угостили сигаретой и довезли нас до самой Аджамки.
В село возвращались раскулаченные. Многие из них начинали ревностно служить новой власти. Наш сосед прямо говорил моему отцу: наши дети настрадались по ссылкам да Соловкам, теперь очередь ваших детей. Сам он стал старостой, его сын Микола — полицаем. За мной началась настоящая охота, как на зайца. Трижды я убегал от вызова в Германию, а на четвертый раз, в конце августа 1943-го, попался…»
Почти такая же история в письме Елены Соловьевой. Ее и маму, преподавателя английского языка, война застала в Курске. А дальше дорога с санками, загруженными вещами, в село, обмен, полиция и — повестка в Германию.
Пожалуй, нет письма, в котором не было бы упоминания о старостах, полицейских. Люди помнят их имена, помнят и не прощают даже через годы ревностную службу врагу.
В украинское село Лопатынка фашисты пришли через две недели после начала войны. В хате Дерунцов еще было завешано зеркало: только что схоронили отца. Костя, старший из братьев, тракторист, эвакуировал технику за Днепр. Дома оставались пятеро… Был у них сосед, казалось, добрый и отзывчивый человек. Но именно он первым вышел с хлебом-солью встречать оккупантов. И он же постучался к Дерунцам — отправлять в Германию их дочь Прасковью. Но девушка, натерев глаза солью, сказалась больной. Тогда староста схватил ее брата, пятнадцатилетнего Павла.
«Так я оказался в Германии. Вместе со мной были односельчане — Трофим Михальчук, Тимофей Бойко… Получил я номер 317 и колодки-хольцшуэ».
Галина Николаевна Мазниченко, г. Запорожье:
«Мама моя, Мазниченко Ефросинья Филипповна, многие годы была председателем сельсовета. Перед войной по состоянию здоровья уже не работала. Выдал ее односельчанин, полицай, фамилию его называть не буду, а по-уличному — Степан Махойка (он не выговаривал «р»). 19 апреля 1942 года пришел Махойка с немцами, чтобы арестовать старшего брата Шуру. Но он, предупрежденный добрыми людьми, вовремя ушел в лес. И тогда Махойка, грязно выругавшись, сказал: «Забирайте у большевички девчонку!» И меня забрали. Мне было 15 лет, была незавидная, худая. С того несчастного августовского дня пошли мои мучения.
Позже, как я узнала, арестовали маму и девятерых односельчан. Увезли их из села неизвестно куда, обратно никто не вернулся. Брат, Александр Николаевич, воевал в партизанах, после освобождения ушел с нашей армией и погиб в сорок четвертом. А Махойку все-таки поймали после войны и судили, дали 25 лет. Но он живет, и семья его здравствует, а сколько душ загубил — страшно подумать. И сколько их было, таких предателей!»
Зинаида Трофимовна Моисеенко, г. Киев:
«Я бы небо вам преклонила в знак благодарности за то, что не забыли нас и просите вспомнить те страшные годы. Угнали меня из родного села зимой сорок второго. Полицай (говорят, он жив) заставил родителей привести детей на колхозный двор. Мне было 14 лет. И повезли нас в Золотоношу.
Помню, как мама бежала за санями, хотела мне дать в дорогу сухарей торбочку и упала в снег, потеряв сознание. А нас увезли. И осталась мама с малолетним сыном, моим братишкой. Ведь старшую сестру Таню угнали в Германию еще раньше, а отец наш был на фронте».
Елена Степановна Жданова, девичья фамилия Матвейчук, пишет из Кишинева. До войны она жила в Житомирской области, в селе Дергачевка, заканчивала медучилище. Четыре раза пряталась от угона. Сосед-полицай грозил поджечь хату. Однажды он встретил Лену на улице…
«Вначале он ударил меня плеткой, было очень больно, но я не заплакала, затем погнал меня в колонну, которую отправляли в район, в ней были со всех сел дети…»
Т. П. Горлова, г. Щигры, Курская обл.:
«Слезы катятся из глаз, потому что снится каждую ночь Германия, все я никак оттуда не выберусь. Молодость прошла там. Помню, будто сейчас, как нас угоняли. Все село провожало 15–16-летних детей. Куда? В неизвестность. Помню, как пела частушку старосте:
Я за все тебе прощаю, А за это не прощу, Будет времечко такое, Из нагана угощу.Староста до сих пор благоденствует где-то в Казахстане. А мы гробились на каторге. Привезли нас сначала в пересыльный лагерь в город Фаллингбостель. Это название часто упоминают в печати, наши из посольства там возлагают венки. Мы жили в бараках. В пять ярусов клетки. Одна «буржуйка» на большой барак.
Лагерь был огромный. Мимо нашего барака пленные отвозили мертвых. Туловище человека лежало на тачке, а ноги, распухшие, болтались. Этот ужас я видела каждый день.
Потом приехал дюжий дядька и отобрал 30 человек, в эту группу попала и я. Увезли работать по 12 часов ежедневно, да еще дома у хозяев стирать, убирать, коров доить. Только и слышно было: «Рус, ауфштейн», — и послушно вставали и отправлялись делать все, что скажет «фрау»».
Г. С. Калабина, г. Николаев:
«Моего брата Сережку — ему еще не было 14 лет — уводили в колонне. Гнали от нашего города Токмак до станции Пришиб, за сорок километров. Мне было 10 лет, и мы с мамой шли следом. Их охраняли собаки большие и полицаи. А потом посадили в грузовой вагон и забили двери.
Каждый день я ходила на почту, там ждали писем все, у кого братья, сестры, дети были угнаны в проклятую Германию. Хорошо помню, на почте висел портрет Гитлера. Под портретом была надпись: «Гитлер-освободитель». А я подписывала мелом: «от хлеба и соли». Меня ругали женщины, случалось, и били за это, боялись, что меня убьют, и вытирали написанное мною.
…После войны мы разъехались, и только через много лет я смогла расспросить брата, как ему приходилось там, в Германии. Брат начинал рассказывать, и тут же спазмы сжимали ему горло. Он просил никогда больше не заводить разговор об этом».
Двух сестер Соколовых (к сожалению, в письме нет имен) родители отправили из Харькова под Курск, к бабушке: надеялись, что там, в деревне, они переждут войну.
Зимой на требование старосты идти на расчистку дорог для немцев сестра сказала: «Обуй меня сначала». И тот ответил: «Ничего, я тебя обую!» В результате сестра, чтобы скрыться, ушла в Воронеж, а меня вместо нее отправили в Германию. Мне было 14 лет».
В семью Поповых повестку принесли в начале октября 1942 года: явиться 20.X к бывшему сельсовету, при себе иметь продукты на три дня и смену белья.
«Мама плакала, уговаривала отца:
— Отведи старосте телушку, чтобы не трогал Катьку. Куда ж ее посылать, на погибель, ведь шестнадцать только…
— Да что ты, — отвечал отец, — этого живоглота Патрына не знаешь?
Старосту Патрынова и его помощника Горюнова в селе знали все. У отца врагов не было, мстить нам было не за что, но папа не стал унижаться и просить, потому что твердо знал — без толку. Делать нечего: что людям — то и нам.
У сельсовета стояла машина, рядом — два немца и переводчица. Полицаи сделали перекличку и погнали нас — только не в Новый Оскол, а в Чернянку.
В Чернянке нас передали немцам — опять же порядок был. По списку передали. Нас тщательно учитывали, мы уже были собственностью рейха. В реестре значилось 130 человек, столько же было в наличии — никто не убежал. Да и как бежать, если в заложниках родители остались?
В Чернянке нас должны были посадить на поезд. Оказалось, сюда пришло довольно много провожающих — родители, родственники. Был там и мой отец. Потом я узнала, что этот момент прощания чуть не лишил его жизни.
Затолкали нас в товарные вагоны, но закрыли их не сразу, немцы долго бегали вдоль состава и на кого-то орали. Говорю «на кого-то» потому, что мы сидели тихо — значит, не на нас.
Наконец, разобрались, гвалт смолк, вагоны закрыли. Тишину разорвал протяжный паровозный гудок, поезд тронулся. И уж тут раздался такой крик, по сравнению с которым ор немцев был как лай собачий перед громом над головой. Кричали и мы из вагонов, и те, кто провожал нас. Поезд уже стал набирать скорость, да вдруг снова остановился. Провожающие догнали состав, нашли вагоны со своими детьми. И вновь крик. Поезд снова покатил, а километра через два опять остановился, и так раз пять повторялось, честное слово. Станция давно скрылась из виду, вокруг — сплошные сосны, темнеть стало, дождик сеял, не переставая, мы в вагонах мокрые, а люди за нами по грязи вдоль линии бегут».
Георгий Иванович Кондаков, г. Орел:
«В июне 1942 года, какого числа не помню, отец пришел со сходки и сказал, что поступил приказ направлять на работу в Германию парней и девушек и что сход решил для этих целей брать детей из многодетных семей — мол, не так обидно будет родителям. В нашем селе Новолуние выделили троих — меня, Николая Анохина и Аню Игнатову. Мерцаловских — это соседнее село — не трогали, поскольку там жил сам староста. Строго предупредили, что если выделенные сбегут, то за это будут наказаны родители и даже вся семья. Услышав такую новость, мать и бабушка завыли как по покойнику, да и у отца проступили слезы на глазах. Дня через два нас посадили на подводы и в сопровождении полицейских, вооруженных винтовками, повезли в Нарышкино. Бабушка пошла меня провожать, а мать осталась дома с четырьмя детьми (младшему Володе шел второй год). При расставании все плакали, а матери стало плохо — ее отпаивали водой. Мы обнялись с отцом. Это было 26 июня 1942 года.
В Нарышкине нас посадили в вагоны, чтобы везти в Орел. Когда поезд дернулся, бабушка дико закричала и села на землю. Глаза ее широко открылись…
До сих пор эта картина, в мельчайших подробностях, жива в моей памяти. Я держал узелок, который бабушка сунула в последний миг. В нем было собрано все лучшее, что могли дать мне в долгую и страшную дорогу родные. В Орле нас перегрузили в товарные вагоны, двери закрылись, и поезд покатил на запад. Ночью в Брянске к эшелону добавили еще несколько вагонов.
Первый раз нас кормили в городе Лида. Тянулась эта процедура довольно долго. Один мужчина, мой сосед, попросил раскрутить проволоку и снять щеколду с другой стороны вагона. Я с готовностью нырнул вниз и, подпрыгнув, повис на щеколде, пытаясь размотать проволоку. Страшный удар в спину сбил меня, как спелую грушу. Почти потеряв сознание, я юркнул под вагон. Второй удар пришелся по каблуку сапога. Я выскочил пулей с другой стороны. Мне подали руки и через секунду я сидел внутри, забившись в угол. К вагону уже бежала охрана, но тут поезд тронулся, что меня и спасло. Дверь захлопнули.
Следующая остановка была в Берлине. Тут произошла забавная сцена. В вагоне ехали семейные с детьми. Один малыш попросился на горшок и, сделав свое дело, отправился обратно на нары. Его мамаша взяла, да и не глядя выплеснула содержимое за окно. А как раз напротив стоял немецкий полицейский в начищенной каске. Все содержимое русского горшка обрушилось прямо на него.
Страж порядка дико заорал. Но поезд тронулся, и я лишился возможности наблюдать финал».
(О Георгии Ивановиче Кондакове первой рассказала журналистка «Комсомольской правды» Галина Чернакова. В огромной почте газеты, где мы вместе работали, она «выловила» письмо из Орла, поразившее ее с первой же фразы: «Дорогая редакция, обращается к вам бывший узник фашистского лагеря Гельголанд, который находился в годы войны на британской территории». Георгий Кондаков писал, что на захваченные Нормандские острова в проливе Ла-Манш гитлеровцы завезли тысячи иностранных рабочих, в том числе советских. Чернакова заинтересовалась малоизвестной страницей войны, опубликовала в «Комсомолке» большой очерк; потом продолжила свои исследования в Институте истории, выступила составителем содержательного сборника «Советские люди в европейском Сопротивлении». По ее совету Кондаков продолжил работу над своими записками.)
А на станции Лида, получив страшный удар в спину, Жорка Кондаков еще хорошо отделался. Он вполне мог получить там пулю и остаться навсегда у насыпи. Таких эпизодов было очень много. Во время пересадки в Люблине в марте 1943 года из одного вагона, сговорившись, бежали десять молодых полтавчан. Обнаружив «недостачу», конвоиры вывели из этого вагона сорок человек и на глазах всего эшелона расстреляли.
… Марш-агента Раю за линию фронта, к немцам, направила армейская разведка.
«…Марш-агенты… Я уже несколько лет шел по их следам, — писал в своих «Последних заметках» замечательный публицист Иван Васильев. — Следы обрывались так неожиданно, будто падали в какой-то разлом земной коры, и, казалось, никакой силой не извлечь их из небытия. Девушки уходили на фронт и… пропадали. Спустя десятилетия некоторые вдруг объявлялись, но сколько требовалось усилий, чтобы найти их, расспросить, а они очень сдержанны были на рассказы — кому хочется рассказывать постороннему человеку о своих трагедиях!
Марш-агент — это разновидность разведывательной работы. Самая примитивная, но зато и самая распространенная во всех войнах. Надо пробраться на территорию, занятую врагом, слушать, считать, запоминать и потом, перейдя фронт, доложить в разведотдел. Там суммируют все донесения агентов и дадут в оперативное управление предположения о намерениях противника. Каждое донесение в отдельности походило на дождевую каплю: упала одна — ничего нельзя сказать о предстоящей погоде, а если много «капель упадет на карту» да все они сойдутся с данными пехотной, авиационной, резидентской разведок, — прогноз будет более или менее точный…
Я все-таки разыскал Раю в базарной сутолоке, она работала в одном из ларьков, очень удивилась расспросам об участии в войне:
— Про войну ничего не могу рассказать, а про плен… лучше не вспоминать.
Я показал ей справку из военных архивов — список марш-агентов, направленных в тыл врага разведотделом одной из армий Калининского фронта. Там значилась и ее фамилия.
— A-а, было такое дело. Все это из-за одеяла. У нас семья была большая. Детей много, спали внакатку, а укрываться было нечем. Военный, который приходил к нам, это увидел и потом, агитируя меня в разведку, пообещал теплое ватное одеяло. Мне было жалко братишек и сестренок. И я сказала: «Давайте сразу — тогда пойду». Я принесла домой новое одеяло и назавтра ушла. Немцы нас задержали в первой же деревне. Ни о чем не допрашивали. Ни в чем не подозревали, им, видать, уже был дан приказ: брать всех девчат и отправлять в Германию. Вот и повезли нас в теплушках. Как скотину. Долго везли, уж не помню сколько. В Германии нас распределили, кого на фабрики, кого к бауэрам. Я попала свинаркой к одной злющей фрау. Била страшно, а кормила тем же, чем и своих свиней. За четыре года я состарилась, как за сорок. Для меня свиньи теперь лучше людей… Спала в хлеву и видела сны, как укрываю братишек и сестренок теплым одеялом».
Петр Семенович Герасимов, г. Мариуполь, Донецкая обл.:
«Как я стал человеком под номером?
В четырнадцать лет, в 39-м, остался без отца. Пришлось, чтобы помогать маме, бросить школу. Взяли рассыльным на металлургический завод им. Ильича в городе Мариуполе, потом по моей просьбе перевели разметчиком на листопрокатный стан. Там же приняли в комсомол.
Когда началась Великая Отечественная война, дважды просил Ильический райвоенкомат призвать меня в армию, но мне сказали: ты еще молод, работай, успеешь навоеваться.
Однажды во время смены вдруг, как ветер, пронеслось по цехам, у проходных — немцы! Да, в Мариуполь танки фашистские ворвались внезапно. Растерявшись от неожиданности, разошлись кто куда… Жизнь в оккупации описывать не буду. Несколько раз уходил от облав, но в апреле 42-го попался».
Михаил Константинович Щаренский, г. Ростов-на-Дону:
«В 1942 году, когда фашисты ворвались вторично в Ростов, мне было 16 лет. Аресты, грабежи, массовые расстрелы. Моих родителей, как и других евреев, расстреляли в Змеевской балке, а меня долгое время прятали русские люди. Но все-таки попался я на глаза фашистам и отправили меня в Германию».
Варвара Власовна Яцук, г. Таганрог:
«В девичестве меня звали Варей Немерич. Мне не было еще 16 лет, когда немцы оккупировали мой родной Таганрог, где я родилась и училась. Не дали доучиться. В мае 1942 г. пришла повестка и в наш дом. Сначала моей старшей сестре, а вскоре и мне: отправляться в Германию.
Согнали нас на сборный пункт и под конвоем, пешком повели к Мариуполю. На всю жизнь запомнилась эта дорога по полям, по скошенной кукурузе, которая до крови царапала ноги. Обмотав их тряпками, мы кое-как передвигались. Ночевали в конюшне. Только тот, кто испытал все эго на себе, поймет наши чувства».
Мария Николаевна Полунина, г. Шелехов, Иркутская обл.: «Я до войны жила на Украине, в г. Мариуполе. В начале 1942 г. стали набирать добровольцев в Германию, но их так оказалось мало, что начали забирать всех подряд, не спрашивая никакого согласия. 14 апреля 1942 года нас загнали в товарные вагоны и повезли под охраной».
«Если число добровольцев не оправдает ожиданий, — распоряжался Ф. Заукель, — то, согласно приказанию, во время вербовки следует применять самые строгие меры».
Добровольцев были единицы. Этот факт тогда же признали оккупанты, разумеется, в документах для внутреннего пользования.
«Вербовка рабочей силы доставляет соответствующим учреждениям беспокойство, ибо среди населения наблюдается крайне отрицательное отношение к отправке на работу в Германию, — отмечалось в докладе начальника политической полиции и службы безопасности при руководителе СС в Харькове «О положении в городе Харькове с 23 июля по 9 сентября 1942 года». — Положение в настоящее время таково, что каждый всеми средствами старается избежать вербовки. Притворяются больными, бегут в леса, подкупают чиновников и т. п. О добровольной отправке в Германию уже давно не может быть и речи».
Такое же заключение сделала в своем отчете полиция безопасности и СД Киевского генерального комиссариата 1 ноября 1942 года: «Как и до сего времени, население настроено против отправки в Германию и всеми средствами старается уклониться от нее». В том или ином варианте эти признания встречаются в самых разных германских источниках: «Вербовка трудная, т. к. добровольцы встречаются крайне редко». «Население всеми силами противится вербовке».
На улицах оккупированных городов, поселков, деревень шла, как бахвалились сами гитлеровцы, охота за черепами. Казалось, жизнь вернулась на несколько веков назад, во времена татарских набегов на Русь, когда по пыльным шляхам — Изюмскому, Кальмиусскому, Муравскому — незваные гости уводили свой полон в Азов и Крым. По подсчетам известного русского историка А. Новосельского, за первую половину XVII века крымские татары угнали в полон от 150 до 200 тысяч русских людей, это минимальная цифра. «Лишь в незначительной части татары использовали полоняников в качестве рабочей силы, — отмечает ученый, — а более всего сбывали их на рынках за море». До истребления работой мурзы и ханы не додумались. Это изобретение запатентовали просвещенные немцы в середине XX века.
Сохранилось немало донесений немецких служб о такой охоте. Вот одно из них — рапорт 509-й фельдкомендатуры из Кировограда. На станции Знаменка и в окрестных селах, говорилось в документе, людей хватали, не считаясь с их возрастом, семейным положением. Связанных людей вели через весь город. Матерей отрывали от детей, даже не дав им попрощаться. А знаете, как назывались эти операции-облавы? «Волшебная флейта», «Праздник урожая», «Перелетная птица», «Сияние радуги»… В ходе одной из таких операций немцы расстреляли две тысячи человек и 1308 отправили в Германию. Вот такими были праздники рабовладельцев. «Методы вербовки рабочих становятся невыносимыми», — не выдержал даже командующий оперативным районом группы армий «Юг».
Добровольной отправка выглядела только на страницах фашистских и профашистских листков, да в рекламных роликах, снимаемых по заказу ведомства Геббельса в кинопавильонах под Прагой. Там «восточных рабочих» провожали — встречали чуть ли не с цветами. Там натянуто улыбались «добровольно записавшиеся» и демонстрировали свидетельства о допуске «к исполнению почетной обязанности трудовой повинности». На германских заводах, рудниках «добровольцев» называли своими именами: «Славяне — это рабы». Такие плакаты висели в цехах заводов Круппа. И в официальных документах фирмы пушечного короля обычными были выражения: «рабский труд», «рабство», «рынок рабов», «штуки» — эго о людях.
Прасковьи Ширнова, г. Унгены, Молдавия:
«Был такой случай на станции Виры, куда нас, попавших в облаву, согнали. Одну женщину-инвалида (она не двигалась) привез ее брат на тачке к коменданту, чтобы ее дочку не увозили в Германию, потому что за больной мамой некому ухаживать. Комендант выслушал переводчицу и переспросил: это за ней некому ухаживать? Сидя в кресле, поднял автомат и расстрелял несчастную. А потом продолжил: «Вот и не надо больше ухаживать. А дочь должна работать на великую Германию»».
Среди бела дня на виду у своих сослуживцев германский офицер расстрелял больную русскую женщину. Это был, как считал комендант, наглядный урок и для немцев, и для их русских рабов, «недочеловеков». Эхо той автоматной очереди не докатилось и до окраин безвестной станции, о расправе с несчастной даже не упомянули в рапортах. Этакая мелочь, прихлопнули русскую бабу, как надоедливую муху. Но на станции Виры гот эпизод запомнили.
Годами авторы мемуаров, кино- и телефильмов, созданных в Германии после Второй мировой войны, перекладывали всю вину за преступления гитлеровцев в Советском Союзе на таких вот карателей. Солдаты вермахта, мол, не несут ответственности за злодения эсэсовцев, жандармерии, зондеркоманд. Офицерский корпус, утверждают, добивался «порядочного отношения» к жителям оккупированных районов, военнопленным, «остарбайтерам». И вообще, «мы, немцы, не знали о гитлеровских целях войны…». Это слова Вильфрида Штрик-Штрикфельдта, офицера германской армии, «ближайшего сотрудника и друга А. А. Власова», как представляет автора мемуаров издательство «Посев».
Они все знали. Знали о приказе на месте расстреливать комиссаров. Знали о приказе «расстреливать на месте всех выбивавшихся из сил военнопленных». Действовали в соответствии с приказом «Об особой подсудности в районе «Барбаросса» и особых мероприятиях войск» от 13 мая 1941 года. Согласно этому приказу, отданному еще до войны, гражданские лица, оказывающие активное или пассивное сопротивление, должны были беспощадно уничтожаться, все подозрительные элементы также подлежали расстрелу. Только очень далекий от войны человек мог не знать об этом.
Немецкий историк Манфред Мессершмидт, изучая роль вермахта в войне против Советского Союза, пришел к аргументированному выводу: «…вермахт объективно служил острием меча той несправедливой системы, которая открыто заявляла о том, что ведет истребительную войну. Германские офицеры еще до нападения на СССР знали, что «эта война готовится отнюдь не для защиты отечества». Один из них назвал вермахт рабовладельцем Европы. Правда, осмелился на такой вывод уже после войны, после разгрома Германии.
Екатерина Степановна Луценко, с. Сунки, Черкасская обл.:
«На товарных вагонах фашисты развешали лозунги: «Украина посылает лучших своих сынов и дочерей в прекрасную Германию в благодарность за освобождение». В тот же майский день 1942 года мы узнали, что в Киеве на площади Богдана Хмельницкого повесили «саботажников», которые отказались ехать в Германию. Вот такой была добровольная отправка».
Василии Старченко, г. Шахтерск, Донецкая обл.:
«Увозили нас из Стал и но, набив битком вагоны. Только на третьи сутки надумали покормить. Раздали бумажные стаканчики и черпаками разливали бурду. Эти же стаканчики фашисты с гоготом предложили использовать по нужде. Но на этом наши мучения не кончились. Все только начиналось.
Однажды поезд остановился на полустанке. Всех выгнали из вагонов. Девушки и парни умоляли разрешить им разойтись по разные стороны эшелона, но наши мольбы не действовали. Делать нечего… А они, цивилизованные звери, ходили с фотоаппаратами и снимали наш позор. Да при этом еще приговаривали: «швайн». Может, и свиньи — только кто?»
О таком же «представлении» рассказывает в своих воспоминаниях Екатерина Попова: «И говорить об этом позоре стыдно, но и забыть невозможно». Судя по всему, развлечение для гитлеровской солдатни было типичным.
«Но, как бы то ни было, справили мы свои дела, забрались опять в вагоны, — рассказывает дальше Е. Попова. — Стало чуть веселее. Вспомнили, что голодные, ведь почти сутки ничего не ели. Достали свои мешочки. Принялись за еду, она у всех примерно одинаковая была — вареные яйца, соленые огурцы, отварная картошка. Однако нам предстояло еще новое испытание. У меня-то еще с ночи во рту пересохло, язык опух, губы полопались — не до еды. А через некоторое время и остальным жутко захотелось пить. Воды не было…
На вторую ночь пути в вагоне уже совсем никто не спал — от жажды буквально умирали. И умерли бы наверняка, если бы нас продержали взаперти еще хоть день.
Выпустили нас из вагонов только в Бресте. Загнали в бараки, огороженные колючей проволокой. На следующий день была медкомиссия — в основном наружный осмотр, особенно тщательно проверяли, нет ли у кого чесотки или серьезных наружных болячек. Если такое находили — без церемоний ставили печать на лоб и отправляли в изолятор. Из наших такое случилось только с одной девушкой».
После войны стали известны многие ранее секретные фашистские документы. Например, вот такие.
«Очень плохо влияют на моральное состояние квалифицированных рабочих и населения встречные поезда, когда провозят рабочих, которых немцы сделали нетрудоспособными или которые не годились для работы с самого начала… В одном случае начальник транспорта квалифицированных рабочих видел собственными глазами, как человека, умершего от голода, выбросили из встречного транспорта в придорожную канаву. Это был старший лейтенант Гофман, начальник 63-го транспорта. В другой раз сообщили, что трое мертвых оставлены в стороне от поезда и они никем не были похоронены…»
«…Поезд с возвращающимися рабочими остановился на том месте, где стоял поезде вновь набранными рабочими, которые направлялись в Германию с Востока. Из-за наличия трупов в обратном эшелоне могла произойти серьезная неприятность, если бы не вмешалась госпожа Миллер. В этом поезде несколько женщин родили, и немцы выбрасывали новорожденных из окон во время хода поезда. Больные венерическими болезнями и туберкулезом лежали в тех же вагонах на голом полу, даже без соломы. Один из мертвых был выброшен на железнодорожную насыпь. То же самое происходило в других обратных эшелонах».
Минчанин Василий Иванович Петрученя к своему письму приложил снимок обелиска с красной звездочкой, поставленного в селе Жаулки в память 512 односельчан, сожженных, расстрелянных, загубленных фашистами 5 февраля 1943 года. Километрах в двух от Жаулок его родная деревня Кудиновичи. Ей тоже грозила такая же участь, если не найдутся «добровольцы».
«По решению односельчан, — пишет Василий Петрученя, — дабы всех не постигла судьба Жаулок, все, кто получил повестки, 4 марта явились в район; а там нас загнали в вагоны, в которых накануне перевозили лошадей…» Так действовал приказ Заукеля: «В целях ускорения отправки и «вербовки» рабочей силы разрешается применять все средства и методы».
На заседании Нюрнбергского трибунала представитель обвинения от США Т. Додд зачитал секретный приказ по войскам СС, датированный 19 марта 1943 года: «…если есть необходимость, следует сжигать деревни, все население должно быть предоставлено в распоряжение начальника по набору рабочей силы».
В этом месте стенограмма зафиксировала реплику председателя трибунала:
— Не думаете ли Вы прочитать четвертый абзац?
«Додд: Читаю четвертый абзац: «Как правило, детей не надо больше расстреливать…»
Анна Васильевна Демина, г. Сочи:
«Я родом из села Васютенцы — тогда оно было в Полтавской, а сейчас в Черкасской области. Когда село оккупировали, мне шел 13-й год, сестре — 15-й. Отец был на фронте. И вот старшую сестру «назначили» в Германию.
Перед отправкой проходили медкомиссию. Здоровым вручали белый талон, а больным — синий. Моей сестре повезло. Ей сунули синий талон. Нет, она не была больной. Просто в комиссии оказалась женщина-врач, которая, рискуя своей жизнью, спасала ребят, устанавливая вымышленный диагноз. У моей сестры она «нашла» трахому, хотя зрение у нее было прекрасное.
Казалось, беда миновала. Но вскоре нам опять принесли повестку, а в ней — угроза «расстрела за неявку». И мама начала собирать сестру в дорогу. Но те сборы не завершились. Вдруг мама вытерла слезы, выпрямилась и, широко раскрыв свои голубые глаза, решительно сказала: «Нет, ни за что и никогда добровольно не отдам своего ребенка палачам. Пусть лучше меня расстреляют. Будем прятаться».
Спрятались мы в соседнем сарае. Ночью услышали немецкий разговор. Потом какой-то стук, грохот и в нашем доме сверкнул фонарик. Никого не обнаружив, ночные гости ушли.
После той страшной ночи мы перекочевали на болото. Там много таких скрывалось, как мы. Худые и обессиленные люди по утрам отрывали примерзшую ко льду одежду. Большие костры не разжигали. Лишь угольки тлели то там, то здесь. Беглецы варили скудную еду, грелись. Наступал день, и вместе с ним приходил страх.
И все же мы выстояли, фашистам так и не удалось увезти нас на каторгу. Мне — за 60. А я и сейчас помню, как трогательно и нежно благодарил ее отец за то, что спасла себя и дочерей. Он умер после войны от ран. Выросли мои дочери — его внучки — и у них уже растут свои дети. Пусть они никогда не испытают того ужаса, который пережили мы».
Анастасия Чернова, г. Чебоксары:
«Когда началась война, папу, Василия Васильевича, взяли на фронт. Мама, Марфа Митрофановна, осталась с дочерями: Марией, 1923 года рождения, Антониной (1929), Раей (1931) и мной, Настей (1938). Жили мы в совхозе «Новый Донбасс», недалеко от города Снежного Сталинской, ныне Донецкой области.
Немцы, заняв поселок, выгнали нас из барака, и мы ютились еще с одной семьей в погребе. Старшей сестре Марии шел девятнадцатый год, немцы ее приметили и стали приставать к ней. Мама защищала сестру как могла, и один немец чуть ее не застрелил. Мы все маму обняли вокруг юбки и очень плакали. Он пожалел ее из-за нас. Потом всех молодых стали забирать на работу в Германию, и нашу Марию тоже. Помню, когда провожали сестру, всюду был сильный иней, я плакала и держала Машу за подол, а она меня уговаривала и обещала привезти мне большую куклу из Германии».
В мае 1943 года из Свердловска, нынешнего Екатеринбурга, на Юго-Западный фронт выехала театральная бригада. И вместе с бойцами попала в окружение. «Положение очень серьезное, мы в окружении, — говорил гостям командир части, — но попытаемся помочь вам, товарищи артисты, вырваться». Вырваться никому не удалось. «Раненый командир части подымается во весь свой богатырский рост и выкрикивает проклятья подступающим гитлеровцам — автоматная очередь прекращает его мученья».
О последних минутах советского офицера рассказывает в своих записках актриса Елена Вишневская — отрывки из них подготовил к печати Михаил Любимов, а опубликовал в третьем номере за 2003 год журнал «Источник». Это потрясающий документ, и я к нему еще не раз вернусь, а пока только несколько строк об окружении и плене.
Сзади раздается: «Хальт!» «Меня нет, есть только моя спина. Понимаю, что надо повернуться… Сейчас я увижу немцев, — проносится в мозгу…».
Впереди у Вишневской был поселок Фарель близ города Ольденбурга, рабочий лагерь моторного завода.
Георгий Иванович Кондаков:
«Во Франкфурт-на-Майне мы прибыли ночью. Станция была ярко освещена. На перроне и на путях стояла охрана с автоматами и десятки собак исходили истошным лаем. Раздавались команды: «Лос, лос, бистро, бистро». Нас сбили в колонну и повели через пути, под мост, а затем вверх на гору, как выяснилось потом, в лагерь. Густая колючая проволока, огромные двустворчатые ворота. Ослепительно яркие прожектора, направленные прямо в глаза — вот что я запомнил. Послышалась немецкая речь и крики переводчиков: «Заходите в бараки!» В деревянных бараках не было ни нар, ни столов, ни стульев. Мы упали прямо на пол в забытьи.
Рассвет высветил тысячи надписей, которые сплошь покрывали стены и даже виднелись кое-где на потолке. Писали русские, украинцы, белорусы, поляки: «Я, такой-то, оттуда-то, был здесь тогда-то». На чужбине эти краткие слова воспринимались как сгустки боли. За каждой строкой слышался прощальный крик души, гонимой в неведомое. Некоторые надписи потрясали своей обреченностью. Помню, например, строки, выведенные химическим карандашом некой Оксаной с Полтавщины: «Передайте моей родной мати, що я николи не побачу ни ее, ни всех моих дорогих братиков».
В шесть утра раздался гонг. Нас выгнали на плац. Сразу же куда-то увели семейных. Потом отделили женщин. Мужчин построили и отобрали стариков — их также увели. Затем вызвали добровольцами для работы на заводах Германии тех, кто имел рабочие профессии — токарей, фрезеровщиков и т. д. Вышла жиденькая кучка. Стоявший до этого истуканом офицер в черном, что-то пролаял и хлыстом указал в сторону близлежащего барака. Окна угрюмого здания были густо переплетены колючей проволокой, за которой виднелись страшные из-за своей худобы и синюшной бледности, стриженые наголо головы десятков, если не сотен людей. Они протягивали сквозь нагромождение колючей проволоки руки — такие худые, что казалось, будто они вот-вот рассыпятся, и сиплыми, тусклыми голосами тянули: «Киньте хлебушка! Что-нибудь поесть дайте!» Картина потрясала. А переводчик между тем кричал: «Кто скроет свою специальность, того отошлют на шахты Бельгии и с ним будет то же, что и с этими, которые там работали!» Это была наглядная агитация высокой степени действенности! Еще несколько человек сделали шаг вперед, среди них и мой земляк Николай Анохин.
Был ли я тогда патриотом и ненавистником фашизма? В полном смысле этих слов, наверное, нет. Но я не вышел из строя, хотя имел на руках официальный документ токаря третьего разряда. Не покинули строя и другие мои товарищи по ремесленному училищу, которые, как выяснилось потом, тоже попали в этот эшелон. Назову их имена: Рослов Владимир, Пантюхин Николай, Колганов Иван, Фамшин Павел. Может, был и еще кто-то».
Среди тех, кто мог загреметь в Германию, был и мой давний товарищ Саша Капто. Познакомились и подружились мы в Киеве, когда вместе работали в газете «Комсомольское знамя» в середине 60-х годов. Потом Александр Семенович пошел по комсомольской и партийной линии, был первым секретарем ЦК комсомола Украины, секретарем ЦК компартии республики, заведовал идеологическим отделом ЦК КПСС, представлял как Чрезвычайный и Полномочный посол Советский Союз на Кубе и в КНДР, написал немало интересных книг… В общем, как говорят сейчас в рекламных роликах, жизнь удалась.
А могла оборваться на десятом году его жизни, когда в их хату в селе Грушевка пожаловал незваный гость в черной форме. На его эмблемах были скрещенные кости. Эсэсовец, которого сопровождал полицейский из своих же односельчан, кивнул Сашиной маме: «Киндер!» и показал пальцем на дверь. В те дни по всему Приднепровью немцы собирали детей для отправки в Германию.
Только после войны стал известен один из документов такого рода — меморандум Розенберга:
«Группа армий «Центр» намеревается захватить 40–50 тысяч подростков в возрасте от 10 до 14 лет… и направить их в Рейх.
Это мероприятие первоначально было предложено 9-й армией. Предполагается использовать этих подростков на немецких предприятиях в качестве подмастерьев и учеников. Эта акция широко приветствуется представителями германских ремесел, поскольку позволит решительно устранить нехватку подмастерьев и учеников. Эта мера направлена не только на предотвращение прямого пополнения численности армий противника, но и на сокращение его биологического потенциала».
…Эсэсовец недовольно поторапливал испуганного мальчугана. Басил полицай, отправивший свою дочь в Германию:
— Культурным человеком там станешь!
Александр Семенович Капто, г. Москва:
«Мать, припадая к ногам непрошенных гостей, умоляла, показывая девять пальцев, давая понять о моем возрасте. А в это время стоящий рядом со мной эсэсовец демонстративно наступил своим кованым сапогом на мою ногу. Боль, ей-богу, до сих пор чувствую. И все же вскоре я был на площади, а там все мои ровесники-односельчане. Предполагалась в самое ближайшее время отправка на железнодорожный вокзал, а потом — Германия. И вдруг, словно сам бог смилостивился. Одна бабушка, выбрав удобный момент (нас охраняли солдаты, стоявшие в разных концах), накрыла меня своей «спидницей», длинной и очень широкой юбкой, и начала потихоньку отделяться от толпы, подталкивая и меня, находящегося под таким прикрытием. «Отконвоировала» она меня к огороду, после чего я по замерзшей реке ушел на окраину села и залез в кручу. Так называют на Украине крутые, с углублениями, впадины у речных берегов. Оттуда на следующий день меня с отмерзшими ушами забрала мать.
Вспоминаю об этом с неугасающей болью: из всех ровесников, собранных тогда на сельской площади, в живых я остался один. Остальных же немцы отправили на вокзал, и следы их пропали. Высказывались различные предположения: или во время переезда в Германию эшелон подвергся бомбардировке, или, как позже сообщалось об аналогичных случаях, детей увезли для проведения медицинских экспериментов, для откачки их крови. Как бы там ни было — ни одной весточки ни от них, ни о них в тихое село Грушевку за все послевоенные годы так и не пришло».
В рабстве
Из города Вознесенска в Николаевской области пришел пакет с двумя фотоснимками. Прислал их Владимир Степанович Зинский, остарбайтер с августа 1943 года по май 1945-го.
Два снимка разделены одним лишь годом. В обычной жизни, в обычное время разница едва ли была бы заметна. А здесь — словно два разных человека. На первой фотографии — полукруглое мальчишеское лицо. Полноватые губы. Под роскошным чубом, сводившим с ума всех девчат в округе, испуганные глаза: что теперь будет?
«Нас привезли на работу в порт города Бремен. Тянули лямку там в две смены по 12 часов. Кормили один раз в сутки — ломтик хлеба и пустая похлебка. А когда порт разбомбили, нас перевезли в Любек. Здесь во время налета, когда расколошматили контору лагеря, я случайно нашел свою «арбайт-карту» и содрал с нее карточку, сделанную в Любеке».
Только глаза можно узнать на изможденном лице. Старческие складки пролегли к губам восемнадцатилетнего юноши. Тоненькой шее просторно в воротнике… Таким Володю сделал год рабства.
А кто был рабовладельцем? Кому передавал Заукель рабов? Прежде всего — германским промышленникам, угольным, стальным, оружейным баронам. Дармовую рабсилу, как заметил американский юрист Д. Шпрехер, они считали неодушевленным сырьем.
На свои 80 с лишним заводов Крупп купил 277 966 рабочих. И сверх этого эксплуатировал еще примерно сто тысяч. В опубликованных документах нет данных о самом старшем по возрасту из невольников. Впрочем, ясно, что стариков сюда не завозили: не богадельня же. Нижняя планка установлена документально. Сначала — семнадцать лет (в сорок третьем году загребали родившихся в 1926-м); потом начали брать четырнадцатилетних, двенадцатилетних; поданным, приведенным на Нюрнбергском процессе, заставляли работать даже шестилеток. «Здесь только для немецких детей привилегии, — говорилось в одном из писем, переправленных в октябре 1942 года из Германии в Киевскую область, — а наши украинские мучаются. А за что? Здесь есть три украинских хлопчика, самому маленькому 6 лет, и он уже работает по 10 часов. Только подумать: поднимать ребенка в 4 часа утра. Он каждый день недоедает. Это вырастут не люди, а скелеты».
Густая сыпь лагерей окружала главное управление крупповского концерна в Эссене: Зейманштрассе, Шлагетершуле, Кремерплатц, Дехенгулле — всего 55 концлагерей. И среди них лагерь Бушмансгоф, куда свозили младенцев, родившихся у рабынь — за два-три месяца до конца войны малышей уничтожили.
Империя рабства охватывала собственно Германию. И протекторат Богемию и Моравию, Австрию, Польшу, Бельгию, Норвегию…
Чешский краевед Карел Велек составил подробную опись расположения лагерей и лагерных пунктов в районов Соколов (во время оккупации Фалькенау). Это один из промышленно развитых регионов Западной Чехии, в полусотне километров от всемирно известного курорта Карловы Вары, — для немцев до сих пор Карлсбад. Они называют эти гористые места, примыкающие к Германии, Судетами. В довоенной Чехословакии в западном и северном пограничье жила значительная часть трехмиллионного немецкого населения страны. В 1938 году в Мюнхене премьер-министр Англии Чемберлен и премьер-министр Франции Даладье уступили натиску Гитлера и согласились с передачей районов, занятых преимущественно немецким населением, Германии. Эта позорная сделка вошла в историю как «мюнхенский сговор». Оккупировав ряд чешских областей, гитлеровцы изгнали чехов с родных мест. То, что случилось в 90-е годы прошлого века в Косово с сербами, было опробовано в 30-е годы с чехами. Затем настала очередь и всей Чехословакии. На территории Чехии был создан протекторат Богемия и Моравия, которым управляли берлинские эмиссары, в Словакии — марионеточный режим.
Перед Второй мировой войной Чехословакия вышла на второе место в мире по экспорту вооружений. Авиамоторы, танки, тяжелые орудия, стрелковое вооружение с маркой «Сделано в Чехословакии» было известно во многих странах. Ряд артиллерийских систем в середине 30-х годов собирался заказать Советский Союз.
Конечно же, вермахт рассчитывал на этот потенциал. На одном из закрытых совещаний в Праге гитлеровский наместник Рейнгард Гейдрих откровенно поучал свою свору: «Во время войны необходимо поддержать спокойствие и дать чешским рабочим столько жратвы, чтобы они могли делать свою работу». «Окончательное решение чешского вопроса» он откладывал на время после войны: «Попытаемся онемечить чешскую ветвь, а остальных ликвидировать… Это пространство должно стать немецким, чеху в конце концов здесь нечего делать». Точно так же высказывался в Варшаве генерал-губернатор, имперский министр Франк: «Если мы выиграем войну, то тогда, по моему мнению, поляков и украинцев и все то, что околачивается вокруг генерал-губернаторства, можно пустить хоть на фарш».
…На карте района Соколов Карел Велек пометил 43 концлагеря и лагерных пункта при шахтах, заводах, фабриках. Давайте вместе с ним посмотрим на эту карту.
По его подсчетам, в районе Соколов работали до 10 тысяч советских военнопленных и остарбайтеров. Кроме них было немало французов и поляков, занятых в основном в сельском хозяйстве. Лагеря примыкали к предприятиям. Подчинялись они организации «Шталаг XII.В.», расположенной в городе Вейден, Бавария. Обозначались аббревиатурой АК (Arbeitskomando) и номером.
«1. Горни Славков (Шлаггенвальд).
АК. 3291. 25 французских пленных.
АК. 10 431. 69 советских пленных.
АК. 10 471. Количество пленников и страна неизвестны.
Заключенные работали в свинцовых и вольфрамовых рудниках и на фарфоровых заводах.
На кладбище в Горном Славкове есть братская могила тринадцати советских военнопленных. Возможно, среди них были и товарищи из А К. 10 409 в Тепличце. О них вспоминает железнодорожный служащий Антонин Бранда:
«Пленные работали на ремонте железной дороги, а жили на старой фабрике в Тепличце. Помню московского учителя Василия Алексенко. Мы с ним говорили по-чешски. Иногда случалось подбросить пленным кусочек хлеба или картошку. Охранял их Иоганн Вейдель, наказывал и бил за малейшую провинность. Среди охранников был и один баварец. Он настолько был возмущен действиями Вейделя, что однажды пригрозил ему пистолетом».
2. Красно (Шенфельд).
АК. 3883. 15 французских пленных. Работали на свинцовом и вольфрамовом руднике.
3. Локет над Огрже (Эльбоген).
АК. 10 459. 87 пленных, вначале бельгийских, позже советских — работали на фарфоровых заводах. Сохранились свидетельства о добром отношении немецких работниц к своим напарникам. Так, например, Анну Гутман, 1907 года рождения, допрашивали за то, что дала русскому пленному кусочек хлеба. А Лидию Эберле за помощь советскому пленному приговорили к одному году тюрьмы.
4. Ходов (Ходау).
АК. 7024. 34 советских пленных.
АК. 7162. 11 французских пленных.
АК. 10 422. 80 французских пленных.
АК. 10 450 101 французский пленный.
Термина Тилк работала на фарфоровом заводе с советским офицером Николаем Конякиным. Узнав о том, что он собирается бежать, передала ему карту Судет и компас. Ее задержали и судили в Берлине.
5. Лоучки (Грюнлас).
АК. 10 496. 26 советских пленных. Работали на местном фарфоровом заводе.
6. Ялови Двур (Кальтенхоф).
АК. 10 472. 16 советских пленных. Работали на местном фарфоровом заводе.
7. Нове Седло (Нейшаттль).
АК. 7113. 74 советских пленных работали на шахте «Анна».
АК. 10 429 118 пленных из СССР, Бельгии и Франции работали на стекольном заводе.
На кладбище в Новем Седле установлена гранитная глыба с пятиконечной звездой. Она обозначила место, где были похоронены пленные. Сколько человек там нашли свой последний приют, как их звали, сегодня никто уже не знает.
8. Гранишов (Гранешау).
АК. 3549. 14 французских пленных работали на шахте «Конкордия». На этой же шахте за какой-то незначительный проступок немцы убили советского пленного.
9. Краслице (Граслитц).
АК. 304. 73 польских пленных.
10. Шинделова (Шиндельвальд).
Концлагерь у металлургического завода — 120 французских, позже и итальянских пленных и интернированных лиц.
11. Ротава (Ротгау).
АК. 7 093 150 советских пленных.
АК. 7 063 313 советских пленных. Работали на металлургическом заводе.
12. Пржебуз (Друбусс).
Концлагерь размещался в болотистой местности. До двух тысяч английских, французских и советских пленных работали на шахте и на заводе. Перед отступлением немцы затопили шахту. Она стала братской могилой для многих узников.
13. Киншпери (Кёнигсберг).
АК. 3275-а. 16 французских пленных.
АК. 3275. 18 французских пленных.
АК. 7165. 66 советских пленных.
АК. 927. 29 бельгийских пленных. Работали на шахтах и на железной дороге.
14. Олови (Блейштадт).
АК. 7079. 25 советских пленных работали на стекольном заводе, здесь же и жили. Двое пленных умерли в больнице. Одного — Дмитрия Ковригина — застрелил охранник. На местном кладбище Ковригину поставлен памятник.
15. Либавеке Удоли (Лейбаутхаль).
80 французских пленных работали на подшипниковом заводе.
16. Даснице (Дасснитц).
50 французских и советских пленных ремонтировали железнодорожные стрелки.
17. Хабартов (Хаберсбирк).
Примерно 100 советских пленных работали на шахте «Либик».
18. Букованы (Буква) и соседние поселки.
АК. 7150. 50 пленных, в основном советских.
АК. 7 154 135 советских пленных.
АК. 7153. 71 советских и французских пленных.
Один из чешских рабочих Иозеф Эгер вспоминает:
— В Букованах было три концлагеря. Однажды пленные узнали, что за дворами — склад картошки. Голод принудил их украсть по несколько картофелин на брата. Хозяин пожаловался в полицию, и склад обтянули колючей проволокой под напряжением. Четыре русских осгарбайтера, которые не знали этого и пытались пролезть под проволокой, погибли на месте. Возле нынешней лаборатории шахты «Дукла» узникам выдавали суп. Один русский спрятался на крыше, надеясь позже убежать. Его схватили и расстреляли перед строем. Имя его неизвестно.
19. Дол ни Рихнов (Унтер Райхенау).
Заключенные — точное их количество неизвестно — работали на шахтах.
20. Исчезнувший населенный пункт Лискова (Хасельбах).
АК. 7151. 82 советских пленных работали на шахтах «Анежка» и «Фелициан».
21. Рудолец (Рудитцгрум).
АК. 7 163 150 советских пленных.
АК. 7 097 100 советских пленных.
АК. 7 161 100 советских пленных. Все работали на шахте «Сильвестр».
22. Исчезнувший населенный пункт Лвов (Лёвенхоф).
80 советских пленных работали на фирме О. Шахта.
23. Исчезнувший населенный пункт Иеглична (Грассет).
70 англичан и американцев работали на шахте «Мария».
24. Краловске Поржичи (Кёнигшверт).
50 французских пленных работали на шахте «Богемия».
25. Сватава (Звозау).
Советские пленные работали на заводе шарикоподшипников. Точное их количество в концлагере неизвестно.
26. Соколов (Фалькенау).
АК. 7 069 300–500 советских пленных работали на химзаводе и на подшипниковом заводе.
В книге учета похороненных на городском кладбище за 21 апреля 1945 года помечено: повешены двое русских. Здесь же похоронены.
17 апреля советских остарбайтеров пригнали разбирать завалы после бомбардировок. Двое из них нашли в развалинах кусок колбасы. Это была последняя закуска в их жизни. По приказу гестаповца Россмаля обоих повесили у костела св. Якуба. На стене костела после войны укрепили памятную табличку.
Руководство фирмы «Шталаг», стараясь сохранить рабочую силу, открыло в Соколове лазарет. До 6 мая 1945 года в нем умерли 2002 человека. Их хоронили в братских могилах. В свидетельствах о смерти помечали фамилию и номер. А в графе «преступная деятельность», как у Дмитрия Бахрина и многих других, писали: «Советский Русский».
Покойниками занималась похоронная контора города. Сохранились расчеты: переноска трупов — четыре марки за одного, доставка на кладбище — пять, могильщику — шесть, мешок — 1,2 марки. Похороны одного узника обходились в 16,2 марки. Со временем мешков стало не хватать — трупы сбрасывали в братские могилы без них. Марку и 20 пфеннигов «Шталаг» сэкономил. Теперь отправка на тот свет обходилась всего в 15 марок.
Эта беглая картинка лагерей всего в одном районе третьего рейха. Можете спроецировать ее на всю Германию, на все оккупированные страны, где из пленных, остарбайтеров выжимали последние соки. Прав немецкий историк К. Штрайт, писавший, что места пребывания «восточных рабочих» в Германии не поддаются точному фиксированию. «Значительная часть из них погибла — могилы «восточных рабочих» встречаются почти во всех германских городах. Тысячи их бежали или, получив травмы и став увечными, отправлялись на родину. Многие тысячи, даже за самые мелкие проступки, были брошены в концлагеря».
Александра Сергеевна Касьянова, Краснодарский край:
«До войны я жила в Ростове-на-Дону. Училась в новой, красивой школе № 52. Участвовала в школьной самодеятельности. С шестого класса была пионервожатой. Родители мои были простые рабочие, старшая сестра работала бухгалтером, погибла в бомбежку. Сразу после захвата Ростова фашисты убили отца. Расстреляли, как мишень, с пожарной вышки. Мы остались вдвоем с мамой.
11 октября 1942 г. меня, шестнадцатилетнюю, угнали в Германию.
Ночь надвигается, вагон качается, Ко мне спускается тревожный сон, Страна любимая не улыбается, Идет в Германию наш эшелон. Ночь надвигается, вагон качается, Ко мне спускается чудесный сон, Страна любимая мне улыбается. Идет на Родину наш эшелон.Поселили нас в бараках, обнесенных колючей проволокой. Повесили номер на веревочке. Как скоту… Я вспоминаю, а в душе все дрожит.
В цехе за нами приглядывал пожилой немец.
Он любил бахвалиться документом на вечное пользование землей на Украине. Когда надсмотрщик отлучался, раздавалась команда: быстрее, девчонки! Мы старались не заливать взрывчатку. Отправляли порожние гильзы. Но уже через 18 дней начались аресты. Два месяца продержали в тюрьме, потом отправили нас в Освенцим. Мне выкололи № 28 735.
После работы мы уносили трупы. Помню, шла в первом ряду другой колонны, а женщина на носилках еще живая, подняла голову, вся избитая, а капо как ударит ее палкой по лицу, кровь так и брызнула на меня. Нам перевели разговор между охраной. «Неужели вам не жалко, ведь это же люди?» — спросил один охранник. Второй ответил: «Если бы я хоть на минуту представил, что эго люди, я бы с ума сошел»».
Насколько же надо было изуродовать сознание человека, чтобы видеть в себе подобных не людей, а животных. Себя они относили к «расе господ», все остальные были холопами, даже хуже — «унтерменшами», недочеловеками. Казалось, человечество вернулось на сотни лет назад. Для «господ» существовал свой мир, своя жизнь, другим в ней места не было — только в качестве рабов, скота, быдла, дикарей. В немецких документах, а потом и в массовом обиходе появилось слово Steppenvolk. Буквально: народ степей. Первобытная, неграмотная орда, далекая от Европы и цивилизации. Кличка рассчитывалась не только на то, чтобы унизить «восточных рабочих» и военнопленных, среди которых было немало людей с высшим и средним образованием, специалистов самых разных профессий. Одновременно она поднимала в своих глазах немецкого обывателя, представителя Herrevolk — народа, призванного править всем миром.
И он воспринимал «восточных рабочих» как положенную свыше дармовую рабочую силу. Бессловесную скотину, с которой можно обходиться без слов. «Я со своим русским разговариваю только ногами», — бахвалился некий немецкий хозяйчик. Эта унижающая человека боль жжет и через годы. «Я неделями, месяцами не слышала родного слова, — вспоминала псковитянка Вера Леонтьева. — Только, когда добиралась до нар в бараке, сама себе что-то шептала, думала, не разучиться бы говорить».
Но кому в Неметчине были нужны переживания рабов?! Везут, заставляют вкалывать, значит, так нужно фюреру, так нужно Германии и ее военному производству, чтобы победить, чтобы править миром.
Система ненависти закабалила миллионы людей. Но она же растлевала и «господ», лишая их всего человеческого.
Приведу несколько писем из Германии. Они были найдены на местах боев и тогда же процитированы в сводках Совинформбюро, в комментариях прессы.
«Моя соседка приобрела себе работницу. Она внесла в кассу деньги, и ей предоставили возможность выбирать по вкусу любую из только что пригнанных сюда женщин».
«У нас пятнадцать человек взяли на завод. Папа не очень доволен, потому что мы получаем сорок русских, они такие тощие. Ну, ничего, им это не вредно…»
«Вчера днем к нам прибежала Анна Лиза Ростерт, — писали из местечка Люгде на Восточный фронт обер-ефрейтору Рудольфу Ламмермайеру. — Она была сильно озлоблена. У них в свинарнике повесилась русская девка. Наши работницы-польки говорили, что фрау Ростерт все била, ругала русскую. Покончила та с собой, вероятно, в минуту отчаяния. Мы утешали фрау Ростерт, можно ведь за недорогую цену приобрести новую русскую работницу».
Нам никогда не узнать имени этой безвестной русской девушки. Для хозяев она была просто «русской девкой», «русской работницей», которую, будто вещь, можно купить по дешевке. Имена рабов и рабынь рассеяны по кладбищам Третьего рейха, по страницам газет, издававшихся для «восточных рабочих». Из еженедельника «Украинець» я выписал скорбные строки:
«Рабочие-украинцы г. Карлсруэ сообщают о смерти своего 17-летнего друга Дитюка Миколы Наумовича из села Юстимовки на Киевщине».
Рядом строки о смерти донбасских ребят — Ивана Белокопыльского, Василия Батюка, Миколы Кравцова — семнадцать, двадцать, семнадцать лет…
Листал подшивку в надежде встретить знакомые фамилии, узнать о судьбах людей, которых разыскивают читатели. Вдруг повезет, и в какой-нибудь заметке мелькнет Иван Захарчук? Нет, в «Украинце» и других газетах его фамилия не встретилась.
«У нас в среду опять похоронили двух русских. Их теперь на кладбище лежит уже пятеро, и двое — кандидаты туда же. Да и на что им жить, этим скотам!»
Комментируя такие письма из Германии на фронт, Алексей Толстой в 1943 году писал, что самое удивительное в них — спокойная уверенность авторов в их праве быть рабовладельцами.
Иван Петрович Рубан, г. Кривой Рог:
«В Линце, на распределительном пункте, точнее, на рынке рабов, я вспомнил сцены из «Хижины дяди Тома». Торг невольниками был осужден уже во всем мире, но германские работорговцы продавали людей и кичились при этом своей цивилизованностью, как и покупатели.
Один за другим к нашему строю подходили респектабельные господа. Присматривались, выбирая самых крепких, сильных. Ощупывали мускулы, деловито заглядывали в рот, о чем-то переговариваясь, ничуть не считаясь с нашими чувствами. Я был маленького роста, хилый и остался среди десятка таких же нераспроданных заморышей.
Но вот высокий покупатель в потертой куртке презрительно оглядел нас, что-то пробурчал себе под нос и пошел в контору платить деньги. За всех оптом».
Картинку рабства из учебника вспомнила и Катя Попова.
«На раскрытой странице картинка: лодка с неграми, закованными в цепи, рядом толстый работорговец готовится отплывать со своим «живым товаром» на рынок. «Бедные, — чуть не вслух думаю я, — их же продавать будут, как лошадей, коров или овец…»
Могла ли догадаться я тогда, что мне самой предстоит пережить ужасы рабства?! Да, меня трижды продавали и покупали, каждый раз ощупывая оценивающим взглядом. Зубы, правда, не считали, но всегда обращали внимание на глаза — мол, почему такие грустные, здорова ли эта «лошадь», повезет ли, будет ли работать, выдержит ли?
Ох, и скрупулезно они отбирали себе рабов, особенно те, кому нужно было мало людей, человек по 10–15. Одна фрау раза три требовала выставить в ряд человек 50 и выбирала. Сразу отобрала тех пятерых девочек из Бобруйска, которых я видела на вокзале у вагона. Они были чистенькие, явно городские, сопровождал их немецкий офицер. Чьи они были дети, что пережили до этого и как сложилась их судьба после — Бог весть. Одна из них прижимала к груди подушку и вытирала о нее слезы. Лицо этой девочки я запомнила на долгие годы.
Я приметила немца, который стоял в сторонке и спокойно ждал своей очереди. Мне показалось, что лицо у него доброе и неплохо было бы к нему попасть. Так и вышло — он забрал всех, кто остался, человек 200, и повез в сопровождении двух охранников в небольшой лагерь в городе Бланкенбурге. Там было пять бараков — три для жилья, два подсобные. Уже по дороге мы поняли, с кем предстоит иметь дело. Мое первое впечатление «о добром шефе» оказалось ложным. На правой руке у него висела резиновая дубинка, и она то и дело прохаживалась по нашим спинам, когда кто-то позволял себе заговорить чуть погромче. Так что очень быстро мы притихли».
«Немцы перебирали нас, как грибы на грибоварном пункте», — это образное сравнение нашла Нина Павловна Прохоренко. Сейчас она живет в уральском поселке Чесма, а в Германию ее увезли летом сорок третьего года из сожженного белорусского села Ясенки вместе с бабушкой, братьями и сестрой отца. «Отец был на фронте, а мать попала в другой эшелон. Словом, горькая неволюшка заела нашу долюшку».
Вместе с матерью попала в Германию и Александра Михайловна Ахрамеева:
«Подошла одна фрау и берет только меня. А маму нет. Представляете, мало того что взяли в неволье, еще должны отнять мать у дочери. Дочь у матери. Мы с мамой обхватили друг друга и зарыдали. Нас не могли оторвать друг от друга. Фрау горланила, обзывала нас «русише швайне», но все-таки нас не разделили».
Николай Яковлевич Скоробреха, г. Старый Оскол, Белгородская обл.:
«После продажи я попал на завод, и с этого времени не стало у меня ни имени, ни фамилии. Я стал номером 41. Эту подневольную метку обязан был носить на себе всюду».
Познакомимся теперь с «Правилами внутреннего поведения в лагерях работников с Востока».
1. Руководство в лагере принадлежит немецкому начальнику лагеря. Исполнять поставленные перед ним задачи ему помогают персонал лагеря и охрана.
2. Распоряжения начальника лагеря, служащих, конвоиров и переводчика являются обязательными и должны выполняться немедленно.
3. Начальник лагеря назначает одного из жильцов комнаты старшим по комнате, а для всего лагеря — старосту лагеря (в больших лагерях несколько комнат подчиняются старшему по бараку). Распоряжения лиц, действующих по поручению начальника лагеря, должны выполняться немедленно.
4. Староста лагеря отвечает за спокойствие, порядок и чистоту, за противопожарные мероприятия в лагере, а также за исполнение поставленных перед ним задач. Для поддержания порядка и чистоты в лагере староста лагеря назначает посменно необходимое количество дежурных изо всех бараков или комнат.
5. Старшие по бараку или по комнате следят за поддержанием тишины, порядка и чистоты, за противопожарной безопасностью в бараках и комнатах.
Все необходимые работы, как-то: уборка комнат, мытье окон, отопление комнат и т. п. осуществляют сами жильцы. Дежурных для этого назначает старший по бараку или по комнате.
6. Самовольное оставление лагеря строго запрещено. Разрешение на выход из лагеря дает начальник лагеря. Выходить из лагеря разрешено лишь группами в сопровождении конвоиров.
7. Лица, поселенные в лагере, обязаны вести себя всегда вежливо и пристойно. Они обязаны уважительно относиться к начальнику и всему персоналу лагеря.
Когда в комнату входят члены руководства предприятия или лица в партийной и военной форме, все жильцы обязаны встать, если еще не наступило время отбоя.
Недоразумения среди жильцов комнаты регулирует старший по комнате и немедленно уведомляет начальника лагеря, если его вмешательство не дает результатов.
8. За самое строжайшее соблюдение правил светомаскировки отвечают старшие по бараку и по комнате, а также все жильцы комнаты. От захода и до восхода солнца нельзя включать свет, пока не сделана светомаскировка. За нарушение правил светомаскировки всех жильцов комнаты привлекают к ответственности.
9. Старшим по комнате следует составить и вывесить список вещей, которые имеются в комнате и являются собственностью предприятия или лагеря. У каждой кровати необходимо прикрепить табличку с фамилией соответствующего жильца комнаты.
10. За полученные одеяла, простыни, полотенца, посуду и др. в первую очередь несет ответственность каждый жилец комнаты персонально. Точно гак же он отвечает за испорченные или пропавшие вещи.
11. Строго запрещается умышленная порча, загрязнение сооружений и вещей в лагере.
12. Каждое лицо, размещенное в лагере, обязано немедленно доложить старшему по комнате о заболевании заразной болезнью или о том, что у него завелись насекомые. Заявления о случаях заболеваний и о появлении в комнатах насекомых (вши, блохи и т. п.) старший по комнате обязан немедленно довести до сведения руководства лагеря.
13. Запрещается всякая игра на деньги или ценные вещи, например одежду.
14. О случаях пожара, лесного пожара и о других подобного рода чрезвычайных происшествиях в лагере или вблизи от него следует немедленно сообщать охране. Каждый жилец лагеря обязан оказывать в таких случаях всевозможную помощь. Все жильцы лагеря обязаны и в таких обстоятельствах сохранять спокойствие, ожидая указаний начальника лагеря, и ни в коем случае не оставлять самовольно лагерь.
15. О времени питания для всего лагеря или его части сообщается в объявлениях. Следует точно придерживаться указанного времени, потому что в другое время еда выдаваться не будет.
16. Время подъема связано с началом работы. Руководство лагеря сообщает о времени отбоя. Каждый работник имеет право на отдых. Поэтому в часы, отведенные для сна, запрещается всякий шум и нарушение ночной тишины.
17. Тот, кто хочет, чтобы в лагере с ним обращались как с лицом, заслуживающим уважения, обязан добросовестно справляться с работой, порученной ему на предприятии.
Старшие пo бараку или комнате обязаны воспитывать своих подчиненных и влиять на них.
18. Каждый жилец лагеря имеет право подавать заявления или жалобы начальнику или персоналу лагеря, но прежде всего он обязан обратиться к своему старшему по комнате. Тот, кто имеет жалобу, должен заявлять о ней сам. И поэтому обращаться с жалобой каждый должен отдельно.
Запрещается сбор подписей под коллективными заявлениями с жалобами. Если несколько лиц считают, что у них есть одинаковые обстоятельства для подания жалобы, они заявляют об этом старшему по комнате или по бараку, и тот немедленно докладывает начальнику лагеря.
Ни в коем случае не допускаются сборы толпой и выкрики, хотя бы и кому-то казалось, что для этого есть причины. Такое поведение будет считаться бунтом.
19. Нарушение указанных правил карается с учетом произведенных действий. Тот, кто однажды уже понес наказание как нарушитель этих правил или других установлений, при повторном нарушении наказывается строже.
Каждый жилец лагеря, прежде всего все жильцы комнаты, обязаны заблаговременно предупреждать и не допускать осуществления намерений отдельных лиц, касающихся нарушения правил, особенно о недозволенном уходе из лагеря. Точно так же необходимо сообщать руководству лагеря о замеченных нарушениях. Если нарушитель не обнаружен или если установлено, что другие жильцы комнаты не приняли всех необходимых мер, чтобы предупредить осуществление проступка, наказываются все жильцы комнаты, барака или лагеря».
Вся система обращения строилась так, чтобы выбить из человека все человеческое, превратить его в послушную, рабочую скотину, в безгласного смерда. Даже в официальной переписке людей называли скотом: «еврейский скот» поставлял Адольф Эйхман, «русских свиней» — Заукель…
Елена Федоровна Мисун:
«Привезли нас в Берлин, выстроили на вокзале. Мы были еще люди со своими фамилиями».
Галина Николаевна Мазниченко:
«Но теперь меня уже не считали человеком. Меня называли «русской свиньей», швыряли пойло, как свинье, и били, и все норовили попасть по голове».
С тех невольничьих рынков, случалось, уводили на арканах, привязывали к лошадям и велосипедам, заставляя бежать рядом. Это была, так сказать, распродажа. Розничная торговля. Промышленники закупали рабов оптом. Крупп платил СС по четыре марки в день за каждого заключенного, семь десятых марки высчитывал за питание. Правда, после крупповских обедов иностранцы обгрызали кору с деревьев. Но в глазах хозяина это были такие несущественные детали, о которых не стоило говорить.
Питание было таким, что у русских, как сетовал начальник одного из инструментальных цехов на крупповском заводе, «не хватает сил, чтобы как следует закрепить обрабатываемую деталь». Откуда же возьмутся силы? От крупповского «бункерного супа»? «Собственно говоря, это была вода, в которой плавали кусочки турнепса, — писал приятелю один из крупповских мастеров. — И больше всего она походила на помои… Эти люди обязаны работать на нас — отлично, но следует позаботиться, чтобы они получали хотя бы минимум необходимого. Мне приходилось видеть кое-кого в лагере, и у меня буквально мурашки по коже бегали…»
Увы, начальники этого безвестного мастера были лишены элементарной человеческой чувствительности. А подчас и простого расчета, который декларировался в их лозунгах, развешанных повсюду: «Кайне арбайте — кайн фрессен» — «Без работы — нет жратвы». В марте 1942 года в лагере Раумерштрассе, входящем в крупповскую империю, обсуждались вопросы питания «восточных рабочих». Вмешался г-н Хассель из заводской полиции: «Речь идет о большевиках, а их надо кормить побоями».
Татьяна Федоровна Кузьменко, Киевская обл.:
«Били нас, как хотели. У кого только совесть была, тот не бил, а таких встречалось мало. В нашем лагере девушка не выдержала, бросилась под поезд. А пятерых на наших глазах расстреляли гестаповцы за то, что, умирая от голода, взяли хлеб».
Когда-то говорилось на Руси: хлеб везде хорош, и у нас, и за морем. Думал ли кто, что в середине XX века цивилизованные германские эксперты изобретут рецепт убойного «руссенброта», «русского хлеба». В том эрзаце муки была лишь половина, остальное — жом сахарной свеклы, клетчатка, измельченная в пыль солома или листья. Такой «хлебушек» валил народ, как яд.
Василий Соколик, г. Докучаевск, Донецкая обл.:
«Выдали мне рабочий номер — 2054, потом завели в барак. Двухъярусные нары, бумажные матрасы, вместо подушек — рвань со стружками.
В три ночи (или утра) полицай оглушительно орал: «Подъем!» За малейшее промедление безжалостно бьют палкой или куском кабеля. Первая смена в шахту спускалась в 6 часов, голодная. Есть нам давали один раз в сутки, после работы.
Еда готовилась так: в котел на 350 литров бросали одно ведро картошки, три ведра картофельных очисток с брюквой и пачку маргарина».
Собирались кормить пленных и остарбайтеров и «животными, обычно не идущими в потребление». Была такая идея у откормленного Геринга, но до кухонь она, правда, не дошла.
Александра Даниловна Стройна:
«В баланде часто плавали черви и гусеницы. Как-то вечером была вареная капуста. В каждой миске были гусеницы. В столовой шумели, кричали. Вечером наш барак сговорился не идти утром на работу. Утром никто не вышел к воротам. Прибежал комендант. Стал нас уговаривать. Но мы стояли на своем. Я с детства изучала немецкий язык и к 15 годам вполне сносно могла говорить. В бараке меня попросили, чтобы я все сказала коменданту. И я сказала, что есть червей мы не будем и на работу не пойдем. Через полчаса приехали солдаты СС. Всех выгнали из барака, а меня посадили в машину и увезли в Равенсбрюк…»
Иван Петрович Рубан:
«Меня всегда преследует сцена восторга лагерных людей. В воскресенье кухарка-немка открывает окно и кричит: «Фии! Скот! Сюда!» — и бросает в окно кости. Голодные ребята набрасываются на «гостинец». Хватают, опережая друг друга, и кажется, что мы в эту минуту превратились в голодных собак.
Эта жуткая сцена приводит завстоловой, хромого немца, в умиление. Он выглядывает из второго окна и, довольно улыбаясь, фотографирует «недочеловеков». За это смакование нашим горем-голодом, его, как говорят в народе, Бог наказал. 17 марта 1945 г. (последний раз бомбили американцы наш лагерь), бомба упала прямо ему на голову, и его разнесло в клочья».
Лев Петрович Токарев:
«Подходил к концу 1944 год. Вот уже два с половиной года как я в Германии. Каждый день — двенадцать часов тяжелой работы. Вечером — бесконечные построения в бараке, потом короткий, тревожный сон… Сколько еще продлится этот кошмар?
Такой же вопрос задают себе все, кого я знаю и вижу вокруг. Как там мама? Она осталась в блокированном Ленинграде. Жива ли? Как бабушка с дедушкой? Что стало с ними, когда меня, мальчишку, забрали в рабство? Что с отцом? Эти вопросы не покидают меня ни днем, ни ночью.
Мне исполнилось недавно 16 лет, и я уже почти три года не любимый, избалованный внучек Левушка, которому бабушка по утрам приносит в кровать кружку какао с молоком, сладкую булочку и яйцо всмятку. А я при этом каждый раз привередничал.
Вспоминаю, как отец приносил мне свежие, пахнущие типографской краской мои любимые журналы «Костер» и «Пионер». В одном из них печатался «Тиль Уленшпигель». Будто наяву вижу мою коллекцию марок — зависть всех мальчишек моего 6-А класса школы им. Ленина в Новом Петергофе. А как забыть мои любимые книги, особенно «Школу» Аркадия Гайдара. Господи! Неужели все это было? Может, это страшный сон? Какая-нибудь фантастическая «машина времени» из моего любимого романа Герберта Уэллса перенесла меня сюда из родного Петергофа?
22 июня 1941 года в нашем городе намечались проводы белых ночей. И пацаны, и взрослые с нетерпением ждали праздника, аттракционов и концертов, а вечером — фейверк и освещенные разноцветными прожекторами знаменитые Петергофские фонтаны! Чудо! Может, будет и показательная высадка морского десанта с кораблей Балтфлота. Для нас, ребят, это незабываемое зрелище. На рейде Финского залива стоят боевые корабли, орудийные башни развернуты в сторону Петергофа. Ставится дымовая завеса, из-за нее появляются шлюпки с морским десантом, они быстро приближаются к пляжам Нижнего парка и Александрии. Моряки прыгают в воду с криками «Ура» и, стреляя холостыми патронами, бегут к берегу. Вы представляете какое это зрелище? Какой пацан после этого не захочет стать моряком?
Но моряком мне стать не пришлось. Ровно через год, в июне 1942 года, меня продали в рабство.
…Узкие, мощенные камнем улицы, красивые домики с покатыми, крытыми черепицей крышами, в центре небольшая нарядная площадь с ратушей — все, как в иллюстрациях к сказкам братьев Гримм. Нигде не видно заклеенных бумажными полосками окон — войной здесь и не пахнет. Подростки в желтых рубашках, черных штанишках, девочки в коротких юбочках, на ногах белые гетры и грубые ботинки. Показывают на нас пальцами, корчат рожи.
Затем нас начали продавать. Очень просто и буднично. За рейхсмарки. Наконец дошла очередь до меня. Пожилая пара — мужчина с длинным лицом и большой трубкой в зубах и полная фрау с зобом на шее, похожая на утку, уплатили за меня деньги и повели к экипажу. Мне приказали сесть на передок. Туда же, кряхтя, забрался и хозяин.
В хозяйстве нас встретил низенький толстяк в незнакомой мне военной форме. Он похлопал меня по плечу и подмигнул: не унывай, мол. Это был французский военнопленный Жан из города Бордо, уже давно работавший здесь.
Мне показали, где я буду жить — маленькую каморку, вроде кладовки, при кухне. Там стояли кровать, столик, стул и тренога с тазом для умывания. Дали поесть, хорошо помню, это был бульон и картофельные клецки. Я проглотил все вмиг, но добавки не последовало…
На рассвете меня подняли и показали, как готовить корм свиньям и птице из картошки и отрубей. Первое, что я сделал, когда хозяева ушли, наелся этим кормом сам и набил им карманы. Чувство голода долго не покидало меня, и хозяева удивлялись: вот русская свинья!
Работали мы с Жаном от зари до зари, но самым тяжелым для меня оказалось время после работы, вечером, когда меня запирали в каморке. Я готов был выть от тоски и отчаяния. Плакал, вспоминая родных, дом, школу, любимые книги. Поверьте мне, это было страшно! За дверью каморки слышались какие-то шорохи. Позднее я понял, что по ночам меня первое время караулили хозяйские дочки. Боялись, видимо, что я убегу. Но куда я мог убежать? Ведь я даже не знал, в каком городе нахожусь!
Единственной радостью были встречи с Жаном. Он жил в лагере военнопленных и сюда приходил только на работу. Французы получали через Красный Крест посылки, да излома тоже. Жан часто угощал меня галетами, сигаретами «Элсгант», иногда даже шоколадом.
Но полюбил я его, конечно, не за подарки. Просто в то время он был единственным, притом замечательным, товарищем. И очень веселым! А для хозяев я был просто рабочей скотиной. Работа, жратва — и под замок. Каждую неделю приезжал полицейский — справляться о моем поведении.
Дни тянулись похожие друг на друга, как близнецы… Но однажды их тоскливую череду нарушила неожиданная встреча. Я просеивал возле забора компост для теплицы и увидел за забором — там была графская усадьба — подростка с такой же, как и у меня, биркой. Паренек сказался русским, из Орши. Пожаловался мне, что кормят очень плохо и он постоянно голодный. Я сбегал в огород, набрал помидоров и огурцов, передал ему. Просил приходить к забору почаще, будет хоть с кем поговорить, но больше я его не видел.
Вскоре Жан рассказал, что мальчик сбежал от хозяев, его поймали, избили и куда-то увезли. От Жана я узнал и о другом случае, который напугал многих бауэров в округе. Русский подросток, тоже из-под Ленинграда, заколол вилами своего хозяина в коровнике. Паренька повесили, имя его осталось неизвестным.
Однажды февральской ночью 1943 года в окно моей каморки постучали. Это был Жан. Он потащил меня к своему лагерю. Охранника не было, и мы свободно вошли в барак. На столе лежала карта России с обозначениями Восточного фронта.
— Лео! — затараторили, перебивая друг друга, французы. — Гитлер капут! Сталинград!
Я ничего не понимал, и они принялись объяснять по карте, что фашисты потерпели крупное поражение под Сталинградом. Вот это была радость! Старший из пленных что-то скомандовал. И все вдруг встали, надели пилотки и отдали честь мне, единственному здесь русскому!
Я тоже приложил ладонь к своей фуражке, захваченной из дома; такие детские фуражечки с целлулоидными козырьками и нашитыми поверху цветными треугольниками продавались в Ленинграде до войны. Когда французы из-за этой фуражечки шутливо спрашивали, какое у меня в Советском Союзе было звание, я серьезно отвечал: пионер! За это они меня прозвали маленьким комиссаром, чем я очень гордился, хотя и понимал, что это всего лишь шутка.
Спустя несколько дней по всей Германии было объявлено, что «доблестные солдаты германской армии под командованием фельдмаршала Паулюса сражались до последнего патрона и все погибли». Был объявлен 3-дневный траур. Приехала, вся в слезах, старшая дочь хозяев, жившая в Бреслау. Ее муж, кажется ефрейтор, пропал без вести на Восточном фронте.
Когда прошли три траурных дня, полицейский приказал мне собираться. А что собирать-то, все на мне, даже узелка не было.
Привели в помещение с сетками на окнах, кругом 2- и 3-ярусные нары. Посредине — «буржуйка». Приказали сидеть и ждать. Огляделся. Нары покрыты серыми одеялами. Ничего, будем привыкать и здесь! Жизнь у бауэра кое-чему научила. Мне уже пятнадцать лет, не пропаду! Вечером привели с работы моих новых соседей — люди разного возраста: и пожилые, и помоложе, мои ровесники. Два подростка, оба Николаи, они оказались из Красного Села. Вот здорово — земляки!
Так началась для меня новая жизнь в рабочем лагере города Райхенбах на военном заводе. Утром чуть свет — подъем! Идем, грохоча колодками по мостовой. На угольном складе вручают здоровую лопату. У бауэра я привык к лопате и орудую умело, но, Боже, до чего же хочется есть! Тут картошину или огурец не украдешь! Оба Кольки посмеиваются надо мной, ничего, мы, мол, привыкли, привыкнешь и ты. Завезли уголь в кочегарку. Теперь приказывают грузить какие-то ящики. Потом снова уголь и опять ящики. Посреди черного двора растет каким-то чудом попавшее сюда ореховое дерево. Иногда удается кусками угля сбить несколько орехов. Они еще зеленые и очень горькие, но все-таки эго еда.
Иногда сквозь годы я вижу щуплого подростка с биркой OST на груди. Он стоит под деревом и целится куском угля в орех… Неужели это я?»
Елена Вишневская сохранила бумажную торбочку, на которой обозначен ее порядковый номер — 1234 и еще написано: 17 м. Это ее зарплата. «Получали мы смехотворно мало, но нам это было безразлично. Ведь мы ничего, кроме открыток, пудры, зубного порошка и сырой моркови, не могли купить в Фареле, если нам удавалось туда попасть. Обычно эти конверты с зарплатой раздавали нам мастера, но иногда надо было получать в кассе…»
У кассы дежурил полицай. Первыми пропускал немцев. «Остовцы» за своими подачками шли последними. Такой была одна из норм внутреннего распорядка. По этим правилам для иностранных рабочих устанавливалось «особое» трудовое право. Оно объявляло недействительными «все обычные положения трудового права — продолжительность рабочего времени, право на отпуск, гарантию определенных надбавок к зарплате. Французскому или бельгийскому рабочему платили меньше, чем немецкому, но больше, чем польскому. Поляку в свою очередь доставалось чуть побольше, чем русскому, украинцу или белорусу.
Смехотворно малую оплату урезал еще «налог с восточных рабочих». В июне 1943 года его издевательски переименовали во «взнос восточных рабочих». Получка после этого «взноса», после вычетов за еду и нары в бараке составляла одну — три марки в неделю. Их не хватало даже на карманные расходы. При этом действовало и указание об оплате «только фактически проделанной работы». Нерабочие дни, смены, пропущенные по болезни, остарбайтерам не оплачивали. Но работать заставляли все больше, выжимая силы до донышка.
Из приказа начальника Главного административно-хозяйственного управления СС, 30.4.1942 г.
«1. Руководство концентрационным лагерем и всеми расположенными в его организационной сфере хозяйственными предприятиями охранных отрядов возлагается на коменданта лагеря…
4. Комендант один несет ответственность за использование рабочей силы. Это использование должно быть исчерпывающим в полном смысле этого слова, чтобы достичь максимальной производительности…
5. Рабочее время не связано ни с какими ограничениями. Его продолжительность зависит от производственной структуры лагеря и вида работ и устанавливается только комендантом лагеря.
6. Все процедуры, которые могут сократить рабочее время (прием пищи, проверки и др.), должны быть поэтому сокращены до минимума. Длительные переходы к месту работы и обеденные перерывы только для приема пищи запрещены».
Через месяц с небольшим, 3 июня 1942 года по тому же управлению был издан еще один приказ.
«Нынешнее положение вынуждает принять меры к тому, чтобы максимально использовать рабочую силу заключенных, находящихся в настоящее время в лагерях.
Мною установлено, что большинство предприятий, на которые мы посылаем заключенных, не выполняют этого требования. Так, на многих предприятиях по субботам работают полдня, а в воскресенье не работают вовсе.
Прошу комендантов лагерей обсудить вопросы использования рабочей силы на местах с руководителями предприятий и до 15.6.1942 доложить мне, где оказалось невозможным установить необходимое рабочее время. При этом сообщить мотивы.
Дело должно быть поставлено таким образом, чтобы заключенные по субботам работали полный рабочий день, а по воскресеньям — половину рабочего дня, то есть использовались на работе до полудня».
Георгии Кондаков:
«Будили нас в шесть часов утра. Делалось это так. Полицейские, проходя мимо барака, стучали в стену резиновым шлангом и ждали минут пять. Затем заскакивали внутрь и с криком: «Ауфштейн, кафе холен!» (Встать, получить кофе!) начинали лупить шлангами налево и направо. Плохо, очень плохо было тому, кто не успевал вскочить вовремя! В августе в шесть утра было светло, но к осени и особенно зимой стало темно. Света, конечно же, не было, да и не разрешали нам зажигать никаких огней с наступлением темноты. Патрули стреляли без предупреждения, если замечали хотя бы горящую спичку.
Через неделю, а может, чуть больше, в лагере появились полицейские, говорившие по-русски. Эти псы были страшнее немцев. У нас в лагере жили двое Пряхиных — отец и сын. Сын, став полицейским, не жалел родного отца! Помню фамилию еще одного предателя — Маруськин из Сосково. Этот был чуть мягче и, если не было рядом немцев, иногда только делал вид, что бьет. Впоследствии бывшие узники Нордерни Долгов Иван и Невров Кирилл рассказывали о полицае Толике Косом (это кличка, фамилии не помнят). Этот гад-коротышка очень любил бить по лицу. Но из-за маленького роста не мог дотянуться и тогда подставлял себе табурет, чтобы вдоволь насладиться избиением жертвы.
…В столовой, где в темную пору горел тусклый свет, совершались сделки, шел натуральный обмен. «Кому школупаек на хлеб!» — это обладатель вареных картофельных очисток предлагал избыток своей добычи. Менялись вареные мидии на недокурки, картошка и кусок пайки на табак. Меняли счастливчики, что-то добывшие («подшакалившие»), и несчастные, терзаемые муками голода и желанием покурить. Володя Рослов, заядлый курильщик, рассказывал уже после войны, что они с Архиповым Федором одну пайку хлеба делили на двоих, а другую меняли на табак. По вечерам также шел обмен.
За полбуханки хлеба на Нордерни можно было выменять шевиотовый костюм, хромовые сапоги или другое барахло. Угрюмый дядька, который лежал в бараке напротив меня, только этим и занимался. Он приехал сюда по своей доброй воле, видно, надеясь заработать и вернуться с нажитым домой, на Западную Украину. Но дома его не дождались. Дядька заболел от голода и умер. Когда его труп увезли, под подушкой оказались три пары сапог и шесть костюмов.
…Со Станиславом мы были схожи по характеру: тихие, даже застенчивые, и оба не курили. Дней через десять, возвращаясь с работы, мы вынуждены были поддерживать друг друга под руки.
Тело страшно исхудало. Но я пока не опухал. Знал, что если начну опухать, то жизни останется на два-три дня. А вот у Станислава стали пухнуть ноги.
И приснился мне сон. До сих пор помню его в мельчайших подробностях. Снилось мне, будто я работаю на проклятой горке у форта Альберта и что мы откопали огромную плиту. Нас заставляют эту махину поднять, но сил нет. Нас бьют, и вот, наконец, мы сдвигаем плиту в сторону. А под ней — ступени, ведущие в темноту. Нас заставляют идти, я вхожу в зал, где стоят длинные столы, за ними сидит множество людей. Они все голые, я тоже голый, они едят, мне тоже хочется есть, но мне стыдно своей наготы, и я забираюсь под стол собирать крошки. Кто-то толкает меня ногой и говорит: «Эй, иди поклонись Смерти!» Сердце мое сжимается от страха, но я спрашиваю: «А где Она?» Слышу в ответ: «В соседнем зале». И вот я стою перед массивной дверью, сердце замирает, но я должен протянуть руку, чтобы постучать. Рука едва поднимается, нет сил ее поднять! Наконец, мне это удается, но вдруг дверь открывается и на пороге показывается Смерть! Она в красной мантии, с косой, я знаю, что там, выше, череп с пустыми глазницами, но не могу туда взглянуть, мне страшно. Падаю на колени и хочу поцеловать ее ноги. Но слышу голос: «Ничего, иди обратно!»
Я проснулся весь в холодном поту. Была глубокая ночь. Кто-то стонал, кто-то кричал во сне, где-то разговаривали шепотом. Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, сердце вроде и не билось, и я еще не мог точно разобраться — сон это или явь? Постепенно прояснилось сознание, я понял, что жив, лежу на своих нарах. Кругом так же лежат голые люди. Они сняли с себя лохмотья, чтобы хоть на ночь избавиться от кишащих в них вшей. Но множество этих насекомых шевелится, шуршит в листьях папоротника. Шел сентябрь 1942 года. Шел второй месяц моей жизни в лагере».
Кто год, кто два, а кто и три-три с половиной года жили в чужих городах и поселках. И вот какая потрясающая деталь: в письмах, воспоминаниях, свидетельствах нет этих городов, поселков, деревень. «Восточные рабочие» жили в них и как бы не в них. Да почему — как бы? Всем укладом своей жизни рабы были отрезаны от этого мира. Их города привычных лиц — воспользуюсь образом Генриха Белля — остались в другом времени.
Для Белля такой город Кельн: «Эти лица принадлежат вагоновожатым, уличным торговцам, газетчикам, полицейским и тем праздным дамам, которых с девяти до половины первого утра или от трех до шести вечера можно встретить в кафе. Это лица тех владельцев табачных лавочек, куда, может быть, зайдешь раз в три года, чтобы купить сигарет, как это бывает, когда шатаешься по городу; или тех часовщиков, которым раз в пять лет приносишь чинить часы…»
Это Кельн Белля. Город, «который знаменит своим готическим собором, хотя, скорее, должен был прославиться романскими церквями». Город, давший «приют самой старой в Германии еврейской общине и бросивший ее на произвол судьбы; гражданственность и юмор были бессильны против беды — тот юмор, которым Кельн знаменит не меньше, чем собором, юмор, пугающий в своем официальном проявлении, но порой великий и мудрый на улице».
«Восточным рабочим» была уготована одна дорога по одному и тому же, раз и навсегда проложенному маршруту. Город Кельн или Штутгарт, Франкфурт или Эссен, как и какой-нибудь безвестный поселок, таился от них.
«Украинець», листок для иностранных рабочих с Украины, сожалея, что рабочие-иностранцы лишены возможности познакомиться со всей Германией, предлагал им «серию статей о Германии и немецком народе». Ограниченная площадь, «прилегающая к месту работы и проживания», как изящно выражался «Украинець», — это был ежедневный маршрут деревянных колодок. Очень неудобных для ходьбы, но весьма ценных с точки зрения охраны: в них нельзя было бежать. Колодки верно стерегли каторжников, колодников — вспомним старинное русское слово.
Инструкции строго предписывали, какая одежда, какая обувь должны быть у «остарбайтеров». «Обувь, как правило деревянная, — отмечалось на совещании у Геринга 7 ноября 1941 г. — Нижнее белье русским едва ли известно и привычно».
Любовь Житнева (Полищук), Ростов-на-Дону:
«Как ни тяжел был лагерный быт, женщины старались следить за собой. Друг другу ушивали по фигуре и росту нелепые полосатые платья, находили какие-то тесемочки, чтобы связать отрастающие волосы. Нам не разрешалось носить лифчики, и мы булавками скалывали платья, обвязывали грудь косынкой. Когда же надзирательницы делали тщательный обыск, то виновниц этих ухищрений ждало наказание.
Помню, среди надзирательниц была одна блондинка. Локоны ее спускались до плеч. Любимым ее делом было ощупывать каждую узницу. Обнаружив такой самодельный лифчик, она зверски избивала узницу. В ход шли и сапоги. Не терпела она и наших причесок. Особенно придиралась к тем, кто ухитрялся сделать себе кудряшки. Я замечала, что она сурово поглядывала на мою волнистую прическу. И вот однажды прямо в цехе, на глазах у всех, заставила меня мыть голову, подозревая, что это накрученные завитки. Я спокойно помыла. И когда волосы просохли, они вновь стали виться кольцами. Надзирательница стояла около меня и от злости кусала губы».
Люди с нашивками OST улицы немецких городов видели участками. «Метров сто городской улицы в Вуппертале было видно с того места, куда нас привозили из пересыльного лагеря разгружать картошку, — писал Виталий Семин. — Пахло дымом привокзального района. С точильным воем проносились вагончики подвесного трамвая… Лучше всего я, конечно, знал улицы, которыми нас гоняли на фабрику. Глуховатые пять кварталов без магазинов и кафе, почти без прохожих. С нелюбопытными какими-то окнами в домах. Ни разу никто оттуда не взглянул на нас, хотя нашу колонну можно было услышать за два квартала по деревянному грохоту, щелканью и шорканью».
В какой-то из таких колонн, возможно, брел и Иван Захарчук, воин сталинского трудового фронта, а теперь, выходит, подневольный подручный Гитлера. Накануне им сказали, что победоносная германская армия отбила Донбасс. Хвастливые информаторы, правда, утаили, что фронт на Миусе застопорился, но то, что захвачен город Сталино, повторяли по много раз. Кто же остался дома? Как там мать, отец, братишка? Как Доменная?
Наша Доменная улица подступала к самым домнам, а точнее — начиналась от них. Там, на углу, у колонки, рядом с нашей хатой был дом Захарчуков. Двумя окошками он выходил на улицу, под акации, двумя — во двор, шумный, многоязычный. Говорили в нем на русском и украинском, еврейском и ассирийском. В глубине теснились сараюшки с углем и дровами, а за ними сиротливо пряталась дощатая будочка, которая привечала всех во дворе — и старых, и малых. Лишь иногда выразительным покряхтыванием давая знать, что в эту минуту насест занят. Может быть, Иван улыбнулся на миг, вспомнив свой двор. Но узнать, что с ним, что с домом, родными, малышней ему не довелось.
Валентина Кривенко, Армения:
«Помню, выдали нам простыни. А мы решили пошить из них нижнее белье. Но вскоре все обнаружилось. Я и Мария Панкова сразу признались, а Вера — фамилию ее забыла — отказывалась. Шеф ее так ударил, что она три дня носила его пальцы на щеке. Дали нам всем по пять ночей карцера, потому что днем работали. В карцере кругом цемент и только стоять можно.
Когда окончились эти мучения, я целый месяц не могла разговаривать, пропадал голос. Ничего не слышала. Потом вроде бы восстановилось.
Вернулась домой, мне шел девятнадцатый год. Тот карцер искалечил мне всю жизнь. В 1970 году сделали мне на ушах операцию, но безуспешно. Приходится носить слуховой аппарат, это моя память о проклятой Германии».
Иван Федорович Лобанов, Ленинградская обл.:
«Я родился в 1929 году. После оккупации Петродворца вместе с братом скитались по деревням и просили милостыню. Осенью сорок третьего нашу деревню немцы сожгли, а нас, беженцев, отвезли в Литву. Там мы два месяца батрачили на хуторах, а потом староста велел отправляться в Германию.
В лагере приказали выучить свой номер на немецком языке — 8693. Он мне запомнился на всю жизнь, а вот как лагерь назывался, забыл. Работал в Эрфурте, на авиационном заводе, клепали заклепки дюралюминиевых конструкций. Гоняли нас под конвоем с собаками на работу и с работы. Стыдно писать, но в охране было много русских, и они издевались больше всего. Самого старшего из этих выродков звали Колей.
Однажды во время обеда напарник-француз позвал меня и моего приятеля Витю Савченко, чтобы дать нам баланды. Мы, не спросив разрешения у Коли, перебежали на другую сторону барака. Тут же к нам подлетел Коля. Когда я повернулся на окрик, то нечаянно облил его баландой. Он набросился на нас с Виктором. Но француз, заступаясь, сам ударил его, а нам предложил сесть за стол.
Рассчитался Коля с нами в лагере. Избил так, что меня и Витю без сознания притащили в барак…»
Елена Степановна Жданова:
«Не знаю, напишет ли вам кто-нибудь о предателях и доносчиках из нашей среды, но надо, чтобы люди знали и об этом.
Хозяину нашего лагеря прислуживал поляк. С ним-то сразу и сошлась наша землячка — мать ее была полькой, и Анька знала польский язык. Боже мой, сколько зла натворила она!
Из нашего села, даже с нашей улицы была в лагере Мария Гнеда, молодая женщина немного постарше нас, выпускница пединститута. Она всегда успокаивала: перетерпим, девочки, другого выхода нет. Работала она уборщицей. У нее была небольшая подсобка с инвентарем: швабра, веники, ведра, тряпки. Я забегала туда на минутку в перерыв, душу отвести.
В этот же лагерь попал муж старшей сестры Марии, председатель колхоза. Однажды его увезли на машине гестаповцы. Маня говорила, что это Анькина работа. Вернулся он через две недели, одни глаза остались, и сказал тогда: если выживу, задавлю своими руками, как собаку, эту землячку. Я слышала сама от него эти слова, но Маня уже ничего не слышала.
Когда его забрали, она плакала и говорила, что Василь не вернется. Открыла газ — в подсобке был рожок — и задушилась там. Умирала Манечка очень тяжело, волосы рвала и царапала грудь.
Нам разрешили ее похоронить. Выкопали могилу в лесу. Там уже лежали шесть наших односельчан…
Спросите: а что же Анька? После освобождения на день или два заявилась в село и туг же скрылась. Даже на похороны родных не приезжала. Говорят, где-то в Башкирии живет. И по-прежнему, наверное, сеет зло».
…После войны в Германии, Австрии, Чехословакии и в других странах сосчитали могилы советских военнопленных и «восточных рабочих». Насчитали 945 184 захоронения, многие из них — общие, большая часть в Германии. В Зенке (Форелькруг) захоронено 65 тысяч советских граждан, в Фалингбостеле — 42 тысячи, в Берген-Бельзене — 29 тысяч. Зимой 1941–1942 года, пишет П. Полян, в одном из лагерей в Арнсберге (Вестфалия) задень умерло около 600 остарбайтеров. В лагере 304 (IV И) Цайтхан (Саксония) в эти месяцы ежедневно умирало от 20 до 200 военнопленных. Администрация проложила узкоколейку — от лагеря на кладбище. Железка не простаивала! По разным данным, там умерло от 70 до 140 тысяч наших соотечественников.
«На немцев работать не буду»
Среди нескольких тысяч писем в моей почте такое было одно.
«Вы пишете о наших людях, которые были угнаны в Германию и там работали, обеспечивая — вольно или невольно — фашистскую армию вооружением, сеявшим смерть среди наших солдат и офицеров, делая их детей сиротами, а жен вдовами. Много слез вы пролили об этих «тружениках» — лучше бы им совсем не жить, ведь среди них немало было и добровольцев. Они спокойно жили в Германии, нормально одевались, питались и плевали на то, как страдал наш народ. Здесь, на родине, от голода и непосильного труда умерло людей не меньше, чем на фашистской каторге в Германии…»
Что же так встревожило Александра Ивановича Белякова, «участника трудового фронта», как он сам себя представил? Дочитаем письмо ветерана-металлурга до конца.
«Вы просеяли много материала и сумели набрать и преподнести сердцещипательные примеры, как страдали «восточные рабочие». Но невольно возникает вопрос: а знаете ли вы, как ковалась победа над Германией нашим тылом? Слышали ли песню о том, как дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей? А как проходили эти дни и ночи, хорошо бы справиться у тружеников тыла, которые варили сталь и собирали танки. Надо бы поторопиться, потому как нас, участников трудового фронта, с каждым днем становится все меньше и меньше. Мы рассказали бы, как приходилось забираться в печи чуть ли не сразу после выпуска металла. Под ногами еще жидкий чугун, засыпанный коксом, политый водой, кругом сплошной пар, на расстоянии вытянутой руки не видишь напарника, отпотевшие «козлы» ухают рядом, только прислушиваешься, не вскрикнет ли кто придавленный…
Все это испытал я сам. А такими были трудовые дни, недели, месяцы, годы…
Извините, может, что и не так написал, но писал от души».
Без обиды воспринимаю упреки. Потому что сам в журналистику пришел не с факультета журналистики, — он был позже, — а с шахты. И вся моя работа в журналистике, литературе тесно связана с рабочим классом, с родным Донбассом и Уралом, Сибирью и Дальним Востоком, с жизнью крупнейших заводов, строек и шахт. Не гостем приезжаю в Донецк и Магнитогорск, в Караганду и Нижний Новгород, в Находку, Воркуту, Новый Уренгой…
Во дворе у нас, на улице Доменной, вставали по гудку металлургического завода. Он и сейчас, когда давно уже обезголосили заводы, трижды в день раскатывается над Донецком. Среди самых дорогих семейных реликвий храню отцовскую грамоту ударника первой пятилетки и его медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Так что личные упреки несостоятельны.
Но, думаю, у Белякова есть основания для обиды. И немалые. Подвиг тружеников тыла в последние годы действительно забыт. Если фронтовиков еще поминают от юбилея к юбилею, от годовщины одной битвы до другой, то рабочих и конструкторов, инженеров, организаторов производства военных лет страна наша почти забыла. Верю: это пройдет. Люди вспомнят вновь героев тыла. Только хорошо бы, пока они живы.
Правда, вот с чем решительно не могу согласиться: с огульным обвинением «восточных рабочих» в пособничестве врагу. Хотел этого Беляков или нет, но в таком мнении явно отозвалась позиция «вождя всех времен и народов».
Да, были среди них добровольцы. Были. Об этом говорилось на одном из совещаний у Франца Заукеля, генерального уполномоченного, — а кто лучше него владел информацией?! Коллеги докладывали ему о достижениях добровольного набора. Заукель возразил: «Из 5 миллионов рабочих, прибывших в Германию, даже 200 тысяч не прибыли добровольно». Вот и судите.
Ветераны нашего тыла и «восточные рабочие» — люди одного поколения, ровесники. И зачастую лишь случай определял, как повернется их судьба. Одного успели эвакуировать, он трудился на Урале, второй оказался в оккупации, попал в окружение, облаву… Так что не стоит противопоставлять людей лишь по тому, где и кто из них был. Это сделала в свое время сталинская система. Давайте лучше посмотрим, как вели себя те, на чью долю выпало клеймо OST.
Вот письмо уже знакомой нам харьковчанки Веры Петровны Коняевой. Она рассказывает, как осенью сорок второго года в одном из бараков их лагеря открыли «шпиталь», как называли эту комнату немцы.
«Это была обычная барачная комната с грубыми нарами и соломенными матрасами. Сводили туда всех, кому не удалось убежать — избитых, полуживых. Были они из разных городов и сел. Помню двух ребят — они убежали в третий раз, в этот «шпиталь» попали уже полуживыми. Один из них сказал: «Пусть убьют, но работать на немцев — не буду». И умер. А вскоре скончался и второй. Это были Иван Кадигроб из села Михайловка, Банковского района, Харьковской области и Иван Захарчук из Донбасса. Закопали их под забором лагеря».
Сколько там, на чужой земле, таких безвестных могил, куда ни в родительский день, ни в иной, мудро отведенный предками для памяти, не придет родная душа, чтоб поправить оградку, оставить по обычаю горсть конфет… Нет, не поднимется куст красной калины на казачьей могиле, некому посеять чебрец, по-другому траву-материнку, на материнской.
В Вечном огне солдатской памяти пусть увидятся нам и эти судьбы. И неизвестный мне Ванюша Кадигроб, и Ваня Захарчук, чей снимок с детских лет я видел в соседнем доме…
Нина Семеновна Чебердина сейчас живет в Москве. А в Германию ее угнали в 14 лет из села Червоногригорьевки, Днепропетровской области.
«В цехе был мастер Вилли. Страшный человек, никогда не снимал повязку со свастикой. Он с нами не разговаривал. Только бил. Особенно доставалось ночью, когда мы падали от усталости.
Почти каждый день кто-то умирал. Со мной рядом спала Тамара Варивода из Кировоградской области. На работу ее не водили несколько дней. Уже не могла вставать. Ночью она умерла. Так и лежали мы рядом до утра. Утром ее унесли».
— На них работать не буду…
«Один русский», как обозначено в документах концерна Круппа, сунул обе руки под колеса паровоза. Его обвинили «в саботаже» и расстреляли. Имя его не сохранилось. Десятки, сотни приговоров за саботаж, отказ работать, за испорченную технику рассыпаны в делах фашистских судов.
Петр Семенович Павелко, г. Лубны, Полтавская обл.:
«Наш лагерь был расположен в шести километрах от завода. Чтобы успеть к утренней смене, нас поднимали в четыре часа утра и под конвоем вели на работу. Предутреннюю тишину разрезал топот деревянных колодок. Трах… трах… До сих пор стоит в ушах этот стук.
Раз в сутки привозили баланду. О завтраке или ужине оставалось только мечтать. Правда, два раза в году нам давали натуральный суп — гороховый и макаронный. Было это на Рождество и Пасху».
Однажды расплавленный металл брызнул подростку на ногу. В лагерь его под руки довели друзья. Но утром подняться он не мог. Выкарабкался на построение на четвереньках, а когда строй двинулся, на четвереньках пошлепал за всеми. Конечно, он тут же отстал и с ним оставили одного полицая, чтобы довел «симулянта» на завод. Необычайная даже для Германии процессия вызвала интерес обычно занятых только собой прохожих.
«Нас окружили женщины, на полицая посыпались крики. Мне бросали куски хлеба. Дать в руки нам, русским, хлеб немец не имел права, а бросить — куда ни шло. Полицай отошел было в сторону, но это его не спасло. Немки по-прежнему наступали и что-то кричали. Наконец, полицай решил посадить меня в трамвай, хотя в трамваях ездить нам запрещалось, так же, как и ходить по тротуару. Мы имели право топать только по дороге.
Добрались мы до завода, а там картина повторилась. Только теперь меня стали защищать французы, обрубщики Андре и Юп. И под охраной того же полицая меня отправили в лагерь. Покалечился, помогал на кухне. Там давали картофельные очистки по литровой банке. Какие они были вкусные, эти лушпайки, как называли их у нас дома, напоминали вкус забытой гречневой каши. И я был счастлив, делясь в бараке с друзьями своим богатством из литровой банки.
Поправившись, я решил бежать… В комнате, где меня после побега допрашивали, на стене висел ряд плеток. Каждая — на своем месте. Первая покороче и потолще, конец блестит — чем-то залит. Видно, свинцом. При взмахе она растягивается, затем, падая, сжимается и рвет тело. Знаете, раньше я плакал — он боли, от голода, от обиды и унижений. А теперь в душе словно что-то перевернулось, и я больше не плакал. Молчал, когда меня секли свинцовой плетью, не плакал, когда ставили к стенке, угрожая расстрелом. Я стал словно каменный. Стиснешь зубы, аж крошатся, но не стонешь, не плачешь. Я сказал себе: не сломишься — выживешь.
Расскажу, как били. Посреди комнаты стоит табурет, ложись на него, руками доставай не ближние, а дальние ножки, этим ты лучше себя выпячиваешь — удобнее бить и больнее. Приказывают: считать вслух удары. Считаешь: айн, цвай, драй… Я досчитал до шести, дальше — спазмы…
После двух-трех таких экзекуций, если останешься живой, отправляют по лагерям.
Не знаю, как другие лагеря, но наш жил по своим, неписаным законам, не видным со стороны. Были свои старшие, вожаки. Благодаря им установился относительный порядок. Не было воровства. Не было предателей, а если и появлялись, их быстро разоблачали. Все, полученное по пайку, было свято. Добытое со стороны делилось хотя бы по крошке, но между всеми. Один из нас, умудрившись наловить воробьев, сварил суп. Чуть ли не по команде выстроилась очередь и каждому досталось по ложке. Мне удалось раздобыть ведро груш. Ими распорядился не я — лагерь. Определили: грушу делить на шесть частей. Разделили. Мне в вознаграждение досталась целая груша. В лагере презиралось лазить по помойкам: не унижайтесь!
Пишу вам, ворошу в памяти все это заново, а дома говорят, что дед, мол, впадает в детство. Нет, эти воспоминания — неутихающая боль моя, и я тороплюсь рассказать о ней людям. Я еще тогда говорил: «Господи, мне ничего не надо. Если бы у меня было только вволю хлеба, я был бы самым счастливым человеком на земле». До сего времени я ценю ломоть хлеба, как святыню. И если есть что-то святое в мире, так это хлеб. Я знаю ему цену».
Мария Ивановна Левцова, Ростовская обл.:
«В центре барака был длинный стол, с обеих сторон скамейки. За ними по два ряда двухэтажных нар. Между ними узенький шкафчик. Сверху мы клали чашку, ложку и кружку, на гвоздики вешали одежду, а внизу ставили ботинки. Они были из парусины, на носочке кусочек дерматина и на пятке тоже. Подошвы у ботинок были деревянные. Прибивались гвоздиками со шляпками, как у шиферных гвоздей, только шляпки эти были медные. Матрасы у нас были отрепные, набитые стружками, и дали нам колючие черные одеяла, а простыни, у кого были свои, то стелили, а которые не имели — спали так. А клопов в этих деревянных кроватях и стружечных матрасах было несчетное количество. Не спали, а клопов давили. Всю ночь промучаешься, а утром надо на работу».
Екатерина Попова:
«Пока я болела, меня не трогали. А когда вышла на работу, оказалось, что в нашем цехе установили два новых станка, шлифовальных, и нас с Олей Зайцевой к ним приставили. Наш цеховой дедушка, звали его Отто, стал рассказывать, как надо работать. Требовалось сглаживать неровности на каких-то больших металлических штуковинах. Отто взял одну такую в руки и, не глядя на нас, сказал в пространство: «Ми-инэ-э»…
Мы поняли, что это корпуса мин, и стали думать, какой бы найти предлог, чтобы отказаться делать оружие, которым будут убивать наших солдат. Я прикидывалась непонятливой, не выполняла норму. Однажды мастер привел незнакомого дядьку из заводоуправления.
— Цо не идеть? — спросил он по-польски.
— Да голова у меня кружится, когда станок гудит, — сказала я.
— Махен? Вас махен? (Что вы делаете?) — спросил он. Не дождался ответа, махнул рукой и ушел. Олю от нас куда-то перевели, а меня снова определили клепать батареи отопления, помогать дедушке Отто. После истории с минными корпусами он показал мне оттопыренный большой палец и улыбнулся.
Однажды по заводу два дня подряд шныряли обеспокоенные военные, а потом некоторые рабочие не вышли к станкам — проверяли, можно ли им доверить военное производство? Начались аресты. Некоторых отправили на фронт, кто-то, думаю, попал в лагерь, иные по несколько дней просидели в подвале в карцере. Куда-то пропала Анна — немка из соседнего цеха. Через два дня появилась. Она всегда со мной приветливо здоровалась. А тут молчит. Рот рукой закрывает — выяснилось, им запретили с русскими разговаривать. Анну эти дни продержали в подвале, а мужа ее отправили на фронт. Скоро я узнала, что на наш завод вернули две или три партии мин — они оказались начиненными песком. В цеху, где делали мины, русские не работали…»
В концлагере Флоссенберг на глазах у всех узников казнили за саботаж трех человек. «Ивана Ивановича Карапетяна и еще двух заключенных вывели на казнь на лагерную площадку, где выстроили весь лагерь, — вспоминал Тарас Чубарян. — Войну он встретил командиром роты в Западной Белоруссии. Потом плен, этапы, рудники… Первый, поляк или чех, просил пощады у коменданта лагеря, плакал, став на колени. Не помогло. Повесили. Второй был мальчишка лет 15, Микола из Полтавской области. Он сказал свое последнее слово: «Вешайте, фашисты! Наши отомстят». Последними словами Карапетяна были: «Мне говорить нечего, мой младший братишка из Полтавы сказал за меня». Комендант приказал сначала дать ему 50 ударов палкой, после чего полуживого Карапетяна повесили, но веревка оборвалась. По международным обычаям в таких случаях человека должны помиловать, но казнь вновь повторили. Вот так ушел Иван Иванович Карапетян из жизни…»
Ольга Викторовна Буянкова родилась в Воронеже в 1921 году. Училась в химико-технологическом институте. «Еще 4 июля я сдавала экзамены по паровым котлам, а уже шестого июля 1942 года фашисты заняли Воронеж. Спустя некоторое время начались облавы. И меня с отцом, Василием Александровичем, и мамой, Людмилой Матвеевной, отправили в Германию. Там мы оказались в разных лагерях.
В конце 1944 года нам дали образец письма и разрешили переписку. До этого любая связь с внешним миром была запрещена. Теперь я легально могла сообщить родителям свой адрес и получить ответ.
Письмо отца прилагаю. 17 марта 1945 года он погиб в убежище во время воздушного налета. Похоронили его вместе со всеми погибшими при том налете. А письмо у меня сохранилось.
«…Помни одно, — писал отец, — весна не за горами, настоящая весна, а с весной возрождается новая, молодая жизнь».
Им, как и Ивану Назаровичу Кривицкому из запорожского села Гусарка, не стыдно за проведенные в неволе годы. «Обидно, но не стыдно», — повторяет он, заканчивая письмо. Дважды его предупреждали за саботаж, в третий раз прописали экзекуцию.
«Боже, думал, что не вынесу. 26 ударов кабельным шлангом. И еще — узкой дубовой доской. Боль была невыносимой. От удара кабелем лопается кожа и струйки крови брызжут во все стороны. А от ударов дубовой доской тело превращается в негнущуюся глыбу. К счастью, молодой организм выдержал. Я не сложил в лагере руки, я бодался, как мог, сколько хватало сил, энергии и знаний. И осуждать повально всех, кто попал в неволю, нельзя. Надо смотреть, как кто вел себя там. Увозя нас насильственно в Германию, Гитлер надеялся получить покорных рабов, склонившихся перед «Великой Германией». Но получилось не так. Придав каждому номер, по которому мы были лишены рода и имени, он хотел сломить наш дух и преданность Родине. Но это ему не удалось.
Как могли, поддерживали мы в себе силы. Тайком напевали свои любимые песни. На самодельных инструментах по вечерам играли народные мелодии. И ждали освободителей с Востока».
Вера Петровна Коняева, Харьков:
«Из лагеря меня продали в поместье домработницей в январе сорок третьего года. Дату запомнила точно, потому что в те дни немецкое радио трещало о Сталинграде. Сначала на повышенных тонах. А потом — траурных. Немцы остановили музыку, надели черные повязки. Меня не выпускали даже за хлебом, чтоб не удалось пообщаться со своими. А мы все равно ликовали! Хоть и через три дня, а поздравили друг друга с этой великой радостью. Пришел праздник и на нашу улицу!»
В той жизни не было полутонов, только черное и белое. Только свой или чужой.
Зинаида Коршунова:
«Я была в лагере в Эссене. Не помню имени кривоногого переводчика, но лица его никогда не забуду. И если бы встретила сейчас, выцарапала бы его злющие глаза.
В этом лагере у русских был один барак с чехами. Разве можно забыть, как они дрались с лагерной охраной и кривым переводчиком, защищая нас, «восточных рабочих»?! На другой день чехов увезли, и мы их больше не видели.
В январе сорок третьего наш лагерь страшно бомбили американцы. Это было ужасно. 22 сосновых барака, покрытых толем, горели, как свечи. Среди огня метались люди. Из 16 девушек осталась я одна. Мне и сейчас иногда снится, как бомбят бараки и бохумскую тюрьму. Камеры полны дыма и заперты. До сих пор я не переношу грозы».
К началу 1944 года иностранные рабочие в военной промышленности Германии составляли 40 процентов. В отдельных отраслях и на отдельных производствах их было еще больше. По данным генерал-фельдмаршала Г. Мильха, на сборке авиационных моторов было занято 88 процентов военнопленных и только 12 процентов немецких рабочих и работниц. На заводах, выпускавших транспортные самолеты Ю-52, работали лишь 6–8 процентов немецких рабочих; остальные — украинские женщины.
Иван Васильевич Матвеев, г. Москва:
«Я был в лагере при крупном полуподземном заводе, где работали женщины, привезенные из украинского города Шостка. Они умышленно ломали станки и многие поплатились за это жизнью. Ребята убегали из лагерей, вели борьбу во Франции, Италии. Забывать об этом стыдно и обидно.
И вообще мы много льем грязи сами на себя, а о фашизме, злейшем враге человечества, говорим редко и тихо. А он, фашизм, жив и действует. Надо понять, что немцы рассчитывали на пригнанные резервы рабочей силы, но их расчеты не оправдались. Это результат сопротивления. Память об этом — знак признательности и уважения униженным и оскорбленным, но непокоренным советским людям».
И тем, кого обвиняли в саботаже. И тем, кто отказывался от власовской похлебки. Посланцы генерала объезжали лагеря военнопленных и «восточных рабочих», вербуя добровольцев в РОА (Русскую освободительную армию). Впечатляющую картинку одного из таких визитов в рабочий лагерь Кроммель под Гамбургом, куда прикатил со свитой генерал Малышкин, оставил Л. Ситко:
«Все происходило, как во сне. Проволока, вахманы, люди в немецких мундирах, говорят на чистом русском языке о великой России. В двухтысячной толпе были и женщины. Они первые закричали: «Позор! Позор!» — возглас, подхваченный мужчинами. Под эти крики Малышкин и его спутники ретировались в комендатуру, а нас разогнали вахманы. Наши показали гостям, с кем они…»
«Список лиц, отлынивающих от работы, должен быть передан в руки Гиммлера, который заставит их работать как следует, — заявил однажды генерал-фельдмаршал Мильх. — Это весьма важно для всеобщего воспитания людей, а также окажет устрашающее действие на таких рабочих, которые также были бы не прочь увильнуть от работы».
Но этого ему показалось мало. «Я сказал своим инженерам: я буду сам вас наказывать, если вы не будете бить таких людей. Чем больше вы сделаете в этом направлении, тем больше я буду вас хвалить…»
Многие помнят, наверное, историю летчика Девятаева — он улетел из фашистского плена на захваченном самолете. И это был отнюдь не единичный случай. Вот еще одна, похожая история, застенографированная в протоколах Нюрнбергского трибунала.
«Мильх: В одном случае два русских офицера пытались взлететь на самолете, но потерпели аварию. Я приказал немедленно повесить обоих этих людей. Я предоставил это СС. Я хотел, чтобы они оба были повешены на том же заводе для того, чтобы это видели другие».
Однажды Заукель в сердцах пожаловался армейскому генералу на то, что иностранные рабочие не горят желанием работать на рейх.
«Трудности возникают из-за того, — заметил генерал, — что вы обращаетесь к патриотам, которые не разделяют вашего идеала».
Мария Михаиловна Петрова (Писклова), Крым:
«Ровно в двадцать лет меня судили гестаповцы в городе Пфорцгайме на юге Германии, земля Баден-Вюртемберг. Судили за отказ работать на вермахт и побег из концлагеря. В тюрьме Пфорцгайма меня содержали по строгому режиму: пищу и сон через сутки, баня, прогулки исключены в течение трех месяцев. Затем этапные тюрьмы — одна страшнее другой. Конец этапа — концлагерь Равенсбрюк и штраф-лагерь Барт. Мой номер был 25 145. В апреле 1945-го я бежала с марша смерти, поэтому всех своих товарищей я потеряла…»
Павел Никитович Дерунец, г. Брянка, Луганская обл.:
«В конце 1944 года мы узнали, что где-то недалеко действуют наши и французские партизаны.
Я, Шевчук Петр, Ковальчук Василий, Гетман Володя и еще несколько пацанов попытались убежать к партизанам, но через несколько дней нас поймали. Дали по 25 плеток и бросили в подвал. Выручал старый немец Отто, антифашист, подбрасывая хлеб».
Владимир Михаилович Полторанов, г. Днепропетровск:
«Нас привезли на военный завод. Но мы не собирались делать снаряды против своих, больше 80 человек нанесли себе травмы.
Я выжег кислотой часть левой руки и еще приложил каустической соды. Результат — сильнейший химический ожог до кости. Этот след у меня остался на всю жизнь. Немцы начали расследование. Признали саботажем в военное время и отправили в концлагерь».
Юрий Николаевич Тихомиров, г. Днепропетровск:
«В конце 1942 года, едва мне исполнилось 16 лет, из полиции пришла повестка: собрать вещи и ехать в Германию, иначе родственников возьмут в заложники, а с заложниками, мы уже знали, немцы не церемонились. Так я попал на каторгу в город Линц в Австрии — в лагерь для «восточных рабочих» при танковом заводе. Был подручным немца-слесаря в мастерской по ремонту мостовых кранов, затем электросварщиком в той же мастерской.
В лагерях № 21 и № 57, где я находился, действовала подпольная группа советских патриотов «Орел». Она входила в австрийское движение Сопротивления. Рискуя жизнью, подпольщики совершали акты саботажа… Около 300 человек из лагеря 57 вместе с переводчиком Анатолием (по другим данным — Харитоном) Влашко оказались в застенках гестапо.
В начале мая 1945 года мы, захватив оружие, освободили свой лагерь — еще до прихода американцев».
Иван Терентьевич Прохоров, г. Липецк:
«После очередного побега тройку друзей — Федю Кириллова, Николая Бессараба и меня — отправили в концлагерь возле города Бреслау, нынешний Вроцлав.
В лагере находилось около 2000 заключенных многих национальностей. Мой номер — 6526. Работали в карьере, добывали серый мрамор. В карьер «случайно» срывались вагонетки и по ходу сносили в пропасть попавшихся на пути. «Случайно» падали куски мрамора с 70-метровой высоты в гущу работающих. Так развлекались эсэсовцы. Ежедневно, возвращаясь со смены, мы несли несколько трупов и покалеченных. После пересчета покалеченных вместе с покойниками отправляли в крематорий.
Поступил я в этот лагерь с номером 6526, а когда нас эвакуировали, был заключенный с номером 177 001. При этом общая численность лагеря оставалась неизменной — две тысячи. Вот и считайте, сколько ушло дымом в трубы».
Среди лозунгов, сочиненных службой Геббельса и развешанных повсюду, был и такой: Räder müssen rollen für den Sieg — «Колеса должны крутиться во имя победы».
Как могли, «восточные рабочие» тормозили бег германских колес. Во имя нашей Победы.
А те, кому удавалось бежать с заводов и шахт, из концлагерей, брали в руки оружие… За десяток дней до Победы фашисты расстреляли Владимира Антоненко. Я узнал о нем из томика «Русский сборник», который вышел в Париже в 1946 году. Там были опубликованы стихи Вадима Андреева с таким посвящением: «Владимиру Антоненко, расстрелянному на острове Олероне 30 апреля 1945 года».
Двенадцать немецких винтовок, Двенадцать смертельных зрачков, И сжались в короткое слово — Двенадцать смертельных слогов. И вот, расставаясь с землею В чужом, в незнакомом краю, Ты просишь, чтоб небо родное Укрыло бы душу твою. Все крепче, все выше, все шире, Пронзительнее тишины Виденье единственной в мире Далекой Советской страны. Нет, только кирпичную стенку Изранил немецкий свинец — Не умер — он жив, Антоненко — Простой партизанский боец.Добровольцы Рейха
Геннадий Александрович Харьковский в Германию попал со всей семьей — отец, мать, пять дочерей и два сына. Судя по его рассказу, завербовались сами. Им повезло — попали к людям с доброй душой, так что «ту неволю называть неволей нельзя. Это надо быть извергом по отношению к доброму человеку».
Что же так умилило Геннадия в его 17 лет?
Их привезли в большое имение в Саксонии. Судите сами по числу занятых — «двенадцать военнопленных англичан, четыре француза, двое русских, три белорусские каторжанки, два десятка местных и еще наша семья, девять человек». Пятьдесят с лишним всего.
«Хозяин поселил нас в щитовой домик, выдал на каждого по три байковых одеяла, наволочки, простыни. Мать моя расплакалась, когда увидела эту гору одеял и постельного белья. Ведь дома мы спали на соломе, с блохами да клопами, укрывались рядном.
Хозяйка посмотрела на нас, детей, все были мы пострижены, как бараны, и сказала матери и отцу, чтобы они не стригли нас, а отпустили волосы. И вот, когда волосы отрасли, хозяйка показала матери, как делать красивые прически и повязывать бантики. Затем принесла одежду для нас, подогнанную по росту. И мы сразу преобразились, стали похожи на людей.
А до этого нас немецкие дети и подростки обзывали «блондаффе» (белобрысая обезьяна), хотя хозяйка или хозяин, когда это слышали, их ругали. Но фактически мы такими и были. Что мы видели, что изучали, чему учили нас на родине? И я за ту кличку не злился и не злюсь. Ведь немцам также (?! — В. А.) вдалбливалась ненависть к другим нациям.
Словом, в Германии я познал, что такое культура общения, земледелия. Да и вообще культура работы, когда не будешь отлынивать или делать что-то тяп-ляп. Меня приучили к честному, добросовестному труду, без халтуры. И я за это благодарен своему бывшему хозяину господину Нейману. Я бы с удовольствием съездил в Германию, чтобы повидаться со своими хозяевами. Наверное, их уже нет в живых, но у них были дети, девочка и мальчик, не помню, как их звали.
Может, мой отклик и не такой, как вам нужен, но я не могу лгать. Описал, что было».
Вот такое письмо, такие воспоминания. Это его, Геннадия Харьковского, позиция, спорить с ним не собираюсь, пусть остается при своих взглядах.
Невольство, говорят в народе, тяжело и скоту. А если человеку, оторванному от родины, оно в охотку, если все равно ему, какое небо над ним, какая речь кругом, что же — его воля. Только раб, счастливый в рабстве, не осознающий своего холопского, унизительного положения, лобызающий барскую руку, — вдвойне раб. Глубока лакейская психология!
В письме Харьковского ни слова о том, когда и как он оказался на чужбине, что творилось на его родине, в Донбассе, в ту пору, когда фрау Нейман, может быть, из самых лучших побуждений, учила «этих дикарей» с Востока нормальным манерам. Подумать только, даже повязать дочерям бантики не умели, вот уж точно — Steppenvolk!
Что ж, восполню пробел.
…С той давней поры, когда к металлургическому заводу и шахте, хозяйству английского предпринимателя Джона Юза, прилепились первые казармы, сложенные из серого бутового камня, улицы в Юзовке называли линиями. От курящегося едкой пылью террикона линии задами сползали к крутой балке, где неспешно текла мутноватая речушка, и взбирались по затяжному склону на Донскую сторону.
Вскоре после революции Юзовку — в духе времени — переименовали. Теперь ее называли: Сталино. Понятно, кому отдавали честь. На центральной улице — Первой линии — поднялись кирпичные дома, ее покрыли асфальтом, от металлургического завода до вокзала пустили троллейбус. Но вправо и влево от этой магистрали цивилизации все оставалось по-прежнему. Весной линии утопали по колено в грязи. Первые тропки прокладывались к колонкам, как часовые, замершим на перекрестках.
Жили здесь рабочие металлургического завода и ближних шахт — слесари, лесогоны, навалоотбойщики, продавцы, мелкий чиновный люд. Русская речь мешалась с украинской, гармошка перекликалась с ассирийской зурной, бешбармак оказывался на одном столе с мацой.
Война, казалось, мало затронула Двенадцатую линию. Со стороны она выглядела такой же, как прежде. Но первое впечатление было обманчивым. Над замерзшей улицей лишь кое-где теплились дымки. В городе, стоящем на угле, угля не было.
Вода из обледеневших по самую макушку колонок текла жидкой струйкой раз в день, и к ним выстраивались с салазками хмурые очереди.
Под каждой крышей жили свои надежды, свои заботы, тревоги… Мальчишки первыми приносили горестные вести. В поселке Александрова за колючей проволокой держат пленных — улица бросалась к лагерю: а вдруг там найдется свой?! На Калиновке в шурф старой шахты бросают людей… Шахту-могилу обходили десятой дорогой. В Марьинке кто-то пустил ракету — условный сигнал для советских самолетов. Арестовали и расстреляли 119 заложников… Прямо с биржи труда, не позволив несчастным даже собрать узелки, на вокзал погнали три согни шахтеров. На вагонах было написано: Volontär. Добровольцы.
Фирма «Берг-Гюнте-Ост», созданная по распоряжению Геринга, безуспешно вербовала инженеров и рабочих восстанавливать шахты. Тогда власти прибегли к испытанному способу — облавам.
В магазины Юзовки (оккупанты вернули городу старое название) завезли соду, соль и анилиновые краски. Больше ничего на прилавках не было, но «Голос», был такой листок в Германии, вещал с немецкого голоса и это расценил как большое достижение.
В городскую управу люди приносили письма, чтобы переправить их в Берлин… Через много лет после войны в германском архиве я встретил эту почту.
Адрес на конверте написан по-немецки и по-русски: «Германия, Берлин, улица принца Фридриха Карла 1». На двух языках значился и обратный адрес: «Украина, Донбасс, Юзовка, 12-я линия, д. № 53, Дрозин Н. И.».
В конверте лежало письмо.
«Брат мой, Алексей Ильич Дрозин, во время гражданской войны 1917–1919 гг. сражался в рядах Добровольческой армии Деникина — Врангеля. В 1919 г. с остатками Добровольческой армии он эвакуировался из России. Связь с ним была потеряна, т. к. вести с ним переписку было опасно. По имеющимся сведениям, мой брат как химик с высшим образованием работал то ли в Германии, то ли в Бельгии. Очень прошу редакцию помочь мне разыскать моего брата или, по крайней мере, указать, как я могу его разыскать. Мой адрес: г. Юзовка (Сталино). 12-я линия, № 53.
12/11–42. Николай Дрозин».Второе письмо хранило тревогу о чьем-то сыне:
«Сын мой, Михайлов Иван Николаевич, 15/Х—41 отправился со ст. Щегловка через ст. Ясиноватая (Донбасс) вместе с эшелоном, в котором ехали преподаватели и студенты Сталинского (Юзовского) индустриального института. Эшелон направлялся в Западную Сибирь.
По имеющимся у меня сведениям, эшелону пройти к намеченной цели не удалось, так как все пути от Сталино были уже перерезаны. По-видимому, все лица, ехавшие указанным эшелоном, в том числе и мой сын, попали в плен. Прошу навести справку и сообщить мне, где находится мой сын…»
Не раскрывая конвертов, в редакции знали, что в них: мольба о сыне, муже, брате, отце… Такой была ежедневная почта, и к ней уже притерпелись.
День в «Голосе» начинался со споров, надоевших, скучных.
— Украинское население в городах и селах восторженно встречало приход немецкого войска на Украину в 1941 году…
— Вы видели это в кино?
— Да.
— Эти фильмы снимаются в павильонах студии «Баррандов», у Конопиште, под Прагой.
— Об этом знаем мы с вами…
— Допустим… Итак, восторженно встречали… И что же дальше?
— Прошло всего два года с тех пор, а отношения наших народов, мягко говоря, неприязненны.
— В чем же причина?
— Большевикам, большевистской пропаганде и агитации немецкая власть ничего не противопоставила. Большевики утверждают, что борются за «независимую украинскую культуру. За благосостояние, за веселую и счастливую жизнь». Против этой пропаганды немцы на Украине бессильны. Не было необходимой контрпропаганды. Напротив, еще и сейчас немецкая пресса уделяет много места обсуждению вопросов колонизации Востока, и эго умело использует советская пропаганда. Обращение с солдатами Красной Армии, военнопленными такое, что оно вынудило держаться в рядах Советской Армии и тех, кто глубоко ненавидит Сталина и его режим.
— Вы думаете, таких много? Знаете, есть выражение «жертва пропаганды». Вы стали жертвой собственной пропаганды.
— Ладно, ладно… А что вы скажете о вывозе украинской молодежи на работу в Германию и особенно об унизительном для человеческого достоинства и национальной чести обращении с нашими рабочими в Германии?
— Обращении? Давайте почитаем, что мы сами пишем: просторные комнаты, чистое белье, вечера отдыха, родные песни…
— Бросьте вы это… Мы же договорились откровенно…
Без стука, как к себе домой, в кабинет вошел ответственный секретарь, немец, списанный по ранению из вермахта.
— О чем спор, господа?
— Да вот, — замялись коллеги, — говорим о немецкой политике на Украине.
— Вам не нравится эта политика? — сухо спросил Фридрих. — Что же вы предлагаете?
— Дать украинскому народу политическую самостоятельность, — вырвалось у новичка в редакции Василия Онуфриенко.
Фридрих мысленно улыбнулся наивности этого «оста», пригодного в лучшем случае для того, чтобы чистить навоз, но на лице его не дрогнул ни один мускул.
— Остановить отправку украинских рабочих в Германию, — продолжал Онуфриенко, — поставить их наравне с немецкими рабочими по условиям питания, труда, медицинской помощи.
И опять Фридрих удивился наглости этого украинского унтерменша. Что он хочет? Кормить украинцев? Дать им образование? Развивать культуру? Прессу? Свободу политических, творческих союзов?
— Создать украинскую регулярную армию, которая бы… — Онуфриенко запнулся, но все же договорил: —…которая могла бы наделе помочь героической германской армии…
Дальше Фридрих не слушал. Он сам был там, на Восточном фронте, на черной реке Миус, там оставил руку, а этот славянский выродок угрелся в Берлине и смеет поучать арийцев. Пора разобраться, каким образом он сюда попал. Фридрих смотрел, как Онуфриенко, раскрасневшись, поправляет толстые очки, и думал, что хорошо бы поставить его к стенке. А вслух сказал:
— Итак, подведем итоги… Ваши предложения я доложу по инстанции, но не увлекайтесь. Украинские рабочие будут в Германии. Условия войны для всех равны. Подумайте, как сказать об этом со страниц газеты.
В свите Гофмана, адъютанта Мартина Бормана при штабе Главного командования (ОКБ), Фридрих объездил пол-Украины.
«Не в наших интересах уничтожать этот народ, — писал в докладной записке Гофман. — Он должен работать на нас. Мы не будем содействовать школьному образованию. Мы обязаны держать местное население в темноте так, как было при царизме. Только креатуры, которые будут нам прислуживать, могут подняться на более высокий уровень, чтобы нам было легче править страной… Учителей необходимо подчинить немецкой власти. Тех учителей, которые не захотят того же самого, что мы, безусловно, заменим другими. Не имею никаких возражений, чтобы всех учителей финансово хорошо обеспечить и сделать из них безвольный инструмент немецкого духа. Они должны оставаться в положении бросивших родину, чтобы мы могли играть ими, как мячиками».
После рапорта Фридриха о разговоре в редакции он добавил к записке: «Думаю, что для добра Германии нам нужно быть более решительными и вышвырнуть всех эмигрантов, украинских экспертов, которые сидят в Берлине и других городах и думают, что разбираются в восточной политике».
Шеф посмеялся над последним абзацем:
— Будем пока заигрывать с эмиграцией. Это болото исправно поставляет предателей, диверсантов, шпионов, осведомителей…
После указаний Фридриха, которыми завершился спор в редакции, написать проникновенное «Письмо работникам-украинцам» поручили новенькому. Немного помаявшись над чистой страницей, он решил начать игриво: «Страшно жалею, что я не поэт. Потому что тогда это письмо я написал бы стихами…»
Василь погрыз кончик ручки и махнул дальше суровой прозой: «Наша работа здесь должна помочь решить судьбу миллионов, а не одной только семьи. И разве не стыдно было бы нам сидеть дома за печкой, тогда как одни с оружием, а другие с лопатой стоят на фронте в упорной борьбе за лучшее будущее? И разве в таком случае мы и наш народ имели бы право на лучшую судьбу и на жизнь вообще?»
«Не слишком ли лихо про народ? — перечитал он последние строчки. — Пожалуй, нет — в самую жилу». Сам-то он не остался за печкой, при первом случае вместе с женой махнул в Германию, а что же остальные отсиживаются?
А в соседней редакции, разместившейся в том же коридоре, другой «мыслитель» корпел над воззванием к братьям-мусульманам, призывал их во имя аллаха вставать под знамена со свастикой.
Телефоны «союзников», их контакты, переписка — все было под контролем гестапо. Внимательно читали там и послания Онуфриенко, снимая на всякий случай копии.
«Дорогой земляк! — писал Василий одному из своих знакомых в Прагу. — Я полностью понимаю Вашу заинтересованность всем, что случилось на родной земле за такой долгий срок, к тому же особенно в родном селе, в Кишеньке. Так что буду стараться понемногу, по мере возможности отвечать на Ваши вопросы.
Мне самому тоже нелегко жилось. Отец — сельский сапожник и музыкант, который всеми силами старался дать своим детям хорошее образование. И отчасти это ему удалось. Я окончил два курса учительского института, работал учителем, из школы перешел в редакцию. Писал понемногу стихи и прозу, но не придавал этому серьезного значения.
Потом вместе с женой уехал в Германию. Работал на заводе, пока своими стихами не привлек внимания редакции. С большим трудом перетянули нас двоих в Берлин. Работа хорошая, как раз по моей душе, так что я чувствую себя вполне удовлетворенным. Жена работает в том же учреждении, что и я. Живем неплохо пока.
Когда-нибудь при случае пришлю Вам свою фотографию, все-таки интересно иметь фото земляка, который отозвался на чужбине. Очень много наших людей здесь в Германии работают… Часто получаю от них письма».
Фотография приколота к самодельному бледно-зеленому конверту, на котором наклеено шесть марок с изображением фюрера. Глаза скрыты за круглыми стеклами очков. Тяжеловатый подбородок. Галстук, пуловер…
Он пишет дальше: «Моя жизнь на Украине была такой типичной для всякого интеллигента, что мне не нужно ничего выдумывать. Я опишу некоторые дни моей жизни, и этого будет достаточно для того, чтобы представить себе настоящее положение…
Получал 325 руб. в месяц, 125 платил за квартиру с питанием. 30 — за разные взносы, каких в Советах было множество. Перед советской бюрократией я не склонял головы. И сам не раз думал, что хотя и носил комсомольский билет, все-таки в комсомоле мне было не место. И меня выкинули бы оттуда, если б не случилась война.
Есть у меня кое-что написанное, в основном стихи. Из них было бы возможно сделать хороший сборник, да война сейчас, она-то и мешает». Вот так вскользь о войне, как о плохой погоде. Характерная деталь.
«Пишу всякую всячину… Вместе с этим письмом посылаю несколько стихотворений, написанных в последнее время. Написал поэтическую сказку, но сейчас нет возможности переписать ее на машинке. Редакцию вывезли за Берлин. Но часть вещей еще осталась здесь, в Берлине. Работы нет, потому что там еще не устроились. Гуляю неделю по Берлину. Видите, как написал: просклонял во всех падежах слово «Берлин».
Когда-то я писал Вам, что был в лагере. Приехал оттуда голый, как бубен. Да как-то мне везет в жизни. За пять месяцев накопил на одежду, хотя и дорого все. Недавно купил кожаное пальто (не новое) за 700 марок, жена за 300. И всякие другие вещи. Пришлось истратить кучу денег — до 2000 марок, но ничего не поделаешь — надо.
Чувствую себя хорошо. Англичане на какое-то время дали покой, хотя налеты я переношу довольно хорошо, смерти не боюсь, даже шальной. Стихи можете оставить себе, потому что здесь все равно когда-нибудь сгорят, а в Праге, может, сохранятся, если будут кому-то нужны».
По внешним приметам была у Василия обычная биография: школа, комсомол, работа по душе… Ему, вчерашнему десятикласснику, доверили учить детей. Потом, оценив его тягу к журналистике, предложили перейти в редакцию районной газеты…
В армию его не призвали из-за большой близорукости. Он остался в оккупации. И когда немцы открыли в его бывшей десятилетке сельхозучилище, нанялся сюда.
Старые — советские — учебники оккупанты запретили. Где-то в Праге и Берлине эмигранты лихорадочно клепали новые. А пока рейхскомиссар Украины разрешил «вольное обучение», которое ограничивалось «чтением, письмом, счетом, физкультурой, играми, производственным и ручным трудом. Язык преподавания — украинский или, соответственно, польский. Русский язык преподавать больше не следует». Учили детей до одиннадцати лет. Всех учеников старше пятнадцати лет приказывалось «закрытым способом отправить на работы в Германию».
По сравнению со своим шефом — рейхсфюрером войск СС Гиммлером — рейхскомиссар выглядел чуть ли не либералом. По мнению Гиммлера, для населения восточных областей было достаточно простого счета — самое большее до 500 — да умения расписаться. Умение читать он считал лишним. Школа должна была внушать, что «божественная заповедь заключается в том, чтобы повиноваться немцам…». Еще дальше шел Гитлер: «Идеально было бы научить их понимать лишь язык звуков и сигналов». Эго из стенографической записи высказываний Гитлера от 3 марта 1942 года.
Из документов оккупации: «Во время обследования Ярцевской школы Черниговского района инспектором школ г. Новиковым М. А. выявлено, что учительница этой школы Дегтярева H. Н. не выполнила нашего приказа под № 3 от 13/1–1942 года о конфискации литературы с коммунистическим содержанием и на уроках пользуется учебниками советского издания, а поэтому приказываю:
Учительницу Ярцевской школы г. Дегтяреву с работы снять.
2. Приказ разослать по всем районам Черниговщины и объявить его в школах.
3. Инспекторам образования еще раз проверить исполнение школами нашего приказа от 13/1–1942 года под № 3.
4. Учителям школ во время уроков чтения использовать материалы, которые помещаются в газете «Украинське Полесся» под названием «Страница для школьников».
Так вот распоряжался председатель межрайонного управления Черниговщины.
Эпизод в Ярцевской школе не был случайным. Города, села, рабочие поселки саботировали фашистские приказы, вредили, как могли, захватчикам. Пятого ноября 1941 года в Кишеньке полиция вывесила приказ № 10 — «О расстреле за выступление против немецкого правительства». «30 октября 1941 года, — говорилось в нем, — за саботаж в работе, за агитацию против немецкой армии и теперешнего строя, за умышленную порчу двигателя с целью срыва успешной молотьбы расстрелян житель села Григорьевка Кишенецкого района Полонский Кирилл Данилович».
Онуфриенко жил всегда собой. Теперь это чувство усилилось животным страхом — как бы его не заподозрили в нелояльности, в саботаже. Он искал каждую возможность продемонстрировать свою верноподданность. И нашел — когда оккупанты начали загонять молодежь в германское рабство.
Записался с женой добровольцами. И сразу же начал рассылать верноподданнические писульки по редакциям.
Немцы издавали газеты на разных языках. Но — странное дело — говорили они одним голосом. Это были те листки, которые, по замечанию Виталия Семина, точнее, его пятнадцатилетнего героя, не годились даже для разговора с «мальчиками» из керосиновых лавок. «В руках издателей газеты умирали сами слова. Я это сразу заметил. Во фразу их соединяла не живая энергия, к которой я привык, а истерические угрозы и воспоминания о том, что ни вспомнить, ни восстановить нельзя… прекрасные, многоцветные слова умирали, делались серыми, как ворсистая газетная бумага. Их убивало отсутствие жизненной цели, сколько-нибудь пригодной для печати у тех, кто работал в газетке».
Я листал подшивки этих изданий в немецких архивах, в Славянской библиотеке в Праге, какие-то страницы переснял для своего архива. Помню, как старался представить, с какими чувствами могли читать эти номера в бараках те, для кого «Голос», «Украинська дийснисть» или «Казачий вестник» были едва ли не единственным источником информации.
«Украинську дийснисть» (под названием немецкий логотип — «Ukrainische WirklichKeit) издавала на немецкие деньги так называемая «Украинская громада в Германии». Войну в этой конторе считали «московско-немецкой», мол, Украины, Белоруссии, других советских республик она не касается. В представлениях лакеев не было ни оккупации родной земли, ни массовых расстрелов, ни угона в рабство, ни принудительного труда… «…военные события выбросили на земли Немецкого Государства (именно так, все с большой буквы. — В. А.) самую большую украинскую эмиграцию, какую только знала наша история». Выбросили — и все тут. Эмиграцию!
Поздним вечером перед отбоем, пока не вырубили в бараках тусклый свет, можно пошуршать дозволенными страничками.
Что в них мог вычитать раб рейха? Ему рассказывали, как во Львове пышно праздновалось образование дивизии СС «Галичина». Формировать ее разрешил лично «Фюрер Великогермании», опять все, что касается фюрера и Германии — почтение, прописные буквы. Генеральный губернатор обращается с манифестом к украинскому населению Галичины: «…в ваших рядах постоянно высказывались пожелания, адресованные к немецкому руководству, о том, что вы хотели бы принять участие в этой самой большой в истории борьбе за свободу. Теперь час пробил! Добровольцы из ваших рядов будут плечом к плечу с проверенными в борьбе немецкими товарищами по оружию бороться против самого грозного врага также и вашего народа…»
В общем, вперед на большевистские орды, не бойтесь жертв, зато «вы отстоите и обеспечите для себя и своих детей возможность на вечные времена пользоваться благами европейской культуры».
Знамена дивизии СС «Галичина» освятил митрополит Андрей Шептицкий, а воинству раздали флажки с надписью: «На Москву».
Каждому воину дивизии СС «Галичина» губернатор обещал обмундирование, зарплату, питание, заботу о семье — они, мол, будут обеспечены так же, как и семьи немецких воинов… «Значит, припекло немчуру, делали вывод в бараке, своих уже не хватает». Вот и гонят в «Галичину», во власовские части…
О чем еще там пишется? «Исходя из стратегических соображений, фронт снова передвинулся на украинские земли и остановился над Днепром. Левобережье снова оказалось в когтях красной от крови Москвы. Можем ли мы представить, что творится с украинскими людьми по ту сторону фронта?»
Кому же не хотелось представить, что творится по ту сторону фронта? Там — дом родной, там мама. И сейчас стоит в глазах, как она, падая, бежала за эшелоном…
«Советы добыли пустыню», — радовалась газетка в информации о положении на «отбитых землях». Понятно, ни слова о том, что это рейхсфюрер СС Гиммлер распорядился: отступая, оставлять за собой «тотально выжженную и разрушенную страну». Об этих изуверских приказах мир узнал после войны, после победы.
А тогда демобилизованные инженеры, вернувшиеся на Ново-Краматорский машиностроительный завод, гордость наших довоенных пятилеток, удивились: у мартеновского и прессовых цехов нет высоченных кирпичных труб. Куда они подевались? Оказалось, перед отступлением специальные команды немецких подрывников «закладывали заряды под трубы таким образом, чтобы взорванная у основания тысячетонная громадина падала на здание цеха. Проламывала крышу, уродовала балки и установленные на них подъемные краны, превращая все в невообразимое месиво». Это инженерное варварство на всю жизнь впечаталось в память офицера-танкиста Ляшко. Спустя годы, Александр Павлович станет председателем правительства Украины, напишет о пережитом в Краматорске, в Донбассе в своих пронзительных мемуарах. Повсюду фашисты оставляли после себя виселицы, братские могилы и руины.
«…Хозяйственное восстановление сталкивается с такими трудностями, что их вряд ли удастся преодолеть», — сокрушалась та же «Украинська дийснисть». И, ссылаясь на цифры, доказывала, какие «огромные трудности приходится преодолевать большевикам». Например, в Орловской области из 857 000 тысяч голов крупного рогатого скота «после возвращения Советов осталось лишь 21 000. Соответствующие числа в Смоленской области — в 1938 г. 889 тысяч голов, а теперь (напомню, речь идет о сорок третьем годе. — В. А.) 48 000. Коней было 394 000, теперь лишь 7000».
Скользкая вещь статистика… Фашистский листок приговаривал освобожденные советские земли к голодной смерти.
Но люди в бараках видели за этими цифрами другое. На их глазах из Пскова и Смоленска, Чернигова и Орла, Гродно и Херсона немцы угоняли в Германию эшелоны с продовольствием. Из Полтавской области увозили даже знаменитый украинский чернозем… А теперь «на занятые снова территории поступило только 10 процентов оттого числа тракторов, которое было перед войной». Конечно, мало — десятая часть! Но все-таки поступают тракторы. Значит, и танки наловчились делать советские заводы, раз Красная армия вернулась к Днепру, и на тракторы остались силенки.
Таким, думается мне, мог быть вывод барака. Вряд ли там знали слова о журналистике как о второй древнейшей профессии, но заключили коротко и емко: дерьмо!
Люди из насильно разлученных семей хотели найти друг друга, получить хоть какую-нибудь весточку о близких. И что им отвечал «Украинець»?
«Многие рабочие с Востока, выехав на работу в Германию, потеряли связь со своими родными, так что сегодня многие родные разыскивают своих детей, дети — родных и т. д. Пока не найден способ, как немецкие учреждения могли бы помогать в этом отношении рабочим с Востока. Направлять вопросы об этом в немецкие административные и партийные органы напрасно, потому что на них не будут отвечать».
Коротко. Ясно. Как сирко, отлаялись за хозяина. И руку облизали.
Мир и вправду тесен. Вскоре после того, как «Комсомолка» опубликовала очерк о «восточных рабочих», в котором упоминался «доброволец рейха» Василий Онуфриенко из Полтавской области, пришло неожиданное письмо. Из той самой Кишеньки. От женщины, которая училась у Василия и даже получила от него несколько писем в Германии. Зовут се Мария Афанасьевна, девичья фамилия — Пашко, по мужу — Кириченко. Василий Онуфриенко учил ее немецкому языку. Перед войной Маша закончила девять классов, «много читала, мечтала заняться журналистикой, но грянула Великая Отечественная война, и все мои мечты пропали».
17 июня 1943 года Марию Пашко и трех ее односельчанок под конвоем привезли на станцию Кобеляки, загнали в товарные вагоны…
«У нас в вагоне, — пишет Мария Афанасьевна, — были сплошь молодые ребята, старшеклассники. Как нам не хотелось ехать на чужбину! Яша Онуфриенко, однофамилец учителя немецкого языка, выпилил в окне решетку и попытался открыть дверь вагона, чтобы выпрыгнуть. Но часовой выстрелил и ранил Яшу в руку.
Такой «новый порядок» гитлеровцы несли в Советский Союз: казни и пытки, смерть в концлагерях, куда сгоняли даже детей, уничтожение нашей культуры…
На снимке слева внизу — расстрелянный памятник Тарасу Шевченко.
Люди бежали от фашистов. А продажные листки клялись в верности оккупантам.
С этим документом в Германию собирались отправить и Валерию Борц, одну из героинь краснодонской «Молодой гвардии».
Листовки «Молодой гвардии».
Немцы формируют очередной эшелон для отправки в рабство.
Мы не узнаем имя этой русской, украинской или белорусской девушки, остарбайтера № 16. А так ее ровесницы и ровесники встречали Гитлера.
В 1942 году на заводе в Австрии судьба свела ростовчанку Шуру Пинтерину и Карла Лейтгольда.
Свою любовь они пронесли через годы…
…Так же, как украинка Феня Острик и унтер-офицер вермахта Вильгельм Диц.
Это они создали империю рабства: Генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы Заукель (на снимке вверху его поздравляет Гитлер), рейхскомиссар Украины Кох, министр вооружений и боеприпасов фашистской Германии Шпеер.
Их называли «восточными рабочими».
Берлин, май 1945 года. Советские воины раздают хлеб немцам.
Краматорские заводы больше не работают на Круппа.
Домой! Но не всем посчастливилось вернуться.
Поезд остановили, начали искать раненого. Всем в вагоне приказали раздеться и увидели, что ранен Яша. Его расстреляли здесь же, у вагона, а дома ждали сына мать с отцом. Двери опять захлопнули наглухо, поезд пошел к границе, а Яша остался лежать под откосом…»
…Над высокой днепровской кручей братская могила. В ней похоронены две тысячи тридцать воинов Красной армии, погибших при освобождении сел Кишенька и Переволочно в сентябре — октябре 1943 года. Большие были бои. Будь моя воля, я назвал бы здесь и тех, кто защищал Кишеньку в сорок первом, кто не сдался, как Яша Онуфриенко…
В сельской школе мне показали фотоснимок предвоенного выпуска. Традиционный снимок с полукруглыми портретиками и такими же — полукругом — подписями.
Почти все в сорок первом ушли в Красную армию. Мать Трофима Бовкуна и сейчас бережно хранит письма сына и считает его годы. В большой комнате на стене — фотографии молоденького политрука, перевитые рушниками.
«…Учиться окончил, присвоили звание политрука. И сейчас уезжаю, а куда — вам известно. Война с фашистами только начинается, жестокая война. И все-таки победа будет за нами. За Красной Армией, хотя стоить она будет и многих жертв.
Пусть знают все труженики, что сын колхозника Бовкуна Сергея Васильевича с честью защищает их мирный труд, счастливую, светлую жизнь. Это письмо я отправляю из Москвы, с Курского вокзала. Здесь же, на «пятиминутке», сфотографировался. Со мной четыре товарища: посередине два сибиряка — Валентин и Жорж, еще один товарищ из Днепропетровской области».
И еще одно письмо, помеченное июлем 1941 года: «Я назначен заместителем командира батареи по политчасти. Я ничего не боюсь. Победим мы».
Он собирался стать историком, изучать историю Украины. Но пока все научные планы пришлось отложить. Из университета Трофим перешел в военное училище. И мама одобрила это. В тридцать третьем голодном году она собрала сирот со всей округи, колхоз отвел им пустующую хату. Всех выходила. И сейчас ей пишут ее названые дети и названые внуки. Муж после войны умер от ран. Она всю жизнь работала в колхозе.
— Когда собирали кошты на литака, я как депутат всегда первая свои деньги жертвовала, а потом по людям шла. Хожу и собираю, кто сколько может.
Сплошным пепелищем лежало село. Председатель сельсовета, мой ровесник, хорошо помнит, как немцы поджигали хату. Мать сунула мальчишке арбуз: «Отнеси тому дядьке, может, не сожжет». Вояка оттолкнул мальчонку. «До сих пор вижу, как тог кавун покатился. И — пламя!» А дальше в памяти провал…
Ваня Марченко, самый младший среди приятелей, стал подпольщиком. Подполье в районе возглавил секретарь райкома партии Федор Александрович Шутко. Арестованный, он сумел передать родным страничку из «Ботаники» с красочными яблоками. Рядом приписка: «Живите и любите наш яркий красный цвет — цвет, который означает жизнь всей природы. Цвет, что означает радость, счастье и победу. 14.III. 1942».
Марченко назначили к угону в Германию. Он скрылся и после освобождения написал сестре: «Отправили нас под конвоем полиции на станцию Кобеляки. Там я убежал и за одну ночь пришел домой. И прятался полтора месяца. Потом меня нашли и снова повезли на станцию. И все-таки я добился своего, убежал и остался на нашей, советской стороне».
Когда Кишеньку освободили, Ваня ушел с Красной армией. И погиб при форсировании Днепра.
В Германии Марию Пашко определили в небольшое хозяйство. «Хозяйка попалась добрая, — замечает она, — отстала не отсаживала. Хозяин потерял ногу на нашем фронте, под Ленинградом, ненавидел Гитлера. Вечерами, приглушив у радиоприемника звук, меня подзывали послушать Москву».
Однажды хозяин принес письмо, адресованное его домработнице. Писал Василий Онуфриенко.
«В конверте были фотографии Василия и его жены, в прошлом нашей соседки. Я очень удивилась, откуда они узнали мой адрес, но тогда не придала этому значения. В общем, даже обрадовалась весточке от земляков. Написала ответ, что очень жду, когда вернусь на Родину. И добавила: скоро нам Кремлiвське сонечко укаже дорiженьку на рiдну неньку — Украïну». Через некоторое время получаю от них письмо и бандероль с газетами и журналом «Дозвилля». В журнале его стихотворение, где он льет грязь на нашу Родину. А в письме пишет: ты радуешься, что наши войска наступают, а знаешь, как вернешься домой, тебя ждет Сибирь…. Я расстроилась, решила, больше им писать не буду».
Вряд ли Васю это сильно огорчило. Он-то домой точно не собирался. И на все такие вопросы отвечал решительно со страниц газеты.
«Первый вопрос, который повторяется едва ли не во всех ваших письмах, это — когда вернемся домой? Не знаете. Так разрешите открыть вам тайну, сколько должна продолжаться наша работа в Германии — на время войны… Не важно, когда один или другой из нас будут на Украине, важно — на какой Украине».
Конечно, подразумевалось и говорилось только о самостийной неньке-Украине. Правда прорывалась в личных письмах, не предназначенных для печати.
Старый украинский эмигрант как-то прислал Онуфриенко заметки о «самостийной Украине»: «Прошу похлопотать перед господином шеф-редактором, чтобы эта статья увидела свет». Онуфриенко ответил так:
«…поскольку сейчас вопрос национальный является в то же время и политическим, то вам должно быть понятно, что опубликовать такое письмо не удалось бы, несмотря ни на какие желания редактора, из-за цензурных условий. Должен сказать, что грешная душа, проходя разные мытарства по дороге в рай, делает меньше разных остановок и испытаний, чем наша газета, готовясь выйти из печати. Бывает, что материалы со страниц изымаются и заменяются новыми, менее острыми. И пусть это будет между нами, я вам скажу, что здесь в Германии нет и речи про какое-то понятие самостийной Украины. Если его и позволяют еще произносить, то это тоже дело не постоянное. И может прийти время, когда употребление этого понятия будет считаться едва ли не антигосударственным делом».
В августе 1944 года Онуфриенко получил письмо, автор, пленный лейтенант-украинец, писал о своей любви к Пушкину и Шевченко, его возмущало, что газета употребляет слово «москаль»… «Город Москва, — писал он, — стал таким же дорогим украинскому сердцу, как Киев, а русский народ — наш единокровный брат».
«Кто же такой наш землячок? — сетовала газетка. — Что-то очень знакомая, очень большевистская его речь. Не является ли г. Москаль или даже Москаленко в действительности просто замаскированным под русского националиста большевиком?»
На исходе августа 1942 года, когда Германия на все лады трубила о победе своего оружия, «державникам» — так называли редеющее воинство гетмана Павла Скоропадского, бывшего флигель-адъютанта императора Николая II и зятя немецкого генерала Эйхгорна, — разрешили провести съезд. Перед началом помолились в украинской православной церкви за новые победы германского оружия. А потом пошли заседать.
Под вечер к заскучавшим делегатам прибыл гетман. С тех пор, как в 1918 году он бежал из Киева, его содержала разведка министерства иностранных дел Германии. Ясновельможный пан, как обращались гетманцы к Скоропадскому, старательно отрабатывал пайку. И теперь он стелился перед хозяевами: «Храбрые и дружественные нам немецкие войска освободили украинские земли от заклятого нашего врага — большевиков. Мы должны всеми своими силами поддерживать немецкие войска в борьбе с этим человеческим злом».
Грянули «Ще не вмерла Украина». Гетман прослезился и сказал, что было бы хорошо послать приветственную телеграмму Гитлеру и Розенбергу. Послали. Расписались еще раз в предательстве.
Вскоре после этого Мурашко, начальник организационного отдела гетманской управы, собрался в путь: «…я принял предложение немецких органов и выеду в ближайшее время на Украину, чтобы своим профессиональным опытом инженера помогать немецкой силе добить нашего вековечного врага — московский большевизм».
И вот от этого самого Мурашко в гетманский центр пришла из Киева «оскорбительная открытка, в которой он обругал всю организацию». Мало того. Вернувшись в Берлин, бывший верный гетмановец полностью порвал с управой. Коллеги недоумевали. Что случилось? Оболыиевичился? Нет, защитником Советской власти он не стал. Но понял: не друзья, а враги его народа пришли из Германии на Украину. И это надломило его.
«Человек чувствует себя здесь неуверенно на каждом шагу, — писал он в своих дневниковых заметках после поездки на Украину. — Из трамвая и поезда могут выбросить, могут все забрать, избить, арестовать, могут собаку натравить на человека, могут убить… Все те, к кому вроде человек должен был бы обращаться за защитой. Спекуляция процветает. Главные спекулянты — немцы. Они ездят в отдельных вагонах, везут с собой всякое добро без проверок. И в городах продают по высоким ценам. А в других вагонах все забирают, даже кусок хлеба, который человек взял в дорогу».
«Прочитал статью в «Новой добе». Кое-кто воодушевлен ею, я — нет. Самое интересное место там, где говорится, за что сражаются отдельные народы Востока. Казаки — за старый порядок, магометане за то, чтобы могли по-своему молиться богу, а белорусы и украинцы за то, чтобы могли присмотреться к европейской культуре. Я до сих пор о таких целях не слышал. Там есть и фотография, как маршируют украинские добровольцы. Беда только в том, что в других газетах была напечатана эта же самая фотография с подписью, что вот маршируют московские, в других — белорусские, а то и грузинские добровольцы. Есть основания не радоваться такой статье и считать ее очередной уткой, выпущенной для того, чтобы затушевать действительность».
Передо мной еще одно характерное письмо — из архива митрополита Шептицкого. (В австрийской разведке святой отец значился под кличкой Драгун; сразу же после немецкой оккупации Львова он призвал духовенство и верующих «провозгласить многолетие победоносной немецкой армии».) «…Расспрашивал бандеровца Кульчицкого Мирослава, — говорится в донесении, которое направил Шептицкому один из его агентов. — Он изучал медицину во Львовском институте. По заданию руководства поехал на Надднепровье. Скоро вернулся. «Ой, что там за люди! — рассказывает. — На немцев смотрят, как на зверей. На нас — как на предателей. Об ОУН ничего не знают и ничего не слышали. Спрашивал местных людей: «Вы за самостоятельную Украину?» Отвечали: «Была самостоятельная Украина, пока не пришли фашисты». — «Про греко-католическую церковь что-нибудь знаете?» — «Нет, ничего, — говорят, — не знаем». — «В церковь вообще-то ходите?» — «Нет, отвечают, — мы там ничего не потеряли. Ничего и не найдем». — «О митрополите Андрее Шептицком слышали?» — «Нет, не слышали…» — «Что же вы тогда слышали, что знаете?» — «Знаем горе, которое повстречало нас». — «А кто победит в этой войне, советы или немцы?» — «Победит Красная Армия», — отвечали…»
Закончу эту главку письмом Марии Пашко-Кириченко. Через несколько дней после того, как она отправила своему бывшему учителю резкое письмо, за ней явились жандармы.
«Не знаю, что они говорили хозяйке, но она очень плакала. Потом был суд. Меня обвинили в политике. Думаю, это дело рук В. Онуфриенко. Приговор был короткий: отправить в концлагерь».
Узнице № 87 113 повезло. Она вернулась домой в родную Кишеньку. Рассказала о Яше и о другом Онуфриенко, Василии, бежавшем на запад. Спросила, почему не видно Афанасия, ее молодого дяди, почти ровесника? Афанасий, сказали, бежал от угона в Германию, перешел линию фронта, стал танкистом. Пятого мая 1945 года сгорел в своем танке в Берлине, а было ему всего двадцать два года.
Вот еще одно имя для памятника в Кишеньке…
Письма с синим крестом
Эту игру, большую почтовую игру, затеял министр по делам оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг. Ему виделись тысячи и тысячи писем «восточных рабочих» домой «с мало-мальскими благоприятными отзывами об обращении с ними». «Такое письмо, — поучал Розенберг свою службу на одном из совещаний, — обойдет всю деревню и облегчит вербовочным комиссарам их дальнейшую работу… Об этом не следует говорить открыто».
Открыто господам и рабам следовало умиляться дарованному праву. «Украинець», как и другие газеты для «остарбайтеров», тут же известил: «Рабочие с Востока», вы должны быть удовлетворены предоставленной вам возможностью переписываться с родными».
Переписку, как и всю жизнь в лагерях, регламентировала специальная инструкция.
Каждый рабочий с Востока, говорилось в ней, может дважды в месяц писать родным. При этом установлен разный порядок, в зависимости оттого, адресуются ли авторы в районы с гражданской властью или военным управлением. В районы с гражданским управлением — это были рейхскомиссариат Украины и рейхскомиссариат Остланд — разрешалось принимать письма и пакеты до 250 грамм.
А что запрещалось?
Пересылать рисунки, использовать любые системы сокращенного письма, применять конверты с подкладкой, вкладывать письма в пакеты. На каждом конверте или на открытке обязательно следовало ставить синий крест.
В районы с военным управлением принимались только открытки с оплаченным ответом. Сам «восточный рабочий» не мог отправить свое письмо. Он обязан был сдать его начальнику лагеря или директору завода, фабрики, хозяину имения, а уж те отправляли послание дальше.
И вот эту тюремную, по сути, инструкцию венчало требование «быть удовлетворенными».
«Обратите внимание, — заклинал своих читателей «Украинець», — несмотря на все трудности, связанные с войной, вам предоставляется возможность обменяться приветами со своими родными. Прежде всего, позаботьтесь о том, чтобы писать четко. Вы должны понять, что во время войны цензура писем обязательна. Если вы пишете неряшливо, нет никакой уверенности, что ваша корреспонденция пойдет дальше. Это касается и ваших близких на родине. Обратите внимание на то, чтобы и они выполняли эти правила почтовой связи (особенно касательно четкости писания). Тогда и вы будете скорее получать от них весточки».
Несмотря на подробные и строгие советы-указания, переписка шла туго. Люди в лагерях волновались: почему нет ответов от родных? Их успокаивали: в военное время не все отправления доходят до адресатов. Надежнее посылать открытки. При этом разумелось: и контролировать переписку.
В начале ноября 1942 года власти, больше не церемонясь, объявили: с 25 ноября пользоваться только открытками с оплаченным ответом. Письма не принимаются. Их будут уничтожать или возвращать. Но много ли скажешь на почтовой карточке, зная, что каждое твое слово прощупывают чужие глаза?!
«Письмо, отправленное на свою родную Украину, в свое родное село, до своих родненьких и никогда незабываемых мамы и братиков Володи и Пети…» (адресовано Анне Кирпа). И еще короче — Богдану Кучеру от доньки: «Тато и мама, не горюйте обо мне».
Нет, не таких посланий ждал Розенберг, затевая почтовую игру.
Примечательная история случилась с открытками ростовчанки Н. Губаревой.
«Когда нам разрешили посылать открытки, я написала домой, маме, всю правду, все, что можно было сказать на этом клочке. Что нас заставляют работать по 12 часов, что на пересчете приходится простаивать по 2–3 часа в любую погоду. Спим на соломе. Кормят хуже, чем свиней. Обносились. Ходим, как нищие. Начальник лагеря вымещает на нас зло за своего погибшего на Востоке сына и за собственную контузию…»
И на старуху бывает проруха: проглядели германские цензоры эти открытки. Немецкая почта привезла их на Дон. А после освобождения Ростова мама Наташи Губаревой показала открытки из неволи журналистам красноармейской газеты «Сталинское знамя». Три открытки были напечатаны; на них ссылался в своей ноте нарком иностранных дел Советского Союза В. М. Молотов.
Но на этом история не закончилась. Второго апреля 1944 года гестаповцы арестовали Наташу Губареву. Ей пришлось пройти один из самых страшных концлагерей, Равенсбрюк…
Однажды полицай принес почтовые открытки и в барак, где жила с подругами Елена Вишневская.
«Я знала, что в Киеве остались при немцах наши старинные друзья старики Пироговы, — продолжает она свою исповедь. — Послала им двойную открытку со штампом нашего лагеря. На одной открытке я сообщила им о себе и просила «при первой возможности дать знать моей маме по старому адресу». Они поняли мою просьбу Оторвав вторую открытку, они прислали на ней несколько ободряющих строчек. До тех пор, пока Киев не был освобожден, я обменялась со стариками несколькими такими открытками.
Как только они замолчали, это стало добрым знаком: немцы выгнаны из Киева и сообщение Пироговых обо мне пошло в Москву. Так и было! Как счастлива была моя мама, узнав, что я жива!»
Анастасия Черкасова:
«В 1943 году маму вызвали в комендатуру, мы испугались, что ее заберут, и все трое пошли с нею. Маме нечего было надеть, она пошла в старой кофточке, парусиновой юбке и босиком. Немец-комендант спросил ее, почему она босиком. Мама сказала, что детей надо содержать, а сама она уж как-нибудь. Немец достал конверт, письмо и фотографию и показал маме. На фотографии была наша Мария. Конверт с адресом сестры немец оставил, а письмо и фото отдал нам.
Мария писала, что батрачит у одного богатого немца в Дюссельдорфе, с ней работал еще один француз. Одна из девушек, Нюра, после войны вернулась и рассказывала, что видела Марию, но Дюссельдорф сильно бомбили, и не известно, что стало с Марией. После войны она не вернулась, и мы ничего о ней не знаем. Мама ждала Машу до самой смерти и, когда умирала, просила искать сестру. Папа вернулся с фронта без ног, 35 лет мы за ним ухаживали, в 1980 году он умер.
Мы до сих пор надеемся получить весточку от Марии…»
И мне хотелось бы надеяться на добрый исход. Но кто в той Германии считался с жизнью рабов?!
Через два года после победы в Киеве вышла книжка, составленная из писем «восточных рабочих». Она так и называется — «Письма с фашистской каторги». 203 письма из двух миллионов, которые к тому времени были собраны в украинских архивах, в комиссии по истории Отечественной войны Академии наук республики.
Конечно, не все эти листочки добирались до родного крыльца с помощью немецкой почты. Чаще всего они попадали к родным окольными путями: передавали земляки, которых отправляли домой, отсылали немцы, рискуя своей свободой. Ребята знали, как строго просматриваются их послания, пытались, подчас наивно, обмануть цензуру.
Вот в село Гоменьки Сумской области пишет Надя, фамилия ее неизвестна: «Кормят нас, как вы своего квартиранта Пирата». Кому же не понятны строки о собачьей жизни в треклятой Неметчине?!
А Катюша Щ-ко вспомнила соседа, которого схоронили перед войной: «Я здесь уже такая сделалась, что придется дома двери ломать, когда вернусь, не пройду в них, поправилась так, как Маринчук Иван».
Леонид P-ко изобрел целую шифровальную систему. В своем письме от третьего октября 1942 года он наказывает родным: «Мама, передаю вам знаки, как писать мне письма. Если дома все в порядке, то пишите фиолетовыми, синими чернилами, если заберут корову, то пишите любым другим — черным, зеленым, красным. Если в письме от меня будет написано: «Ваш сын Леонид» — то это значит плохо. Если просто Леонид — хорошо».
Не забудем: среди «восточных рабочих» было много подростков, совсем молодых ребят. Их вырвали из привычной среды — дома, круга товарищей и подруг… С кем посоветоваться? Кого держаться?
Из письма неизвестного родным в Корсунский район Киевской области, 27 октября 1942 года:
«Вы пишете: не падай в панику. Я не видел здесь еще такого героя, который бы не плакал. Вы не думайте, что я только сижу и плачу, нет, я заплачу, когда уже не вытерпишь, и когда слезы сами бегут, а потом присяду и пою, но они не дают петь, не дают плакать, не дают говорить.
Например, я работаю с полькой, и я с ней никогда не говорю, потому что нам не позволяют ни за работой, ни за едой. Я здесь еще не видел людей, которые сказали бы, что нам хорошо. Здесь, папа, есть один польский пленный офицер, он меня полюбил и заступается за меня. И он учит меня еще лучше, чем вы, чтобы я не падал духом…
Папа, если бы вы видели, в каких условиях я пишу это письмо… Никто так не пишет, как я вам, ведь письма писать не разрешается, а только открытки. Я пока жив, здоров, чего и вам желаю».
«Дорогие мои мамочка и Катюша!
Быть может, этот листочек дойдет до вас. Если дойдет, то вы узнаете про нас почти всю правду.
Живем мы в лагере, в комнатах по 16 человек. Когда все соберутся, то негде и повернуться. Когда кричат: «Подъем на работу!», то все летяг с двухэтажных нар. На работу идем с целой капеллой полицаев и обратно с ними. Приходим в лагерь и из-под замка никуда. Иногда по воскресеньям дают пропуск на несколько человек. Гулять разрешается лишь по нашей улице, а больше нигде. Покупать можно все, кроме продуктов, одежды и обуви. Но это не означает, что мы голые — нет. На заводе дают тряпки вытирать станки, и мы шьем из них белье». (Галина Г-ч в г. Городня. Черниговской области, 4 апреля 1943 года.)
«Я работаю на фабрике. Сколько я получаю в месяц, когда (зачеркнуто цензурой) нам не выдают… То, что было на себе, то и донашиваем. Если бы вы знали, какой я теперь стала, Зина». (Из г. Рчешница в Сталино, родным, 16 июня 1943 года.)
«Люба, если будет еще вербовка и тебе принесут повестку, то порви эту повестку и уходи в другое село, ничего тебе не будет. А поедешь в Неметчину, «счастливой» будешь. Шура». (Из Германии в село Бабановка Запорожской области, 5 июля 1943 года.)
«Добрый день, дорогая семья Нины Лисаковской. От всего сердца посылаю вам свой далекий привет и желаю всего самого доброго в вашей жизни. Дорогая семья, хочу я вам с горечью передать печальную весть, которой вы не ожидали… Ваша дочь Нина Петровна Лисаковская 23.VII.43 г. в шесть часов вечера умерла… Я ей помогала чем могла. Не печальтесь, такова ее доля». (Мария П-чук из Берлина в с. Народичи Житомирской области, 29 июля 1943 года.)
Большое село Народичи — сотни парней и девушек увезли отсюда в Германию. В том же сборнике писем с чужбины встретилось еще одно, адресованное в Народичи, на этот раз из Франкфурта:
«И вот сейчас я вам напишу, дорогая мама, отец и братья, забудьте о своем сыне и брате, потому что пропаду я здесь, как булька на воде, и не выдержу я такой работы, таких издевательств и такого голода, как здесь, в Германии». (27 сентября 1943 года.)
Через множество рук из лагеря № 388 где-то в глубине Германии дошло до родных письмо неизвестной нам девушки. Немецкий мастер купил ей четыре марки, но отправить письмо побоялся: «Запрещено!» Неделю-другую листочек пришлось прятать, — «а ведь здесь негде укрыть написанное». Потом подвернулась оказия… И где-то в хате над Десной родные открыли конверт:
«Есть нам дают три раза в день. Утром даже не могу сказать, что это такое — закипяченная вода, туда всыпают немного муки, так что получается нечто очень реденькое и такое седоватое, как вода с вареников… Мамочка и папочка, бараки наши так сделаны, как наш хлев, койки двухэтажные, солому, как напихали, когда мы приехали, так она и лежит. Блох — аж матрас поднимается».
Обратные адреса вся Германия: Нюрнберг и Дортмунд, Берлин и Дрезден, безвестные немецкие, австрийские поселки, Мюнхен и Карлсбад — да, Карловы Вары! Отсюда 3 июня 1943 года написала письмо своим родным в село Жуковку Киевской области Катя Л-ко:
«…День за днем идут дожди. Мы пропалываем картошку — и жизни своей не рады. Косим сено, а руки болят, не знаю как. Работаем день за днем. Как ляжешь спать, то уже и не повернешься. Хожу босиком, потому что ботинки уже порвались. Я хозяину показываю, что не в чем ходить, а он отвечает: «Почему же ты не ругаешь дождь?» Наверное, здесь придется помирать и никто не узнает, где моя могилка…»
В сорок пятом, сразу после освобождения Чехословакии от фашизма, близ Карловых Вар, Соколова, Хеба были найдены десятки братских могил советских военнопленных и «восточных рабочих». «На полосатом тряпье сохранились большие буквы «R», — говорилось в акте следственной комиссии. — Значит, это наши солдаты, томившиеся в фашистском плену Имен их никто никогда не узнает. Трупы обозначаем цифрами: первый, пятый, восьмой… Черепа пленных расколоты каким-то тяжелым предметом. Вскоре мы находим его: четырехпятикилограммовый слиток железа».
Убивали пленных в десятке шагов от поселка. Что знали там о расправе? «Нас поразило отношение жителей к трагедии, разыгравшейся у них на глазах, — отмечают авторы отчета. — Никто ничего не помнил, никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Верим! Что стоила жизнь военнопленного, да еще русского, для гитлеровских прислужников?!»
Из села Викторовка Киевской области в германский городок Гладбах родители отправили сыну немецкую рекламку. Цензура это послание охотно пропустила. А сын мог сравнить рекламу и действительность:
«Папа прислал мне рекламу, в которой рисуется жизнь украинцев в Германии. Нарисовано правдиво, это надо понимать. А вы так и понимаете… Эх, что там говорить: раб-рабом!»
Таких откровений, конечно, не было в профашистских газетенках, в официозных киножурналах. Там во весь экран молодицы шустрили у станков, пели красивые и грустные песни про родные края… А вечером, таясь от напарниц, писали домой, как Катя П. Из Трира в свою Яновку, село в Киевской области.
«Я перешла к другому хозяину, в другое село, за 10 км оттого, где работает Маня. Здесь мне еще лучше: там, бывало, как наработаюсь, встречусь с Манькой и горе забуду. А сейчас я одна, заброшенная среди чужих людей. Уже пятая неделя, как я не могу ни с кем и словом перемолвиться. Нет в этом селе ни одной девушки с Украины или России. Один паренек из Таганрога, русский, да у него нет ни минуты свободной, работает, работает, а его все упрекают, мол, ленивый, всегда слышишь, как кричат на него, словно это скотина, а не человек. Несколько раз его уже били. Не имеет он права говорить ни с сербами, ни с кем, как только заговорит, так и гонят, словно собаку.
За пять недель я раз поговорила с ним, а так у меня рот будто замкнутый. Полицай и мне принес нашивку «OST». Теперь все, кто с нашивками, не имеют права ходить в соседние села, только в своем всегда надо быть».
Судя по всему, немецкие цензоры частенько не успевали отлавливать крамолу. Потому-то и прорывались такие откровения:
«Мама, Павлина пусть помирает дома, но сюда не едет». Без подписи.
«О возвращении домой нечего и думать, потому что только сюда ворота широкие». (Лида К-ва из Аншвила в г. Сталино, 5 января 1943 года.)
«Мамочка, ты пишешь, чтобы я побольше читал. Я не могу этого делать, если бы и хотел. Здесь нет книг, а во-вторых, я работаю по 12 часов в день… Я ведь еще ребенок, а работаю, как взрослый…» (Анатолий С-ов из Гюнтерсберга в Киев, 10 января 1943 года.)
«Дорогие мои незнакомые, дядя Иван Иванович! Я дочка Ивана Григорьевича, с хутора Стасово. Нахожусь сейчас в Германии в городе Магдебург. Однажды встретила здесь вашего сына Григория. Он находится в плену, недалеко от меня… Напишите, что вы хотели бы знать о нем, а я, хотя это и трудно, постараюсь передать от вас пару слов. Он пока жив, здоров, а как живется здесь, он сам расскажет, если вернется домой.
Встретились мы на чужой стороне, и я с радости около окна заплакала, а он за решеткой…» (Екатерина М-ко, из Магдебурга в с. Гавриловку Днепропетровской области, 19 января 1943 года.)
Вот еще один конспиратор пишет в Полтавскую область, интересуется у родных: «Далеко ли сейчас те гости, что подходили зимой?» (Степан С-p из Маплиса, 26 января 1943 года.)
Современным читателям, особенно молодым, Великая Отечественная война представляется сначала одним большим отступлением, потом — безостановочным наступлением. От Волги до Берлина! Увы, обратный путь был не победной прогулкой. Четыре раза, к примеру, захватывали немцы Лозовую, четыре раза освобождала эту станцию Красная армия. В последний раз — в августе 1943 года. А до этого «гостей, что подходили зимой», немцы отбивали. Они умели воевать.
А вот как докатилась до лагеря весточка о гостях — загадка. Может, услышал новость кто-то из французских или бельгийских рабочих — у них режим был посвободнее, может, вычитали ребята между строк в газетках, которые издавали для них хозяева положения. Во всяком случае, в лагерях знали о Сталинграде, знали и о том, что было после Сталинграда.
«Папа и мама, теперь я опишу вам новости: к нам прилетают наши орлы и такого дают, что весь Берлин горит по месяцу. И еще прилетят, и хорошо дадут». (Люба О-ко, из Берлина в с. Каменка Днепропетровской области.)
Добро не забывается
Инструкции, памятки, наставления регламентировали каждый шаг невольников. Целая система предписаний определяла контакты окружающих с ними. Были «Указания по обращению с иностранными рабочими из гражданского населения, находящегося в империи». Действовал циркуляр гестапо «Об обращении с используемой в рейхе иностранной рабочей силой». «Остарбайтсрам не разрешается покидать места работы без письменного разрешения полицейских властей, за исключением обстоятельств, связанных с работой, — говорилось в документе. — Если место работы и место жительства находятся не в одном месте, то этот запрет распространяется на оба места». «Восточным рабочим» запрещался выход за пределы места жительства и нахождение за его пределами по окончании светового дня по местному времени. Время запрета указывалось точно: «с 1 апреля по 30 сентября с 21 часа до 5 часов, с 1 октября по 31 марта — с 20 часов до 6 часов».
Специальная «Памятка домашним хозяйкам…» указывала, что права на свободное время «восточные работницы» не имеют. Им нельзя находиться за пределами домашнего хозяйства без каких-либо обязанностей, связанных с потребностью именно этого домашнего хозяйства. Им запрещалось бывать в ресторанах, кино, театрах и других увеселительных заведениях…
Система запретов грозила суровыми карами и «восточным рабочим», и тем, кто осмелился бы им помочь. «…Все военнопленные, включая французов, принадлежат к враждебным нациям, — цитирую один из приказов Главного управления фирмы «Крупп». — С русскими гражданскими рабочими следует во всех отношениях обходиться как с военнопленными. Любое сочувствие представляет собой ложную жалость, которую суды не будут принимать во внимание».
В радиопьесе Генриха Белля «Час ожидания» герой, бежавший из Германии задолго до войны, возвращается в свой город после разгрома. На кладбище, в фамильном склепе он узнает: умер отец, умерла мать. Нет брата…
«Гериберт Донат, родился в 1917-м, пал в 1941-м под Белогоршей, унтер-офицер».
А потом выясняется, что брата расстреляли. «Расстреляли его у стога, в польской деревне, поздно вечером, впопыхах, как убийцы».
За что же?
«Он помогал пленным бежать, открывал двери теплушек, в которых везли рабов в Германию, давал им хлеб».
Не знаю, реальны ли герои этой пьесы или вымышлены творческой фантазией большого писателя. Ситуация же — абсолютно реальна. В сотнях писем я находил такие же или похожие истории, когда, рискуя собой, немцы помогали «восточным рабочим». Память узников бережно и трогательно хранит каждый, даже небольшой, факт человеческого участия, доброты и благородства.
Вот такая деталь врезалась в память Виталию Семину: все годы в неволе в нем жила надежда, что кто-то из немцев хоть в этот перерыв поделится хлебом. «Это даже не надежда, а голодный спазм, с которым мне не совладеть. Не дали ни разу. И сейчас, через много лет после войны, я испытываю страх и стыд — ведь все мы люди… Буду честен до конца, — продолжал Семин. — На другую сторону коромысла положу конфету. Она немало весит, если я ее до сих пор помню…»
Ту конфету в малиновой обертке кто-то оставил на заборчике, мимо которого шли русские. «…Мне почему-то до сих пор светит малиновая фольга».
Доброта в фашистской Германии боялась быть узнанной. Тем дороже она, тем памятнее. Нине Константиновне Станченковой из Смоленска не забыть семью Рихарда Мутцингера, которая помогла выжить ей и ее подругам. Александре Касьяновой помнится французская семья, укрывавшая ее с подругой в конце войны.
«Убежав, мы прятались в поле, в садах, и в конце концов нас забрал к себе в дом один старик. Зашли в дом, семья как раз ужинала. Нам налили по два стакана чая и дали по кусочку хлеба. Спрашивали: еще? Мы отказались, несмотря на голод, было стыдно.
Прожили мы у них двое суток. Семья была такая: отец 72 лет, его сестре 74 года, сыну Максу 36, его жена Анна и сынишка девяти лет. У них была своя мельница».
И Марии Прокофьевне Толок больше всего помнится сейчас не работа с утра до ночи, а такая простая вроде бы деталь: «ели мы с хозяйкой за одним столом, ели то же, что и она. Нас было две украинки, поляк и работник-немец с волчанкой на лице».
Напомню: в «Памятке домашним хозяйкам…» говорилось так:
«…Если в исключительных случаях в одном и том же домашнем хозяйстве используются одновременно немецкие домашние работницы и восточные работницы, то немецкой домашней работнице следует поручить преимущественно обслуживание семьи, а также надзор за восточной работницей.
Немецкие работницы должны быть во всех отношениях в привилегированном положении».
Нарушителям грозила суровая кара. И тем не менее…
29 января 1992 года «Правда» опубликовала снимок двух старых женщин, русской и немецкой, Марии Письменной и Марии Зегберт. Это была их вторая встреча. А первая — полвека назад, когда русскую Марию под конвоем пригнали в Германию. Попала она в городок Херте, в семью Зегбертов.
Свою немецкую тезку русская Мария и тогда, когда ей было девятнадцать лет, и позже, на склоне жизни, называла «второй матерью». А это надо заслужить. И знать об этом надо, помнить о силе добра, которое все-таки побеждает зло.
Сколько их было, таких историй, как у двух Марий? Полного ответа мы, наверное, никогда не узнаем. Правду скрывали и тогда, в военные годы, и много лет спустя после войны. Только в последние годы открылось несколько трогательных историй. Об одной из них рассказали журналисты Московского радио.
Однажды радиожурналистка Ирина Балакина вспомнила в передаче о давнем авторе из Берлина — Стиава Марии. (Опять Мария, может, в самом деле это имя несет в себе нечто магическое?) Ее письма всегда были проникнуты добрыми чувствами к нашей стране. И вот, цитируя письмо из Берлина, Балакина сказала: «Дорогая товарищ Мария».
Ответ из Германии был неожиданным. Он начинался так: «Дорогая Ирина, вчера, слушая передачу Московского радио, я вдруг услышала свое имя и обращение ко мне: ТОВАРИЩ! Я была очень взволнована, ведь слово ТОВАРИЩ для меня очень много значит. Хочу, чтобы вы знали: я действительно всегда была вашим товарищем. Много лет в нашей семье хранится эта история, но никогда я не решалась об этом рассказать вам. А вот теперь решилась…»
Мария Стиава попросила московских радиожурналистов помочь найти друга их семьи — Виктора Мазарчука: «Он был родом из Курской области, деревня Тарасова или Тарасовка. Подростком нацисты насильно увезли его в Германию. В то время и познакомился с ним мой 14-летний брат Пауль. Это случилось на вокзале в городе Усти-над-Лабой, на территории нынешней Чехии. Брат отказался вступать в гитлерюгенд, и за это его заставили руками чистить вокзальные туалеты. Пауль привел Виктора к нам. Вскоре загорелся склад, где Виктор работал, и его арестовали. Но моя старшая сестра Изольда сумела увести Виктора из полиции: она сказала, что его срочно требуют на работу, и офицер поверил ей».
В семье Марии Стиава Виктора прятали вплоть до прихода Красной армии. «Мы никогда не забывали нашего русского друга, — заканчивает свое письмо Мария. — Сейчас он, как и мы, пожилой человек. Верю, что он жив. Нас четверо братьев и сестер. И все мы с нетерпением ждем от вас помощи в поисках Виктора. Вот важная подробность: он знает только фамилию наших родителей. Их звали Пауль и Гила Нарр, а жили мы в пяти минутах ходьбы от вокзала, где мой брат нашел Виктора Мазарчука».
Об этой истории рассказали по радио и телевидению, тысячи людей пытались помочь, но сам Мазарчук, к сожалению, не отозвался. Зато отозвались другие, в памяти которых жили образы людей, спасавших их, рискуя при этом собственной жизнью. Это была коллективная повесть о силе добра. Почти полвека авторы этих писем хранили в памяти имена людей, заслонивших их от смерти, — врача и солдата, рабочего и крестьянина. И тоже просили помочь найти этих людей или их близких, чтобы отдать долг благодарности тем, кто и в годы господства в Германии нацизма сумел остаться человеком.
Вот, например, письмо Галины Федоровны Черновой из Воронежа. Уже много лет она разыскивает немецкого врача Гельмута Фукса, который спас ее от неминуемой смерти. «Я заболела сыпным тифом. Такие больные подлежали уничтожению. Но доктор Фукс скрыл мой диагноз и вылечил. Когда нас освободили советские войска, он пришел на вокзал проводить нас домой. Больше мы его не видели… Если он жив, то, конечно, сейчас в больших годах, ведь он родился в 1909 или 1910 году. Еще знаю, что он был женат, растил с женой сына Дитриха. Как мне хочется поклониться ему, сказать спасибо за наши жизни, за жизни многих людей, которых он спас».
О себе Галина Федоровна пишет мало: «Работаю лаборантом в мединституте, почти два десятка лет была донором. Отдавала свою кровь, возвращая долг таким людям, как доктор Фукс».
Софья Иосифовна Аксенова, Ивано-Франковская обл.:
«За плечами — целая жизнь, и все чаще и чаще приходится обдумывать и осмысливать прожитые годы. Годы моей юности — это годы войны. В 1942 году меня, восемнадцатилетнюю девчонку, забрали фашисты. Рабский труд, голод, безысходность — все приводило в отчаяние. Но судьба свела меня с замечательной женщиной, добрейшей души человеком — Марией (и опять — Мария! Будь благословенно имя твое! — В. А.). Пасир. Ей было 35 лет, муж-солдат погиб на Восточном фронте, где-то под Великими Луками, осталось двое сыновей… Что, казалось бы, ей до русских, до восточных батраков? И все же она, преодолевая собственное горе, помогла нам выжить, делилась хлебом, бралась рядом с нами за работу, давая нам передохнуть. Прошу помочь мне разыскать эту удивительную женщину, ей война принесла большое горе, но она сумела разделить с нами нашу беду».
Елена Степановна Жданова:
Немцы в цехе были хорошие, людяные. Помогали нам, когда шли с обеда, каждый день давали всем по бутерброду. Бутерброд тоненький, но очень вкусный, до сих пор пахнет, а в праздничные дни — с колбасой и луком. Запомнились мне Йоган и Михель, какие же они были добрые люди. Их уже нет, конечно, но как бы я хотела отблагодарить их.
Работала еще рядом, только на машине, Мария — немка. Однажды она пришла в лагерь и попросила, чтоб нас отпустили к ней в гости.
Мы были дома у нее два или три раза. Помню, объявили воздушную тревогу, наша хозяйка забрала в бункер и нас. За это ее ругали немцы, но она, как я поняла, защищала нас».
Киевлянка Зинаида Мойсеенко, тоже прошедшая каторгу, рассказала о своем муже, фронтовике, инвалиде войны. Впрочем, тогда, когда все это происходило, они еще не были даже знакомы. Эту историю она узнала после свадьбы, а свадьбу сыграли в сорок седьмом…
«Когда он заболел, его, еще живого, выбросили на кучу смертников. Но свет не без добрых людей. Его подобрала старушка-немка, отходила, переодела, сказала: иди, сынок, к своим.
И он выжил. Вернулся к своим, на Родину. Но рано ушел из жизни. Достала-таки каторга… Я воспитала двоих детей, трудно было, очень трудно, хлеб ниточкой резала. Дети выросли честными, трудолюбивыми, имеют свои семьи. И я помогаю им воспитывать внуков».
Лидочку Попову угнали из Новочеркасска 3 октября 1942 года. На всю жизнь врезалась в память эта дата. И еще имя — Адель Дальшек. Так звали медсестру лагеря при химзаводе:
«Когда я заболела, она тайно помогла мне сделать рентген (русским рентген не делали) и определила меня в больницу, где лежали иностранцы. Как выяснилось позже, у меня был плеврит, и если бы не ее доброе отношение ко мне и своевременная медицинская помощь, вряд ли я осталась бы в живых.
В цехе, где я работала, всем немцам ежедневно выдавали молоко. Главный лаборант, пожилой мужчина, каждую смену отдавал мне свою бутылку молока».
Елена Ивановна Вишневская:
«В один из сумрачных осенних дней, когда мелкий дождь лил, не переставая, с утра до конца работы и настроение было более чем подавленное, при выходе из цеха я почувствовала, как в мою руку кто-то вложил небольшой сверток. В столовой я развернула его и обнаружила дивный бутерброд с колбасой. Кто мой благодетель, я не могла понять, он ничем не выдал себя в толпе. На следующий день все повторилось. Я была начеку, ждала и заметила человека, который приблизился ко мне. Эго был старик — немецкий рабочий. Быстро сунул мне сверток и, не глядя, не сказав ни слова, прошел мимо. Я прошептала слова благодарности, но он не оглянулся.
Ежедневно после конца рабочего дня я получала эту желанную милостыню. Я ждала этого момента с волнением, потому что сильнее его материальной ценности была ценность моральная. Глубокая сердечность этого очень старого человека трогала меня до слез. Днем я никогда не видела его. По-видимому, он приходил ко мне из другого цеха перед самым уходом с работы и, слившись с толпой, незаметно делал свое доброе дело. Так длилось больше месяца. Потом внезапно прекратилось, и я больше не видела этого чудесного человека. Узнать, что с ним случилось, я не имела возможности.
У нас в цехе была одна высокая, хорошенькая немка. Типичная «Гретхен» или «Луиза» с большими голубыми глазами на всегда улыбавшемся лице. Не помню, чтобы она хоть единым словом обмолвилась с нами, но однажды поманила меня в укромный уголок и сунула две пары вполне пригодных для носки туфель. После грубых «хольцшуэ» — ботинок на деревянной подошве, выданных нам вместе со спецодеждой, — эти туфли показались мне божественно красивыми. Опять я была растрогана актом человеческой доброты. Это была не только бескорыстная, но еще и опасная помощь, т. к. если бы на эту немку был донос в гестапо, ей бы не миновать самого сурового наказания за помощь восточной рабочей».
Однажды Елену отыскал случайный знакомый, который увидел ее, измученную, больную, на приеме у врача.
«Был поздний вечер. Наш барак гудел разговорами, вспыхивающими ссорами, догорали угли в чугунной печке, кто-то доедал свой скудный паек, кто-то стирал свою спецовку, словом, был обычный вечер после работы. Со двора вошла одна из девушек и сказала, что меня хочет видеть какой-то немец. Я вышла из комнаты и в темном тамбуре столкнулась с тем человеком. Через полуоткрытую дверь нашей штубы его лицо было освещено. Я видела, как он взволнован, и мне сделалось не по себе. Так мы стояли друг против друга несколько секунд без слов, а затем он протянул мне сверток и прошептал по-немецки: «Здесь… Я сам сделал для Ваших больных ног…» Не совсем понимая, что это такое, я поблагодарила его, и тогда он спросил: «Не могли бы Вы пройтись со мной? Я хотел бы с Вами поговорить!» Я пыталась объяснить ему, что нам запрещено и я здесь почти как пленная, но от смущения все слова вылетели у меня из головы, и я смогла только сказать: «Я не свободна». С оттенком большого разочарования человек выдохнул: «Ах, зо!» — почтительно попрощался со мной и исчез в темноте лагерного двора.
Трудно было понять, как он проник в лагерь, как разыскал меня. Все это было таинственно. А в свертке оказались наивные, кустарной работы шлепанцы из рыжего плюша. Они так пригодились моим больным ногам! И я долго вспоминала с благодарностью этого странного человека, который подарил мне кусочек своего сердечного тепла».
Одно время Вишневская работала служанкой в доме директора завода. Хозяйка поручала ей кое-какие покупки, в том числе, хлеба — по карточкам. «Однажды я получила хлеб, но карточку мне вернули с неоторванными талонами, — пишет Елена Ивановна. — Первое мое побуждение было исправить ошибку, но более сильное желание — вдоволь наесться — пересилило его, и я ничего не сказала продавщице. В тот же день к вечеру я получила по этим талонам дополнительный хлеб, спрятала его в своей каморке и с наслаждением ела два дня. Я радовалась рассеянности продавщицы и моей удаче.
В следующий раз я получила хлеб, получила от нее карточку, взглянула на нее… и не поверила своим глазам! — талоны опять не были оторваны. Продавщица заметила мое замешательство. Подобие ободряющей улыбки скользнуло по ее строгому лицу, она протянула руку, вновь взяла мою карточку, вырвала талоны и… выдала вторую порцию хлеба. Я чуть не бросилась ее целовать от радости. Так систематически я подкармливалась ею. Ее благодеяние могло быть замечено хозяином булочной или кем-нибудь из посетителей, но она смело шла на риск и, как только была удобная минута, делала свое благородное дело.
Все эти люди были друзьями среди врагов. Может быть, они были коммунистами, антифашистами, может быть, просто добрыми людьми. Забыть их невозможно!»
Своей путеводной звездой называет Марию Хобачеву из Барнаула Екатерина Попова:
«Была она из тех самых окруженцев, которые пробирались к нам из Белгорода. Она дошла до нашего села, остановилась у одной женщины, а потом немцы забрали ее вместе со всеми. Удивительно, что не отправили в концлагерь — она же была офицером-медиком. Видно, не знали немцы, и никто не донес. Она вернула мне волю к жизни, любовь и веру в людей».
В воспоминаниях Поповой много имен: поляк Юзек, неизвестный русский офицер, немецкий мастер Отто…
«…Снова вспомнился дедушка Отто. Собственно, я никогда его надолго не забываю, образ этого человека встает перед внутренним взором почти всякий раз, когда я вижу немецкие слова или слышу немецкую речь. Потому что у дедушки я училась азам языка. И чему-то научилась. Однажды он спросил меня: «Вен ду геборен (Когда ты родилась)?» Я поняла вопрос и даже сумела ответить, что 23 июня. Тогда я не придала этому значения, и каково же было мое удивление, когда 23 июня дедушка Отто преподнес мне розу, видно, только что срезанную с клумбы около его дома (у них там каждый участок земли возделан, даже в городах и городках около домов цветы рас гут). Розу я поставила в бутылку около своего рабочего места и все, кто проходил мимо, поздравляли меня. А на следующий день дочь мастера (она работала в заводоуправлении) принесла мне в подарок красные коралловые бусики».
Польский рабочий Юзек из соседнего барака помог Кате связаться с нашими пленными.
«Мы меняли свои пайки хлеба на табак и через него посылали нашим ребятам. Я передавала свои стихи. Уж какие они были, бог с ними, но мне в ту пору они казались совершенством. Когда я читала, всегда видела у девочек на глазах слезы. Вот, например, о хлебе. Чтоб быстро его не съесть, мы насыпали побольше соли.
Кленовый листочек, Душистый кусочек. Что может быть горше неволи, Чтоб быстро не съесть. Спасение есть — Насыплю я столько же соли.Случалось, нам давали пропуск в город, и тогда мы подходили к лагерю. Однажды удалось подойти близко. Несколько пленных подбежали к проволоке, а один спросил, кто из нас Катя. Я ткнула себя пальцем в грудь.
— Молодец, хотите я вам что-нибудь спою?
Подбежала охрана, отогнала пленных, он только успел еще крикнуть, что он зять артистки Ковалевой.
Вот и все, что я знаю об этом пленном. Через несколько дней мы бежали. И только позже я горько пожалела, что не догадалась спросить ни имени, ни адреса. Вернулись-то мы домой раньше, могли родным написать: жив, мол, в плену… А, может, и не надо было этого делать, многие ведь не вернулись, а хоронить дважды еще тяжелее.
Но все-таки…
Однажды по телевидению выступала Марина Францевна Ковалева, дочь актрисы Ковалевой, и во мне все перевернулось. Не муж ли ее был там, в лагере?
Пишу, а события тех дней одно на другое наплывают внахлест, и я еле-еле справляюсь, чтобы выбрать поважнее. И хочется мне о рабочих-немцах написать. О людях. Я на мастера однажды крикнула:
— Фашист!
— Что?
— Капиталист!
— Что?
— Паразит!
Слово для него непонятно, ушел. Часа через два вернулся и сказал, что он не паразит, а рабочий. А когда мы ушли, он к нашим девочкам подходил и говорил, что Катерина — патриот.
И буханку хлеба я помню, не кусочек, а буханку — 500 граммов. Ее принес мне тот самый дедушка-немец Отто, который работал рядом со мной. Был он очень старый, кожа на руках постоянно лопалась, а он заклеивал трещинки пластырем. Эти старческие руки я и сейчас вижу перед глазами. И хлеб тот у него наверняка не был лишним, лишнего им тоже не давали.
С этим подаренным хлебом мы и ушли, а когда нас задержали, в первую очередь съели до последней крошки, чтоб не отобрали».
Юзек купил беглянкам билеты до Катовице, да еще сопровождающего устроил: «Мы-то думали, что это случайное совпадение, нет, сейчас я понимаю, это Юзек думал о нас».
Они пробирались на восток уже несколько недель. И когда совсем не осталось сил, мокрые и замерзшие, в полном отчаянии зашли в одном селе к старосте. Будь, что будет…
«Староста не выдал, только вместе не разрешил ночевать, по разным хатам развел. Хозяйка, бросив все, стала топить плиту, греть воду. А потом отмывала мои ноги в кровавых мозолях и плакала…»
И все-таки они добрались до Украины… Из партизанского отряда Елену отправили в госпиталь, а Катя осталась. «Так я ее потеряла, а думала, что никогда с ней не расстанусь. Хобачева Мария Васильевна, 1923 года рождения, из Барнаула, отзовись!
А я родилась в 1926 году в селе Солонецкая Поляна Курской области, сейчас наш район в Белгородской области. До войны окончила первый курс Ново-Оскольского педтехникума, после войны окончила Всесоюзный заочный финансовый техникум, работала до пенсии по специальности. Муж был военным, уже умер…»
Лидия Борисовна Арсеньева:
«Мне спасла жизнь чешка, старшая по бараку. Звали ее пани Франя. Это все, что я о ней знаю. У меня воспалилось среднее ухо. Температура поднялась до 39 градусов. Я не знала еще лагерных порядков и обратилась к ней. По закону она должна была доложить немецкой надзирательнице, и меня ждал крематорий. А пани Франя спросила, русская ли я, и сказала: иди обязательно на перекличку, может, поправишься, я тебя не видела. Только потом я поняла, что она для меня сделала и как рисковала сама».
Анна Петровна Ворожбит:
«Силы покидали меня, а мастер подгоняет, бьет, быстрее, мол, надо работать. Шнель! Напротив меня старый немец обрабатывал какие-то бруски, а я с другой стороны станка складывала их на вагонетку и отвозила в соседний цех. Однажды старик ударил меня доской, и я упала. В сознание пришла на вагонетке. Другой немецкий рабочий дал мне воды и сказал, что теперь я буду работать с ним. Он немного говорил по-русски, в 1915 году был в Николаеве, там остались его первая жена, Надежда, и дочь. Вот он спас меня от смерти. Каждый день оставлял за вагонетками два кусочка хлеба, а однажды там я увидела яблоко. До сих пор чувствую его вкус».
Иван Павлович Литвиненко, Полтавская обл.:
«В лагере, убирая нужники, можно было заработать увольнительную. А в городе за время увольнительной можно было подработать. Так вот, в начале 1944 года я помог одной немке убрать мусор во дворе. Меня позвали в дом. Хозяин угостил сигаретой, а фрау Эчевальд говорит: мальчишке не до курения, он, наверное, голоден. Принесла она мне тарелочку супа и, пока сказала мужу пару слов, я суп уже съел. Она принесла еще. Потом еще. Муж смеется, говорит, что ты ему тарелочками носишь, давай всю кастрюлю.
Муж фрау Эчевальд написал записку коменданту лагеря, и мне давали увольнительную без отработки. С тех пор я часто бывал у них. Фрау Эчевальд давала мне костюмчик, белье, шляпу и ботинки своего сына, погибшего во Франции. Но недолго так было. Скоро ее муж умер. Я сажал цветы на его могиле. До конца своих дней буду с благодарностью вспоминать этих добрых людей, их человеческое отношение. И другое не забуду.
Однажды вместе с нами вагон картошки разгружали наши военнопленные. После разгрузки нас поставили в общий строй и приказали всем вывернуть карманы. У одного молоденького белокурого пленного в кармане оказались две картошины. Немец его на месте застрелил. Парень упал, ветер развевал его кудри, а глаза были открыты. Нас погнали строем, а он остался… Этот паренек мне часто снится по ночам…»
Говорят, полициям на ладони можно прочитать судьбу. Если умеешь, конечно, читать эти начертанные за нас эскизы. Прапорщик Алексей Шумаков в судьбу не верил, но встретившейся однажды хорошенькой цыганке вдруг доверчиво протянул ладонь. Пусть гадает, ведь все и так ясно. Красные уже прорвали Перекоп, вот-вот войдут в Севастополь. Но это не конец. Борьба продолжается.
— Ты еще встретишься с теми, от кого сейчас бежишь, — завершила гадалка свое путешествие по ладони и по времени.
Алексей и сам знал, что встретится, ничего нового Земфира ему не сказала.
Но пройдет два десятка лет, грянет новая война и он, русский эмигрант, русский офицер, участник чешского подполья, осужденный на принудительный труд в Германии, вспомнит то давнее пророчество. Вот он и встретился с теми, от кого тогда бежал в Севастополе. Их бараки разделяет только ряд колючей проволоки, а в цехе вообще ничто не разделяет. Только нетерпимый взгляд мастера, который не может позволить рабам рейха зажилить хотя бы минуту для себя. Но кто помешает Шумакову поделиться с земляками своей пайкой, сигаретой, посылкой, присланной из Праги?..
Об этом человеке я знаю совсем мало, только то, что рассказала мне в Праге врач Людмила Синкулова, связная антифашистского подполья, автор удивительной автобиографической книги «Я была кем-то другой». Спасаясь от неминуемого ареста, летом 1942 года она завербовалась по фальшивому паспорту на работу в Германию и провела там три года — до освобождения. Книга — об этих годах. У вербованных был относительно свободный режим, и доктор Синкулова, тогда она была Марией Недбаловой, могла в определенные часы ходить по городу, заводить знакомства. Так она познакомилась с Шумаковым, узнала его историю. Потом след его потерялся…
«Из ворот соседнего лагеря каждый вечер в полвосьмого, — пишет Синкулова, — выводили OST — колонны на ночную смену. Работницы шли молча, только перестук колодок в ранней темноте разносился далеко вокруг. Охрана вместе с ними шла по дороге, тротуар был свободен. Однажды я пошла по тротуару. За последними домами, когда совсем стемнело, тихо начала насвистывать мотив песни «Если завтра война…» Колодки сбились с ритма. По рядам прошуршало: «Слышите?» Охрана ничего не заметила. Тогда я перешла к другим мелодиям — о дальневосточных партизанах, о Каховке…
Так продолжалось несколько дней. Чаще всего и насвистывала Партизанскую и представляла, как мои незнакомые подруги шепчутся: появится ли их «музыкант» сегодня? Был это крохотный стебелек, за который мы держались вместе, смешной против немецких автоматов, но он светил нам, как искорка во тьме».
Каким-то особым чувством Людмила Синкулова поняла, как нужна ее ровесницам, оторванным от родного дома, именно такая поддержка.
Владимир Макарович Коваленко, чье письмо мы уже читали, вместе с односельчанами Виктором Куропятником и Григорием Козленко попал в Судеты, сначала в небольшое поместье, а потом к крупному бауэру. На него раньше работали 25 советских военнопленных, их отправили в лагеря, а сюда взамен прислали «восточных рабочих».
«Жили мы в бывшей конюшне, под стенами стояли нары, посредине — большая печка-буржуйка. Местная полиция нас всех взяла на учет, сняли отпечатки пальцев, выдали арбайт-карты; выходить из лагеря имели право только на работу.
Вместе с нами были два москвича — Николай Рзянкин и Иван Мохов, Иван Гапонов был из-под Курска. Леня Коваленко, мой однофамилец, из Кировоградской области… Других не помню.
У нас не было официальной организации, но мы и не были каждый сам по себе. Прислушивались к слову Николая Рзянкина. От нас с пустыми руками уходили власовские вербовщики, никого не соблазнили, ни одного предателя не нашли. Уже после освобождения Рзянкин пришел к нам в форме лейтенанта Советской Армии. Оказалось, что в Кировоградской области ему удалось бежать из плена, прижился в глухом сельце и оттуда как гражданский был увезен в Германию на работу».
Земля, на которой работали Коваленко и его товарищи, принадлежала крупному землевладельцу. Хозяин, очевидно, не хотел возиться с фруктами и продавал урожай на корню некоему господину Поку. Когда фрукты созревали, Пок набирал батраков из окрестных лагерей. Вместе с ними, старый и хромой, он работал весь день: перебирал фрукты, паковал их в ящики, ремонтировал лестницы… Его дочь готовила на всех обед, вместе с отцом садилась за один стол с ними».
В лагере Владимир таскал мешки с удобрениями — по 50 кг. То ли от инфекции, то ли от простуды на спине образовался нарыв. Ночью просохнет, а днем, на работе, снова сдирается. За неделю болячка захватила всю спину. Управляющий послал его к врачу.
«Передо мной в кабинет вошел незнакомый мне русский парень. Врач, как я узнал позже, спросил его, что болит. Парень показал ему на горло. Врач попросил открыть рот, посмотрел и, схватив дубинку, огрел парня по голове. Тот выскочил из кабинета, даже кепку оставил.
Настала моя очередь. Испугавшись, что и мне достанется резиновой дубинкой, я задрал рубашку на спине и бочком вошел в кабинет, показывая свой нарыв. Врач выписал рецепт, по нему управляющему выдали лекарства. Так меня вылечили.
Разные люди были вокруг, добрые и злые, простые крестьяне и одурманенные гитлеровской пропагандой функционеры. Помню шофера, который работал с нами, был он членом гитлеровской партии. Любил побахвалиться тем, что после войны станет колонистом, в России у него будет свое хозяйство, 25 га земли и 50 рабочих…
Жизнь рассудила нас».
Четыре миллиона колонистов, которых Гитлер собирался осчастливить русской землей после победы над Советским Союзом, остались при своих интересах.
Мужчины и женщины
Откроем некогда секретный приказ рейхсфюрера СС Гиммлера. 20 февраля 1942 года всемогущий шеф гестапо распорядился, как следует обращаться с угнанными в рабство людьми. В этом документе подробно предписывалось, как вести борьбу против нарушений дисциплины, вплоть до применения особой меры, что на языке гестаповцев означало смертную казнь. Расписано было все с хваленой немецкой педантичностью, с учетом национальных особенностей.
Пункт VI регулировал интимные отношения. «Половые сношения. Рабочим, вывезенным с русской территории, половые сношения запрещены. Они не имеют для этого никакой возможности уже в силу крайнего стеснения жилищных условий.
В каждом случае установления половых сношений с немцами — мужчинами и женщинами — следует делать запрос о применении особой меры для рабочих из областей Советской России и о переводе в концентрационный лагерь для работниц».
Примерно такой же пункт был в предписании об обращении с рабочими польской национальности: «Половая связь с женщинами и девушками строго запрещается. В случае констатирования такого факта свидетель обязан об этом доложить».
Бесчеловечный режим, бесчеловечные отношения… Сами авторы этих документов, возможно, считали себя людьми цивилизованными, даже утонченными. В их жизни могли быть и чувства, и любовь, и стихи, и цветы. «Низшей» расе в движениях души «хозяева мира» отказывали, словно речь шла о зверях.
«Чтобы всем было ясно, что речь идет не о людях, а о животных, — заметил в этой связи германский публицист Гюнтер Вальраф, — на которых не распространяются человеческие законы, еврейкам на заводах Круппа запрещалось использовать туалеты, свои естественные потребности они были вынуждены удовлетворять во дворе, перед взглядами всех, как зверьки».
Рабам полагалась работа. Чтоб не подохнуть с голода — черпак баланды. Чтоб собраться с силами для новой смены — нары. Чтоб не забывали, кто в этом мире хозяин — плети. И — особые меры.
Но и через особые меры, через всю жестокость системы, низводящей человека до уровня рабочей скотины, пробивалось человеческое. Об этом рассказывают многие письма, вспоминают многие уже старые сегодня люди. И когда они возвращаются памятью в свою юность, пусть и такую горькую, что-то светлое загорается в глазах. И вспоминается лукавое гоголевское, хотя и сказанное совсем о других временах: «Ну, если где парубок и девка живут близко один от другого… Сами знаете, что выходит».
Елена Ивановна Вишневская:
«Однажды во время перерыва я села на пенек под лучами солнца. Подошел скромный, незнакомый француз и предложил мне сигарету. Покурили, немного поговорили и разошлись по своим цехам. На следующий день этот француз появился в цехе. Я видела, как он разговаривал со своими товарищами, а сам посматривал в мою сторону. Подойти ко мне ему не дал обход полицая, но он сделал это на следующий день.
Это был Роже Дессайн, военнопленный. Его жена Леон недавно умерла во Франции от чахотки, а дети — девочка Шанталь и мальчик Клод — жили с родственниками. В связи с этими обстоятельствами Роже надеялся на свой отъезд во Францию, но единственно чего он добился — это перевода из военнопленных в группу цивильных французов. Покинуть Германию ему не разрешили. Роже перебрался в барак нашего двора и теперь мог время от времени видеться со мной, передавать новости о положении на фронте, делиться своими мыслями. Так началась наша дружба.
Роже проявлял необыкновенно трогательную заботу обо мне. Сколько раз на него натыкался полицай Эуме, когда Роже стоял под нашим бараком с миской еды для меня! Эуме грубо прогонял его. Я просила Роже не делать этого, но он не мог преодолеть растущего чувства ко мне и шел на любые унижения ради того, чтобы хоть как-нибудь облегчить мое существование. Ко дню моего рождения он смастерил деревянную коробочку в форме книги, на крышке которой вырезал слово «сувенир» и вставил свой маленький портрет. Несколько позже преподнес такую же вторую, с моим именем, изысканно инкрустированную цветным деревом. Затем подарил рамочки для фото, одна из них представляла подкову, которую держат хоботами два слона, их клыки были сделаны из зубцов обыкновенной расчески. Работа отличалась изяществом и тщательностью, хотя и производил он ее примитивными инструментами. Эти сувениры теперь всегда находятся на моем бюро. Множество знаков его внимания согревали мои дни: нашел где-то удобную стальную ложку № 000 13 и подарил на счастье, купил мне ножик, выписал из Франции два словаря, да всего и не перечтешь. Все эти мелочи так нужны мне были, так хорошо служили мне в лагере! А как приятны были его ободряющие записки! Если же приходила продуктовая посылка, он неизменно делился ею со мной, ну а я, в свою очередь, с Надей».
Другая романтическая история началась для меня с одного семейного альбома. Перебираешь снимок за снимком и словно перелистываешь годы.
Вот девочка бежит по улице. Солнечный и, видно, ветреный день. Легкое платье облепило фигурку. Куда летишь, малышка? Тебе кажется, что улица детства никогда не кончится. Но уже рядом, вблизи — война! И следующий раз на тебя наведут камеру, как на мишень. На грудь повесят табличку с номером и сфотографируют. И взгляд у тебя будет совсем-совсем иным — взгляд обреченного человека. Человека, у которого хотят отнять родину, дом, имя, оставив только номер.
Вот долговязый подросток, на нем длинный фартук булочника, руки устало опущены… Завтра его тоже угонят в Германию. Он едва успеет сунуть в чемоданчик свою единственную фотографию. Ту, которую уже после войны передаст в палату Лене.
Я переворачиваю снимок и прошу Жана Викторовича перевести: «Всей моей любовью, самой искренней, я тебя согреваю, я надеюсь, что мы скоро увидимся, моя маленькая Лена. Твой истинный друг, который тебя ждет. Жан».
Их свела война.
Лена Пономаренко жила в оккупированном Николаеве. Эвакуироваться семья не успела. Фронт откатился к востоку, родной город стал тылом фашистской армии. Все вокруг изменилось. У колонки, куда она бегала с ведром, повесили табличку: «Вода только для немецких солдат. Русские, берущие воду, будут расстреляны». Пришлось ходить к дальнему колодцу. Не оглядываясь по сторонам, она спешила прошмыгнуть мимо соседнего дома. Оттуда тоже грозила смерть. «В этом доме живут немцы, кто нарушит их покой или посягнет на их собственность — будет расстрелян».
Расстреливали каждый день. За то, что был стахановцем. Помогал партизанам. Прятал еврейского мальчика. Просто за то, что ненавидел чужеземцев, ворвавшихся в твой дом.
Лену прятали от угона. В городе не знали фашистских приказов об отправке в рейх «нескольких миллионов отборных русских рабочих», для того чтобы покрыть «катастрофический недостаток рабочих рук в Германии», и «400–500 тысяч отборных, здоровых и крепких девушек». Эти тайные приказы, инструкции станут известны лишь после войны. Но все видели, как чужие солдаты, полицаи хватают на улицах молодых людей и под конвоем угоняют в Германию.
В каждой семье думали-гадали, как спасти своих дочерей и сыновей, как скрыться от продажных вербовщиков, холуев, которые рекламировали фашистскую каторгу словно увеселительную прогулку: «Германия приглашает вас! Приезжайте в прекрасную Германию! 100 000 украинцев работают уже в свободной Германии. И ты соглашайся тоже…»
Дурных нема, — отвечают в таком случае на Украине. Добровольцев, повторюсь, за редким исключением не было. Тогда участились облавы. Полицаи, прислужники понесли по домам, по дворам повестки. Распишись:
«Подтверждаю подписью, что я получил повестку об обязательной явке на работу в Германию.
Мне известно, что за невыполнение этого приказа у меня или моей семьи конфискуется дом, двор и весь скот.
Если я и после этого не явлюсь, чтобы отправиться в Германию, то мой дом или дом моих родных будет сожжен».
Горели дома, горели села, молодежь уходила в леса, скрываясь, как много веков назад от орды. Однажды писатель Юрий Сбитнев рассказал в «Литературной газете» историю, услышанную вскоре после войны. Деревенская женщина вспоминала о дочерях, которых «побелью» увезли в Германию. Побела — рабыня на продажу. «По беле от двора» брали непосильную, горькую дань половцы. Не по белке, как говорится в современных толкованиях, замечает Ю. Сбитнев, а по рабыне. Кстати, и у Даля есть обельный — обращенный в рабство, купленный, крепостной; обель — в Правде Русской, замечает автор «Толкового словаря живого великорусского языка», крепостной холоп… Вот как перекинулся мосток через века, почти через тысячелетие.
«Призыв рождения 1926.
Все мужчины и женщины рождения 1926, жители Николаева, настоящим в последний раз призываются исполнить трудовую повинность.
Кто не последует этому призыву или бегством уклонится от рабочей повинности, будет расстрелян».
1926-й — год рождения Лены Пономаренко. Отец отвез ее за город, на опытную сельскохозяйственную станцию — быть может, там пересидит эту чуму. Не удалось. Вспоминать о тех днях больно и сейчас:
— Повезли нас на арбе по Херсонской дороге, как раз мимо нашего дома. Родители узнали, что меня забрали, примчались на вокзал. Отец на телеграфный столб залез. Что там творилось! И мне поставили букву «Т» — мол, может работать. Я показала матери в окно свою руку. Она кричит: говори, что у тебя аппендицит, сердце слабое. Каждая мать что-то кричала своему ребенку. Да кто там нас слушал! Позагоняли всех в товарные вагоны. Вши, горячка, опухли руки, ноги. Кто мог — бежал по дороге, через окошки выпрыгивали, доски в полу срывали… Страшно вспоминать.
И слушать страшно. Но надо слушать, чтоб не забылась и эта страница войны, эти искалеченные неволей судьбы.
Жан впервые увидел Лену, когда ее и подруг вели в лагерь. Какая-то сила подтолкнула его к незнакомой девушке: «Давай помогу!»
Он часто прибегал в цех, где работала Лена. «Жан подменит меня, а я хоть на две минутки прислонюсь к стенке, передохну».
Однажды она решилась помочь ему. Когда мастер отвернулся, сунула за пазуху булочку, только что вынутую из печи. Булочка припеклась к телу, а все видевший мастер выжидал, насколько же у этой русской хватит терпения. Вытерпела, хотя и пришлось ту булочку позже срывать прямо с кожей.
Когда им удавалось встретиться, рассказывал о себе: родился в Италии, еще малышом с родителями перебрался во Францию. Мать умерла. Отец привел в дом мачеху. С четырнадцати лет Жану пришлось работать в пекарне. Ночью у печей, а днем разносчиком.
Они не говорили о любви. Она, казалось, осталась там, за чертой войны. Но и эту преграду способна преодолеть любовь. И соединить людей. После освобождения они могли выбирать, куда им ехать. В Советский Союз? Во Францию? Пока раздумывали, Лена заболела. И Жан никуда не поехал, потому что не мог оставить ее одну в больнице. Вот тогда он и подарил ей свою фотографию. Тогда в первый раз сказал о своей любви. Она по-французски читать не умела, но главное поняла.
Они решили не расставаться, Лена и Жан Коллавини. Так же, как София и Андре Дегримонт, Лида и Жорж Ванговен… Роже Дессайн, военнопленный француз и русская актриса Елена Вишневская…
…Андре Дегримонт был в партизанах. Попал в плен. Бежал… У него так смешно выговаривалось «р», когда София учила русским и украинским словам, что ей хотелось, чтобы он говорил еще и еще. О, ради нее он готов говорить бесконечно.
— А то что же получится, вернемся до дому, а я и побалакать не смогу.
Он имел право говорить так: вернемся. Они решили вместе ехать в Советский Союз, в ее родной Мариуполь, город на берегу Азовского моря.
А Жан и Лена вместе поехали во Францию.
Первое впечатление Елена Даниловна помнит и сейчас: «Стоим на пороге, как две сироты, никому не нужные». В большой семье и без них ртов хватало. А тут еще двое. Без работы, без крыши над головой. Куда их деть? Разве что на чердак. Там и приютилась молодая семья. В Костель-Жалю работы не было. С трудом Жан устроился разнорабочим в соседнем городке, домой мог приезжать лишь в раз в неделю.
Лена опять заболела, не могла даже спуститься по крутым ступенькам со своих высоких «апартаментов». Тогда племянник Жана, десятилетний Мишель, подсказал остроумный выход: Лена спускала в слуховое оконце веревку, а он привязывал к ней пакетики с молоком. Добрый рос мальчишка…
Бывают натуры, которым помнится лишь плохое, мелкие обиды, ссоры. У Елены Даниловны и Жана Викторовича память охотнее обращается к доброму, примерам отзывчивости, человеческого участия.
Разве забудется чердак, первая кроватка сына, сбитая из неструганых досок, пальтишко, сшитое из тряпок! Все живет в памяти. Помнится и больничная палата, полная незнакомых женщин. Это французские коммунисты пришли поздравить молодую русскую маму, принесли цветы, подарки для малыша…
Все письма Лены, все надписи на фотографиях полны одним: домой! «Дорогой братик! — пишет она, посылая свой снимок, — часто думаю о всех вас. Твоя сестричка». На другом снимке: «Мои дорогие, если бы можно было, я бы вам прислала свою душу. Я сейчас здесь, а душа моя с вами, дорогие мои незабываемые родители».
Год за годом Лена обращалась в советское посольство с просьбой разрешить вернуться на Родину. Осенью 1955 года пришел долгожданный ответ:
«Уважаемая гражданка Пономаренко-Коллавини!
Консульский отдел посольства СССР во Франции сообщает Вам, что в настоящее время Вы можете возвратиться на постоянное жительство к себе на Родину в Советский Союз вместе с мужем и детьми…»
Через несколько лет о семье Коллавини рассказала книга «День мира», огромный том, вобравший в себя события одного дня планеты — 27 сентября 1960 года. Приведу выдержку из книги:
«Роберт Коллавини запомнил: когда они впервые приехали в Советский Союз, день был ясный, небо синее, солнце ослепительное. Незнакомые люди улыбались, тепло жали руки. Что они говорили, Роберт не понимал. Он тоже улыбался, а сам думал: «Наверное, нас с кем-то перепутали, если встречают как родных».
С тех пор прошло четыре года. Сегодня я встретилась с Робертом Коллавини, маленьким советским гражданином. Он рассказывает:
— Нам дали здесь квартиру, папе и маме предоставили работу, меня и брата устроили в школу-интернат. Я много занимался, чтобы овладеть русским языком. Папа поступил в шестой класс вечерней школы и сказал: «В Советском Союзе все учатся, и я должен учиться».
У Жана и сейчас хранится большая тетрадь с записями уроков русского языка. Бережет он, конечно, и аттестат об окончании школы рабочей молодежи № 13. В 1966 году, в 45 лет получил Жан Коллавини аттестат о среднем образовании, а его сыну, Роберту, в том же году вручили диплом об окончании техникума.
Каждый из них — Жан Коллавини, Андре Дегримонт, Жорж Ванговен — нашел работу по душе.
Жорж, как и в Бельгии, стал проходчиком, Дегримонт — слесарем на металлургическом заводе имени Ильича.
Впервые познакомившись с этими семьями еще в 60-е годы прошлого века, я и позже не терял их из виду. Однажды узнал, что Дегримонты решили перебраться во Францию. Распродали все — дом, машину, мебель — и в полном составе отправились в путь.
А всего через полгода на завод пришло письмо из Парижа. «Недавно я со всей семьей вернулся во Францию, — писал Андре Дегримонт. — Переживаю большие трудности. Работу по специальности не обещают. Жить негде. Я очень плохо сделал, что сюда приехал. Я очень хочу вернуться на мою Родину, в Советский Союз».
Они вернулись, как это не покажется странным иному читателю, привыкшему, что к названию Советский Союз обязательно добавляют: бывший, а всю его историю пишут одной черной краской.
Жан прочитал о Дегримонтах в газете, которую подложила жена, однако поддерживать разговор не стал: «Я политикой не занимаюсь. Я работаю».
— Я просто работаю, — говорил он всем знакомым, соседям, родным, когда приехал с Леной на родину, в Костель-Жалю. А у него спрашивали: дорого ли заплатил за учебу детей? Во что обходится медицинская помощь? Как удалось построить такой просторный дом?
— Я говорил правду, — рассказывает Жан Викторович. — Вот спросили, как меня поставили мастером. Закончил вечернюю школу, десять классов. Учли мой опыт, я ведь тесто чувствую… В общем, без вранья, не преувеличивал. Говорил правду. И люди слушали.
А Елена Даниловна прокомментировала ту поездку чисто по-женски:
— Жан выглядел, как сдобная булочка. А брат его и зять, хотя и моложе оба, казались стариками, такие морщинистые, изможденные. Говорят ему: а ты неплохо, несмотря на все ваши трудности в Советском Союзе, живешь.
Тогда еще они жили в Советском Союзе…
Об одном будущем на двоих мечтали Шура Пинтерина и ее австрийский друг Карл Лейтгольд… Однажды Шуре приснилось поле цветущих красных тюльпанов. Она протянула ладони, чтобы собрать их, но цветы в ее руках отчего-то стали желтыми. Утром, придя на работу, она узнала, что гестаповцы отправляют Карла на фронт. Кто-то донес о его встречах с русской девушкой.
Они разыскали друг друга через много-много лет после войны с помощью газеты «Труд» и летом 2001 года встретились. Но до этого в город Шахты пришло семь десятков писем из Австрии…
«Я часто думаю о том времени, когда мы оба были вместе. Помню, как ты однажды спала немного, оперевшись на меня. Однажды мы даже танцевали вдвоем. Это было на встрече нового, 1944 года. У нас была ночная смена, и в середине ночи мы сделали маленький праздник. Мы танцевали без музыки и должны были внимательно слушать, не идет ли надсмотрщик».
«Я хотел бы тебя посетить, но как я к тебе приеду? Я сильно постарел, мне уже 80 лет и годы берут свое. У меня плохо с ногами. В 1962-м я сильно обжег левую ногу, лежал в больнице. Долго не мог ходить. Теперь у меня бывают судороги. Я не могу больше подниматься на наши прекрасные горы и смотрю на них в бинокль».
«Я разговариваю с тобой, но тебя нет со мной. Ты спрашиваешь, что такое «надежда»? «Надеждой называется мое желание увидеть тебя. И я верю, что оно однажды исполнится. Господь поможет нам. Я молюсь об этом каждый день».
«Дорогая Шура! Я получил от тебя 21 письмо и послал тебе 3 заказных письма. Сложил их все вместе, и когда у меня возникает печаль, я перечитываю их, сердцу становится легче, так как знаю — ты любишь меня. Тысячу раз благодарю тебя за эту любовь. Миллион поцелуев посылает твоим прекрасным глазам постоянно думающий о тебе, любящий всем сердцем Карл».
«Ты хочешь знать, как проходит моя жизнь? Я встаю в 6 часов, иду в церковь, где помогаю священнику. Я должен зажечь свечи и позвонить в колокол. Во время службы я читаю Библию. Когда кто-то умирает, я тоже звоню в колокола. В церкви у меня много работы. Потом иду домой и варю себе кофе. Я сам готовлю себе еду, убираю в квартире и стираю себе одежду. После обеда работаю в саду — пропалываю грядки, стригу лужайку. Когда все сделаю, сажусь на скамейку, чтобы думать о тебе».
«Моя дорогая Шура, я заканчиваю письмо, иду спать, уже 23 часа. Перед сном я должен пропеть молитву у твоей фотографии, поцеловать твое фото. Я молю Бога, чтобы он защитил тебя и постоянно был с тобой».
«Милая Шура! Я знаю, что у тебя маленькая пенсия. Я хотел бы тебе помочь, но как? Между нашими странами нет соглашения, я не могу послать тебе деньги. Но я могу отправить посылку — пиши, что тебе нужно? Ты написала, что болела. У тебя повышенное давление — это опасно. Ты должна пойти к врачу, пожалуйста, позаботься о себе. Ты должна быть здоровой, чтобы мы могли увидеться».
И они все-таки увиделись. Почти через шесть десятков лет после их первой встречи. Карл Лейтгольд прилетел на Дон, в город Шахты, о котором столько слышал от своей Шуры. Журналистка газеты «Труд» Лидия Карамышева (она первой рассказала об этой истории любви) так ее завершает:
«Карл хотел бы, чтобы они жили вместе. Но в России — он узнавал — это невозможно: каждый месяц ему пришлось бы ездить в Австрию — получать пенсию. Лейтгольд весьма сожалеет о том, что оформил визу всего на два этих летних месяца, они пролетели быстро. Уехал с мыслью о том, что, вернувшись в Австрию, сделает операцию на коленной чашечке, которая совсем пришла в негодность, а в следующем году опять сюда приедет — на три месяца.
На мой вопрос, не собирается ли она уехать к Карлу, Александра Егоровна ответила: «По австрийским законам я должна быть его женой не менее трех лет. Л ишь тогда смогу рассчитывать на какое-либо социальное пособие. Но кто знает, даст ли нам Господь эти три года?»
Как бы там ни было, их любовь выдержала самое строгое испытание — временем…
А теперь я хочу рассказать историю любви, победившей ненависть. Историю о том, как немецкий унтер-офицер спас от угона в Германию украинскую девушку и что из этого в конце концов вышло.
Феня и Вильгельм
22 октября 1943 года, примерно в те же дни, когда герои этого повествования унтер-офицер вермахта Вильгельм Диц и Феня Острик, девушка из оккупированной Смелы, впервые увидели друг друга, русский писатель Михаил Михайлович Пришвин записал в своем дневнике:
«Любовь — это история личности. Война — история общества».
А любовь во время войны? Любовь, сомкнувшая души над пропастью ненависти? Как причудливо, горестно и радостно, трагически и счастливо вписалась эта любовь — история личности — в историю общества, нашего и немецкого!
Семейная тайна
Улочки в Смеле, укрытой каштанами, похожи, как близнецы. Особенно в той стороне, которую издавна называют Загреблей. Гребля по-украински: плотина. Там, почти в сельской тишине, хаты стоят привольно. Палисадники с яркой россыпью цветов и ухоженные огороды в глубине дворов открыты взгляду. Жизнь течет, словно в бывшем сотенном местечке Чигиринского полка. По-соседски на виду, радушно и щедро. Здесь задолго до провозглашения гласности сложилась своя полная гласность: кто женился, кто разженился, чем отличились вчера дети, что у соседки сегодня на столе…
Тем более невероятной показалась новость, взбудоражившая Загреблю в самом конце 80-х годов: мол, на Цигельной улице объявился немец! И это — муж покойной Феклы Доценко! Вроде с самой войны сидел на чердаке…О наших дезертирах, прятавшихся от людей до старости в чуланах и погребах, все слыхали. Но чтоб немец скрывался! Можете представить себе, как была потрясена Загребля, как судачили бабули на всех углах, ожидая, что смелянская история дойдет до газет и телеэкранов.
Газетчики, действительно, приезжали, но Доценки наотрез отказались от встреч с ними. Что ж, можно понять семью, ее тревоги. Как обернется долгое сидение для отца? Не скажется ли выход из подполья на близких? Не пришьют ли им всем шпионаж или статью за укрывательство? Ведь и такие слухи были.
Но постепенно страсти улеглись. Душевный такт народа, терпимость и понимание соседей, заводских товарищей оказались сильнее досужих пересудов. Время все расставило по своим местам… Согласится ли теперь Павел Васильевич рассказать о себе, о своих родителях?
Из глубины цеха вышел крупный мужчина в аккуратной темно-синей спецовке:
— Кто меня ищет?
Представились с коллегой, собственным корреспондентом «Рабочей трибуны» по Украине Георгием Долженко, сказали, о чем хотим написать… Долгим и трудным, подчас резким был тот разговор.
— Мне здесь жить, — возражал Павел Васильевич, — и так детей немчурой на улице кличут.
Его можно было понять. Но и нас привело на радиоприборный завод нечто большее, чем чисто репортерский интерес к сенсации. Ах, полвека в укрытии! (Кстати, и не совсем в укрытии, как выяснилось позже.) Хотелось понять, как сумели они, Вильгельм и Феня, переступить через пропасть войны, как утаили и уберегли свою любовь перед судом людским…
— Ради вашей мамы, Павел Васильевич, надо об этом рассказать, ведь она никогда при людях не смогла даже окликнуть отца его родным именем, не могла открыто назвать своим…
Дом в Загребле
Его светлые глаза потеплели.
— Хорошо, начнем тогда с отцовской хаты…
За плотиной-греблей типичная окраина провинциального городка. Пустынная в жаркий день Цигельная-Кирпичная улица. Купаются в пыли воробьи. Брешут незлобливые псы. Вот и девятнадцатый дом на сбегающей к долине улочке. Живут в нем уже другие люди. Пеленки новой жизни сохнут на веревках. Подрастет малышка, вбирая в свою память и старую грушу у крыльца, и скрип колодезного ворота….
— А виноград не сохранили? — ревниво спрашивает Павел молодую хозяйку. — Жаль, у нас такие хорошие сорта были.
Виноград, вьющийся у веранды, груша, колодец — это все память его детства. Отец копал колодец, когда появлялся под видом гостя, а Паша — ему было лет десять — помогал выносить землю.
Все здесь напоминает ему об отце. Среди новой мебели на кухне глаза сразу выхватывают родное.
— Вот любимое кресло отца. Карнизы эти мы с ним делали.
— Но где же он жил?
Небольшая, крутая лесенка ведет на мансарду. Здесь, в узких стенах — метра три на три одна комнатенка и еще поменьше другая — Вильгельм провел почти половину жизни.
О чем думалось в долгие минуты одиночества? Что вспоминалось? Его спасительницей и кормилицей всей семьи, как узнаю позже, была кисть.
Память о тех днях — панно, оставшиеся на стенах мансарды. На одном — лес, река и вдали замок с островерхими башенками, крытыми красной черепицей. Таких на Украине не найдешь. На другом — цветущее фиолетовым цветом поле и аккуратные копенки сена, какие были, наверное, в фатерлянде….
Выходим из дома, где живет память о Вильгельме Дице и его Фене. Во дворе, у собачьей будки, горка старого хлама. Что там заметил Павел? Он разбирает мусор, откидывая обрезки досок, ржавое железо и вдруг выуживает немецкую каску. Вряд ли валялась она под забором с оккупации, похоже, новые хозяева, обустраиваясь, вымели из каких-то закутков. Павел Васильевич старательно заворачивает каску в газету и уносит с собой.
Для него это память.
После войны в освобожденных селах и поселках из таких посудин кормили собак. Дельное применение нашли хозяева для чужого железа. Но своя правда есть и у Павла. Он ведь уносит отцовскую каску.
Отец
Седьмого марта 1944 года вермахт вычеркнул из своих списков унтер-офицера Вильгельма Дица, пропавшего без вести. В Вехстербах, земля Гессен, ушла «похоронка». Еще одна скорбная строчка прибавилась на стене местного костела. И даты: 06.01.1915–07.03.1944.
Так ушел из жизни Вильгельм Диц. И появился Василь Диценко.
Но что было раньше? Перебираю с Павлом Васильевичем старые фотографии, пытаясь проникнуть в чужую и далекую жизнь. В тридцать третьем, когда Гитлер пришел к власти, Вильгельму, сыну рабочего-железнодорожника исполнилось восемнадцать лет. Паренька, не чуждого кисти, приняли на местную фабрику — расписывать посуду. Полуобернувшись к объективу, из далекого далека глядит симпатичный юноша. Только на миг оторвался от конвейера, там чашки ждут прикосновения его кисточки…
Потом вижу Виля в полувоенной куртке с отложным воротником. Именно этот снимок Павел советует отобрать для публикации в газете — здесь у них с отцом вроде бы больше всего сходства.
— А, может быть, еще есть фотографии?
Свой вопрос повторяю в гостинице, где мы засиделись за разговором с чаркой украинской горилки и шматком «добрячего» сала. Павел Васильевич достает из кармана пиджака, аккуратно повешенного на плечики, конверт. Четыре снимка… Передаем их с Георгием из рук в руки.
Молодой, уверенный в себе солдат вермахта в каске, такой же (или той же?), что валялась во дворе. Только что он прибыл из Франции на Восточный фронт. Гром побед отражается в глазах. И еще военный снимок: Диц в парадной форме, фуражке, из-под козырька спокойный, прямой взгляд. На кителе — колодка или какая-то нашивка.
— Это за спорт, — говорит Павел Васильевич.
Возможно. А возможно, и за храбрость в бою. Вильгельм Диц был умелым солдатом. Две контузии и рану получил под Сталинградом. А до Сталинграда тоже надо было дойти.
— Может быть, опубликуем одну из этих карточек?
— Что вы! — взмахивает руками Павел Васильевич. — Я их даже дома никому не показываю.
Не буду осуждать сына, который скрывает от внуков снимки деда. Постараюсь понять его чувства.
Власть прошлого над нами сильнее, чем это кажется. Через годы и десятилетия впечатался в сознание нашего народа образ немца — врага. В украинских, русских, белорусских селах, городах и сейчас, когда дети играют в войну, никто не хочет быть немцем. Образ немца однозначно сливался (и очень часто и сейчас сливается) с образом врага, и это не пропаганда, не кино, не театр — это отражение действительности, запечатленной в памяти поколений, от Александра Невского до Георгия Жукова. Тем, кто прошел Великую Отечественную, кто пережил оккупацию и «душегубки», кто бежал из облав и эшелонов, которые увозили страну в рабство, солдатским вдовам и матерям, не дождавшимся сыновей, — это не надо объяснять.
И хотя годы постепенно меняют представления, внося свои коррективы, подспудно живущее чувство коллективной памяти заставляет Павла Васильевича не афишировать те карточки. Он бережно укладывает их в конверт и вновь прячет ото всех во внутренний карман. Несмотря на то, что его отец сам рассчитался со своим прошлым, сделав выбор еще в сорок третьем. А в сорок четвертом, когда «камарады» побежали дальше на запад, Вильгельм Диц свою войну закончил. Он остался с Феней. С украинской девушкой, которой несколькими месяцами раньше помог избежать угона.
Феня
Вам приходилось видеть, как улыбается сама себе встречная девушка, молодая женщина? Таинство ее улыбки завораживает. Об этих мимолетных встречах, облучающих радостью, вспоминаешь, когда смотришь на Фенины карточки.
Судя по снимкам, пережившим и войну, и переезды, она очень любила фотографироваться. Вот ей пятнадцать лет — это 1937 год, Феня в летном шлеме, из-под него выбился бант. Может быть, занималась в авиакружке, это было так модно тогда. Как сейчас — гонять по ночным улицам на мотоциклах, не давая покоя людям. Тем же летом она снялась с подругой. Симпатичные девчата в украинских вышиванках, с яркими монистами. На обратной стороне наивные, полудетские строчки: «Лезу, лезу на березу — ах, какая красота!»
Еще одно мгновение ее жизни — сентябрь тридцать девятого. Феня на каких-то курсах. Ей — семнадцать, она ищет себя, уверенная в своем праве на счастье.
В мире уже шла война, приближаясь к нашим границам, но могла ли она, девчонка, знать, что принесет эта война ей?..
На фронт из их семьи никто не попал. В эвакуацию Павел Григорьевич и Мария Махтеевна, ее родные, не собрались, а те, кто собрался, недалеко ушли. В августе сорок первого Смела уже была под немцами.
Фене еще в школе давался немецкий. Во время оккупации она устроилась на биржу труда. Говорят, помогала сверстникам, выписывая липовые справки. А потом ей самой потребовалась помощь.
Может быть, тогда она и познакомилась с немецким унтер-офицером, попавшим в Смелу после ранения?
— Мама рассказать не успела, — тихо говорит Павел, теребя край белой, наглаженной скатерти. — А отец припоминает, что впервые они встретились, собирая на поле капусту. Есть было нечего, туда повадились и немецкие солдаты из госпиталя, и местные жители. Потом у них появилась общая тайна: одна семья прятала корову от конфискации, натянув на нее намордник… Ну, а потом он спас маму от эшелона.
Вместе
Еще до войны Острики купили в Загребле саманную хатку, вросшую окнами в землю. Кузнец Павло был мастером на все руки, со временем, был уверен, обустроится получше.
В эту хатыну и привела однажды ночью Феня суженого, постаравшись пройти так, чтобы ни одна душа не увидела их. Конечно, не о такой свадьбе мечтала она. Видела себя Феня в длинном белом платье, мечтала о венчании, о песнях, которым тесно было бы в Загребле… Да что поделаешь? В Смелу, в семьи знакомых и незнакомых людей шли «похоронки» с фронта, и идти им было еще долго, возвращались инвалиды, изувеченные войной совсем молодые парни — как могла показать она этим улицам, этим людям своего любимого? В лучшем случае их судили бы обоих, а то и расправились бы на месте.
Так что затянули Острики поплотнее окна, наварили бульбы-картошки, Павло достал заветную бутылку самогона, припрятанную чуть ли не с довоенных времен.
— Будьте счастливы, дети!
А Мария его заплакала, не стыдясь крупных слез, катившихся по рано постаревшему лицу. Какими ни были они горемыками с Павлом, а все же по-людски свою свадьбу, свое «весилля» справили. Единственную дочку Мария Махтеевна надеялась выдать замуж красиво. Исподволь копила приданое. Ну как же можно, такое событие в жизни, да молчком, тишком?!
И опять не будем никого осуждать с полувековой дистанции, а еще раз постараемся понять и страх Фени Острик, и ее решимость выбрать именно такую долю, и переживания ее родных.
Виль поселился на чердаке. Родители Фени, говорят, были нелюдимыми, сторонились соседей. Это и помогло скрывать примака от посторонних глаз.
На что жили? Феня когда-то немного рисовала. Это и помогло ей выдавать за свои работы «ковры» мужа. Покупали плотную материю или одеяла, вырезали трафарет с орнаментом, наносили краску — и вещь готова. Затем, поосвоившись, взялись за копии картин известных мастеров, а то и собственной фантазии.
Понемногу Вильгельм — дома его называли Васей — заговорил по-украински. Теперь можно было бы выйти во двор не только среди ночи, как обычно выходил он, чтобы подышать под темным небом свежим воздухом, но и днем. Однако как представить молодого мужчину соседям? Сочинили легенду: дескать, семья не сложилась, муж, чоловик, живет в Киеве, там и работает. А семью навещает время от времени.
В эти «наезды» Виль занимался хозяйством, ходил с женой за покупками, в гости. От той поры осталось много фотографий. Василий — буду так сейчас называть его — и Феня, счастливо улыбаются в кругу большой родни на природе, в застолье. Соседи тоже звали Дица Васей. Фамилию Феня придумала от его настоящей. Диц, значит, Диценко. Но паспортистка, выписывавшая новый паспорт после «замужества», посчитала такую фамилию необычной и поправила на Доценко.
А потом «мужу» приходило время уезжать… и он снова переселялся на чердак.
То ли провидение ему благоволило, то ли природа наградила богатырским здоровьем, но за всю жизнь он ни разу не заболел и к врачам не было нужды обращаться. (Только раз сводила Феня к стоматологу на свой завод, там приняли без карточки и всяких документов.)
С годами на месте старой развалюшки они построили добротный кирпичный дом с мансардой, несколько необычной для этих мест — застекленной на всю ширину стены. Понял, в чем дело, рассматривая слайды Павла, побывавшего с отцом на его родине: там дом с точно такой надстройкой.
Оба они, Виль-Василий и Феня, терпеливо несли свой крест. За всю свою жизнь она, говорят, никому не плакалась, разве только родным. Но тех уже не спросишь, как горевала дочь, как перенесла смерть первенца, Васятки. Только заметили с тех пор соседи: стала Феня часто уходить в себя и на глазах стареть. С завода, чтоб меньше быть на людях, ушла в магазин, принимала посуду.
Придуманная ими легенда диктовала образ жизни. Официально отца как бы не было. А «появляясь», он весь отдавался хозяйству: возился в мастерской за домом, которую сам же и соорудил, копался в огороде.
Павел с детства считался безотцовщиной. Но из армии — а служил он в одном из закрытых гарнизонов в Казахстане — писал: «Здравствуйте, тато и мама…»
Легенда заставляла закрывать двери перед старыми друзьями, не заводить новых. Потому, как понимает сейчас Наташа, жена Павла, у нее не сложились отношения со свекровью.
— Я очень редко бывала дома, в Загребле, — говорит она, — и только теперь понимаю, что мама не хотела, чтобы кто-то лишний раз видел отца.
До самого последнего времени, до смерти Фени Павловны, она не знала, что у Павла жив отец.
— Мы ее обманули, не могли иначе, — роняет Павел.
Сказать правду они боялись, понимая, какой может быть расправа. Так и жили — от «приезда» до «приезда». Все семейные события происходили, как правило, без отца.
Он в это время был «в отъезде», а точнее — за сценой, на чердаке. Оттуда, кусая ногти, в щелку смотрел, как прощались с Васенькой, а потом и Фениными родителями. Не мог встретить на пороге жену со вторым сыном, не мог проводить Павла в армию, не мог поздравить его на свадьбе.
Он вроде бы и жил полнокровной жизнью и вроде бы его не было вовсе. От каждого шороха во дворе, неожиданного стука в дверь, замирал, а потом опрометью влетал по скрипучим сходням в свою камеру. (Не случайно, когда уже после всего в Вехстербахе Диц попросил священника убрать со стены костела его имя, тот отказался: ты был убитым.) Лишь одна Феня была ему женой, матерью и заступницей в делах мирских и ангелом-хранителем в терзаниях душевных.
Павел вспоминает отца по-своему добрым и строгим. Маленьким он сажал его на плечи, возил по комнате и просил пригибать головку, чтоб не удариться о балки на низком потолке. Каждый новый год он ставил елку, причем игрушки делал сам. До сих пор в коробке с фотографиями сохранился картонный голубок. Отправляя в школу сынишку, отец готовил ему бутерброды — маленькие кусочки хлеба с вареньем.
Подрастая, Павел дивился отцовским «причудам»: пунктуальности — есть в строго определенное время, привычкам пользоваться ножом и вилкой, как смешно он выговаривает слова «фредно», «карашо». Чего греха таить, во многих смелянских семьях и сегодня до ножей с вилками далеко. Уже в старших классах, наблюдая «отъезды» отца, его постоянную настороженность, сын почуял неладное. Пытался дознаться у матери, но та твердила одно: отец ни в чем не виноват.
— Я подозревал, что он скрывается от правосудия, натворил что-то в молодости, — тяжело вздохнул Павел. — Каково мне было с такой тайной жить! Во всех анкетах писал: отца нет. А он рядом, на чердаке. Как-то складываю дрова во дворе, мать неподалеку по хозяйству убирается. Спрашиваю, ма, а ну как с вами что случится, что будем с отцом делать? Отмолчалась. Попозже выбираю удобный момент, к отцу с тем же вопросом: не нравится мне что-то мать в последнее время. Вдруг куда денется, что с тобой делать будем? Не знаю, говорит.
За несколько дней до смерти матери Павел Васильевич встретил маму во дворе. Поразился, как небрежно, чтобы не сказать неопрятно, она одета: в старом, замызганном плаще, словно совсем махнула на себя рукой. Заставил вернуться.
Они посидели, помянули знакомую, в семью которой шла Феня Павловна. Мать оттаяла и у Павла вдруг опять вырвалось:
— Мама, не дай бог, с вами что-то случится, а я ничего не знаю об отце.
— Вас всех переживу, — резко ответила мать.
— Живите, мамо, сто лет.
На этом разговор оборвался. А через несколько дней Фени Павловны не стало.
Она лежала в их общем доме, куда теперь мог войти каждый человек, как всегда входят в дом, где прощаются с покойным. А над ней, отделенный потолком, стонал ее Вася-Вильгельм. Он слышал каждое слово внизу, по голосу узнавал соседей, Павла, Наташу, внука — их первенца, причитания Фениных подруг и только крепче сжимал зубы. О чем он думал в своей мансарде, ставшей тюремной камерой? Какие муки разрывали душу?
Не буду домысливать. Попробуйте, если можете, представить себя в такой ситуации. Быть в шаге от любимой и не иметь права спуститься к ней, проститься, проводить ее в последний путь.
Поздно ночью, когда все разошлись, Вильгельм оставил свое убежище и до утра просидел возле жены, обмывая слезами холодные руки и родное до каждой морщинки лицо.
— Феня, Феня, — шептал он.
Так продолжалось три ночи. С рассветом Диц перебирался наверх, дом вновь заполняли свои и чужие люди. И когда серым, дождливым днем во дворе жалобно запели медные трубы, Вильгельм, давясь слезами в своем убежище, смотрел из-за плотных штор во двор. Там обрывалась нить, связывающая его с прежней жизнью, в открытом гробу увозили в небытие частичку его самого.
Вместе с Феней, Феней Павловной, умерла и легенда. В Загребле старому Дицу оставаться теперь было нельзя. Павел перевез отца к себе, в их трехкомнатную квартиру в новом микрорайоне, и вечером, когда они остались вдвоем на кухне, сказал:
— Тато, я о вас ничего не знаю…
Павел
Каким вырастет человек, если с малых лет живет в двойном мире? Для всех вокруг — на улице, в школе, армии, на заводе — он полусирота. А дома — тато и мама. Голос отца, лицо отца он помнит с тех дней, когда стал осознавать себя. И с тех же дней тревоги матери: ради бога, сыночку, никому не говори об отце.
Подрастая, сын замечал: то одно, то другое слово отец произносит не так, как все, Павел смеялся и поправлял, а мать, когда слышала, объясняла, что у отца больные зубы и от этого, мол, такое произношение.
— Твой отец никому не сделал ничего плохого, просто так сложилась судьба, что надо прятаться.
Какие сомнения терзали душу мальчика, подростка, юношу? Как свыкался с двойственной жизнью? Сам Павел Васильевич не любит об этом говорить, а посторонний человек может только догадываться, наблюдая перепады в его настроении — то полную душевную расположенность и даже растроганность, то внезапную холодную отчужденность.
Что ж, такую жизненную встряску, такой сдвиг судьбы не каждый способен перенести. Представьте себе: до сорока с лишним лет считал себя человек щирым украинцем, любил и знал родные песни, мог посидеть, как и все, за чаркой горилки, считая ее лучшим напитком в мире… И вдруг полная перемена антуража. Другая фамилия. Чужая и все-таки манящая родня, письма и звонки в Германию…
Новая биография свалилась на всех Доценко, как снег на голову. Все полетело вверх тормашками. Такую перемену нелегко пережить и в большом городе, где на одной площадке, случается, люди не видят друг друга месяцами. А как же в небольшом городке, где все — напросвет?!
Соседи, улица, бригада, цех — кажется, со всех сторон показывают на тебя пальцами. Ты теперь не такой, как все. Наверное, этого больше всего боялись Дицы-Доценко, когда и бояться больше уже было нечего. Эта настороженность накрепко засела в Павле Васильевиче, и, конечно, причин здесь больше, чем только характер, сформировавшийся под постоянным страхом разоблачения семейной тайны.
Они не могли не считаться с последствиями. Догадывались, чем закончилось бы разоблачение, скажем, в сорок седьмом, пятьдесят пятом ил и даже шестьдесят пятом… Но на дворе был уже восемьдесят восьмой, когда Вильгельм Диц пошел «сдаваться» властям. В душе он все еще не верил в добрый исход и потому раза три, отсидев в приемной райотдела милиции свою очередь, так и уходил.
Возвращение к себе
Воскресным утром мы пришли домой к Доценко. Познакомились с очень доброй, гостеприимной семьей, замечательными детьми. Не было только деда — гостил в Германии у родных.
Написали по старому адресу сразу после выхода из подполья. 13 первый раз ответа не получили. Вторично написали скорее для очистки совести — не думали, что кто-либо остался в живых. Но весточка пришла, взволнованная и радостная.
Живы, сообщалось в письме, сестра Катрин, двоюродные братья Вальтер и Вильгельм. У них взрослые дети Элли, Лиза-Лотта, Вернер. Ждем в родные края.
Вильгельм вначале поехал один, встретил сестру, друзей. И все время рвался домой, в Смелу… Через год вместе с ним в гости поехали Павел, Наташа, их дети.
Видел на слайдах и на экране «видика» радушную встречу, слушал, как дополняя друг друга, рассказывают о поездке дети. Андрей тут же притащил коробку с конфетами: «Угощайтесь!» Щедро одарил гостей наклейками. Самая младшая, Машенька, подливала гостям квас, сама же за ним и сбегала. А старший сын — его по деду и отцу назвали Павлом — собирался в музыкальную школу.
Смотрел красочный германский ролик и думал, как дальше сложится жизнь Вильгельма-Василия. Станет ли его кровом теперь родовое гнездо, где до сих пор висит в одной из комнат его солдатская фотография в траурной рамке? Вернется ли он на Украину, в город, подаривший ему любовь? Решать ему.
А я лишь замечу, что Германия не попрекала Вильгельма Дица. Ему положили пенсию — дали без проволочек 190 марок в месяц и потом, после подтверждения гражданства, выдали еще пособие — около 600 марок. Вспомнили Вильгельма и на фабрике, где прежде работал, подарили сервиз.
Много было воспоминаний, слез, радости. Вильгельм основательно подзабыл немецкий и говорил, то и дело сбиваясь на украинский. А переводчик знал только русский. Долго не мог понять, что означает украинское слово — коханая. Подсказала Наташа:
— Это значит — любимая.
И еще раз откроем пришвинский дневник.
27 февраля 1944 года.
Война как испытание всей любви: столько слов наговорили о любви, что теперь уже ничего не понять, но война — это проверка словам.
Феня и Вильгельм, Карл и Шура, Лена и Жан пронесли свою любовь и через войну, и через мир…
«Мы жили с верой в счастье»
Это признание, такое, на первый взгляд, неожиданное мне встретилось в воспоминаниях Елены Ивановны Вишневской. По утрам в их барак входил полицай Эуме, опытный надсмотрщик, затянутый в черную форму, умный, как «вышколенный сторожевой пес». Входил он всегда с двумя овчарками, которых на ночь выпускали во двор, и командовал: «Ауфштэен!» — «Вставать!»
То мартовское утро начиналось, как всегда. Невольниц строили во дворе перед очередным пешим маршем к цехам завода «Моторенверк». День не обещал перемен, но Елена «вдруг почувствовала сладкое волнение. Отчего это? Что со мной? Что это за звуки несутся с вышины, из-под облаков? — спрашивала она себя. — Да ведь это летят журавли! Их нежное курлыканье говорит о весне, о том, что есть на земле счастье, есть настоящая жизнь!».
Лагеря, уничтожая «противников режима» работой, еще и убивали человека в человеке, низводили людей до уровня рабочей скотины, тупой и бессловесной. Многие не выдерживали этих пыток голодом, унижениями, каторгой и ломались. Но больше все-таки было других, тех, в ком, вопреки всему, не гасла надежда. Курянка Микляева, кстати, ее и зовут Надеждой, Надеждой Романовной, признается, что не раз, битая немцами, хотела покончить с собой. «Но все вынесла. Поднимали нас рано, в четыре часа утра. Летом в это время светлеет. Когда я видела, как всходит солнце, всегда думала, что там, где солнце, моя Родина. И я обязательно увижу ее».
Зинаида Моисеенко:
«В воскресенье нам давали два часа свободного времени. Два часа — какое богатство! Я чуть ли не на крыльях летела в соседнее поместье. Там, у моей подруги из Ленинграда каким-то чудом оказался патефон с одной пластинкой Лидии Руслановой. Одна пластинка — две песни. Об Андрюше и Любушке-голубушке. Помните? «Эх, Андрюша, нам ли жить в печали?!» И задорная, такая вся домашняя Любушка…»
Представьте себе русских девчонок, забравшихся на пыльный чердак во глубине Германии, представьте, как заводят они старый, потрепанный патефон, подпевают и плачут, не замечая слез….
Представьте… Волшебная сила родной песни на миг заставила их забыть о каторге.
— Еще разок? — просительно потянулась к патефону Зина, невольно оттягивая час возвращения, и тут же сама себя остановила: — Нет, пора.
В ту ночь ей приснилось, что у нее вырастают крылья, большие, как у аиста-лелеки. Когда аист стоит на земле со свернутыми крыльями, он кажется весь белым, только хвост (гуз) чернеет; отсюда еще одно название этой птицы, любимой в наших краях, — черногуз. Вот он складывает свои белые крылья и делает круг над лагерем, словно приглашая Зину с собой. Она тоже пыталась взмахнуть своими руками и полететь. Машет, машет, а сил оторваться от земли нет.
Елена Ивановна Вишневская:
«Приближался новый, 1943 год. Я предложила девочкам отметить его приход. Они с радостью согласились. Вечерние пайки мы отложили до 12 часов ночи. Кто работал на кухне, принес краденой картошки. Мы сварили ее. Без пяти минут двенадцать я выключила свет и предложила посидеть всем в темной тишине каждая со своими мечтами, желаниями и надеждами. В полночь я начала бить ложкой по тазу и после двенадцатого удара включила свет. Эмоциональный заряд этой скромной театрализованной процедуры превзошел все ожидания. Многие плакали. А потом мы съели свои пайки, вареную картошку, выпили по кружке суррогатного кофе и пожелали друг другу счастья, возвращения на Родину, прекращения войны. Было ощущение подлинного единения, крепкой дружбы и настоящего праздника. Мы были переполнены добром и светлыми надеждами. Заснули мы с верой в близкое счастье».
Екатерина Попова:
«Чтобы заглушить чувство голода и тоски, мы старались придумать себе какие-то развлечения. Весной 43-го года решили устроить концерт самодеятельности. Главным номером программы у нас была, ни много ни мало, опера собственного сочинения под названием «Рыцарь и пастушка». Либретто сочинила Аня Шемякина, 17-летняя начитанная девушка. Она и пела хорошо, так что взяла на себя роль пастушки. Мне выпало петь за рыцаря, а 15-летняя Оля Сбитнева изображала стадо овец. Была у нас ведущая и, конечно, хор.
Зрителей мы специально не приглашали — из скромности. Но все-таки не выдержали, намекнули, что концерт будет, и, конечно, народ собрался, человек по пять на каждой койке сидело. Маруся Хобачева сначала отнеслась к этому делу с иронией, а потом поддержала нашу затею и, открывая концерт, рассказала о празднике 8 марта. Затем началась наша опера.
Вот рыцарь по полю идет, Пастушка там овец пасет. Тарам-тарам-тарам-тарам (пел хор) Пастушка там овец пасет.Ольга при этом изображала овечье блеяние, и ее «бе-бе» даже перебивало голос ведущей. Потом вступила Маруся:
Проворно рыцарь шляпу снял И низкий ей поклон отдал. Тарам-тарам-тарам-тарам, И низкий ей поклон отдал…Дальше жеманным голосом запела Аня:
Зачем снимать передо мной, Перед пастушкою такой Тарам-тарам-тарам-тарам, Перед пастушкою такой!Последовал взрыв хохота — это не выдержали приглашенные подруги, хохлушки из Михайловки. Девушки они были веселые, посмеяться любили.
Когда Маруся объявила, что я буду читать свои стихи, девчата притихли. Начать решила о знаке, который объединил наши судьбы.
Гвоздями к сердцу прибили «OST» — Номер на шею — нет больше имени, «OST» написали — белым по синему…Читала свои стихи и чужие, иногда голос срывался. Видела, как девушки вытирают слезы».
Тетради, блокноты, карандаши остарбайтерам и военнопленным иметь не полагалось. За нарушение — плетка, карцер, а то и перевод в концлагерь. Тем не менее они ухитрялись заводить самодельные записные книжки, а то и доставать немецкие, записывать то, что жгло душу. Десятки таких блокнотов, тетрадок с записями на русском, украинском, татарском, марийском языках хранятся в фондах Госархива РФ на Большой Пироговской.
«Возле смерти» — рассказ Михаила Смирнова на марийском. В лагере Туркгалле, город Зуль, Тюрингия, писал стихи рязанский паренек Павел Сидоров: «Я русский, мать моя — Россия…» А этот блокнотик со строчками на украинском — без подписи:
То не вiтер з Украïни Тихенечко дише, Стара мати на чужину Дочки письмо пише.Автор содержательного исследования «Обычаи нашего народа» Олекса Воропай, изданного впервые в Мюнхене в 1958 году и затем переизданного на Украине в 1991-м, в одном из лагерей в Германии записал песню, в которой мечталось о любви. Девчата с детских лет от мам и бабушек слышали поверье о том, что золотисто-зеленые перья павлина приносят счастье в любви. И сейчас они пели об этом:
По ropi, ropi павоньки ходять, Ой, дай Боже, по ropi, ropi. За ними ходить гречная панна, Ой, дай Боже, гречная панна. Гречная панна, панна Оксана, Ой, дай Боже, панна Оксана. Ой, ходить, ходить i пiр’ечко збирае, Ой, дай Боже, пiр’ечко збирае. Пiр’ечко збирае, у рукав складае. 3 рукава бере, виночок вине, Ой, дай Боже, виночок вине. Виночек вине, на голiвку кладе. Ой, дай Боже, на голiвку кладе. Та звилися буйниï вiтри, Занесли вiнець на синее море…Не знала Оксана, что в Баварии, куда ее саму занесли буйные ветры, павлин считается символом несчастья.
Очень немногие из строк, замурованных в лагерных бараках, а позже в архивах, вырвались на волю. В сборнике Института истории, на который я уже ссылался, опубликованы стихи Виктора Николаевича Мамонтова, написанные в германских концлагерях. Среди них строки, посвященные санитарке Зое X., работавшей в 24-м блоке лагеря смерти Пельзен:
В лагере смерти, в фашистском плену, Где люди в бреду умирали, Я русскую девушку видел одну. Хочу, чтобы вы ее знали. Я видел ее повсюду, Где слышались стопы больных, И образ ее не забуду, Хранить буду в мыслях своих. Часами не зная покоя, Несчастным старалась помочь, О, милая девушка Зоя, Ты снишься порой мне всю ночь.В мае 1995 года «Правда» представила стихи Дадьянова. Его негромкий, честный голос, писала газета, так и не был услышан. Он не дожил даже до единственной своей книжки. Хотя, добавлю от себя, вполне был этого достоин. Особенно на фоне оплаченной спонсорами шелухи.
Алексея Дадьянова подростком угнали в Германию из родного Орла. Три года он был остарбайтером. Потом — фильтрационный лагерь, Советская армия, работа…
Стихи Алексея Дадьянова хотя бы дошли до газетной полосы. Другие, повторю, погребены в архивах, редкий исследователь, листая истлевающие страницы, обратит на них внимание. А между тем это — живые свидетельства эпохи. Собрать бы воедино все лучшее из сотен концлагерных тетрадок-дневников! И открыть этот сборник стихами Алексея Дадьянова.
Мне повесили доску на шею — На рабов из России спрос. Стал теперь я живой мишенью Для насмешек злых и угроз. Чтобы раб был в меру проворным — У хозяина палка в руке. Для невольников непокорных Есть «дом отдыха» невдалеке. Правда, гам тесновато немного, Что скрывать — персонал грубоват. И легла прямая дорога К печке в тысячу киловатт. Может, завтра за ними следом Я пройду этот страшный путь. Как мне хочется до Победы На подбитом крыле дотянуть.Это случилось в Штутгофе
Германия Гитлера, Разрази тебя гром! Это случилось в Штутгофе В сорок втором… Где казнили и старых, и юных, Где под сосновый гуд В страхе песчаные дюны К Балтийскому морю бегут. Это далекого прошлого вести… Поляки и русские работали вместе. Деревья валили, пни корчевали. Поляки на русских сердито ворчали: — Ей, коммунисты и комсомольцы! По цо с немцами вы пшишли до Польсцы? Неволи не пачили, дьябле? Почте! И с нами слезами кровавыми плачьте! И вспыхнула ссора. И злобная свалка. И руки тянулись к лопатам и палкам! И ярость шептала им: или — или! И узники узников палками били. Охрана стояла, расставив ноги. Охрана смотрела на бой убогий. На самое жалкое из сражений! Срабатывала система уничтожения И утверждался национальный вопрос. Охрана смеялась до храпа, до слез. Потом офицер скомандовал: — Шнель! Здесь лагерь немецкий, а не бордель! Отделение! Беглым по цели! Поляки и русские не уцелели… Кто из них друг был, а кто был враг?.. Ветер развеял их горький прах.Драка в Штутгофе, конечно, не единичный эпизод. Гитлеровцы искусно натравливали друг на друга людей разных национальностей — разделенными, завистливыми легче править. Но гуртом, давно сказано в народе, можно все одолеть.
Лидия Арсеньева:
«Перед 7 ноября в наш барак пришли две девушки-киевлянки и предложили принять участие в демонстрации в честь годовщины Октября.
Программа была такая. Первая колонна по дороге на работу 7 ноября должна была начать любую советскую песню. Полицаи бросились бы к ним, требуя прекратить пение. В этот момент последняя колонна подхватывала песню, полицаи бросались гуда. Потом песню запевали все. Так мы и сделали. Когда шли по мостовой к фабрике, то, кроме песни, еще и колодками стучали. Возле проходной фабрики стояли пленные французы и итальянцы, ждали, пока их повезут на работу. Мы запели «Интернационал», французы и итальянцы поддержали нас».
…Незадолго перед отъездом на фронт, в марте 1942 года, Елена Вишневская познакомилась со стихотворением Константина Симонова «Жди меня». «Оно сразу же пленило меня своей искренностью и горячей сердечностью, — пишет она. — Простые, точные его мысли были так естественны, так органичны, как будто я сама их выразила именно этими словами. Оно сразу входило в душу. Учила текст в поезде Москва — Юго-Западный фронт. Читала стихи бойцам на передовой и видела, как поэтические строки отзываются верой на встречу с любимыми. Позже, когда я осталась одна и терпела бедствия в скитаниях, то в трудные минуты отдельные его строки иногда беззвучно напоминали о себе и поддерживали веру в то, что я выживу.
Сейчас это может показаться преувеличением или даже вымыслом, но это действительно было так. Сила подлинного искусства неизмерима. В те минуты сам по себе возникал образ моей мамы, и, конечно, это к ней мысленно обращалась я словами стихотворения, этими заклинаниями — «Жди меня, и я вернусь!»».
А теперь представьте себе обшарпанный барак, в котором русские, украинцы, поляки, французы решили устроить общий концерт. Поляки играли на скрипках, кто-то из девушек пел, танцевал, выступил небольшой хор и на этом концерт мог закончиться. Елена Вишневская поначалу не собиралась выступать, но ее «неожиданно понесло» на импровизированную сцену, «потому что непреодолимая потребность высказаться возникла во мне».
Послушаем эту пронзительную исповедь.
«Я очутилась перед знакомыми лицами своих товарищей по лагерю, они ждали, что я скажу. Волнение перехватило мне горло. Глухим, чужим голосом я произнесла первые слова, а потом горячее чувство влилось в строки, и я стала единым целым с моими бедными, исстрадавшимися соотечественниками. Они слушали меня, и слезы текли по их лицам. Плакали даже мужчины. Когда я кончила, ко мне бросились, обнимали, благодарили, просили переписать на память это стихотворение. Каждому казалось, что это именно его мысли, его слова! Видя, какое волнение охватило весь зал, наш лагерфюрер Эуме потребовал у меня объяснения. Я, как могла, перевела ему по-немецки смысл, он успокоился. Так стихотворение Константина Симонова жило разными жизнями. Посвященное одной женщине, оно перешагнуло барьер интимности и стало моральной поддержкой многих. Если бы Константин Михайлович узнал об этом, я думаю, он был бы доволен.
Последний день 1944 года мы отпраздновали хорошо. С шоссе принесли кувшин молока, сделали крем, испекли лепешки, получился торт с кремом. Пригласили па кофе в наш барак военнопленных французов, те подкупили часового и пришли на полчаса к нам, торжественные, счастливые.
У меня хранится галантное письмо на мое имя с благодарностью за этот праздник. Вот его перевод: «Дорогая Мадам! От имени всех моих товарищей, присутствовавших вчера на славном празднике, так хорошо удавшемся, от всего сердца я Вас благодарю за теплый прием, которым Вы нас удостоили. Мы глубоко тронуты Вашим уважением к нам и молим Бога, чтобы однажды оказаться в горячо любимой Франции или Бельгии, в стране подлинной Свободы. Поблагодарите от нас всех русских девушек за их милое отношение к нам. Деганземан, Фрезен, Вилле, Баптист, Милон. 1–1–1945 г.».
Надежды Елены Вишневской, актрисы Центрального театра Советской армии, сбылись. Она вернулась на Родину, вернулась на сцену. Ее воспоминания подготовил к печати Михаил Любимов, правнук. А внука, Александра Любимова, многие из нас знают по телеэкрану.
Александра Васильевна Омельченко (Коновалова), Ростовская обл.:
«Это случилось в концлагере Равенсбрюк, когда уже приближались части Советской Армии. Однажды группа вооруженных эсэсовцев внезапно окружила наш барак и, выгнав узниц во двор, теснила их к стене, которая была опутана проволокой стоком высокого напряжения. Мы не понимали, чего они хотят. Женщины же из русского блока, увидев происходившее, догадались, в чем дело. И все, как одна, невзирая на охрану, лавиной бросились к нам с криком: «Не дадим своих сестер!» К ним присоединились узницы из других блоков. Тысячная толпа прорвала цепь охраны. Все смешались и разбежались по баракам. Охрана не успела и глазом моргнуть, как во дворе никого не оказалось. Поднялась стрельба, крики, лай собак. Но ничего сделать фашисты не смогли. Весь лагерь был на ногах, все гневно протестовали.
Я не могу забыть двух женщин, которые были инициаторами этого доброго дела. Они неслись впереди всех, одержимые, неустрашимые, с громким призывом: «Не дадим сестер!» Одна из них была украинская девушка Христя, а вторая — русская Вера — подруги называли ее «полковником».
Лев Петрович Токарев:
«Фронт приближался и к нашему лагерю. На окраинах города немцы стали строить доты и дзоты. Копали траншеи, улицы перегородили баррикадами. На стенах домов появились надписи: «Победа или Сибирь!», «Германия останется немецкой», «Нет капитуляции!»
Как-то днем, когда мы были на заводе, раздался сигнал воздушной тревоги. Немцы побежали в бомбоубежище. Все остальные оставались на рабочих местах. Для нас мест в бомбоубежище не было. С заводского двора мы видели, как над железнодорожной станцией появились самолеты. Они стремительно спикировали и отбомбили вокзал и составы, стоящие на путях.
Вдруг один самолет оторвался от группы и пошел прямо на наш завод. Мы успели слететь по лестнице в убежище, и сразу же раздались несколько мощных взрывов. За нами скатился перепуганный толстый немец. Он со злобой смотрел на наши радостные лица и вдруг закричал на все убежище, чтобы нас, «русских свиней», выбросили на улицу под русские бомбы! Но никто даже не пошевелился. Господи! Да ведь нас уже боялись!
Когда самолеты улетели, мы вышли из убежища и увидели, что завод горит. Бомбы попали в три основных цеха.
Через несколько дней нас погнали в другой лагерь. По дороге мне удалось бежать и с помощью знакомых чехов перебраться в протекторат.
Потом был партизанский отряд, боевые операции, встреча с Красной Армией…»
Пять вязов у старой шахты
На первом этаже гостей печально встречала темная от старости скульптурка святой Барбары, покровительницы шахтеров. Здесь, в Гельзенкирхене, на руднике, отпахавшем почти век, подумалось мне, ей уже нечего делать. Но я ошибся. Трехэтажное здание, выложенное из красного кирпича еще в начале прошлого столетия, где размещались отделы, службы, нарядные, занял центр охраны труда компании «Рурколе», одной из крупнейших фирм Германии.
В просторном кабинете на третьем этаже хозяева рассказывали группе специалистов угольной промышленности из России о своем опыте охраны труда, показывали диаграммы, графики, обстоятельно отвечали на вопросы. Когда деловая часть встречи закончилась, я подошел к окну.
Окна смотрелись в шахтный двор, он был совершенно пуст и оттого казался непривычно большим. Между бетонными плитами угадывалась трава. Справа над площадью, как часовой-великан, нависал копер с застывшими шкивами. Прямо напротив окон тянулись ряды цехов. А левее отбрасывали короткие тени пять высоченных вязов — солнце палило с неба прямой наводкой.
Почему-то этот бетонный двор показался мне знакомым. Где-то я видел его — только без пятерки вязов и полным людьми в спецовках. Они сидели и лежали прямо на плитах. Это был снимок лета 1943 года — «Перерыв для остарбайтеров», так он, по-моему, назывался.
Между тем хозяева предложили показать старую шахту. Выходя, мы улыбнулись печальной Барбаре и окунулись в жар июня. Над копром синело бездонное небо. Мне показалось, что там крутнулись шкивы.
— Шахта уже не работает, — перехватил мой взгляд Зигфрид Орман не, наш добрый «дядька» из «Рурколе», — но ствол действительно еще грудится. Выдаем последнее оборудование.
— А я уж подумал, что у вас тут, «Шубин» обосновался.
— Кто-кто? — переспросил Зигфрид.
— Так в Донбассе называют духов подземелья. Ну, домовой, иначе говоря.
Мы шли по двору, по выщербленным плитам, разделенным полосками пробившейся к солнцу травы. И мне казалось, что площадь оживает и слышатся голоса:
— Я, Морозюк Петр Яковлевич, рождения 1925 года, в Германию угнали в мае 1942 года из села Петриковка Днепропетровской области. Спустя пару недель бежал вместе с другом, но гестаповцы нас поймали и отправили в концлагерь. Мой друг, Чуйко Николай, пропал без вести.
— Я, Ющенко Владлен Андреевич, тоже один из миллионов рабов XX века, прошедших фашистскую каторгу. Пусть помнят люди, как мы жили, умирали, боролись.
— Моя фамилия Серебрянская Анна Михайловна. Девичья фамилия Трифонова. Родилась я в 1925 году в Донбассе. До войны наш город назывался Чистяково, а сейчас — Торез. В 1942 году меня насильно угнали в Германию. Было мне тогда 17 лет.
— Я, Леванович (Олейник) Екатерина Мефодиевна, год рождения — 1921. Когда началась война, нас эвакуировали из Белоруссии на Украину, в Харьковскую область, село Красный Оскол. Вот из этого села нас и взяли. Фамилии пишу девичьи и теперешние.
Шаповалова — Максименко Анастасия Иосифовна.
Ищенко — Кондратьева Александра Кузьминична.
Зарянская — Горшкова Татьяна Степановна.
Горкуненко Наталья Григорьевна.
Ященко Антонина Григорьевна.
Фесенко — Погорелова Людмила Алексеевна.
Деревянко — Загреба Мария Кирилловна.
Трошило — Сапронюк Александра Григорьевна.
Бородачка Екатерина, отчества не знаю, она без ног, ампутировали.
— Я, Горяйнова, до замужества Штукарева Лидия Александровна, в октябре 1942 года пятнадцатилетней девочкой была угнана фашистами в Германию из Ростова-на-Дону.
— Фамилия моя Зубко, зовут Юрий Арсентьевич. Угнан в Германию в августе 1943 года, когда мне было 17 лет.
— Это горе постигло во время гитлеровской оккупации Ростова и меня, Анну Алексеевну Мигаль. Угнали меня на каторгу в 15 лет. А немного позже угнали и мою сестру.
— Я, Безменко (по мужу Усова) Мария Гавриловна, родилась 22 июня 1923 года в селе Лубяное Чернянского района Курской области. В октябре 1942 года немцы погрузили нас в вагоны и повезли в Германию. Со мной были: Шиленко Наталья Павловна, Мирошниченко Прасковья Григорьевна. Горбатко Ксения Борисовна, Горбатко Ксения Никитична, Горбатко Галина Ивановна, Черникова Евдокия Александровна. Прохорова Анна Игнатьевна, Николай Шматков (умер в Германии), Иван Шматков и другие, имена которых запамятовала.
— Я — один из миллионов рабов, которые были согнаны в Германию во время войны. Я, Заика Михаил Ефимович, родился 12 ноября 1925 года в Курской области, село Сидоровка. Был угнан в Германию, когда мне не было еще и 17 лет.
— Я, Озерова Степанида Матвеевна, родилась в селе Дмитриевка Белгородской области 15 февраля 1918 года. С семи лет росла сиротой. Весной сорок второго в село пришел фашист, помню, мы хлеб посеяли уже. Из села нас угнали семерых — пять девушек и двух парней.
— Я, Сыроватко Иван Иванович, родился 12 февраля 1923 года в Донецкой области, в семье рабочего-шахтера, украинец. Работал в городе Снежном, в шахте, машинистом водоотлива. Во время оккупации в марте 1942 года мне приказали явиться в комендатуру и предупредили: за неявку расправятся со всей семьей.
…Говорят, что у горных пород есть память. Крохотная частица, извлеченная из недр на солнечный свет, будто бы сохраняет в себе те чудовищные напряжения, которые сжимали ее в глубине. И может рассказать о них. Надо только суметь «прочитать».
Может быть, думается мне, какие-то слепки наших мыслей и чувств вот так же остаются на предметах окружающего нас мира? И тогда что-то запечатлели эти тяжеленные плиты. И что-то помнят пять вязов, сомкнувшихся кронами, как братва, плечами.
Я сказал Зигфриду о снимке, который напомнил мне этот шахтный двор, сказал, не рассчитывая особо на ответ, просто, чтобы выговориться. Он вдруг остановился, словно ждал моих слов, мгновенно настроившись на эту же волну.
— И мне, и многим людям моего поколения стыдно за то, что происходило тогда в Германии, — негромко сказал он.
Ему было семь лет, когда Гитлер напал на Советский Союз. Через два-три месяца в их городке начали появляться русские. Мимо дома Орманнсов их гнали на шахту. На взгляд мальчишки все они были на одно лицо.
— Я смотрел на них и однажды, обратив внимание на их черные ноги, сказал матери: «Какие грязные эти русские».
Она неожиданно выругала меня и даже влепила затрещину:
— За все это немцам должно быть стыдно, — ответила она. — Русские голодают и на свои обмылки выменивают картофелины или ломтики хлеба.
Вот тогда я понял, почему мой отец, как и его напарники, берут с собой на смену большие «тормозки» — чем могли, они делились с русскими.
Налетел ветерок, и вязы зашумели о чем-то своем.
— Похоже, эти деревья — ровесники шахты, — сказал я Зигфриду.
Он покачал головой:
— Нет, отец как-то рассказал мне, что их посадили сразу после войны, когда русские уезжали домой. В память о своих товарищах, которые… здесь погибли перед самым освобождением.
Тогда в Гельзенкирхене фашисты расстреляли 11 «восточных рабочих», в соседнем Бохуме — 26, в Эссене — 35, в Дортмунде — более 200…
Имен их никто уже не знает…
«Прошу сообщить о моем сыне…», «Прошу рассказать о дочери…», «Помогите найти отца…». Так начинались тысячи писем, адресованных в Москву, в Комитет по делам репатриации. В 1955 году, когда комитет закрыли, эти письма с Кропоткинской, 7 перекочевали в Центральный архив Октябрьской революции — ныне Государственный архив Российской Федерации. Исследователи не часто обращаются к ним. А между тем тетрадные листочки «в линеечку» и «в клеточку», на обороте каких-то бланков, ведомостей, справок, к которым изредка подколоты открытки из немецких лагерей, обжигают и сегодня.
Чаще всего Москва отвечала на стандартных бланках, как Лавре Григорьевне Заяц в деревню Матевичи Гродненской области:
«Сообщаю, что военнослужащего Заяц среди убитых, умерших от ран и пропавших без вести не числится.
Если Вы имеете новые дополнительные данные о разыскиваемых Вами военнослужащих, то прошу их сообщить нам для продолжения поиска».
Нашлись такие документы в соседской семье, у Владимира Ильича Ковды. Он получил открытку из лагеря ПД PU 35 В от своего сына Михаила.
«Здравствуйте, дорогие родители, папаша и мамаша, тетя Гоня и доченька Машка, брат Петр», — писал в свою деревню Михаил Владимирович, остарбайтер № 2873. Он рассказывал о своей работе на барона, вспоминал, что видел Зайца Константина и Витю Зайца.
На этой открытке, вырвавшейся из неволи, дата — 8 сентября 1943 года. Как далеко еще на востоке, за Днепром, у Дона, на Кубани линия фронта! Только что освобожден Донбасс. И еще гремят на Запад эшелоны с новыми рабами рейха.
В те августовские дни 1943 года где-то сгинул Петя Пономарев. Мальчик восьми лет. Его родителей немцы угнали на окопы, сынишку они оставили у добрых людей на постоялом дворе при Киевском вокзале в Полтаве — ни родных, ни знакомых у них в этом городе не было, а брать ребенка с собой им не разрешили. С окопов родителей угнали в Германию, на родину они вернулись только после победы. Первым делом бросились в Полтаву, где оставили свою кровиночку. А там уже нет ни того постоялого двора — одни развалины, — ни тех людей. На письме, в котором рассказывается эта история, лаконичная пометка кого-то из сотрудников Управления по репатриации: «Нет».
Людям не верилось, что человек мог пропасть, как былинка, так что и следа никакого не оставалось.
«Не могу удовлетвориться Вашим бездушным ответом, — отвечала на отписку М. А. Калитьяк из Гудауты, Абхазия. — Мой муж Калитьяк Григорий Михайлович был арестован немцами в городе Львове 7 апреля 1944 года и отправлен в немецкий лагерь в Германии: Гросс Розен. В этот лагерь ему были посланы из Львова две посылки, следовательно, он там был зарегистрирован. Человек пропасть без вести не мог. Если он погиб у немцев, это должно быть выяснено. Если погиб после немцев — тоже. Поэтому прошу сообщить, что с ним сталось во всяком случае».
Наверное, автор этого письма по-своему права: человек не должен пропадать без вести. Не должен, но сколько же их пропало в пучине войны — людей армейских и гражданских, взрослых и детей, мужчин и женщин…
В одной части воевали отец и сын Лементы. Попали в окружение. Сын вышел из окружения, отец — нет. «Помогите найти мужа и отца, — умоляла Анастасия Лазаревна Лемента, г. Дружковка, ул. Ворошилова, 43–3. — Приехала из Чехословакии девушка, которую тоже угнали немцы, говорила, что видела М. К. Лемента. С ними на заводе были и другие дружковчане».
Юру Кокору угнали из Херсона 1 марта 1944 года. Ему только исполнилось шестнадцать. «Юру освободила наша армия. Его оставили в Германии собирать трофеи. Получили от него одно письмо…»
Олешко Иван Дмитриевич просил сообщить о своем сыне Иване Ивановиче, которого «немцы насильно угнали в Германию в 1943 году из Вязовки 6 июня…» Первенца назвали Ванечкой в честь отца. Родился он — в украинских семьях часто говорят: нашелся — в такой же теплый июньский день 1924 года. Седые вязы, давшие свое имя хутору, склонились над коляской, словно прикрывая малыша от грядущих бурь. Не уберегли…
«Ваню пригнали на угольные шахты, — продолжает отец, — и работал он там до освобождения этой местности американскими войсками в мае 1945 года. Эти сведения мне передала наша односельчанка, которая возвратилась из Германии. Там она переписывалась с Ваней».
Каждое письмо — своя судьба, свое горе, своя боль…
«Прошу Вас сообщить о судьбе моей дочери Ивановой Валентины Евгеньевны, 1923 года рождения, которая была захвачена немцами в августе 1942 года во время ее работы на оборонительных рубежах под Сталинградом и угнана в рабство в Германию. Она была студенткой Сталинградского механического института. Ее отец — директор одной из средних школ Сталинграда, в 1944 году награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Со слов ее товарищей, возвратившихся из Германии в июле 1945 года, они видели ее в городе Гейнау».
Люди цеплялись за каждую спасительную весточку — только бы найти родного человека. Какими-то путями в Симферополь, во двор на улице Пушкинской попал журнал «Британский союзник» за май 1945 года. Всем двором рассматривали снимки, сделанные в Бельзанском концлагере, город Ганновер.
— Ой, мамочки! — воскликнула одна из женщин, — это же наша Кира!
Соседи подтвердили: вылитая Кира Егорова! А рядом с ней — Люда Соколова. Угнали подружек вместе в сорок втором году, с тех пор — ни слуху, ни духу, и вот — фотография. Тут же сложили письмо в столицу… На письме все та же горькая пометка: «Нет».
Вот такие письма шли на Кропоткинскую, 7 со всей страны…
Писали. Искали. Надеялись… А тем временем в лагерях, в госпиталях хоронили тех, кому не было суждено увидеть вязы над ставком в хуторе Вязовом; кому не подняться уже на кряж, с которого открывается половина Донбасса и синеют, исчезая вдали, терриконы; не зачерпнуть водицы у отцовского колодца в смоленской деревне…
Только один госпиталь № 2100 — отсюда, как и из других, уходили «извещения о смерти репатриированных советских граждан». Для скорбного, последнего учета в госпитале приспособили какой-то военный журнал. Графа: «Когда, куда и на какую должность убыл, чей приказ…» По этому маршруту убывали без приказа.
1. «Забияка Михаил Андреевич, Полтавская область, Калининский район, с. Орлик, 4111.46. Могила № 7…
3. Колмаматов Комбер, Киргизская ССР, Ошская область, колхоз «Кзыл-Ден», 15.11.1946. Могила № 33…
15. Келеметов Келемет Ахмедович, Дагестанская АССР, с. Гели, 9.II. 1946. Могила № 85…
42. Родин Иван Федорович, г. Калуга, ул. Кирова, д. 40/2, 15.IX.45. Могила № 1.
74. Пожарский Александр Николаевич, Москва, Маросейка, 24. 22.XII.1945. Могила № 60.
327. Сапрыкина Вера Евгеньевна, Таганрог, Стахановский городок, 5-я линия, д. 22. 17.Х.45. Могила № 11».
В одном журнале — 455 имен. А таких скорбных книг — десятки.
Постепенно в них появляются более подробные записи. Год рождения — в основном начало 20-х, но есть и двадцать девятый, есть и одиннадцатый, и 1896-й… И — не удивляйтесь — сорок пятый! Наденька Рудинская родилась 31 августа 1945 года, а уже третьего января сорок шестого мать закрыла ей глазки.
Отчего умирали? Туберкулез, дистрофия, снова дистрофия. Сквозное пулевое ранение…
Это кладбище репатриантов находилось у города Франкфурта. Сохранилось ли оно?
…Поздним вечером я в последний раз бродил по Гельзенкирхену. Улицы, с которых убрали выставляемые на дневную распродажу лотки со шмотьем, обувью, парфюмерией, словно стали шире. У магазинов опустились решетки. Только на улице, ведущей к гостинице «Маритим», сразу за костелом, еще была открыта табачная лавка.
Я посмотрел на витрину, где красовались пачки, пакеты, коробочки самых замысловатых форм и расцветок, и вспомнил, что мой давний товарищ-фронтовик курит трубку. Какой же табак для него выбрать? Некурящему трудно решить. Может быть, вот этот пакетик с морским волком на картинке?
Хозяин лавки, молодой человек лег тридцати, с симпатичной бородкой, выслушав путаные объяснения, решительно отклонил мой выбор и предложил сначала понюхать другие сорта. Наконец мы выбрали то, что ему казалось самым лучшим, я заплатил и попрощался.
— Момент! — сказал вдруг хозяин. — Еще не все! — и исчез под прилавком. Через пару минут он вынырнул и протянул мне сумку, набитую пакетиками с табаком.
— Это вашему товарищу в Москве.
Если судьба забросит снова когда-нибудь в Гельзенкирхен, я обязательно загляну в эту табачную лавку, между костелом и больницей («Эвангелишес кракенхаус»), найду Зигфрида Орманнса… И мы вместе поклонимся пяти вязам, покой которых бережет святая Барбара.
Освобождение
«В результате стремительного наступления войск фронта освобождены из немецкой неволи десятки тысяч советских граждан, угнанных насильственно в Германию. Гитлеровцы, поспешно отступая, не успели их увести в глубокий тыл.
На 15 февраля 1945 г. по неполным данным на сборно-пересыльные пункты явилось 49 460 человек».
Так начинается пространное политдонесение начальника политического управления Первого Украинского фронта генерал-майора Ф. В. Яшечкина начальнику Главного политического управления Красной армии А. С. Щербакову. Генерал, суммируя донесения из армий и корпусов, докладывал, что освобожденные люди «с огромной радостью приветствуют свою освободительницу Красную Армию, благодарят ее за вызволение из немецкого рабства». Пересказывал типичные вопросы, с которыми обращаются освобожденные люди: «Будут ли их считать на Родине равноправными советскими гражданами?», «Не будут ли отворачиваться от них, работавших у немцев?», «Не угонят ли их на каторжные работы?»
Вывод генерал-майор Яшечкин делал такой:
«Подавляющее большинство советских граждан, насильственно угнанных в Германию и освобожденных войсками фронта, настроены хорошо, остались преданными Советской Родине. Они готовы отдать все свои силы для быстрейшего разгрома фашистской Германии. Лишь одиночки оказались изменниками. Проводится большая работа по быстрейшему их разоблачению и изоляции».
На сборных пунктах в Германии, в тылу советских и союзных войск, во Франции, Италии, Бельгии, Австрии собирались люди разных национальностей, разных судеб. Военнопленные, мирные жители, насильно угнанные фашистами в рабство, предатели, бежавшие вместе с немцами от расплаты — полицаи, власовцы, бандеровцы… Попробуй разберись в этом калейдоскопе биографий, подлинных и наскоро сочиненных, отдели правду от кривды, разгляди среди миллионов лицо каждого. Миллионы — это не преувеличение. К концу войны в Германии и Австрии числилось около 14 миллионов человек, угнанных гитлеровцами на принудительные работы, целая страна! Свыше 6 миллионов из них — наши соотечественники.
Алексей Тимофеевич Сапсай, написавший мне из Бреста, считает, что разобраться с «восточными рабочими» было несложно. «Нас освобождали в лагерях, — вспоминает он. — Мы вместе были три года, знали друг друга. Мерзавцы были выявлены и изолированы сразу, а нас все проверяли, подозревали, оскорбляли, унижали. А ведь со знаками OST были миллионы. Мой лагерный номер 696-OST».
Алексей Тимофеевич, конечно, прав. Предателей, фашистских холуев, прихвостней в лагерях действительно знали в лицо.
Елене Вишневской запомнились «две девки-полицайки в традиционной форме, обе украинки, одну из них — наглую блондинку — звали Марией, вторая никогда не встречалась с нами взглядом». В один прекрасный день по концлагерю в городе Вильгельмсгафен пролетел слух: «Гитлеру — капут!» Надзиратели, большие и маленькие начальники бросали мундиры, которыми еще вчера так гордились, и разбегались, на ходу облачаясь в штатское. «Перевернутые лица были и у девок-полицаек. Куда девалась наглость той блондинки-арии?! Она стала молчаливой, как и ее товарка, озабоченно они шептались друг с другом, видно, решали, как спастись, избежать предстоящей расплаты.
Когда наступил день нашего выхода из концлагеря, а было это 2 мая 1945 года, обе они, переодетые в скромные платья, смешались с толпой бывших заключенных и вместе с ними влились в большой сборный лагерь. Там мы вскоре потеряли их из вида».
Убрались ли они и такие, как они, в Америку, Канаду, в Англию, сумели ли пригреться в Германии — кто теперь скажет?!
Первые часы, первые дни освобождения глазами очевидцев:
Любовь Житнева (Полищук):
«Нас освободили 7 мая 1945 года. Полковник Красной Армии на танке въехал в лагерь Гентин и поздравил нас с освобождением.
Мы плакали от счастья, целовали его лицо, шинель и даже сапоги…
На следующий день нас направили в распределительный лагерь. Шли пешком без охраны. Моя подружка Дуся где-то раздобыла санитарную сумку и, повесив ее через плечо, шагала, напевая какую-то песенку Вдруг она остановилась и, дернув меня за руку, сказала:
— Смотри-ка, наша «красотка», вот где нам попалась!»
Да, такие неожиданные встречи, казалось, бывают только в кино. В группе задержанных эсэсовцев девушки увидели ту самую белокурую бестию, которая издевалась над ними в лагере, преследовала за кудряшки, за простое желание быть опрятной, подтянутой, женственной. Ростовчанки кинулись было к ней, но автоматчик преградил путь.
«Тогда Дуся, открыв свою санитарную сумку, достала ножницы и стала просить лейтенанта разрешить срезать у нее хоть бы локоны. Лейтенант посмотрел на нас и сказал: «Знать, сильно, зараза, издевалась над вами…» И кивком головы сделал знак: мол, действуйте!
Мы с величайшим наслаждением обстригли ей локоны, нахлобучили пилотку на лоб. Большего унижения она, наверное, не испытывала. Лицо ее пылало злобой, отчего она стала совсем некрасивой.
Auf Widersehen! (до свидания!) — смеясь, сказала Дуся.
Конечно, все это получилось по-женски, но ведь и нас нужно понять…»
Ольга Николаевна Добранская, с. Веселый Раздол, Николаевская обл.:
«Предлагали нам уехать на Запад, предлагали остаться в Германии. Я не согласилась. Хотела только домой. Как сейчас помню: вижу поезд и очень хочу домой».
Серафима Владимировна Мельник, г. Тульчин, Винницкая обл.:
«Надо было перейти мост через Эльбу, а там уже наши! Нас построили сотнями и повезли через границу. Начали нас считать англичане и американцы. На них форма была, как лыжные костюмы.
И вот нас приняли советские пограничники. Кажется, красивей наших парней в пограничной форме мы не встречали никого в мире. Подходим к берегу, к своим. И тут оркестр играет марш. Он играл нам, тем, кто томился в неволе столько лет и никогда не терял надежды вернуться на Родину. О, это сказано не все. Все за один раз описать невозможно. Я храню фотографию своих друзей, адреса. Сохранила тетрадь с фольклором тех тяжких дней. Иногда я смотрю на все фотографии, открытки. На одной из них Григорьева Шура из Сумской области, с. Пруды, написала:
«Когда уедешь ты домой, забудешь Фельберт и лагеря. Забудь про все, но не забывай только меня».
Милая Шурочка, я не забыла никого. Я уверена, что и ты ничего не забыла, помнишь лагеря, листовку, в которой говорилось о боях под Сталинградом, об окружении войск Паулюса. Кто писал, рисовал, распространял, для меня так и осталось загадкой».
Догадался же кто-то по-людски встретить своих безвинных соотечественников, сказать доброе слово при встрече, музыкантов поднять…
Александра Даниловна Стройна:
«Второго мая в наш лагерь въехал танк. Боже, что было! Из танка выбрался пожилой майор. Мы все обнимали его, а он нас. Все плакали, и он вместе с нами. Через час приехала машина с продуктами и медикаментами».
Раиса Ивановна Толстых, станица Каневская Краснодарский край:
«Мой самый большой праздник, когда я услышала родной, чуть смягченный кубанский говорок солдат-освободителей. До этого мы боялись родного языка. Кажется, все заглушали крики: «Рус швайн! Шнель! Шнель!» Я до сих пор ненавижу немецкий язык. Понимаю, что это глупо, но ничего не могу с собой поделать».
Кстати, такое же признание вырвалось и у Виталия Семина. Это вполне понятное чувство, вызванное годами унижений, защита своего человеческого достоинства. Услышать бы такие признания господину Толстому, защитнику оккупантов. «Немцы вели себя на Кубани вполне прилично, — утверждает он в своей книге «Жертвы Ялты», — здесь почти не было случаев дикости и жестокости, столь частых в других оккупированных районах страны».
Да, гитлеровские «душегубки», впервые примененные в большом масштабе именно на Кубани, — это верх гуманизма и милосердия. Слышите ли вы, отравленные газом мужчины и женщины? Их было семь тысяч. Триста человек фашисты и каратели сожгли заживо в здании гестапо в Краснодаре 10 февраля 1943 года, за два дня до отступления. И это тоже не дикость? И угон вместе с отступающими частями вермахта тысяч подростков не жестокость, а благо?!
Вера Попури, г. Николаев:
«Видели мы и предателей из РОА — власовцев и русских немцев, и американцев. Они уговаривали нас не возвращаться в СССР, но я, как и многие наши, очень любила свою Родину и нас нельзя было запугать. В сентябре 1945 года я вернулась домой инвалидом II группы, так как в лагере во время взрыва была тяжело ранена в голову. Многие при взрыве погибли, в том числе и моя подруга Мария Семенихина.
Еще хочу добавить, что никто меня не преследовал. Поправившись, я отработала 42 года, ветеран груда. Теперь на пенсии, занимаюсь общественной работой».
Дмитрий Дмитриевич Чавдаров, г. Грозный:
«Одели нас в американскую форму и начали учить военному делу. Кормили очень хорошо. Банки с печеньем стояли в комнате — ешь, сколько хочешь, суп жирный, с мясом, макаронами. И вели агитацию, чтобы мы поехали в Канаду, Америку; были желающие, их увозили.
Приезжали наши офицеры и говорили, что Родина прощает всех, кто виноват. После этого нас начали вывозить в советскую зону. Оттуда мы прибыли в город Джанкой. Здесь нас поместили в так называемый фильтрационный лагерь. Там вели длительный допрос. Мне, потому что я грек, не разрешили въезд в Крым. Но я сбежал и пришел домой. Застал мать живую, двух братьев и сестру. Ввиду того, что мать украинка, меня прописали и не трогали больше».
Екатерина Ивановна Ткачук, г. Харьков:
«У меня были женихи — итальянец, югослав, поляк. Все звали с собой, но я подумала, хорошо, если мне там будет хорошо, а если плохо, кому я там буду нужна. А еще дети пойдут, их будет тянуть туда, где они родились, а меня всю жизнь будет тянуть на Родину. И несмотря на то, что дома была злая мачеха, я все-таки решила возвращаться домой.
Американец, с которым я ехала в кабине, очень уж уговаривал не возвращаться на Украину. У вас, говорит, хаты соломой крыты, голод. Ну, что ж, отвечаю, как бы ни было, я там родилась и буду жить, как все люди. Там, говорит, много работы, все разбито. Зато, отвечаю, где захочу, там и буду работать, а может, и учиться буду, а у вас я только прислугой буду.
И нисколько не жалею, что сразу вернулась домой. С мачехой я жила полтора месяца, а потом уехала в город. И хотя не было женихов нашего возраста, но я не осталась обделенной. Вышла замуж, у нас два сына, две внученьки, сама на пенсии, до самих пор радуюсь, что я на родине».
Евгения Ивановна Федорова (Котлярова), г. Ростов-на-Дону:
«1 мая 1945 года в 12 часов дня в наш лагерь въехали советские танкисты. Радости не было конца. Мы обнимали танкистов, плакали… Нас накормили солдатским обедом.
Я, Полина и Нина Науменко стали работать, демонтировали заводы — сахарный, лесопильный, цементный для перевозки оборудования в СССР. Мы знали: делаем это для своих. Почти год еще мы находились в воинской части № 46 159 майора Захарова. И только в апреле 1946 года нас проводили на Родину.
Вернувшись в Ростов, я пошла работать на кожгалантерейную фабрику. Вышла замуж, родила сына. На этой фабрике проработала 26 лет, а затем еще восемь лет — на обувной. Жизнь получилась интересная…»
На одном из сборных пунктов определилась группа донбасских девчат — Женя Кушанова из Артемовского района, село Урицкое, три года в лагере, Лида Бояркина из Сталино, тоже три года рабства — тютелька в тютельку, Клава Бывшева, самая молодая среди подруг — девятнадцать лет — тоже из Сталино, забрали из школы ФЗО на Рутченковке; Кирина Позднякова, ее угнали чуть ли не сразу после оккупации — 28 ноября сорок первого года. В их 18-й комнате детей не было. Зато по соседству подавали голоса сразу трое! Через пару комнат тоже гомонила-лепетала детвора. В общем, пришлось коменданту заводить детский сад.
На этот сборный пункт (видно, такая практика была и на других) американцы привезли несколько грузовиков с продовольствием и готовы были передать безо всяких бумаг. Но в конце концов составили акт:
— Социализм — это учет, — изрек комендант лагеря фразу, услышанную на политзанятиях.
— Тем более — капитализм! — отозвался в тон союзнику американский лейтенант.
Итак, они насчитали: 19 мешков картофеля, 4 ящика сала, 3 мешка муки, 3 мешка сахара, 10 ящиков с «яйцами сушеными» (наверное, яичный порошок), 10 ящиков консервированной фасоли, 5 ящиков молока, 35 мешков хлеба. Таких актов десятки — только по одному сборному пункту, этот датирован 23 апреля 1945 года.
Через несколько дней в детсаду устроили праздник. Детям выделили 185 плиток мармелада, 64 плитки шоколада. 5 банок бисквита. Для них, увидевших свет в неволе, это была первая сладость в жизни. Но больше всего мамы (и комендант, которому приходилось заботиться буквально обо всем — от хлеба и табака до зубных щеток и домино) радовались американскому молоку. Строка из акта: «Для детей, грудных, дается на шесть человек одна банка молока, так как мать не в состоянии прокормить ребенка своей грудью». Другой пример — распоряжение коменданта сборного пункта № 21 советских граждан на станции Сан-Тегонек, Франция:
«Тов. Добрячик!
Выдайте 1 банку молока, жиру 0,5 кг, манной крупы 1 кг женщине, которая имеет приемного ребенка. Поэтому необходима поддержка. 8.5.45».
Крохотный эпизод, затерявшийся на фоне больших событий и победных салютов, но и он говорит о многом.
Политпросветотдел Уполномоченного СНК СССР по делам репатриации попросил выделить для сборно-пересыльных пунктов «красного материала — 2300 метров, гармоний — 100, патефонов с набором пластинок — 100, шахмат, шашек и домино по 350 комплектов». Это только для пунктов, созданных в советской зоне оккупации Германии.
Пятого мая в лагере № 36, город Ля Куртин, Франция, с хлебом, мармеладом, консервами выдали вино. В указаниях на выдачу товаров и продуктов — мыло, сигареты, зубные щетки и зубная паста, мятная сера, табак, спички — их выдавали не коробочками, а по штукам. Жить становилось веселее. Время от времени лагерь сотрясали ЧП местного масштаба.
Некая Анна К. утащила у соседки Людмилы Макаровой часы и «передала их товарищу как свои собственные». А товарищ их толкнул и пропил. А «часы 15-камневые, исправные, за исключением волоска». Составили акт — на этом все и завершилось.
В другой раз у бойца хозроты стянули новые американские брюки. Начальник лагеря Лабутин приказал лейтенанту Смолякову (цитирую дословно):
«Возьмите пару бойцов из караульного помещения и зделайте обыск у Васютина, узяв с собой потерпевшего из 2-го взвода». И в этот раз поиск ничего не дал. Потерпевшему предлагали 700 франков — не взял. Что же, так и ходил без штанов?
Оба сюжета разыграла бригада художественной самодеятельности. Артисты очень старались. Накануне для лагерного клуба купили гитару, мандолину и скрипку — все удовольствие обошлось в 8807 франков. И еще — «для аттракциона два килограмма яблок по 43 франка за кг».
Подписывая счета, начальник лагеря лейтенант Лабутин тяжело вздохнул: это больше, чем его зарплата за три месяца. Из своих весьма скромных доходов офицеры, рядовые отчисляли деньги в Фонд обороны СССР. «При выплате денежного довольствия за март месяц (1945 г. — В. А.) по 4-му батальону было собрано денежных средств в Фонд обороны страны согласно прилагаемой 3-й ведомости (хозяйственная рота, женская рота, драматический взвод) на сумму 78 050 франков».
Акт от 2 апреля 1945 года подписали командир батальона, младший лейтенант Крутиков В., старший писарь Онищенко И., уполномоченный по сбору средств в Фонд обороны страны Голубев П.
Люди, освобожденные из неволи, ценили даже мало-мальские знаки внимания, отзывались на каждый добрый жест. А на тех, кому служба определила работать со вчерашними остарбайтарами, пленниками, день за днем обрушивали все новые заботы. Обустроить все 249 приемно-распределительных пунктов. Накормить и одеть сотни тысяч людей. Подлечить больных — специально для репатриантов было открыто 142 госпиталя. Известна точная цифра зафиксированных больных — 1 080 034 человека, каждый третий-четвертый, освобожденный из рабства. Не завезти в Союз какую-нибудь заразу — врачи выявили почти 32 тысячи инфекционных больных.
Конечно, в такой огромной работе не обходилось без накладок. Приведу лишь две телеграммы того времени.
«20. XI.1944.
Совнарком СССР генерал-полковнику Голикову.
Аэродроме Киркенес (Норвегия. — В. А.) освобождено 550 человек совграждан. Сейчас они без продуктов. Никто мер не принимает. Прошу вмешательства. Зуев».
Вторую телеграмму отбили в Москву из Львовской области. Сюда на пересыльный пункт прикатил эшелон № 87 543 из Чехословакии.
«9. IX. 1944.
Ускорьте разрешение вопроса с приемкой репатриантов, прибывших из Шумперка Чехословакия. Репатрианты — советские граждане, военнопленные и гражданские, четвертый день находятся у ворот лагеря раздетые. Питанием не обеспечиваются шестой день. Ахмадеев».
В те же дни советские газеты опубликовали большое интервью генерал-полковника Голикова; текст напечатали и на листовках с призывом: «Прочти и передай другому!»
«Советская страна помнит и заботится о своих гражданах, — утверждал генерал. — Они будут приняты дома как сыны Родины. В советских кругах считают, что даже те из советских граждан, которые под германским насилием и террором совершали действия, противные интересам СССР, не будут привлечены к ответственности, если они честно станут выполнять свой долг по возвращении на родину.
Имеется много фактов, свидетельствующих о том, что тысячи советских людей, находясь в неволе, героически боролись против врага…»
В общем, «Родина ждет вас, своих сыновей и дочерей, она встретит вас заботой и любовью».
«Любовь», увы, была подчас горькой.
29 марта 1945 года первый секретарь ЦК ВЛКСМ Н. А. Михайлов направил записку секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову. Михайлов, ссылаясь на докладную записку помощника начальника Политуправления Первого Украинского фронта по комсомольской работе Цыганкова, писал о возмутительных фактах «хамского отношения со стороны отдельных бойцов и офицеров к женщинам и девушкам», освобожденным из фашистского рабства. А если называть вещи своими именами, речь шла о преступлениях.
…В городе Бунцлау при советской комендатуре было занято более 100 женщин и девушек. Почти каждую ночь в общежитие, где они жили, врывались доблестные воины — «имеют место многочисленные факты издевательства, оскорбления и даже изнасилования женщин…»
…В ночь с 23 на 24 февраля группа офицеров и курсантов фронтовых курсов младших лейтенантов в количестве 35 человек явилась в пьяном виде на фольварк Груттенберг и начала творить дебош и насилия над находящимися там женщинами и девушками.
…В ночь с 14 на 15 февраля в один из фольварков, занимаемых гуртом скота (начальник гурта капитан Каримов), явилась штрафная рота во главе со старшим лейтенантом (фамилия не установлена), оцепила фольварк, поставила пулеметы, обстреляла и ранила красноармейца, охранявшего общежитие женщин. После этого началось организованное изнасилование находящихся на фольварке освобожденных советских женщин и девушек. Только утром вся группа была задержана и арестована.
…Гражданка Л., 1926 года рождения, была изнасилована первый раз при прохождении передовых частей, вторично — 14 февраля неизвестным офицером. С 15 по 22 февраля лейтенант Исаев А. А. (полевая контора № 1 Интендантского управления фронта, начальник конторы Адамович) принудил ее к сожительству избиениями и угрозой расстрела.
Ряд офицеров, сержантов и рядовых распространяют среди освобожденных советских людей такие слухи: «Есть приказ вас в Советский Союз не пускать, поэтому, если кого и пустим, будете жить на Севере».
В связи с таким диким и хамским отношением к освобожденным советским женщинам и девушкам со стороны военнослужащих, у многих из них создается мнение, что и в Красной армии, и в стране их не считают советскими людьми, что с ними могут делать все, что угодно — расстреливать, насиловать, бить, что на Родину их не пустят.
Некоторые из них со слезами и отчаянием рассказывают об отношении к ним. Так, например, Ева LU., 1926 года рождения, говорит:
«У меня отец и два брата ушли в Красную Армию в начале войны. Вскоре, как пришли немцы, я была насильно схвачена и вывезена в Германию. Здесь работала на заводе, в слезах ожидала светлого дня освобождения. Наконец, пришла Красная Армия, и ее же бойцы надругались над моей девичьей честью. Я плакала, вырывалась, говорила старшине о том, что мои братья тоже воюют, а он избил меня и изнасиловал. Лучше бы он застрелил меня…»
Помните Голикова? «Родина встретит вас заботой и любовью…»
Да, те, кого удалось задержать, ответили за свои преступления по законам военного времени. Армия не щадила насильников и мародеров. Но сколько же зла они оставили в душах, если дивчина, дождавшись освобождения, говорила подругам: «Наши бойцы к нам относятся хуже, чем немцы. Я не рада, что живу на свете».
Кто год-два, а кто и все три были оторваны от родной земли. Пересказывали друг другу слухи, пытались прочитать хоть что-нибудь между строк газет, которые издавали для «восточных рабочих» немцы. Офицеры-политработники первыми встречались с освобожденными людьми и добросовестно записывали в своих рабочих дневниках вопросы, которые им задавали, фиксировали настроения.
На обороте одной из таких тетрадок, сберегаемых в Госархиве РФ, осталась машинописная наклейка: «Задачи агитатора». Что же предстояло делать агитатору на станции Выборг?
«Разъяснять вернувшимся на Родину людям ход Великой Отечественной войны Советского Союза, успехи Красной Армии, политику партии и правительства, успехи нашего тыла и льготы переселенцам. Дать исчерпывающие ответы на все вопросы прибывающих.
Изучать настроения репатриируемых, регистрировать характерные высказывания, факты зверств и издевательств со стороны финнов. Подбирать активистов, которым поручить проведение чисток в пути. Организовать материал для печати и советских органов (письма и заявления). Цель: создать бодрое настроение, ввести людей в курс нашей жизни».
В Выборге, на контрольно-пропускном пункте по репатриации советских граждан из Финляндии, наших соотечественников ждала встреча с новой действительностью. Надо отдать должное агитаторам: они, как правило, в своих отчетах не лукавили. После дежурных фраз о проведенных беседах, о том, что рады освобождению от рабства, следуют вот какие заметки:
«Многие пожилые женщины, узнав о том, что они будут переведены в другие районы, плакали». (Дневник агитатора капитана Петрова, 7 декабря 1944 года.)
«Провел пять бесед. Было задано много вопросов. Кроме обычных вопросов о том, почему всех их не вселяют в родные места, спрашивают, а вселят ли когда-нибудь». (Дневник агитатора старшего лейтенанта Гринина, 15 декабря 1944 года.)
Возвращался домой Николай Иванович Кочетков, 33-х лет, в Ленинграде у него, рабочего Кировского завода, осталась жена и четверо детей. Живы? Нет ли? Не знал… На Кировском слесарем-инструментальщиком работал и Владимир Матвеевич Симонсон, 60 лет… Схватили их, как и многих других, на окопах. Адам Порали преподавал в одной из школ Волосовского района Ленинградской области. В Финляндии батрачил. За непокорный нрав его отправили в концлагерь на Ханко: «Там были жуткие условия. Запрещали говорить по-русски. Скудно кормили. Многие дети умерли». Возвращались и те, кого финны вывезли в Финляндию из оккупированных районов. Вопросы в эшелонах повторялись.
— Каково положение в Ленинграде?
— Что будет с военнопленными, которые возвращаются из Финляндии?
— Существуют ли еще в Союзе колхозы?
— Как сейчас положение с хлебом?
— Правда ли, что в СССР теперь не допускают евреев к крупным должностям?
— Где сейчас изменник Власов? Верно ли, что он с группой своих людей перешел снова на сторону Красной армии?
— Действуют ли еще в Советском Союзе строгие законы о трудовой дисциплине?
— Почему старый гимн «Интернационал» заменен новым?
Вопросы о хлебе насущном и о большой политике, о конкретном заводе и о религии… И самое главное: куда повезут? Что ждет завтра?
Офицеры в меру своих сил отвечали, но ведь всего не знали и они, если и знали о маршруте на Н-ский завод, то помалкивали.
«Общее настроение в эшелоне бодрое. Только в одном вагоне мне не удалось добиться бодрого хорошего настроения. Ушли с мрачным настроением». (Дневник агитатора капитана Викстрена, 10 декабря 1944 года.)
Может быть, именно в этом вагоне репатрианты нашли записочку, которую сунул в щелку один из тех, кто ехал в нем раньше: «Везут нас по Сибири уже две недели. Говорят — на лесоповал».
Наркоматы один за другим отсылали в Управление Уполномоченного СНК Союза ССР по делам репатриации заявки на дармовую рабочую силу. Им отвечали коротко: управление этим не занимается, обращайтесь непосредственно в Совнарком. Обращались. И получали в свое распоряжение рабочие батальоны… Часть из них оставляли в Германии, разбирать и отправлять в Советский Союз оборудование с заводов и фабрик, других — спешно везли домой, где так не хватало рабочих рук. Среди тех, кому пришлось задержаться в Германии, был и Виталий Семин. Перечитаем странички из неоконченного романа «Плотина». Как и в «Человеке со знаком OST», Семин пишет о себе.
«И через пять месяцев после освобождения и победы у меня не было сил. Я не мог работать топором, держа его за рукоятку одной рукой, кирка тянула меня на себя вперед, я боялся высоты и вообще быстро задыхался.
Мы, сотни четыре таких же, как я, ребят, ожидали призыва в армию в советском рабочем батальоне. Не везти же нас из Германии домой, а потом из дому опять в Германию — так объяснили нам.
А вообще в нашей работе было много приятного. Приятно крошить молотом бетонные фундаменты под станками в цехе, где до сих пор валялись короткие стволики так и несобранных автоматов. Они гремели у нас под ногами, мы подбирали уже готовое оружие, удивлялись грубости и простоте обработки: шершавая зеленая краска на кожухе охлаждения, грубая проволока приклада, стволик не полирован, на нем нестертые следы токарного резца. Спешили немцы, гнали изо всех сил, не до красоты им было. В другом цехе свалены странные металлические конусы, говорят, это части «фау». «Фау-два». Сотни таких конусов ржавели тут. Никогда им уже не стать корпусом летающего снаряда».
Вот на этом заводе и отыскал Виталия Семина отец, солдат, дошедший до Берлина.
«Когда мы остались одни, я попытался рассказать отцу о том, что было со мной в Германии, но, как ни силился, что-то главное никак не мог передать ему. Больше всего мне хотелось, чтобы отец почувствовал, каким бывалым, все видевшим и все испытавшим мужчиной я стал. Я показывал ему шрам во всю тыльную сторону левой кисти — сам выжигал кислотой, чтобы не работать. Говорил:
— Теперь я, знаешь, какой выносливый?! Могу работать по двое суток без перерыва. В Лангенберге на вальцепрокатном была норма — сто сорок листов в смену. Каждый лист килограммов двадцать, его надо поднять на грудь пятнадцать раз да каждый раз пронести шагов по десять. Вот и помножь!
Тут с отцом сделалась судорожная икота. Когда он немного успокоился, я показал ему свою правую руку: до сих пор, когда умываюсь, проливаю воду из пригоршни — мастер железной палкой перебил мне предплечье, а кость неправильно срослась».
Это недолгое свидание отца с сыном — в ряду лучших страниц военной прозы. Рано повзрослевший паренек слушал отца и вспоминал то, что старался, но никак не мог передать ему о себе, о Германии.
«О том, как тяжко и страшно мне было гам, как свирепо меня избили в первом лагере и как били потом, как я ходил со сломанной рукой в гипсе, а под гипсом завелись вши, и я, не выдержав зуда, сломал гипс. Как лагерный придурок Иван говорил мне «по-доброму»: «Ты не жилец. Может, и дотянешь до конца войны, но все равно не жилец». Как я зимой и летом ходил в рваном пиджаке на голое тело, в рваных брюках и деревянных колодках. И еще вспоминалось мне, как я окончательно стал доходягой, который, разгибаясь, видит перед собой оранжевые круги, и как я учился, силился скрывать, что я доходяга, потому что это был единственный способ сохранить к себе уважение и, следовательно, надежду на жизнь».
А потом постучался начальник штаба, уступивший им свою комнатенку, и смущенно сказал:
— Черт его знает, начальство, понимаешь, не разрешает, чтобы твой отец на территории завода остался ночевать… — Он взглянул на часы. — Вы располагаете… Еще двадцать… — начальник штаба запнулся, — десять минут в вашем распоряжении.
Когда он вышел, сын спросил отца:
— Ты заберешь меня отсюда?
Вместе с Виталием Семиным эти слова повторяли тысячи и тысячи его сверстников, которых еще вчера называли «восточными рабочими». К первому августа 1945 года на сборных пунктах было зарегистрировано 2 380 737 человек. Около 555 тысяч из них было отправлено в СССР, 386 тысяч — зачислены в воинские части, арестовано — 5254 человека; 1 299 229 человек проходили проверку в лагерях и проверочно-фильтрационных пунктах. Из своих оккупационных зон передавали советских граждан союзники — до 60 тысяч человек в день. Комментируя эти цифры, Павел Полян восклицает: «Нет, Заукелю такие темпы и не снились!» Не стыдится ставить на одну доску тех, кто, как Виталий Семин, повторял отцу: «Ты заберешь меня отсюда?» Отсюда и домыслы, правда с оговоркой — недокументированные и малодостоверные — о том, что при репатриации «расстреливали не только отпетых «власовцев», но и ни на что не годных стариков».
К марту 1946 года, заключает издевательски Полян, «в закрома Родины было поставлено 5 352 963 советских гражданина». Извинились бы перед ними, доктор, за оскорбление.
Война закончилась не для всех
В семье маршала Чуйкова не любили вспоминать о послевоенном ЧП, которое едва не оставило его, в ту пору Главнокомандующего Группой советских войск в Германии, без маленького сына. А случилось вот что.
Из числа проверенных-профильтрованных репатрианток для квартиры главкома подобрали домработницу, старательную, работящую. Дома все блестело, видно, тетя Мотя в самом деле была хорошей хозяйкой. Только до поры до времени никто не знал, что в американском секторе Берлина у нее осталась дочь. Вроде заложницы. «Приведешь сына русского командующего, — сказали ее маме, — получишь обратно свою ненаглядную Оксану. Не приведешь — обеих сдадим русским. Им будет интересно кое-что спросить у вас…»
Тетя Мотя умела входить в доверие. Вскоре дома у Чуйковых на нее полагались как на свою, жалели — столько, мол, перенесла, несчастная! В хорошую погоду выводила малыша в скверик по соседству. Он доверчиво держался за ее руку. И сейчас, когда они подошли к дверям, ребята из войсковой охраны улыбнулись им, не обратив внимания на то, что на прогулку Матрена почему-то идет с узлом.
К счастью, за домом главкома наблюдала и контрразведка. Может, там уже узнали нечто о домработнице, может, обратили внимание на узел, неподходящий для прогулки. Словом, ее задержали. На первом же допросе дама во всем призналась. Хотела передать американцам сына Чуйкова в обмен на свою дочь. Зачем нужен был мальчонка американцам, она не знала, отвечала, всхлипывая и жалуясь на свою горькую долю на чужбине.
— Мерзавка! — не сдержался Чуйков, горячий человек, и влепил ей пощечину. Хмурую тетку увели.
Вчерашние союзники тщательно просвечивали контингент лагерей, расположенных в их оккупационных зонах. Впрочем, недавнее прошлое многих и многих из числа перемещенных лиц было ясно и так: бежали на запад вместе с отступающими немцами, спасались от расплаты.
Екатерине Поповой запомнилась группа русских, которая появилась в их лагере еще в апреле 1943-го. «Были эти полицаи, не нам чета — вид сытый, ухоженный, шевелюры длинные (нас-то чуть не налысо стригли). Их поставили надсмотрщиками, мастерами и бригадирами, и нам, ходячим покойникам, приходилось от них очень туго, подчас они хуже немцев были, так лютовали. Даже немецкие рабочие, глядя на них, иногда крутили пальцами у висков и приговаривали: «юде, юде…» Я поначалу удивлялась, причем тут «юде», ведь евреев здесь не было и быть не могло, а потом сообразила, что в данном случае «юде» — это «Иуда», предатель…». Один из таких мастеров довел до самоубийства Катину подружку, Анечку: «Вернулись мы в барак, видим — на спинке своей кровати, которая во втором ярусе была, висит… Аню успели вернуть к жизни, но нормальным человеком она уже не стала — временами заговаривалась, у нее как-то странно и страшновато бегали глаза».
Теперь борцы с Советами, как они сами себя называли, предлагали свои услуги новым хозяевам. Через год после победы союзники еще держали в лагерях свыше миллиона человек. Конечно, среди них было немало и запуганных, одурманенных людей, не знавших, куда податься. Были и лихие искатели приключений, готовые податься хоть на край света. И те, кому, как Ивану Михайлову, студенту Сталинского индустриального института, хотелось убежать от самого себя.
В их лагере о Советском Союзе либо говорили с бессильной злобой, либо помалкивали. Ворота для «перемещенных лиц» открывались только на Запад — во Францию, Канаду, США, Австралию… Михайлов выбрал Австралию.
Давно не бритые соседи по бараку рассуждали о выгодах далекого края: «Тепло, фруктов — завались…»
— Слышь, — говорил один, крутя яркий проспект, — говорят, зверь там один есть, коала называется, знай спит да ест. Вот бы нам, братцы, так.
Иван угрюмо слушал все эти разговоры, смешки; в его душе поднимались отзвуки того безвозвратно ушедшего времени, когда, рассматривая маленькую зубчатую картинку, невесть как попавшую в их поселок над Кальмиусом, он мечтал о далеких краях. Со щемящей жалостью вспомнил он вдруг мальчонку, который босиком по росистой траве, холодившей ноги, вышагивал с удочкой за отцом. Отец знал каждую травинку. Повадки птиц. «Смотри, — говорил сыну, — как жаворонки высоко кружат. Это они к Богу летят молиться. Значит, хлеб хорошо уродит». Звонкая птаха вдруг камнем падала к земле. «Зачем?» — испуганно спрашивал сынишка. — «Попьет росы с травинок», — отвечал отец. Иван Николаевич даже вздрогнул, словно вновь та давняя роса обдала холодком его ноги.
…Их эшелон из окружения сорок первого года действительно не вышел. Домой пробиться не удалось. Череда лагерей, завод в Дортмунде и, наконец, этот барак.
Я познакомился с Иваном Николаевичем Михайловым в Донбассе весной 1965 года. В тот день ему пришло письмо из Австралии.
«Здравствуйте, дорогая семья Михайловых! — писали давние знакомые. — Нас очень радует, что вы довольны тем, что снова оказались на родной земле, ибо у каждого скитальца, оторванного от Родины, мечты одни — родной огонек. Очень приятно, что дети все учатся — это их путь. Жизнь есть путешествие, и мы им всем желаем светлого пути под знаменем их Родины.
Иван Николаевич, вы сейчас находитесь в стране с совершенно противоположным строем, и хотелось бы знать, какую разницу заметили вы и ваши дети. Пишу и обращаю внимание на ваши фотографии: все прекрасно выглядите, желаем вам быть всегда такими радостными.
Напишите, Иван Николаевич, сколько дней работаете в неделю и сколько часов, дают ли отпуска, как со спецодеждой и питанием в столовой на заводе».
На это письмо Михайловы отвечали всей семьей. Писали, что Иван Николаевич и Вася, второй сын, работают на заводе, а старший сын Толя преподает в школе английский язык. Жизнью, отношением людей на заводе и в школе довольны. А поскольку старые знакомые в Аделаиде не верят, что Толя учительствует, то он специально для них высылает справку.
Я видел эту уникальную бумагу:
«Дана Михайлову Анатолию Ивановичу в том, что он действительно работает в школе-интернате № 1 г. Донецка в должности учителя английского языка.
Справка дана для предъявления в Австралии».
Но я забежал вперед. Вернемся в сорок пятый-сорок шестой год, в лагеря перемещенных лиц, где еще продолжается война. Острее, чем другие, это чувствовали офицеры миссий по репатриации советских граждан, работавшие в западных зонах оккупации. Они считали свою службу продолжением фронтовой, это так и было. Об их мужественной службе написано совсем немного. Архивы были недоступны до самого последнего времени. Книжек о них почти нет. Спасибо, оставил свои воспоминания А. И. Брюханов, его воспоминания «Вот как это было» вышли в Москве в 1958 году.
А было это так. В ряде лагерей правили власовцы и бандеровцы. Понятно, возвращаться в Советский Союз им хотелось меньше всего на свете. Тем, кто собирался все-таки вернуться на Родину, угрожали и нередко расправлялись. Из лагеря «5-С», расположенного в английской зоне оккупации, вместе с нашими офицерами вышли, несмотря на то, что их пытались задержать, девять советских граждан: Блохин, Федосеев, Еремеев… Уже за воротами в присутствии английского майора Стюарта они рассказали, что лагерь захватили бандеровцы. Их коронная угроза:
— Мы будем топить в уборной всех, кто только заикнется, что хочет в Советскую Россию.
Почти весь лагерь «5-С», а в нем было около десяти тысяч человек, «тайком от советских представителей вывезли» в Англию. Дальше их следы затерялись… Обратим внимание на обстоятельство, о котором А. Брюханов подробно рассказывает в главе «Невольничий рынок».
Лагеря осаждали вербовщики чуть ли не со всех стран. После войны всюду требовались рабочие руки — а тут — десятки тысяч молодых людей, в большинстве с теми или иными специальностями. «Над лагерями перемещенных лиц в Европе витает дух изуверского рынка рабского труда, — писал в октябре 1948 года один из американских журналистов. — Представителям отдельных заморских стран предлагают на просмотр «Каталог», как скотоводам метрические книги племенного скота. Они ходят по лагерям, как по отделениям универсального магазина, причем на ярлыках с ценами указываются раса, рост, возраст, семейное положение, профессия и состояние мускулов».
Международная организация по делам беженцев (ИРО) заключила соглашения на поставку живого товара приблизительно с 30 странами. «Существовала разверстка перемещенных лиц по странам: США намечали вывезти из Европы в течение двух лет 205 тысяч, — пишет А. Брюханов. — За один лишь год — с июля 1947-го по июль 1948 года — ИРО доставила покупателям 200 тысяч человек». Среди них были не только советские граждане, но и выходцы из ряда стран Восточной Европы.
Машина страха в лагерях действовала без помех. В лагере «Фишбек» отравили советского инженера Докторовича. В лагере «Бурдоф» власовцы напали на советского офицера Сафонова, его переводчика Раппопорта и шофера Долгих и жестоко их избили. Английские офицеры, увидев, что начинается расправа, куда-то растворились. Полковник Советской армии Блекис, прошедший всю Отечественную войну, погиб в нелепой, на первый взгляд, автомобильной катастрофе. «На совершенно ровном и сухом шоссе внезапно отказало рулевое управление. Как выяснилось, накануне машина проходила профилактический ремонт в одной из автомастерских, где подвизались эстонские и латышские легионеры из разбитых гитлеровских частей».
Брюханов приводит стенографически точную запись одного из разговоров, который пришлось провести старшему лейтенанту Швыдкиму.
«Швидкий. Старший лейтенант Швидкий слушает.
Голос в трубке. A-а, Швидкий, ты еще жив?
Швидкий. Живой, живой, а кто это говорит?
Голос. Твой земляк.
Швидкий. Говоришь земляк? Ну, слушаю.
Голос. Готовь веревку, сейчас приедем вас вешать.
Швидкий. Да ну! Одну веревку готовить или несколько?
Голос. Ты, Швидкий! Там в карьере за Ганновером мы уже одного «репатриировали», пойди забери его, он хотел ехать на родину.
Швидкий. Значит, еще одного задушили бандиты…
Голос. Эге, скоро и до вас доберемся.
Швидкий. По тебе, бандюга, давно веревка плачет, и тебе ее не избежать».
В карьере за Ганновером немецкая полиция действительно обнаружила труп. Документов при нем никаких не было. Человека без имени «переместили» в немецкую землю. Навсегда. Лишь бы только не уехал в Советский Союз. В другом лагере окопались каратели из «Казачьего батальона № 574», которым командовал некий капитан Панин. Этот батальон, сформированный в Житомирской области, оставил на своем пути по Украине, Польше, Чехословакии много кровавых следов. Один из самых последних — на Северной Мораве в апреле 1945 года, на самом исходе войны.
Там, в лесистых горах, укрылось сельцо Закржов, жители которого помогали партизанам. Поздним вечером 18 апреля отряд гестаповцев и их пособников окружил Закржов. Факельщики подожгли несколько домов, а всех сельчан согнали на площадь. Поиздевавшись вдоволь над беззащитными людьми, фашисты отпустили женщин, детей и стариков. Остальных — их было 23 человека — увели с собой. По дороге, правда, разрешили вернуться домой еще четверым.
Остальных ждала страшная судьба. После пыток их согнали в лесную сторожку. Из соседнего села привезли немецкого священника, чтобы он освятил сторожку, «прежде чем партизаны отправятся на небо». Священник, увидев измочаленные лица, упал в обморок. Сторожку облили бензином и подожгли. Тех, кому удавалось вырваться из этого ада, каратели бросали обратно в огонь.
В пламени заживо сгорели девятнадцать человек. Братья Ян и Олдржих Огера, Йозеф Марек и его семнадцатилетний сын Драгомир, Франтишек Шварц и его сын Владимир, шестнадцати лет, Отто Вольф, чей дневник в свое время стал такой же мировой сенсацией, как дневник Анны Франк из Амстердама. Отто начал свои записи в пятнадцать лет, последние страницы говорят о близком освобождении…
О судьбе чешского села Закржов помнят только местные хроники. В памяти потомков остаются символы — русская Красуха, белорусская Хатынь, французский Орадур, чешский рабочий поселок Лидице… Таких сел и поселков на советской земле были тысячи. Для солдат Великой Отечественной войны это были не просто символы. Там заживо сгорели их близкие. А в бою они встречали не только немцев, но, увы, и своих соотечественников, присягнувших врагу.
Русский человек отходчив. Сколько раз я слышал от старых солдат, как после боя протягивали пленным, вчерашним врагам, папиросу или кусок хлеба. Но к полицаям, власовцам, бандеровцам отношение было иное. И они знали об этом, дрались фанатично. Седьмого марта 1945 года Геббельс записал в своем дневнике, что в районе Кюстрина «великолепно сражались войска генерала Власова». Сражались не против Сталина и Гитлера, как писал после войны прикомандированный к Власову германский офицер Вильфрид Штрик-Штрикфельд, а против Советской армии, против советских солдат. И кто скажет, сколько «похоронок» пришло в Союз после этих боев, когда, по словам Геббельса, даже «германские войска устали» и не хотели «больше сражаться с врагом». Прямо-таки позорно, восклицает всемогущий министр пропаганды гитлеровской Германии: «Немцы… вынашивают мысль попасть как-нибудь в советский плен». А вот власовцы сражаются. Сам Власов при встрече с Геббельсом произвел на своего собеседника «очень глубокое впечатление». Это не помешало Геббельсу критически оценить перебежчика: «Когда Власов заявляет, что Сталин — самый ненавистный человек в России, то это, конечно, говорится ради собственного оправдания».
Фашистские чины не скупились на похвалу и для наемников из дивизии «СС-Галичина», Украинской повстанческой армии (УПА) и других националистических формирований. Отряды УПА немцы даже в официальной переписке называли украинскими бандами. Начальник полиции безопасности и СД дистрикта Галичина штурмбанфюрер Витиска в своем докладе начальству в Берлин в апреле 1944 года отмечал: «Подразделения украинских банд… дрались вместе с немецким вермахтом против Красной Армии… и на некоторых участках оказали войскам в критические моменты услуги, которые нельзя недооценить… Сотрудничество с УПА со стороны вермахта и прежде всего абвера будет сохранено и далее».
Украинскую повстанческую армию сколотили в 1943 году националисты-бандеровцы, давние и верные прислужники гитлеровцев. Их связи с Гитлером и Розенбергом уходят в начало 20-х годов прошлого века. В одном из доверительных писем митрополиту Шептицкому глава ОУН Евгений Коновалец докладывал:
«С чувством глубокого уважения и сыновней любви я часто вспоминаю тот день, когда услышал от Вашей экселенции слова о том, что рано или поздно международные деятели именно немцам поручат уничтожить большевистскую Россию… Слова Вашей экселенции были вещими. Да, Германия под водительством своего фюрера Адольфа Гитлера перед всем миром взяла на себя эту миссию.
Считали своим сыновним долгом доложить Вашей экселенции о том, чего никто не знает или знают только те, кто непосредственно разрабатывает планы и ведет подготовку для осуществления этой великой цели. В этой подготовке на нас возложена не последняя роль, но об этом все доложит Вашей экселенции мой посланник…» Посланцем Коновальца был Степан Бандера, вышколенный разведками Германии и Италии.
Задолго до 22 июня 1941 года гитлеровские офицеры формировали батальоны украинских националистов. На Нюрнбергском процессе, в частности, приводились показания полковника Штольце, одного из руководящих работников германской разведки и контрразведки, захваченного в плен Советской армией. Ему поручили заниматься подготовкой диверсионных актов и работой по разложению в советском тылу в связи с намечавшимся нападением на Советский Союз. Выполняя приказ фельдмаршала Кейтеля, Штольце «связался с находившимися на службе в германской разведке украинскими националистами и другими участниками националистических фашистских группировок». «В частности, мною лично, — продолжает Штольце, — было дано указание руководителям украинских националистов, германским агентам Мельнику (кличка Консул-1) и Бандере организовать сразу же после нападения Германии на Советский Союз провокационные выступления на Украине с целью подрыва ближайшего тыла советских войск…»
Сначала провокационные действия по заданию гитлеровской разведки. Затем рьяное служение оккупантам в полиции, карательных батальонах, формированиях так называемых «сечевых стрельцов», борьба с партизанами. В том числе и в Белоруссии. И, наконец, дивизия «СС-Галичина» — регулярная часть вооруженных сил Германии…
Бандеровцы, как и власовцы, стремились укрыться в западных зонах оккупации. В лагере «Ганновер» советские офицеры встретили паренька из киевского села Киспик Ивана Ткачука. Его зазвали сюда под предлогом, что это украинский лагерь. А на месте выяснилось, что в «Ганновере» собрались те, кто надеется еще продолжить борьбу с Москвой.
Из таких лагерей, как «Ганновер», постояльцев перебрасывали в США, Канаду, страны Латинской Америки… Подчас даже не спрашивая их согласия.
Двадцать второго ноября 1944 года в наркомате иностранных дел СССР зарегистрировали письмо, адресованное народному комиссару иностранных дел СССР т. Молотову. Отправитель — Чхеидзе Григорий, заключенный лагеря военнопленных Фоплест AG 4312, адрес: Главпочтамт, почтовый ящик, штат Нью-Йорк. Письмо написано на бланке американской военной почты и прошло американскую военную цензуру.
«В настоящее время мы, советские люди, находимся в американских военных лагерях. Для нас экономические условия тут хорошие, но это для нас ничего не значит, нам дорога наша родина.
Причина нахождения нас в США: мы, бывшие красноармейцы, сражались против фашистской армии, но по тем или иным причинам мы попали в плен Германии. В германском тылу, как вам известно, нам было очень трудно. Многие погибли от голода и холода, а кто остался в живых, тех забрали насильно в немецкую армию и мы находились под контролем немцев. Побывав в Польше, многие легионеры перешли на сторону партизанских отрядов, забрав с собой оружие. Тогда немцы внезапно перебросили нас во Францию, где был высажен американский десант. И 7.6.44 г. мы, уничтожая немецкое командование, перешли на сторону американцев.
Мы желаем вместе с нашим родным народом участвовать в борьбе против фашистской Германии и отомстить им за издевательство над народами СССР и всей Европы, то, что мы видели своими глазами. От имени советских людей, находящихся в американских военных лагерях, просьба, чтобы нас возвратили на родину для участия в борьбе ради окончательной победы над немецким фашизмом.
Чхеидзе Г. Гавашели А. Гушев В. 2.8.44».Из наркомата иностранных дел письмо перекочевало в аппарат Уполномоченного по делам репатриации. А оттуда — со временем — в архив. Не знаю, как сложилась судьба трех товарищей, которых еще не называли «лицами кавказской национальности», — в архивных материалах мне больше ничего не встретилось, но сама эта история типична.
Неожиданное появление русских солдат во Франции удивило не только французов, но и русских эмигрантов.
«Мы ожидали всего, но только не того, что случилось сегодня, — записала 6 октября 1943 года в своем дневнике жена генерала Деникина Ксения Васильевна. — Мимизан оккупирован русскими. Сколько раз я и Иваныч (Антон Иванович Деникин. — В. А.) задавали себе вопрос: при каких обстоятельствах мы встретим наших соотечественников оттуда? Но никогда не могли предположить, что это будет в октябре 1943 года, в Мимизане, в Ландах! Когда батальон «добровольцев» прибыл в Мимизан, их удивление было столь же большим, как и наше. Их посадили в вагоны где-то в Западной Германии и выгрузили здесь. Русских военнопленных лишили права выходить на остановках, и они не знали, в какой стране находятся. Возраст солдат и офицеров колебался от 16 до 60 лет. Они были уроженцами самых разных областей и республик, происходили из самых разных социальных слоев — от колхозников до преподавателей университетов…
Они заполнили наш дом. Приходили группами, парами, поодиночке. Мы говорили обо всем: о жизни там, о Красной Армии, о войне, об их судьбе.
Каждого из них интересовал главный вопрос: «Считаете ли вы, что когда-нибудь мы сможем вернуться в Россию?» Они больше не верили в победу великого рейха, не скрывали своих германофобских настроений. Смотрели на каргу, висевшую на стене, где я булавками ежедневно отмечала неумолимое продвижение Красной Армии вперед. Я чувствовала, что они гордятся ее подвигами и одновременно испытывают тревогу за свою судьбу. Мое сердце обливалось кровью, когда я смотрела на этих попавших в ловушку судьбы русских людей».
Через три месяца русский гарнизон отправили на фронт. Деникины проводили черноморского моряка, который надеялся вернуться в Россию, Петю — донского казака, летчика Ваню, Сережу — он требовал у француза-парикмахера для своей лохматой головы репейного масла и все удивлялся, что мсье «не знал этого очень известного в России лосьона». Пожелали добраться до родного очага сибиряку Володе, отцу одиннадцати детей…
«Стараясь улыбнуться, мы пожали друг другу руки: «Не забывайте нас», «Вспоминайте нас», «Да хранит вас Господь!» Прошла последняя русская телега, последний русский солдат, когда я заметила другую колонну, идущую в противоположном направлении и пересекающую нашу. В поселок входил новый гарнизон, состоящий из немецких солдат».
Сережа Кривошеев, с которым больше всего любил играть внук Деникиных Мишуня, погибнет первым из мимизанского гарнизона. За что? Что он защищал на болотистых берегах Нормандии? Куда загремели его напарники? В американский плен? В лагерь перемещенных лиц? А дальше?
24 апреля 1946 года Уполномоченный Совета Министров СССР по делам репатриации генерал Голиков представил «Отчет о выполнении решений Правительства Союза ССР по проведению репатриации граждан СССР и граждан иностранных государств периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Полвека на документе значился гриф «Совершенно секретно». Сейчас отчет рассекречен. Он дает самое полное представление о репатриации, и потому я предлагаю его вниманию читателей — не в пересказе.
Итоги репатриации
1. Репатриация советских граждан:
По далеко не полным данным в фашистскую неволю было угнано 4 794 087 человек советских граждан. Кроме этого, органами репатриации в войсках и за границей, за весь период репатриации выявлено и учтено 2 016 480 человек бывших военнослужащих Красной Армии, оказавшихся в плену у противника. Таким образом, общее количество взятых на учет граждан СССР, угнанных в фашистскую неволю, составляет — 6 810 567 человек.
Всего учтено для репатриации на Родину 5 675 544 человека советских граждан.
Репатриировано на Родину 5 352 963 человека.
Из общего числа репатриированных на родину граждан СССР освобождено непосредственно войсками Красной Армии 3 000 277 человек.
Освобождено войсками союзников 2 352 686 человек, из которых было передано через линию соприкосновения войск 2 038 700 человек и доставлено непосредственно на границу СССР, через порты и ж. д. станции, 313 986 человек.
Из общего числа принятых от союзников и нейтральных стран:
а) бывших военнопленных — 960 039 человек.
б) гражданского населения — 1 392 647 человек.
По странам:
Страны всего бывших военнопленных гражданского населения Англия 26 329 21 900 4429 США 3950 3823 127 Норвегия 84 775 77 812 6963 Франция 121 005 85 436 35 569 Бельгия 12 344 7352 4992 Голландия 234 74 160 Дания 7614 4635 2979 Западная Германия 2 031 925 707 369 1 324 556 Италия 53 240 44 205 9035 Греция 1402 1288 114 Швейцария 9868 6145 3723Из числа взятых на учет, угнанных советских граждан в фашистскую неволю, невозвращено 1 457 604 человека, из которых по имеющимся точным данным 322 581 человек задерживается союзными и другими иностранными государствами. Остальные 1 135 023 человека предполагаются погибшими в фашистской неволе. Утверждать, что союзными и другими иностранными государствами задерживается указанное выше количество советских граждан, а не более — нельзя, так как с первых дней освобождения советских граждан армиями союзников нам стали известны факты ненормальных отношений союзного командования в этом вопросе и факты грубого нарушения союзным командованием статей соглашений, заключенных на Крымской конференции 11.2.45.
К этому следует отнести:
а) Стремление союзного командования скрыть от нас значительное количество освобожденных граждан СССР, превратив их после соответствующей обработки в «отказчиков»;
б) Задержание многих советских граждан на службе в армиях союзников, в которых они используются в качестве обслуживающего персонала;
в) вербовка советских граждан в иностранные легионы и укомплектование нашими людьми армии фашиста Андерса и белогвардейского корпуса полковника Рогожина;
г) непризнание советскими гражданами — граждан прибалтийских советских республик, Западной Украины и Западной Белоруссии;
д) сохранение на занятой территории антисоветских организаций и содействие им в проведении пропаганды за невозвращение граждан СССР на Родину.
Полное выявление граждан СССР, задерживаемых союзными и другими иностранными государствами, увеличит цифру советских граждан, находящихся у них.
Задерживаемые советские граждане союзными и другими иностранными государствами находятся:
Прибывшие к месту постоянного жительства 3 259 857 чел. советских граждан устроены на работу по своим специальностям и способностям. Только организованным порядком направлено (по данным на 1 марта 1946 г.) на работу в промышленность 447 426 человек и 1 425 230 человек в сельское хозяйство, при этом им была оказана материальная помощь. Им выделено, по далеко неполным данным, 25 772 га пахотной земли, 20 394 га приусадебных участков, 3463 разных хозяйственных построек, 64 655 домов, 54 545 квартир, 2010 лошадей, 23 412 голов крупного рогатого скота, 152 553 предметов одежды и обуви и др. материальных ценностей, 62 500 000 рублей выдано единовременных пособий.
Возвращенные на Родину 22 824 человека детей-сирот устроены в детских учреждениях Наркомпросов и Наркомздравов союзных республик, Управления трудовых резервов; отданы на патронат и возвращено родителям.
1 055 925 человек бывших военнопленных и гражданских лиц призывного возраста, направленных на пополнение действующих частей Красной Армии, с оружием в руках участвовали при освобождении советской территории и разгроме гитлеровской Германии, а затем и империалистической Японии.
608 095 человек бывших военнопленных и гражданских лиц призывного возраста направлено на укомплектование рабочих батальонов, сформированных для работы в промышленности.
55 000 человек репатриантов, в период ожидания отправки в СССР, участвовало на демонтажных работах немецких фабрик и заводов.
Многие из репатриантов участвовали в выявлении и доставке в СССР материальных ценностей, вывезенных немцами с временно оккупированной территории СССР Тысячи белорусов и украинцев, возвращавшихся из немецкого плена, сопровождали гурты скота из Германии в Белоруссию и Украину. 2 конезавода были обнаружены репатриантами в Западной Германии, и при их содействии они были возвращены в СССР, а также много других ценностей было возвращено в СССР при активной помощи репатриантов.
339 618 человек направлено в распоряжение НКВД (спец-контингент).
89 468 человек репатриантов (по данным на I марта 1946 г.) находятся в лагерях (СПП) и на различных работах в группах войск.
Репатриированные на Родину 5 352 963 человека граждан СССР подразделяются: на бывших военнослужащих Красной Армии в количестве — 1 825 774 человека и гражданское население в количестве 3 527 189 человек, в том числе: мужчин 1 293 095, женщин — 1 531 650 и детей — 702 444.
По социально-демографическим показателям репатриированные советские граждане характеризуются следующими цифрами:
На бывших военнослужащих Красной армии
а) по воинским званиям и составам:
без в/званий — 1741 чел.
рядового сост. — 1 249 017 чел.
сержанск. сост. — 195 350 чел.
мл. лейтенантов —39 054 чел
лейтенантов —51 484 чел.
ст. лейтенантов — 20 864 чел.
майоров — 2346 чел.
подполковн. — 455 чел.
полковников — 311 чел.
капитанов — 8950 чел.
б) по стажу службы в Красной Армии
1917–1920 гг. — 1132 чел.
1921–1925 гг. 1229 чел.
1926–1930 гг. 7971 чел.
1931–1936 гг. — 18 083 чел.
1937–1940 гг. -368 258 чел.
1941–1945 гг. -1172 900 чел.
в) по партийному положению:
чл. и канд. ВКП(б) — 87 529 чел. чл. ВЛКСМ — 193 207 чел.
беспартийных — 1 288 836 чел.
г) по возрасту
до 16 лет — 16 чел.
17–21 лет — 133 126 чел.
22–25 — 342 736 чел.
26–30 — 369 736 чел.
31–35 — 328 735 чел.
36–40 лет — 203 879 чел.
41–45 — 132 397 чел.
46–50–43 208 чел.
старше 50 лет — 15 813 чел.
д) по годам нахождения в фашистской неволе
1941 года — 752 705 чел.
1942 — 519 652 чел.
1943 года — 191 596 чел.
1944 года — 82 660 чел.
1945 — 22 959 чел.
е) по национальности
русских — 740 114 чел.
украинцев — 460 208 чел.
белорусов — 134 776 чел.
грузин — 25 541 чел.
армян — 20 657 чел.
евреев — 4762 чел.
татар — 32 178 чел.
узбеков — 29 588 чел.
казахов — 24 448 чел.
калмыков — 4087 чел.
башкир — 4578 чел.
туркмен — 3791 чел.
карел — 2194 чел.
азербайджан. — 21 985 чел.
молдаван — 5094 чел.
таджиков — 4258 чел.
киргизов — 4299 чел.
литовцев — 3019 чел.
эстонцев — 2749 чел.
латышей — 3456 чел.
остальн. народн. СССР- 31 586 чел.
финнов — 583 чел.
поляков — 2702 чел.
остальн. народн. не входящ. в СССР — 2919 чел.
Гражданское население
а) по партийному положению:
чл. и канд. ВКП(б) — 27 991 чел.
чл. ВЛКСМ — 132 873 чел.
беспартийных — 2 710 465 чел.
б) по возрасту:
до 10 лет — 276 365 чел.
11–16 лет — 197 130 чел.
17-21 лет — 867 616 чел.
22–25 лет — 421 726 чел.
26–30 лет — 247 315 чел.
31–35 лет — 230 953 чел.
36–40 лет — 190 877 чел.
41–45 лет — 162 317 чел.
46–50 лет — 139 986 чел.
старше 50 лет — 137 044 чел.
в) по социальному положению:
служащих — 245 567 чел.
рабочих — 596 570 чел.
прочих — 405 159 чел.
крест, колхоз. — 979 454 чел.
крест, единол. — 171 084 чел.
г) по годам нахождения в фашистской неволе
1941 года — 716 213 чел.
1942 года — 1 011 341 чел.
1943 года — 714 164 чел.
1944 года — 387 058 чел.
1945 года — 42 553 чел.
д) по национальности:
русских — 891 747 чел.
украинцев — 1 190 135 чел.
белорусов — 385 896 чел.
грузин — 7600 чел.
армян — 4406 чел.
евреев — 6666 чел.
татар — 11 332 чел.
узбеков — 1446 чел.
казахов — 2455 чел.
калмыков — 2318 чел.
башкир — 1215 чел.
туркмен — 177 чел.
карел — 1247 чел.
азербайджан — 2348 чел.
молдаван — 31 598 чел.
таджиков — 453 чел.
киргизов — 1950 чел.
литовцев — 47 377 чел.
эстонцев — 12 231 чел.
латышей — 32 230 чел.
ингерманландцев — 43 246 чел.
Остальн. народн. СССР — 65 974 чел.
финнов — 4122 чел.
поляков — 50 483 чел.
Остальн. народн. не вход, в СССР — 72 677 чел.
По социально-демографическим показателям не вошло 912 062 человека советских граждан, освобожденных на оккупированной территории СССР и направленных по месту жительства до организации Управления Уполномоченного СНК СССР по делам репатриации, на которых сведений по социально-демографическим показателям получить не представилось возможным.
2. Репатриация иностранных граждан Красной Армией освобождено 1 021 455 человек иностранных граждан. Репатриировано на родину 1 016 588 человек, в том числе:
американцев — 22 479 чел.
англичан — 24 465 чел.
французов — 310 030 чел.
итальянцев — 166 263 чел.
поляков — 173 749 чел.
югославов — 127 182 чел.
чехословаков — 43 312 чел.
бельгийцев — 34 846 чел.
голландцев — 35 032 чел.
норвежцев — 1151 чел.
австрийцев — 11 766 чел.
финнов — 95 чел.
палестинцев — 13 чел.
бразильцев — 17 чел.
аргентинцев — 3 чел.
панамцев — 22 чел.
Находятся в пути к передаточным пунктам — 4867 человек иностранных граждан.
Перевозки репатриантов:
Всего за весь период репатриации советских граждан подлежало перевозке 5 352 963 человека.
К 1 марта 1946 года перевезено 6 263 495 человек железнодорожным транспортом, для чего использовано 176 431 жел. дорожных вагонов.
Кроме того, на пути движения людей к границе СССР было использовано:
а) 166 пароходов, которыми перевезено 193 946 человек;
б) 1783 самолета (в 1 рейс), которыми перевезено 35 644 человека.
в) 5000 автомашин, которыми перевезено 976 731 человек.
Наиболее напряженным периодом перевозки репатриантов на родину были:
Декабрь 1944 г., когда было перевезено 892 005 человек, июнь 1945 г. — 487 194 человека, июль — 710 318 человек, август — 825 818 человек, сентябрь — 521 747 и октябрь — 447 124 человека.
Перевозка иностранных граждан производилась из групп войск (фронтов) вглубь страны, в тыловые и транзитные лагери военных округов.
После группировки производилась отправка по странам.
Всего за весь период репатриации перевезено в лагери — 1 021 455 человек, из них отправлено на родину 1 016 588 человек»…
(РГАНИ. Ф. 89. оп. 40. Д. 5. л. 1–9).Дома
Читая письма «восточных рабочих», заметил общую для многих из них деталь: повествование обрывается днями освобождения. Пришли войска, наши или союзные — американские, английские — и точка. Дальше какое-то загадочное молчание. Почему? Люди долго боялись рассказывать о своей послевоенной судьбе. Только в последние годы открылась и эта горькая, обжигающая правда.
Елена Анатольевна Соловьева:
«После освобождения я добровольно пошла работать санитаркой в госпиталь, чтобы помочь подняться умиравшим нашим ребятам, освобожденным из плена. Мама объявила, что она знает английский язык, ее вызвали на работу в комендатуру, занимавшуюся репатриацией советских граждан.
В комсомол меня не приняли, маме отказали в школе, устроилась она кассиром на железную дорогу. Ушла на пенсию, получая 50 рублей 40 коп. Ее уговаривали из Германии ехать в Канаду, она сказала, что умрет, но не поедет, для нее только одна дорога — в Москву, только одна надежда — СССР. Ах, сколько мы хватили здесь шилом патоки. Всего боялись — своей биографии, своей тени, произвола каждого начальника.
Всего не напишешь, и не знаю, сможете ли вы понять сердцем, как обидно, как унижала нас такая жизнь. А главное — не наступит ли время, и меня вновь начнут бить за то, что в 14 лет попала в оккупацию?
Боюсь за сына. Мне уже скоро собираться в ту страну, где тишь и благодать. А ему жить…
Написала все без черновика, вот перечту и пошлю вам. Знаю массу песен, сочиненных на оккупированной территории СССР, сама сочиняла. Когда мы вернулись, я написала такие строки:
Мы здесь работать хотим, Свою вину искупили. Только загвоздка одна — В чем гут наша вина?»Александра Даниловна Стройна:
«20 человек из нашего лагеря увезли в подсобное хозяйство. Неделю мы отдыхали. Поработав год в этой воинской части, я вернулась в Одессу. Нашу квартиру за это время заняли. До 1956 года мыкалась по углам. В 25 лет начались страшные головные боли. Здоровья нет. Льгот никаких. Телефон и то нельзя поставить. Людям, которые до войны работали, время в лагерях засчитывают в стаж. А что же мы, кому было по 15–16 лет? Перед войной мы еще не работали. Были уже не маленькие дети, но еще и не взрослые. Нас просто сбросили со счетов. За наши муки нам ничего не положено. Вот это обидней всего.
Впервые пишу о пережитом. Прошло уже больше полувека, а мне еще до сих пор снятся эти лагеря и муки».
Бакинец М. Багиров три раза бежал из лагерей, наконец пробрался в Италию, воевал в партизанском отряде «Фангаччи».
«После освобождения П истой и партизанами в город вошли американские войска. Русских партизан, в том числе и меня, интернировали, вербовали нас уехать в США…» В конце концов их в Каире передали советским властям. «Через Иран нас привезли в Баку, а оттуда — в Подольск, где был фильтрационный лагерь. При мне находились все документы, подтверждающие, что я партизан. Мне вернули воинское звание майора и зачислили в Советскую Армию. Демобилизовался я в 1946 году.
После демобилизации я вернулся в Баку. Женился. Вырастили троих сыновей и дочь. Сыновья получили высшее инженерное образование, женаты, устроены. Есть внуки. Дочь преподает музыку».
Клавдия Кузьминична Моисеева, г. Дебальцево:
«Из Германии я вернулась с клеймом № 14 141… Помог один человек: давай, говорит, 50 рублей, и я тебя от этого клейма избавлю. Правда, снял клеймо, вырезал. А вот оскорбления не вырежешь из наших душ. Сколько перетерпеть пришлось».
Елена Попова (Колесниченко), г. Калининград, Московская обл.:
«Всем, кто решил поднять эту тему, рассказать о жизни «восточных рабочих», выражаю сердечную благодарность и готова помочь своей памятью восстановить эту страницу нашей истории.
Неутихающая боль, незаживающая рана, неугасающая память — вот что это такое. Я видела, как теперь в наши дни, уже немолодые женщины и мужчины виновато опускали глаза при одном упоминании слова «Германия». А в анкетах на вопрос, был ли за границей, в плену, они отвечали «Нет».
Совсем недавно я встретила женщину из нашего микрорайона и узнала ее — она была со мной в одном лагере в г. Бланкенбурге. Я вспомнила даже, как ее зовут — Варя, где она спала, как платочек повязывала. Но она отказалась: нет, говорит. Это была не я.
Может быть, я ошиблась. А может быть, не прошел еще страх у людей. Люди подчинялись силе. Даже взрослые. А что говорить о нас, шестнадцатилетних?! Слава богу, вспомнили о нас. И хотя жизнь моя сложилась удачно, но ведь сложила-то я ее сама. Вроде бы, ТАМ и не была. Была, была, еще как была. Мой номер 2021 и все, все, что связано с той страшной и унизительной жизнью, я прошла».
Анатолий Иванович Бурштын:
«В июне 1945 года после освобождения меня призвали в армию. И тут же наш взвод получил задание сопровождать из Германии в СССР 12 тысяч лошадей, угнанных когда-то так же, как и мы. Гнали лошадей до города Орша в Белоруссии. Вспоминаю, какие мы были счастливые, возвращая добро нашей Родине.
После армии закончил строительный техникум и заочный инженерно-строительный институт в Москве, в 1961 году стал коммунистом. Женат, две дочери, растет внучка.
Все послевоенные годы занимался строительством, был прорабом, главным инженером — спокойная, мирная, трудовая жизнь. Но всегда в сердце — боль, боль за поруганную юность, за унижение человеческого достоинства, за рабство».
Мария Прокофьевна Толок:
«Я устроилась на работу. Была на заводской Доске почета, вступила в комсомол — свой комсомольский билет храню до сих пор. Но, когда пришло время по возрасту выходить из комсомола и я сказала одному партийному работнику, что хотела бы вступить кандидатом в члены партии, знаете, что услышала?!
— Ты, Маруся, хороший человек, но ты ведь в Германии была.
Лагерный номер у меня был 54, вышвырнула его в день освобождения, a OST, мне кажется, я сняла только сегодня, написав это письмо».
Владимир Коваленко вернулся из лагерей в свою Аджамку, окончил десятилетку и поступил на юрфак Львовского университета им. Франко. После университета работал в управлении юстиции по Закарпатской области, а дальше — сокращение…
«Из-за того, что я был угнан в Германию, меня не рекомендовали в народные судьи, не присвоили офицерского звания, хотя я сдал госэкзамен по артиллерии на «отлично» и на «хорошо» выполнил практическую стрельбу на Яворовском стрельбище. При первой же возможности меня удалили из госаппарата: там не место клейменым.
По правде сказать, я не обижаюсь. Что стоят мои переживания и невзгоды против горя и страданий миллионов военнопленных, замученных в фашистских и наших «родных» лагерях, куда они попадали после возвращения на Родину. А у меня все-таки есть специальность и работа — я адвокат».
Павел Никитович Дерунец:
«После освобождения меня зачислили в рабочий батальон, направили убирать урожай, а в ноябре 1945 года призвали в армию, хотя и говорили, что мы все изменники Родины и Сталин нас за это расстреляет. А какой я мог быть изменник Родины в 14 лет?
Смотрю на снимки «восточных рабочих» и вспоминаю те далекие годы. Пусть на нашей планете никогда не будет фашизма. Последние 30 лет работал в органах связи. Сам, без жены, воспитал троих детей, растим с ними внуков».
Нина Павловна Прохоренко, пос. Чесма, Челябинская обл.:
«Поздно вечером весточка облетела деревню Ясенки, что я с бабушкой вернулась из Германии. Мама встретила нас на лошадке. Это я хорошо помню и никогда не забуду, как мама кинулась ко мне и кричала: «Доченька, я знала, что ты живая». Но я стояла, как столбик, отталкивала маму и пригорталась к бабушке: «Ты не моя мама, моя мама была в черном платке». Мама пуще плакала и причитала, мол, вспомни, доченька, я же твоя мама, это немец проклятый нас с тобой разлучил. Долго не поддавалось детское сердечко. Мама до конца жизни не могла вспомнить, в каком она была платке, когда фашисты угнали нас.
Нашелся брат Коля — он долго скитался по лесам, чудом отыскал тетю Александру, она его приютила. Вернулся раненый отец. Строили мы себе дом без отца. Мама ведром глину носила, а мы котелочками…»
Алексеи Тимофеевич Сапсай, г. Брест:
«Несколько дней думал: писать или не писать. О чем писать? Письмо получится длинное, но как поет В. Толкунова, я не могу иначе. Прожить десятилетия после войны неполноценным человеком в своей стране — это тяжело и страшно. До войны и сразу после нее в анкетах, листках по учету кадров были вопросы: служил ли в белых армиях, состоял ли в других партиях, состоял ли в оппозиции? На эти вопросы отвечали наши деды и отцы. Для нас после войны добавились новые вопросы: был ли на оккупированной территории? Где? Когда?
Был. И не только на оккупированной территории, был в фашистских лагерях. Это не пятно в биографии, а тяжелый камень на шее на всю оставшуюся жизнь.
В 1959 году я написал заявление о приеме в партию. Коммунисты дали рекомендации, значит, поверили, собрание первичной парторганизации единогласно приняло — тоже поверили. Потом дело пошло в политотдел соединения. Секретарь парткомиссии вызвал меня одного и сказал:
— Когда во время войны освобождали оккупированную территорию, молодежь немедленно призывали в армию. Давали оружие и в бой. Погиб — искупил вину. (Какую? — думал я, слушая этого демагога.) Остался жив — повезло. Так проверяли преданность Родине.
А так как я через такое сито не прошел, то принимать меня в партию он не будет. Парткомиссия мое дело не рассматривала. Знала она об этом разговоре или нет, мне неизвестно.
Об этом я никогда и никому не рассказывал. Но воспоминания травят душу. Уже в 80-е годы я по совместительству чуть подрабатывал. Дополнительный приработок не получал, а вносил в Фонд мира. Об этом узнала студентка факультета журналистики из Минска и пришла ко мне домой поговорить, чтобы потом написать. Но когда она услышала о Германии, гут же сказала, что этот материал не пойдет. Мол, я не тот герой, который нужен. Видимо, и деньги мои неполноценные, хотя перечислял я их от всей души. Из этой исповеди, возможно, ни одна строка не увидит света. Но хоть раз я должен сказать: я честно трудился более сорока лет, не имея ни одного взыскания, получил несколько десятков поощрений. И сейчас по мере сил занимаюсь патриотическим воспитанием молодежи. Ведь я живу в Бресте, где гордо высится непокоренная Брестская крепость».
Варвара Власовна Яцук:
«Дома нашей большой, дружной семьи не оказалось. Одна сестра не вернулась из Германии, говорят, попала под бомбежку и погибла. Вторая сестра эвакуировалась вместе с заводом в Тбилиси, папа и брат еще не вернулись с фронта, а моя болезненная мамочка, взяв трехлетнюю дочку, мою младшую сестренку, уехала на Украину к бабушке. Только через несколько лет наша семья собралась вместе, но уже не все. Погибли папа и сестра, ушла рано из жизни мама. А во всем виновата война. Виновата в том, что мы не доучились, потеряли родных, свое здоровье, потеряли три года жизни. Эти годы навсегда остались рубцом в моей памяти, в моем сердце».
Анна Петровна Ворожбит:
«Нас упрекали за то, что мы были в Германии. Говорили: надо было идти в лес, а какой у нас лес, у нас поле кругом. И рожь шумит, как море. И что было удивительно: те люди, которые при немецкой власти нас отправляли в Германию, теперь упрекали. Я очень люблю свою Родину, никогда у меня не было в мыслях изменить ей. Да, из нашего села была увезена в Германию моя одноклассница. Вышла там замуж и сейчас живет в Америке, посылает домой посылки, заграничные вещи. И другие завидуют. Но я — нет. Мы вернулись домой, чтобы поднимать страну из руин, и не стонали, что нам тяжело, хотя буханка хлеба на рынке была 15 рублей, а мы получали по 300 граммов».
И. Дубровская, г. Харьков:
«Вернулась я домой осенью 1945 года. Вернулась одна. Тетя, которую угнали вместе со мной, погибла в Германии. Я сама из Оренбурга, там закончила семь классов, за десять дней до начала войны приехала к тете в Орловскую область, погостить.
Не буду писать о своем горьком детстве — отца репрессировали в 1937 году. Не буду вздыхать о послевоенных годах, сейчас у меня все хорошо. Замечательный муж, две взрослые дочери, трое внучат. И главное — теперь люди свободно дышат. Не будет у нас больше «врагов народа», ЧСИР и других «изменников» Родины. Работаю в железнодорожной поликлинике. Врач-терапевт».
Анна Трофимовна Балым:
«Пишу вам из села Павлыш Кировоградской области, известного благодаря нашему учителю Сухомл и некому. Угнали из нашего села в рабство 500 душ. И много-много могилок осталось на немецкой земле.
Вернувшись, я сразу пошла работать в колхоз. Проработала на свиноферме 40 лет. Платили мало тогда, в 50-е годы.
Пенсию получала сначала 28 рублей, потом немного подняли. Семью и детей из-за такой жизни не смогла завести. Теперь, одинокая, живу с сестрой, тоже одинокой и больной. Помогает нам соседка, но она сама инвалид III группы. Как прожить на такие деньги, когда пенсии не хватает на машину угля и дров?!»
Юрий Николаевич Тихомиров:
«После освобождения я служил в Советской Армии. Отслужив, вернулся в родной Днепропетровск. Работал на заводе, учился в Киевском университете. Был журналистом и переводчиком, пока не вышел на пенсию».
Геннадий Андреев, г. Санкт-Петербург:
«Мне было 15 лет, когда увезли на принудительные работы. С тех пор прошло много времени. И чем старше я становлюсь, чем ближе конец жизни, тем острее чувствую обиду. И, если быть откровенным, даже злюсь за ту встречу, которую нам уготовили дома.
Сталинские «рыцари без страха и упрека» встречали нас как потенциальных врагов. Сначала шли допросы при особых отделах, затем во «Временное удостоверение личности» (его выдавали вместо паспорта) вписывали, что «выдано на основании справки о прохождении фильтрации». Эта фраза ограничивала места проживания и передвижения. У многих, в том числе и у меня, жизнь, не успев начаться, оказалась исковерканной. Большинство даже боялись говорить о том, что были в Германии. Трудно, а то и невозможно было поступить учиться, некоторых не принимали в комсомол. Недоверие и подозрительность окружали нас.
Хочется спросить: думает ли кто-нибудь теперь исправить, а точнее, компенсировать зло, причиненное тысячам людей, вся вина которых состояла в том, что оккупанты их увезли на принудительные работы? По этому счету нужно расплачиваться. Время идет. И все меньше остается в живых тех, кто, вернувшись на Родину, подвергался необоснованным репрессиям».
Петр Семенович Герасимов, г. Мариуполь, Донецкая обл.:
«Мы возвращались домой. Казалось бы, мучения наши кончились, но не тут-то было. На границе в каждый вагон вошли по два бойца-пограничника с автоматами и, назвав нас изменниками Родины, сказали, что при попытке к бегству будут стрелять без предупреждения. Из Выборга нас увезли в лагерь за колючей проволокой, где мы проходили так называемую госпроверку. Только в ноябре дали мне работу в леспромхозе в Новгородской области. Опять же с клеймом незаслуженным — изменника Родины и без права выезда. Никаких условий жилья, голодный паек.
И я решил в 1946 г. самовольно уехать в родной мне Мариуполь. Но не тут-то было. Меня арестовали и осудили за «самоволку» на 5 лет. Но в 1948 г. освободили. И я устроился на завод «Азовсталь» в рельсобалочный цех вальцетокарем. Правда, и здесь клеймо изменника долгие годы висело над головой.
У меня хорошая семья — дочь Лена окончила Харьковский университет по химии, замужем за военным, растят двоих детей. Сын Вова окончил военную академию, у него тоже двое детей. Я и моя жена, Анна Афанасьевна — пенсионеры, ветераны труда. Я еще помогаю на родной «Азовстали» готовить молодых людей по своей профессии вальцетокаря, награжден медалью, почетными знаками победителя соревнования за многие годы.
А сейчас ответьте мне, пожалуйста, если можете, зачем навешивали на нас ярлык изменников? Видимо, с этим ярлыком и номером 171 375 я и помру?»
Да, многие рабы рейха возвращались на родину не сами по себе. Из них формировали рабочие батальоны и, не спрашивая согласия, отправляли на заводы, шахты, стройки.
18 сентября 1945 года Оргбюро ЦК ВКП(б) поручило парторганизациям проверить на местах подготовку к зиме жилых домов, промышленных предприятий и коммунально-бытовых учреждений.
Сталинград, завод «Баррикады». Более 2000 рабочих и служащих живут «во временно приспособленных помещениях, в том числе в подвалах — 192 человека, в блиндажах и землянках — 230 и в полуразрушенных зданиях— 1846 человек». Женское общежитие. На 240 работниц «имеется лишь 4 стола и 15 табуретов. Топливо, как правило, хранится в комнатах». Завод № 264, комната № 4. «Рабочие спят, одевшись, укрывшись сверху грязной спецодеждой. Имеются случаи завшивленности».
Тракторный завод. 1500 репатриированных рабочих размещены в прачечной и школе № 4. Более тысячи рабочих с семьями проживают в подвалах жилых домов № 504, 536, 513, 517 и других. В блиндажах, сараях и землянках живут 138 рабочих с семьями».
Справку, из которой я привел лишь некоторые факты, направил в Москву и. о. заместителя уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Сталинградской области Цвиклист. Буквально через несколько дней последовала реакция: секретарь ЦК ВКП(б) Маленков «записку т. Цвинклист направил в Госплан СССР товарищу Вознесенскому, Совмин РСФСР товарищу Косыгину, Главснаблес т. Лопухову…» Дальше перечисляется еще десяток ведомств, говорится, кому что поручено и какие меры приняты.
Много лет еще эти документы были закрытыми и мало кто знал о рабочих батальонах, об эшелонах репатриируемых. Эти люди были словно исключены из общества, а их судьбы запечатаны в архивах под грифом «Совершенно секретно».
«Прибывшие на 1 января 1946 г., согласно постановления СНК СССР, в Главсталинградстрой 11 263 рабочих (из числа репатриированных) размещены в наскоро приспособленных помещениях с большой скученностью, — говорится в справке, адресованной из Сталинграда председателю КПК при ЦК ВКП(б) А. А. Андрееву 11 января 1946 года. — В общежитии установлены 2-х и даже 3-х ярусные нары. Постельных принадлежностей недостает (одеял и белья почти нет). Теплой одежды и обуви многие не имеют. Дисциплина у них очень низкая, а необходимая систематическая политико-воспитательная работа почти не проводится. В связи с этим ежедневно в среднем на работу выходят лишь 3600 человек». (РГЛНИ. Ф. 6. On. 6. Д. 603. Л. 23–24).
Вот о чем думается, когда читаешь эти и другие документы, запечатанные на десятки лет в архивах. От кого таились? От ребят, попавших с немецких нар на советские? От сталинградцев, минчан, воронежцев? Так люди сами видели, в каких условиях живут их напарники? От властей? Но и власть сама — партийный аппарат, советский — добивалась, чтоб условия жизни репатриантов, наших сограждан, ни в чем не повинных ни перед страной, ни перед строем, стали хотя бы сносными. Может быть, ответ в том, что кремлевскому хозяину, который продиктовал постановление Совнаркома Союза о репатриации и разделил репатриантов по наркоматам, видел в них только безликую рабочую силу? Одной из черт крепостнической России Василий Ключевский считал невольный обязательный труд крестьян в пользу государства. Похоже на годы, о которых мы говорим, если добавим к крестьянам рабочих?
Галина Николаевна Мазниченко:
«В августе 1945 года я вернулась домой, в родные места, но было трудно там жить, все вспоминалось. Да и люди, которые продавали душу и совесть фашистам, жили там, такие везде пристроятся. Я не могла спокойно жить и видеть их постоянно. Это было сверх моих сил. И я завербовалась на Камчатку, где проработала до пенсии. Имею двоих детей: дочь и сына, внучку и внука».
Анна Меланин, г. Гайсин, Винницкая обл.:
«Как уехала из дома, так и пропала, ни писем, ни телеграмм. Ничего, ничего родные не знали, где я, живали. И вот иду я с вокзала, а улица у нас прямая и длинная. Я иду, а из ворот люди выходят, то с тем задержусь, то с другим. А наш дом в конце улицы, маме кто-то передал, что Аня приехала. Мать, вижу, выбегает из ворот и кричит, и все на себе рвет от радости. Они с братишкой считали, что меня уже нет на свете. Приехала я слабенькая, худенькая, стриженая. Так что ждала, чтобы волосы выросли и немного окрепнуть. Тогда с братишкой и сфотографировались уже в 1946 году. Посылаю вам фотографию, там у меня на левой руке виден мой номер — 48 307, а моя девичья фамилия Городецкая».
Евгения Васильевна Коноблева, г. Воронеж:
«Меня угнали в Германию еще девчонкой, вместе с мамой, папой, братишками десяти и четырех лет. Наверное, мы были последним эшелоном невольников из-под Ленинграда. Наши подошли близко, по ночам пушки слыхать, а нас запихнули в «телятники» и повезли в Неметчину. Поселили за колючую проволоку, в бараки. Там двухъярусные нары из конца в конец. На работу, с работы — колонной, под конвоем автоматчиков с овчарками. Работали на заводе по 12 часов. Меня поставили к конвейеру красить какие-то детали. Мажешь-мажешь эти проклятые железки, аж руки отваливаются и в глазах темнеет. Кормили только работающих, детям мы от своих паек отделяли. Для получения баланды и хлеба давали талоны. Напечатали их немцы еще в 1936 году. Все предусмотрели, даже систему кормления невольников.
Легко представляю, что бы они сделали с нами, если бы победили нас. Половину сразу удушили бы в газовых камерах, остальных превратили бы в рабочий скот. Вот «такая жизнь, как в ФРГ», ждала наших болтунов. Скорее всего они и на свет не появились бы.
Сколько лишений перенесли, подняли сразу страну из угольков. Работали, растили детей, берегли старость родительскую. Роскоши не нажили, но и не бедствовали, как сейчас. За кусок хлеба душа не болела».
Ольга Стефановна Слободич, д. Углы, Гомельская обл.:
«Я, бывшая рабыня фашистской Германии, тоже решила написать вам о себе. Угнали нас, белорусских девочек, из деревни Старый Дробин Могилевской области в Германию в конце октября 1942 года.
Домой мы вернулись лишь 17 июля 1945 года. В 1947 году осенью я закончила сельхозинститут. 20 лет проработала агрономом в колхозе им. Энгельса. Только на родине я приобрела свое счастье, я полноправная гражданка своей родины».
Вера Кушнарева, Башкирия:
«Вернулась на Украину в сорок пятом. Город разрушен, школа, в которой училась, разбита, в ней стояли немецкие лошади. Школу восстанавливали все, кто возвращался из Германии. Жить было тяжело, но зато я получала 800 граммов хлеба.
В 1950 году меня арестовали и предъявили статью за сотрудничество с оккупантами. Без суда вынесли приговор: 25 лет лишения свободы и отправили в лагерь в Мордовскую АССР. Просидела пять лет ни за что. В 1979 г. меня реабилитировали. Имею двух детей, четверых внуков.
Я и во сне боюсь видеть пережитые ужасы. Раза три мне приснился тот черный эшелон, рынок рабов, германская каторга — и я никак не могла поверить, что это только сон. Ой! Как мы только все пережили, как вынесли?!»
Лев Петрович Токарев:
«Я просился служить в армии, но мне твердо сказали: нет, сынок, хватит с тебя и трех лет в Германии. Поезжай домой, ищи родных, может, живы… Определили меня в роту, где тоже было несколько подростков. Двое из них — участники французского Сопротивления, один даже награжден французской медалью. Оба были из-под Ленинграда.
В санитарном поезде мы вернулись в родной город. По дороге видели разрушенные города, сожженные села, многолюдные «барахолки» на вокзалах. Уезжали мы из дома четырнадцатилетними мальчишками, а возвращались подростками, которые много повидали на дорогах войны.
Нашего дома я не нашел — он был разрушен. Бросился искать тетушек, а вечером был уже рядом с мамой. Тяжело ей было пережить блокаду… А вот о дедушке и бабушке никто ничего не знал… Если бы я уклонился от угона в Германию, то, конечно, сумел бы помочь старикам, знал бы о их судьбе. Эти мысли и сегодня не дают мне покоя.
Я редко бываю в родном городе. Мне тяжело ходить по улицам, где прошло мое детство, и не встречать родных и знакомых лиц. В ноябре 1945 года вернулся домой отец. Он тоже был в плену, вернулся неизлечимо больным. Восемь лет провел в госпиталях, борясь с туберкулезом, в марте 1953 года его не стало. Потом умерла мама — сказалась блокада. Война отняла у меня не только детство, но и моих родных, близких. Вот с такими потерями, как и многие миллионы советских людей, я вышел из той страшной войны. Будь она проклята!»
Анатолий Иванович Братинко:
«После войны привезли нас в Магнитогорск и объявили, что уезжать отсюда не имеем права. Но я через год решил бежать в родные места, на Дон. Меня схватили, и военный трибунал дал восемь лет. В заключении я пробыл год и 4 месяца и был освобожден. Сейчас пенсионер, награжден медалью «Ветеран труда»».
Елена Алексеевна Веселова, г. Санкт-Петербург:
«В Германию нас угнали всей семьей — мать, отца и меня. Мне было тогда 13 лет. И когда гнали нас на станцию, мама и сестра держали меня за руки, чтобы я не упала.
В лагерях вместе с нами находилась и семья маминого брата с женой и сыном. Он перенес весь ужас немецких лагерей, а погиб дома в 1946 году, взорвался на немецкой мне, когда пас корову.
Домой мы приехали в 1945 году, а дома нет. Нет отца и его братьев, все четверо погибли на фронте.
Живу я в Ленинграде в коммунальной квартире без горячей воды, пять человек в одной комнате 23,75 кв. метров, сын с женой, внучка 8 лет и внук 3 года. Муж умер в 1990 году в августе. Прошло много лет, но все не забываются лагеря, баня смерти и страшные бомбежки, когда в одно мгновение рушились дома. Если можно мое письмо переслать в Германию, перешлите, пусть знает новое поколение немцев, что делали там с нами».
Мария Ивановна Левцова, пос. Алмазный, Ростовская обл.:
«Вы пишете, что тема «восточных рабочих» мало раскрыта. Это очень верно сказано. Но кто же вам ее сможет раскрыть, если не мы — те, кто провел в лагерях три с половиной года, а некоторые даже четыре?! Но ведь мы молчали до самых последних лет, потому что в то время, когда мы вернулись на родину, нас считали чуть ли не изменниками Родины.
Вернувшись на Родину, я написала во Всесоюзный розыск, чтобы найти своих родных. Ответили, что их судьбу установить не удалось. И живу я сейчас в поселке в развалюхе с дочкой и внучкой, небогато, конечно, по нынешним временам даже бедно, но как подумаю, что я пережила за свою долгую жизнь, радуюсь и этому. У меня четверо детей и шесть внучат, но про свою лагерную жизнь я даже своим детям никогда не рассказывала. Молчала об этой своей прогулке в Германию».
Петр Семенович Павелко:
«До сего времени самым тяжелым днем в моей жизни является День Победы. Казалось бы, надо радоваться — такой праздник! Но для меня этот день полон печали и тоски. Ведь нас презирали, когда мы вернулись на Родину. Нам не дали возможности учиться там, где хотелось. Нас сформировали в отдельные рабочие батальоны. Без рукавиц в зимнюю стужу ломали и кирками рыли котлованы, траншеи. Вот эта боль не утихает. Призабудешь все, а День Победы напоминает о прошлом. Ты, друг, воевал, тебе почет, тебе митинг, песня. А что я? Кто меня вспомнит? Кому нужны эти годы, эти муки, прожитые без имени, под номером. Был «восточным рабочим», стал репатриантом, другого слова для тебя не нашлось. Вот почему День Победы так тяжел для меня. Мне не с кем поделиться той каторгой, что я прошел, и я замыкаюсь в себе. А сейчас хочу рассказать, может быть скину с души свой груз.
Я, Павелко Петр Семенович, родился в 1926 году в селе Малая Круча Пирятинского района Полтавской области. Сейчас живу в Лубнах. Отец мой, Семен Яковлевич, был председателем колхоза, нас было пятеро детей, бабушка, мать и отец. Отца Пирятинский райком партии оставил для подпольной работы. В сорок втором его расстреляли фашисты. А скоре староста с полицаем приказали мне собираться в Германию…»
До войны Рая Толстых жила на станции Комаричи в Брянской области. Первая картина войны — расстрел советских военнопленных, захваченных в их поселке. 22 марта 1942 года подростков начали сгонять на сборный пункт.
«Я взяла документы, они хранились у нас в коробочке, но полицай, гад, свой, выхватил из рук и бросил в огонь:
— Это вам за Советскую власть и за то, что вы — семья партизан.
Наш отец был партизаном еще в ту войну, в гражданскую. Умер в тридцать третьем году. И вот вспомнили о нем.
Я пишу, а в горле ком, плачу, не могу без боли все это вспоминать».
Оставим в стороне дорогу в Германию, выматывающие душу смены — все это, как у других, у всех, кого «истребляли работой». Перенесемся к счастливой минуте возвращения домой:
«Радость наша быстро остыла. Нас везде допрашивали целыми днями: зачем вы поехали в Германию работать на немцев? И никто не слушал, что нас, детей, подростков, увезли фашисты. Целый год нас держали в лагере военнопленных. Лагерь был на берегу Немана, из реки мы брали воду и варили три раза в день овсянку. В конце концов отправили меня на лесоразработки в Сибирь. Баржи грузили на Иртыше. Словом, отбывали наказание и в Германии, и в России».
Борис Николаевич Старинов, москвич, родился в 1919 году, в сорок втором в боях под Вязьмой попал в плен. Из лагеря отправили на шахту. Немец-бригадир разговаривал с ним «только ногами и руками, пинками и толчками, до слов с «недочеловеком» не унижался». Бежал во Францию, воевал в отряде французских партизан. После освобождения вместе с друзьями решил, как написал после войны, «пробиваться на Родину всеми доступными нам средствами».
«Ранним туманным утром мы подходили к Одессе. Берега не было видно — все окутано плотной пеленой тумана. Пароход подавал гудки, требуя лоцмана. Наконец, лоцманский катер выскочил из туманной пелены и пришвартовался к нам. Мы слушали, что на Родине было трудно не только с продовольствием, но и с куревом. Товарищи бросили на палубу катера несколько пачек американских сигарет (впоследствии мы узнали, что они стоили на черном рынке очень дорого). Матросы на катере выглядели неважно, были угрюмы, но работали быстро и сноровисто.
При виде сигарет они несколько оживились, но под пристальным взглядом офицера как-то сникли, и один из них с демонстративным безразличием сбросил сигареты за борт. Так тяжело было это видеть. Товарищи, которые хотели угостить матросов, обескураженные, отошли от борта…
На палубу поднялся наш офицер в черном бушлате. Вот он — советский моряк — первая ласточка с родного берега! Все бывшие на палубе, кричали, приветственно махали матросам катера, поднявшемуся на палубу офицеру-лоцману. Но… холодное равнодушие было нам ответом, нас будто бы и не замечали. «Вот оно — начинается!» — заметил кто-то. Все заметно приуныли — это было недоброе предзнаменование.
Когда туман рассеялся, мы уже были у берега, и наш пароход пришвартовался к пирсу пассажирского порта Одессы. На берегу нас встречали… Такой встречи мы не ожидали… Подразделение солдат с примкнутыми штыками на винтовках и духовой оркестр, вяло игравший марш. В стороне стояла небольшая группа любопытных горожан Одессы.
По одному мы спускались по трапу на пристань. Каждый нес с собой белые мешки-багажники английских солдат с нашими вещами. Играл духовой оркестр, но лица встречавших были суровы и неприветливы… Уезжая из Египта, мы забрали с собой все, что было можно и в том числе много продуктов, оставшихся на складе в нашем лагере. Их раздавали нам, кто что желал.
На пристани нам приказали все продукты складывать в кучу. «Пойдет в госпиталь», — объяснили нам. Никто против этого возражать и не думал, и скоро у причала образовалась большая пирамида из больших и маленьких банок консервов, мешочков с кофе, какао, вермишелью и макаронами, сахаром, коробок с галетами и другими продуктами.
Нас сразу построили в колонну и под конвоем повели в город. А мы могли ведь идти и в строевом порядке — на Родину приехал сплоченный, дисциплинированный полк, и о его состоянии знали, конечно, сопровождавшие нас офицеры из миссии.
Мне вспомнилось, как недвусмысленно улыбались члены экипажа нашего парохода, наблюдая всю эту «торжественную» встречу, и стало до слез обидно!
Мы шли по улицам, по сторонам нас сопровождали конвойные солдаты с винтовками наперевес с примкнутыми штыками! А на тротуарах редкие прохожие удивленно смотрели на эту необычную процессию.
Еще совсем недавно моя рота триумфально шагала по улицам Каира. А сейчас мы шли грустные, подавленные и растерянные. Нас провели через весь город, поместили в казармах. На проходной поставили охрану — выходить за пределы казармы было категорически запрещено.
Нам объявили, что мы должны пройти госпроверку, и для этого нас повезут в Башкирию, где определят степень нашей виновности — каждый получит по заслугам. Нерадостная перспектива ожидала нас, но гак как большинство из нас не чувствовали за собой вины, сообщение это не убавило нашего оптимизма.
После довольно длинного пути (подолгу стояли на разъездах) нас разгрузили на станции Алкино, недалеко от Уфы. В 1941 году я выехал на фронт из-под Тамбова и через Белоруссию, Литву, Германию, Францию, Италию, Египет вновь возвратился почти в то же место. Но уже совсем другим человеком, хотя прошло всего пять лет!
В нескольких километрах от станции нас привели в большой лагерь, окруженный колючей проволокой. Вернее было бы назвать его лагерным поселком, так много лагерей было здесь. Они образовали улицы и переулки, только колючая изгородь да сторожевые вышки говорили об их мрачном назначении.
Разместили нас в больших землянках с двойными нарами по несколько сот человек в каждой землянке. Каждый день заставляли делать не очень полезную работу, вроде перетаскивания саманных кирпичей, дабы не возникали в безделии черные мысли и расходовалась накопленная энергия, пускай работа и не представлялась полезной.
Да, лагерь этот, конечно, не сравним был с гитлеровским. Но угнетала потеря свободы после возвращения на Родину, ощущение своей беззащитности. Некуда было бежать… Приехали!
Товарищи в моей роте с сарказмом напомнили мне мои обещания: «Где же твои девушки с цветами, лейтенант? Что-то их не видно. Твое счастье, что ты разделяешь с нами наше торжество за колючей проволокой…»
Тяжело было слушать упреки товарищей, но я их понимал. Не ожидали мы, конечно, такой ситуации, но я вспомнил слова представителя военной миссии майора Чайничкова, сказанные мне в личной беседе: «Для нас сейчас главное — вывезти всех на Родину, а там разберемся, кто есть кто». Вот и настало время разобра…
В каждом секторе лагеря работала так называемая госпроверка — много военных следователей-«особистов». Вызывая на допрос, некоторых водили под конвоем даже в туалет…
Недели через две вызвали и меня. Оперуполномоченный дотошно допрашивал о всех моих мытарствах. «Имеются ли свидетели, что работал на каторжных работах в плену и совершал побеги?» — спросил он меня в конце допроса, длившегося не один час.
— Попытаюсь найти, если удастся, — с сомнением ответил я, представив себе трудность поисков в многотысячной массе вернувшихся на Родину товарищей.
— Постарайся найти — это решит многое, — многозначительно сказал он, отпуская меня после допроса.
И начались поиски свидетелей. Каждый лагерь сообщался с соседним коридором, по которому можно было пройти в дневное время, ночью они запирались. Переходя из одного лагеря в другой, я искал знакомых, присматриваясь к окружающим — это было словно на базаре: все ищут или свидетеля своих мучений, или виновника их, или, может быть, просто своего недруга. Всякие были и среди нашего брата…
Среди нескольких тысяч людей очень трудно было найти знакомых и именно тех, которые тебе нужны. Но мне повезло, я встретил парня, с которым работал на шахте «Пальруа». Он бежал с шахты, но вернулся обратно, не найдя опоры у населения.
К сожалению, я сейчас не помню его фамилию, как, впрочем, и других товарищей по шахте; мы называли там друг друга по именам и о биографиях не расспрашивали. Но он сделал мне большую услугу, согласившись подтвердить мою работу на шахте. Он вспомнил и мой побег с шахты и согласился это подтвердить.
На очередной допрос нас вызвали обоих, и мое алиби было установлено. На мое счастье, я попал к следователю, который сочувственно отнесся к моей судьбе и не отобрал мои французские документы, подтверждавшие мое участие во французском Сопротивлении добровольцем — обычно у всех отбирали все иностранные документы. Я был благодарен ему за это — он сохранил мне дорогую память! В 1957 году на основании этих документов я получил орден Отечественной войны. А мои товарищи по Сопротивлению не получили наград — не было формального обоснования! Вот так: воевали вместе, а результаты неравнозначные. Такова сила бумаги!
Мой следователь (очень сожалею, что не знаю его фамилии) оказался дальновидным и порядочным человеком. Отдавая мне документы, он сказал на прощание: «Возьми свои документы, они тебе еще пригодятся!» А ведь он шел на служебное нарушение!
Вскоре после допроса меня перевели в запасной полк, откуда мы надеялись отправиться на фронт. Но уже скоро мы праздновали радостное известие об окончании войны! Кончились наши скитания по свету! Скоро домой! Но рано было радоваться…
Нас погрузили в товарные вагоны, и эшелоны заспешили на юг. Миновали руины Волгограда, Махачкалы, и вот конечная цель нашего «путешествия» — центр нефтепромыслов, столица Азербайджана — город Баку.
Но эшелон остановился не у вокзала, а на каком-то полустанке, где нас ожидало множество представителей разных ведомств. Они выкрикивали, надрывая голоса, нужные им специальности и отводили в сторону тех, кто отзывался.
Я был учителем, но учителя никому не требовались. Выкликали слесарей, токарей, электриков, телефонистов… В армии я был связистом… И здесь пошел линейным связистом. Это было не самое худшее. Правда, в условиях неустойчивого климата Апшерона и твердой каменистой почвы приходилось копать ямы для телефонных столбов, и при почти постоянных, сильных ветрах, несущих шлейф мелкого песка и пыли, болтаться на «кошках», когда тебя насквозь продувает холодный ветер.
Я пробовал хлопотать о работе по своей гражданской специальности — ведь война кончилась! Но ничего не вышло.
— Вас прислали сюда, чтобы вы работали там, где нам нужны, а учителя сейчас не нужны, — сказали мне.
Нас разместили в общежитии, выдали ватные телогрейки, брюки, ботинки и шапки-ушанки, рабочие карточки и установили заработную плату, соответствующую «отовариванию» карточки, питанию в рабочей столовой. Но нам не дали никаких документов — сказали, что это не имеет значения. «Вас же возят на работу, привозят в общежитие, а в городе ни у кого не спрашивают документов».
Правда, я пытался получить хотя бы удостоверение личности. Обратился в управление Азнефтекомбината. Мне сказали, что мы числимся за КГБ, а там сказали, что нас передали в управление Азнефтекомбината. Круг замкнулся.
Целый год мы с товарищами долбили ломами каменистую почву под опоры телефонных линий, исправляли обрывы проводов, а при сильном ветре не только рвались провода, но и столбы валились под его напором.
Сидя высоко на раскачивавшемся от ветра столбе, вернее, стоя на «кошках» и держась на поясном ремне, мы вворачивали изоляторы, закрепляли на них провода. Я думал о том, как извилист жизненный путь человека, куда только не бросает его судьба!
А дома меня с нетерпением ждали! Считали без вести пропавшим, и вдруг в конце войны я подаю о себе весть! В Баку ко мне приехал брат Миша, инвалид Отечественной войны, бывший командир разведроты, четыре раза лежавший в госпитале после ранений! Он приезжал ко мне и в Алкино, когда я уже прошел госпроверку и находился в запасном полку, приехал и теперь. Счастью моему не было границ! Но свидание наше было недолгим. Брат оставил мне свое офицерское обмундирование и обнадежил меня тем, что есть возможности вернуть меня в Москву.
Но вернуться в Москву было очень сложно. На самолет без паспорта билета не давали, а на поезде в пути всех пассажиров проверяла опергруппа.
В Москве нашлись добрые люди, мне прислали телеграмму, отзывающую меня в распоряжение нефтяного института. Это было, конечно, только предлогом. Но телеграмма была на бланке с грифом ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ, и я решил воспользоваться этим».
Между тем в сентябре 1946 года Совет Министров СССР (наркоматов уже не было) принял постановление № 2220, посвященное репатриантам:
«Установить, что на репатриантов — бывших военнопленных и военнообязанных, переданных из рабочих батальонов в постоянные кадры предприятий и строек, полностью распространяется действующее законодательство о труде, а также все права и льготы, которыми пользуются рабочие и служащие соответствующих предприятий и строек».
В почте, адресованной генералу Голикову, мне встретилось письмо из Ржева. Писала Вера Федоровна Соколовская, мать двух дочерей — семи и девяти лет. После немецких лагерей она вернулась во Ржев, поступила на льночесальную фабрику, получила и угол. «Но жить одной с двумя детьми без вещей, одежды и белья я не в состоянии. Дочь 9 лет не имеет возможности посещать школу — нет обуви, белья и одежды.
Я убедительно прошу Вас дать мне возможность переехать к матери (здесь и далее выделено авт. — В. А.) в Горьковскую область, село Вареж. Там я могу найти приют для себя и детей и иметь возможность послать дочь в школу, которая уже пропустила 3 года. Здесь я неоднократно обращалась в гороно, но девочка вне школы. Я не могу отнестись к этому равнодушно и считаю преступлением держать ребенка вне школы, но я сама ничего не в силах предпринять.
Еще раз прошу Вашего разрешения на переезд к матери. Муж мой был в РККА, а сейчас сведений о нем нет никаких».
В архивной папке нет копии ответа генерала. Неизвестно, ушла ли во Ржев отписка или дали Вере Соколовской и ее дочкам вольную…
Компенсация
Надя Сысоева вернулась с немецкой каторги в ноябре 1945 года. Подошла к родному порогу в рваных мужских ботинках и потрепанном ватнике. «Было мне 18 лет, а образование — пять классов. Лучшие годы отняла неволя, но я радовалась, что осталась жива, — пишет Надежда Николаевна из подмосковного города Клина. — Считаю, что Германия должна выплатить мне за принудительный труд хотя бы небольшую компенсацию. И не только потому, что каждая копейка для меня, инвалида, не лишняя. Это ее моральный долг перед нами».
К концу 80-х — началу 90-х годов прошлого века, когда в Советском Союзе лишь начинали вслух говорить о компенсациях жертвам фашистского террора, граждане многих других стран такие выплаты уже получали много лет. Германия платила им за потерю родных и близких, за ущерб физическому состоянию и здоровью, за лишение свободы и утрату собственности, за принудительное прерывание профессиональной или предпринимательской карьеры и неполучение выплат по страховым полисам и индивидуальным частным пенсиям… Не были забыты жертвы «медицинских» опытов, которые масштабно проводились в гитлеровских концлагерях… Предусматривалась компенсация за уменьшение трудоспособности и ношение еврейского знака — шестиконечной звезды…
Все правильно, все по закону, по международным соглашениям Германии, а с 1959 года и Австрии, с Англией, Францией, Бельгией, Данией, Израилем, Голландией и другими странами. К примеру, по договору ФРГ с Израилем Германия выплатила 3,5 миллиарда марок. А что же досталось тем, кому исковеркал жизнь знак OST?
До начала 90-х годов — ничего! Переговоры между ведомствами иностранных дел СССР и ФРГ о возможных выплатах советским гражданам за принудительный труд на рейх начались только весной 1991 года. Почему не раньше? Причин много. Назову лишь одну. Как известно, Нюрнбергский процесс квалифицировал насильственный угон и принудительные работы как беззаконие нацистского режима. Но в 1953 году в Лондонском соглашении о долгах правительство ФРГ сумело утвердить иное определение, подвести принудительные работы под репарационное право. А переговоры о репарациях ставились в зависимость от подписания мирного договора. Было немало и других, дипломатических, юридических проблем — о них подробно говорится в монографии П. Поляна «Жертвы двух диктатур»; отсылаю к ней тех, кого тема компенсаций интересует подробнее.
Эксперты искали приемлемые для всех сторон формы соглашения, а «восточные рабочие» все ждали справедливости.
Лидия Константиновна Завгородняя, г. Киев:
«Документов о пребывании в Германии никто на руки не выдавал, да и кому они в то время были нужны?! По возвращении из Германии одно упоминание об этом вызывало отказ в приеме на работу».
Любовь Ильинична Огурцова, Воронежская обл.:
«Вот я прочла в газете, что Германия будет выплачивать нам компенсацию, а кто нам вернет наши юные годы, отнятые каторгой?»
Анатолии Тимофеевич Педин, г. Азнакаево, Татарстан:
«Называю координаты города и лагеря, куда нас привезли, а также название фирмы, имя хозяина, где мы работали. По школьному атласу это, вероятно, одна из земель ФРГ — Рейнланд — Пфальц на реке Рейн. В этом небольшом городе есть железнодорожная станция одного с ним названия — Плайт и фирма «Пингер». Это, кажется, и имя самого хозяина, и название его фирмы, где мы работали в неволе.
Насколько я сейчас понимаю, свое дело этот хозяин начинал почти с нуля. До нашего приезда здесь уже была небольшая группа наших военнопленных. С нами стало около 30 человек.
Фирма «Пингер» производила из местного морского ракушечника и цемента кирпичные блоки и панели для строительства и заполнения каркасов стен домов. Выжимая за два с половиной года из нас все, что только было можно, фирма стала крупным процветающим предприятием. Союзники бомбардировали города Рура, и продукция фирмы пользовалась громадным спросом. Ежедневно мы отгружали несколько вагонов. Работали бесплатно по 10–11 часов 6–7 дней в неделю — за жалкие харчи.
В июне 1945-го нас репатриировали в Советскую зону оккупации, в город Торгау, где наши войска встретились с американцами. Потом, осенью, добрались до Родины, до города Гродно. Из Гродно по вербовке приехал в Уфу на строительство нефтезаводов, а с 1948 года работал в нефтяной промышленности Татарии, в городе Азнакаево. Заочно окончил финансово-экономический институт в Казани. Сейчас на пенсии. Здоровье серьезно пошаливает. Мое материальное положение сложное, но я оптимист.
Думаю, справедливость в конце концов восторжествует и ФРГ выплатит нам, остарбайтерам, компенсацию за моральное унижение и физический ущерб нашему здоровью. Эксплуатировали нас, не жалея, работали мы по 65 часов в неделю, за год это давало около 3400 часов, а за 2,5 года 8500. Это почти в два раза больше, чем годовой баланс рабочего времени в Германии сегодня, который составляет 36–38 часов в неделю и 1900 часов в год».
Долго тянулись переговоры, но в конце концов, российские и немецкие, российские и австрийские власти подписали соглашение о выплатах — компенсациях «восточным рабочим». В Москве специально для этих целей был создан Фонд взаимопонимания и примирения. Собрал фонд списки, проверил документы и в один прекрасный день в смоленскую деревушку Плиски, Елене Алексеевне Ивановой пришла казенная бумага — приглашение. Просим-де лично явиться в Смоленск «для получения компенсации, перечисленной от имени правительства Федеративной Республики Германии».
Вместе с бабой Леной тот путь ранней зимой 1998 года проделал журналист «Рабочей трибуны» Александр Чудаков. А потом рассказал в газете о путешествии шестнадцатилетней смоленской девушки в Германию, о немецкой каторге. И о том, как в Смоленском облсобесе Елене Алексеевне Ивановой под музыку вручили триста немецких марок. Компенсацию. За годы каторжного труда, за голод, побои, унижения, за ежедневное «руссиш швайн». А перед этим еще пару часов пришлось постоять в регистрационной очереди, среди таких же старух и стариков, собранных со всей Смоленщины.
А потом чередой пошли горькие весточки: напали на стариков прямо у сберкассы, вытрясли в поисках злосчастных марок весь дом, нашли в квартире задушенную бабушку…
Это случилось в феврале 2004 года в Запорожской области, через 60 лет после освобождения из фашистского рабства. Елене Петровне Гавриленко платили за искалеченную молодость по 600 евро в месяц — фантастические деньги для нынешней Украины. Внук позарился…
Пережила Елена рабство, вырастила сына и дочку, вынянчила внука — думала ли, что на погибель себе?!
— Почему я там не сгинула?! — выкрикнула она в последнем отчаянии. Но внучок, занятый пересчетом купюр, ее не слышал.
Валентин Эдуардович Тылтынь прислал мне письмо из Риги, где он, гражданин России, сейчас живет. Родился Валентин в городе Любани, Ленинградской области в 1928 году.
«24 апреля 1942 года пришел к нам домой молодой немецкий офицер и спросил, где мать. Мама в это время была в церкви. Офицер послал меня за ней. Когда я передал маме это распоряжение и выходил из церкви, один раненый солдат с перевязанной рукой дал мне буханку хлеба. Это было целое богатство! Мы уже привыкли к бомбежкам, а вот к голоду, оказывается, привыкнуть нельзя.
С хлебом я побежал домой. Немец-лейтенант накинулся на меня с хлыстом: где украл буханку? Я ему объяснил, но он не поверил. А потом сказал: «Скоро много хлеба будешь есть — завтра едешь в Германию». Но в Германию мы не попали.
Нас с мамой отправили батрачить на хутор к латвийской семье. Мать работала в поле и на ферме. Я пас скот: 14 коров, 6 телят, 18 овец. Доставалось и летом, и зимой — всех накормить, навоз убрать, на поля вывезти.
Той же осенью в это хозяйство привезли пленного — моего земляка Колю. Это был живой труп — кожа да кости. Батрачил он недолго — кулаки все жаловались немцам, что пользы от такого доходяги нет. И Колю увезли. А взамен дали другого пленного. Это был такой же скелет, лет пятидесяти, артиллерист, сержант, родом из Казахстана. Плен и рабство он переживал очень тяжело. Дома у него остались пятеро детей. Вряд ли они дождались отца — его, как и Колю, тоже увезли немцы».
После войны Валентин Эдуардович стал монтажником, строил в Прибалтике мосты, электростанции, заводы… Стал оформлять пенсию — два с половиной года работы на кулаков не учитывают. «Есть заверенные показания свидетелей, есть много живых свидетелей, — пишет он, — но с их показаниями никто в Латвии не считается. Здесь льготы дают только тем, кого в советское время вывозили. Или тем, кто воевал против русских».
Геннадий Николаевич Селезнев, председатель второй и третьей Государственных Дум, ныне независимый депутат Госдумы, лидер партии Возрождение России:
— Деревню под Ленинградом, где жила огромная бабушкина семья — 14 детей — немцы оккупировали в сентябре 1941 года. Всех угнали в Латвию батрачить на кирпичном заводе, а когда вернулись после освобождения, деревня была сожжена, долго жили у дальних родственников. И это не частный случай. Забывать об этом нельзя.
Право, есть над чем задуматься. Карта рабства, как я уже писал, не ограничивалась Германией. Теперь ясно, что к ней надо добавить и Латвию, и Литву, и Эстонию. В советское время об этом, понятно, молчали. В угоду идеологическим клише поминали латышских стрелков времен Октябрьской революции и Гражданской войны и старательно обходили кровавую историю легионов СС, сформированных в Прибалтике. Зато «верные солдаты фюрера» и сейчас не расстаются с прошлым.
Весной 2004 года в Лейпциге проходила очередная международная книжная ярмарка. Там отметилась и госпожа Кальнисте, экс-министр иностранных дел Латвии. Она рассуждала о тождестве нацизма и коммунизма. Прервав ее злобствования, зал демонстративно покинул Соломон Корн, заместитель председателя Совета еврейских общин Германии. «Когда я слышу, — сказал он, — что красная дубина принесла больше горя, чем коричневая, то могу возразить лишь одно: многие убитые в Освенциме люди скорее согласились бы жить под гнетом красной дубины, чем умереть в газовой камере».
— Браво, Соломон Корн! — воскликнул русский писатель Альберт Лиханов, председатель Всероссийского детского фонда. — Жаль только, что вы забыли о красной дубине, обращенной против гитлеризма, о Красной армии, освободившей Освенцим и его узников, о Советском Союзе, о миллионах советских солдат, партизан, граждан, положивших жизни не только за свою личную свободу.
Для госпожи Кальнисте и ее соотечественников-латышей в том мире, который конструировали гитлеровцы, тоже, между прочим, не было места. И об этом надо напоминать.
Александра Ивановна Мощенко, г. Дальнегорск, Приморский край:
«До Великой Отечественной войны мы жили в поселке Михайловка Брянской области. Район наш, Мглинский, многие называли Шемановским. Мама рассказывала, что был такой пан Шемановский. Когда я была маленькой, она мне показывала дом, где он жил.
Поселок наш из 18 домов окружали леса. Красивый был поселок. В каждом дворе сад. Жили дружно, праздники советские справляли. Так бы и жили. Но услышали слово: война! Отец и мама, два дяди, тетя с маленькими детьми ушли в Мглинской партизанский отряд. Я с братьями осталась у бабушки. Часто приезжали полицейские и немцы, спрашивали, где наши родители.
В 1942 году расстреляли нашу бабушку. Ее похоронили в братской могиле в деревне Луговка. Мы, пятеро детей, остались одни. Сами варили, печь топили, играли, дрались, плакали — жалеть нас было некому. Бывало, подкатим колоду к печке, я лезу на зачистку, остальные подают мне дрова. Наложу в печку бересту, зажгу под дровами, а сама быстро выбираюсь, чтоб не загореться. Если дрова сильно разгорались, мы бросали на них снег. Дрова шипели. Очень боялись, чтобы хата не сгорела. Днем нам никто не помогал — люди боялись. Если помогали, то ночью.
Однажды зимой партизаны ушли в сторону украинских лесов. А женщины с маленькими детьми остались. Нас всех забрали немцы. Большой обоз образовался. В конце концов бросили нас на станции Неман.
Я у хозяев по возможности работала. Даже коня водила на пастбище. Помню, посадили меня на коня, он был большой и вредный, норовил меня укусить. Пацаны на своих конях поплыли через Неман, а я боялась, потому что плавать не умела. Как чухнул мой конь в Неман и поплыл, а я сижу верхом. В общем, не знаю, как удержалась.
Мы жили на краю деревни, почти в лесу. И я первой увидела наших солдат. Как заору: наши! По большаку шла тяжелая техника, потом пришли санитарные части. Я знала, где брод, и переводила их за Неман.
Через людей наши родители узнали, где мы живем. Приехал отец и увез нас. Когда ехали домой, всюду видели руины. Приехали в Унечу. Заночевали. Лежим, вроде в квартире, а над головой — небо и звезды. Прошло столько лет, а война нас не покидает.
Живу сейчас в Приморье, в г. Дальнегорске. Кто знает нашу судьбу, все спрашивают: почему вы не добиваетесь прав малолетних узников? А как добиться? По архивам пишу — толку никакого. Приехать — таких денег нет! Собрали, наконец, по миру, и я приехала в родные места. Месяц проездила по архивам, по деревням, нашла людей, с кем были вместе в лагере. Но свидетелям не верят. Мол, откуда они вас знают? В архивах ничего нет. В общем, неизвестные узники. Хотя полные деревни, с которыми мы были в лагерях.
Да, еще есть чиновники, которые говорят, что детей одних не угоняли. Мол, только с родителями. Да еще говорят: на компенсацию не надейтесь. Да гори она ваша компенсация синим пламенем. Мы ее и не требуем. Знаем, что ее давно разворовали. Пережили такую войну, и сейчас переживем. Мы хотим только справедливости. Но вот как ее найти?»
Григорий Петрович Зинченко, о котором в декабре 2003 года рассказал еженедельник «Совершенно секретно», немецких денег так и не дождался. Он умер в октябре 2001 года, не заполнив формуляр-анкету с отказом от дальнейших претензий. Это по требованию немецкой стороны следовало сделать до 31 декабря 2001 года. Хорошо, что вмешались журналисты и вдове Зинченко, детям-инвалидам в апреле 2003-го отправили деньги — 11 009 рублей. Повторю прописью: одиннадцать тысяч девять рублей. Немногим более трехсот евро.
Спасибо, смилостивились…
Всего в Российский Фонд взаимопонимания и примирения за десять с лишним лет его работы подали заявления на выплату компенсации свыше 500 тысяч человек. До конца 2003 года им выплатили 101,06 миллиона евро по германскому фонду и 21,7 миллиона евро — по австрийскому. Какую-то часть еще выплачивают. В пересчете на каждого — примерно те же три сотни.
17 июня 1942 года в Приднепровье, на хуторе Преображенский, полицаи устроили облаву. Ловили молодых людей, скрывающихся от угона в Германию. Полицейские Кирилл Молоков и Антон Гулай, задержав Елизавету Ткаченко, составили акт:
«…она начала полицию называть бандой и нехорошими словами, когда стали предупреждать, что так нельзя делать, то она говорит: ну вас к чертовой матери с вашей полицией; раз уж подались в полицию, то езжайте сами, раз она вам нравится…»
Не знаю, как сложилась судьба Лизы Ткаченко. Расправились с ней сразу, на месте, или выжав в Германии «работу десятка лет»… Их были миллионы.
«Мудрук Лена.
Я работаю на кирпичном заводе, работа тяжелая, уже 2-й год. Я, мы здесь, в этой Германии, как нас забрали от отца и матери, от братьев и сестер, разлучили с ними. Я здесь мучаюсь голодная и холодная. Нас бьют… У меня на Украине две сестры, Вера и Таня, и брат Андрей. Батько Корней и мама Мария. Писала их дочка Лена».
Это письмо выцарапано на черепице. Его нашли советские бойцы в каких-то развалинах в Восточной Пруссии.
Адресовано письмо из сорок пятого года всем нам. Чтобы помнили: были такие остарбайтеры. «Восточные рабочие». Наши деды и бабушки, отцы или матери…
Послесловие
Когда-то наши взрослые соотечественники, постигая грамоту вместе с маленькими детьми, выводили мелом на школьных досках: «Рабы — не мы, мы — не рабы»…
В годы Второй мировой войны фашистская Германия согнала на рабский труд миллионы иностранных невольников. Почти 5 миллионов из Советского Союза. 65 процентов тех, кого пригнали с Востока, были несовершеннолетними, то есть подростками и детьми. Их пытались сделать рабами…
В книге Виктора Андриянова «Архипелаг OST» — свидетельства выживших, кто прошел страшный путь страдальцев. Кого и после освобождения не баловала судьба. Им, непокоренным, наша признательность за любовь к Родине и стойкость. За то, что сохранили в себе человечность, добрую память о тех, кто помогал им выжить.
Таких книг у нас до обидного мало. Я понимаю, что создавать их очень не просто. Сбор материала занимает годы. Его осмысление, анализ — это не только скрупулезная исследовательская работа, но и прикосновение к человеческой боли, порой нестерпимой. Именно поэтому, читая книгу, чувствуешь, как ощутимо передана психологическая атмосфера того времени, его дух.
Последние жертвы фашистского ада повествуют о себе и о тех, кто строил свое благополучие на крови и страданиях несчастных. Кто-то может сказать: а кому и зачем это надо? Думаю, что это важно знать новым поколениям людей, знать правду. Чтобы подобное никогда не повторилось.
Уникальные отчеты о репатриантах, засекреченные до последнего времени, дополняют и проясняют общую картину. Ведь освобождение миллионов граждан разных стран из фашистской неволи — это тоже история Великой Победы, добытой Красной армией и ее союзниками 60 лет назад.
Особую ценность, на мой взгляд, представляют те разделы книги, где рассказывается о том, как немецкие граждане с риском для себя помогали советским людям выжить.
16 февраля 1999 года вместе с федеральным канцлером ФРГ Герхардом Шредером германские предприятия Страховая компания «Альянц», «Дойче банк», «Дрезднер банк», «БАСФ», «Байер», «БМВ», «Даймлер — Крайслер», «Дегусса — Хюльс», «Фрид. Крупп Хеш — Крупп», «Хехст», «Сименс», «Фольксваген» подписали Совместное заявление, которое стало базовым для создания фонда по выплатам компенсаций бывшим жертвам нацизма. Этот шаг делает честь новому поколению германских предпринимателей. Он — свидетельство того, что немецкий народ не увяз в своем прошлом, его политическая мудрость нацелена в будущее. Это и хороший урок политического и морального воспитания молодому поколению — жить в мире со всеми народами и знать, что любое преступление требует искупления.
В рядах Общества «Россия — Германия» — оно действует с 1972 года, раньше называлось Общество «СССР — ФРГ» — есть и бывшие жертвы нацизма. Они активно участвуют в укреплении взаимопонимания, сотрудничества, партнерства и дружбы с общественностью и народом новой Германии. Спасибо им за это.
Виктора Андриянова хотелось бы поздравить с творческой удачей. Уверен, что он продолжит тему, которой посвятил годы журналистского и писательского труда.
Такие книги очень нужны и в России, Украине, Белоруссии, и в Германии.
Александр УРБАН, вице-президент Общества «Россия — Германия»
Эту книгу помогли написать:
Аксенова Софья Иосифовна, г. Надворная, Ивано-Франковская обл.,
Андреев Геннадии, г. Санкт-Петербург;
А. Арсиенко, г. Снежное, Донецкая обл.
Ахрамеева Александра Михаиловна, г. Николаев,
Балым Анна Трофимовна, с. Павлыш, Кировоградская обл.,
Безмен ко Мария Гавриловна, Московская обл.,
Боряк Анастасия Ивановна, г. Владивосток,
Братинко Анатолии Иванович, г. Новочеркасск,
Бурштын Анатолий Иванович,
Бутенко Мария Григорьевна, Саратовская обл.,
Буянкова Ольга Викторовна, г. Воронеж,
Веселова Елена Алексеевна, г. Санкт-Петербург,
Ворожбит Анна Петровна, с. Русская Поляна, Сумская обл.,
Герасимов Петр Семенович, г. Мариуполь, Донецкая обл.,
Горлова Т. П., г. Щигры, Курская обл.,
Горяйнова Лидия Александровна, Ростовская обл.,
Демина Анна Васильевна, г. Сочи,
Дерунец Павел Никитович, г. Брянка, Луганская обл.,
Дерябина Антонина Алексеевна, г. Пермь,
Дерещук Вячеслав Евгеньевич, Черкасская обл.,
Добранская Ольга Николаевна, с. Веселый Раздол, Николаевская обл.
Догадаило Евдокия, Харьков,
Дробышев А. Я., Тульская обл.,
Дубровская И., г. Харьков,
Жданова Елена Степановна, г. Кишинев,
Заика Михаил Ефимович, с. Сидоровка, Курская обл.,
Захарчук Василии Иванович, Донецк,
Зинскии Владимир Степанович, г. Вознесенск, Николаевская обл.,
Зубко Юрии Арсентьевич, г. Первомайскна-Буге, Николаевская обл.
Калабина Г. С., г. Николаев,
Касьянова Александра, г. Ростов-на-Дону,
Кириченко Мария Афанасьевна, Полтавская обл.,
Коваленко Владимир, г. Мукачево, Закарпатская обл.,
Колесниченко Екатерина Андреевна, Московская обл.,
Комаров И. А., г. Омск,
Коноблева Елена Васильевна, г. Воронеж,
Коняева Вера Петровна, г. Харьков,
Кривенко Валентина, Армения,
Кривицкий Иван Назарович, с. Гусарка, Запорожская обл.,
Кузьменко Татьяна Федоровна, Киевская обл.,
Кулибабчук Владимир, г. Винница,
Кушнарева Вера, Башкирия,
Леванович Екатерина Мефодиевна, г. Тверь,
Литвиненко Иван Павлович, Полтавская обл.,
Левцова Мария Ивановна, пос. Алмазный, Ростовская обл.,
Лобанов Иван Федорович, Ленинградская обл.,
Луценко Екатерина Степановна, с. Сунки, Черкасская обл.,
Мазниченко Галина Николаевна, г. Запорожье,
Матвеев Иван Васильевич, г. Москва,
Мигаль Анна Алексеевна, г. Ростов-на-Дону,
Микляева Надежда Романовна, г. Курск,
Мирошниченко Наталья Ильинична, г. Северодонецк, Луганская обл.,
Меланич Анна, г. Гайсин, Винницкая обл.,
Мельник Серафима Владимировна, г. Тульчин, Винницкая обл.,
Могильный Алекандр, г. Алчевск, Луганская обл.,
Мисун Елена Федоровна, Запорожье,
Мойсеенко Галина Трофимовна, г. Киев,
Моисеева Клавдия Кузьминична, г. Дебальцево, Донецкая обл.,
Морозюк Петр Яковлевич, г. Киров, Калужская обл.,
Нехорошева Наталья Михайловна, Белгородская обл.,
Овчаренко Николай Петрович, г. Кировск, Луганская обл.,
Огурцова Любовь Ильинична, п/о Углянец, Воронежская обл.,
Озерова Степанида Матвеевна, Белгородская обл.,
Павелко Петр Семенович, г. Лубны, Полтавская обл.,
Педин Анатолий Тимофеевич, г. Азнакаево, Татарстан,
Петрученя Василий Иванович, г. Минск,
Полторанов Владимир Михайлович, г. Днепропетровск,
Пономаренко Елена Даниловна, г. Николаев,
Полунина Мария Николаевна, г. Шелехов, Иркутская обл.,
Попурри Вера, г. Николаев,
Прохоренко Нина Павловна, пос. Чесма, Челябинская обл.,
Попова Екатерина, Белгородская обл.,
Попова Елена, Московская обл.,
Рубан Иван Петрович, г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.,
Сапсай Алексей Тимофеевич, г. Брест,
Серебрянская Анна Михайловна, Донецкая обл.,
Слободич Ольга Стефановна, д. Углы, Гомельская обл.,
Скоробреха Николай Яковлевич, г. Старый Оскол, Белгородская обл.,
Соловьева Елена Анатольевна, г. Санкт-Петербург,
Соколик Василий, г. Докучаевск, Донецкая обл.,
Старченко Василий, г. Шахтерск, Донецкая обл.,
Стройна Александра Даниловна, г. Одесса,
Сыроватко Иван Иванович, г. Снежное, Донецкая обл.,
Сысоева Надежда Николаевна, г. Клин, Московская обл.,
Тихомиров Юрий Николаевич, г. Днепропетровск,
Темнова Антонина Алексеевна, Московская обл.,
Ткачук Екатерина Ивановна, г. Харьков,
Толок Мария Прокофьевна,
Толстых Раиса Ивановна, Краснодарский край,
Урядова Меланья Филимоновна, г. Запорожье,
Чавдаров Дмитрий Дмитриевич, г. Грозный,
Чернова Анастасия, г. Чебоксары,
Чернова Галина Федоровна, г. Воронеж,
Чебердина Нина Семеновна, г. Москва,
Харьковский Геннадий Александрович, г. Горловка, Донецкая обл.,
Ширнова Прасковья, г. Унгены, Молдова,
Штура Григорий, г. Макеевка, Донецкая обл.,
Щаренский Михаил Константинович, г. Ростов-на-Дону,
Щербатюк Иосиф Тимофеевич, г. Кировск, Луганская обл.,
Щетинин В. П., Курская обл.,
Ющенко Владлен Андреевич, г. Мариуполь, Донецкая обл.,
Яцук Варвара Власовна, г. Таганрог, Ростовская обл. и другие.
Библиография
Андриянов В. Память со знаком OST. М., 1993.
Белорусские остарбайтеры. Минск, 1997.
Беляев В. Я обвиняю. М., 1984.
Бродский Е. Они не пропали без вести. М., 1987.
Бродский Е. Забвению не подлежит. М., 1993.
Брюханов А. Вот как это было. М., 1958.
Вернувшиеся из ада. Ростов-на-Дону, 2001.
Вторая мировая война. Пер. с нем… М., 1997.
Воропай О. ЗвичаУ нашого народу: В 2 т. Мюнхен, 1966.
Геббельс Й. Последние записи. Пер. с нем. Смоленск, 1993.
Gavalec Z., Hofeni Z. Pamet neni na prodej апев hrst vzpominek na okupaci а osvobozeni. Praha, 2000.
Греи M. Мой отец генерал Деникин. М., 2003.
Дашичев В. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки, документы и материалы: В 2 т. М., 1973.
Зверства, грабежи и насилия немецко-фашистских захватчиков. Ленинград, 1942.
Engel R., Radzyner Y. Sklavenarbeit untern hakenkgeur. Wien — Muncher, 1999.
Kanmo A. На перекрестках жизни, M., 2003.
Комолова H. Советские люди в европейском Сопротивлении (воспоминания и документы). Ч. I. В партизанском движении. Ч. И. Против фашизма в нацистской неволе. М., 1991.
Листи з фашистськоi каторги. Кшв, 1947.
Литвинов В. Поезд из ночи. Калуга, 2004.
Манчестер У. Оружие Круппа. История династии пушечных королей. Пер. с англ. М., 1971.
Молодая гвардия / Сб. документов. Донецк, 1970.
Нехай О. Вехи памяти моей жизни. Минск, 2004.
Немецько-фашистський оккупацiоний режим на Украïнi / Збiрник документе i матерiалiв. Кшв, 1963.
Народная война в тылу фашистских оккупантов на Украине. 1941–1944: В 2 кн. Киев, 1985.
Не предавать забвению. Псков, 2004.
Нюрнбергский процесс / Сб. материалов: В 8 т. М., 1980.
Полян П. Жертвы двух диктатур. М., 2002.
Попова (Колесниченко E.). Остарбайтер № 2021. М., 1997.
Ruff М. Um ihre Jugend betrogen/ Ukrainische Zwang-sarbeiter/innen in Vorarlberg 1942–1945.
Семин В. Нагрудный знак Ост. М., 1975.
Sinkulova L. Byla jsem nekdo jiny. Praha, 1983.
CC в действии. Пер. с нем. М., 1969.
Толстой Н. Жертвы Ялты. Париж, 1983.
Урбан А. Без срока давности. М., 1989.
Фадеев А. Молодая гвардия. М., 1947.
Шпеер А. Воспоминания. Смоленск — Москва, 1997.
Штрик-Штрикфельдт В. Против Сталина и Гитлера. Пер. с нем. М., 1993.


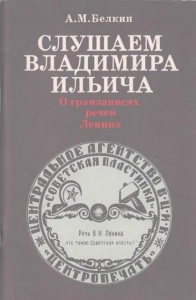


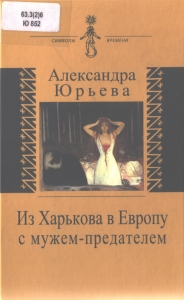

Комментарии к книге «Архипелаг OST. Судьба рабов «Третьего рейха» в их свидетельствах, письмах и документах», Виктор Иванович Андриянов
Всего 0 комментариев