Кирилл Борисович БАСИН
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С РЕВОЛЮЦИОНЕРАМИ
За плечами восемьдесят два года жизни. С их вершины оглядываюсь на свою молодость. Одной из ярких страниц той поры передо мной встают события 1905—1906 годов.
Я часто думаю о тех днях, о своих товарищах. Помню людей, которые, несмотря на рогатки охранки, на бесчисленные опасности, пробирались к нам в казармы, вместе с листовками и брошюрами несли в солдатскую гущу революционные идеи.
Еще в юношеском возрасте мне довелось встречаться с ссыльными. Царское правительство, выдворяя революционеров на окраины империи, стремилось изолировать их от массы пролетариев, удалить от центров классовой борьбы. Но, поступая так, оно тем самым против своей воли способствовало проникновению политической пропаганды в массы крестьян и различных слоев интеллигенции в провинции.
И в мою душу тогда попали беспокойные зерна.
Родился я в 1883 году в маленькой деревушке, в десяти километрах от города Шенкурска, Архангельской губернии, в бедной семье хлебопашца. Наши места в верхнем течении реки Ваги отличаются той скромной и неяркой северной красотой, которой всегда восхищался Михаил Пришвин. Сухие песчаные берега, сосновые боры, просторные луга да прозрачные лесные озера радовали глаз. Но жилось в этом краю большинству крестьян, как и везде в царской России, трудно, так как наделы были очень скудные.
Земли южной половины Шенкурского уезда принадлежали царской фамилии. Управляло ими удельное ведомство. Доходы от них шли на содержание членов императорской семьи и не подлежали контролю со стороны государства.
«Положение о крестьянах, водворенных на землях имений государевых, дворцовых и удельных» от 26 июня 1863 года давало лишь формальную свободу сельским труженикам, а по сути они по-прежнему оставались бесправными, полукрепостными.
Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, мои земляки вынуждены были заниматься смолокурением, дававшим кое-какой дополнительный заработок.
Смолу по дешевке скупали местные богатеи, переправляли в Архангельск торговцу Беляевскому, а тот сбывал этот товар за границу и наживал огромные капиталы.
Удельное ведомство также грело руки на труде смолокуров. С каждой бочки оно брало большой налог.
Беззастенчивая эксплуатация вконец разоряла крестьян. Бедняцкие массы все решительнее проявляли недовольство своим положением, их все больше охватывали революционные настроения.
Когда мне исполнилось семь лет, родители отдали меня на выучку местному грамотею. Он учил читать по псалтырю. Отец мой хотел, чтобы мы, сыновья его, были людьми грамотными. Он говорил: «Грамота — большое дело. Неграмотных начальство обманет в два счета, а если читать умеешь, то разберешься, что к чему, и за себя да и за других постоишь».
В девятилетнем возрасте мне удалось поступить в трехклассное сельское училище, расположенное в Усть-Паденге, в семнадцати километрах от нашей деревни. На огромную Усть-Паденгскую волость это было единственное учебное заведение, в котором занимались всего семьдесят ребят — приблизительно три процента всех детей школьного возраста. Остальные постигали азбуку по молитвенникам или оставались вообще неграмотными, особенно девочки.
Я жил постояльцем у чужих людей, питаясь хлебом и водой. Иногда мать присылала с попутчиками ячменные шанежки. Это было уже лакомством. Спал на полатях. Вечерами у хозяев собирались соседи. Потрескивала лучина, дым от нее заполнял избу, мешаясь с махорочным. Утром шел на уроки с тяжелой головой, насквозь прокопченный.
Все три класса размещались в общем зале. У всех уроки вел один учитель. Писали на грифельных досках — бумага для нас была слишком дорога.
Летом вместе с родителями работал в поле.
После трехлетки пошел в Шенкурск, поступил в четвертый класс пятиклассного приходского училища.
Шенкурск — небольшой деревянный городок на берегу Ваги — в то время был населен ремесленниками, мещанами, мелкими чиновниками, торговцами и священнослужителями. От больших дорог он был вдалеке, и жизнь в нем текла тихо и спокойно. Во многих таких населенных пунктах Архангельской губернии до революции жили ссыльные. В Вельске некоторое время пребывал Петр Моисеенко, в Мезени в разные годы были видная революционерка Инесса Арманд и писатель А. С. Серафимович.
С людьми, находившимися под надзором полиции, я впервые познакомился в двенадцать лет. Все, что слышал от них, понемногу откладывалось в дознании, а позднее осмысливалось.
Впоследствии я узнал имена некоторых из них. Случай свел меня с социал-демократами Александром Александровичем Машицким, Леонидом Семеновичем Федорченко, Александром Васильевичем Малышевым и другими.
О них я как-то заговорил с отцом. По весенней дороге мы на телеге возвращались с ним из Шенкурска в деревню. Мне хотелось знать, за что выслали сюда таких хороших людей, и я спросил его об этом.
— Они против государя идут, — ответил он.
Его слова привели меня в смятение: сызмала и в церкви, и в школе нам неустанно твердили о любви к «царю-батюшке». И вдруг оказывается, есть люди, которые готовы его скинуть. Я задумался. Разобраться в этом самому было трудно. Стал чаще бывать на квартире у Машицкого, где собирались его товарищи. Пока они беседовали, я тихонько сидел на диване и слушал. Однажды набрался храбрости и поинтересовался:
— Вот вы говорите, что царь первый помещик, у него много земли и он угнетает простой народ. А почему попы молятся за императора?
— Они за это деньги получают.
— Значит, церковь обманывает нас?
— Выходит так.
— А сами-то священники верят в бога?
— Некоторые верят, а некоторые и нет.
— А архиереи?
— И среди них всякие есть.
— Так, может, всевышнего и вправду нет?
Мои собеседники переглядывались и улыбались, а я все допытывался почему да отчего. Леонид Семенович Федорченко заметил:
— Чтобы народу хорошо стало, надо перевернуть все…
Мое знакомство с политическими ссыльными продолжалось четыре года. Иногда они бывали у нас, ночевали. Беседовали с отцом, интересовались, как мы живем. Отец в свою очередь, отправляясь в город на базар, навещал их и привозил домой нелегальные брошюры.
Все это оставляло в моем сознании какой-то след.
В 1905 году в Шенкурском уезде начались массовые «аграрные беспорядки». Мой отец и братья тоже участвовали в них. К тому времени вся наша семья считалась неблагонадежной. Брат Михаил, к примеру, арестовывался за то, что вел среди односельчан пропагандистскую работу, раздавал им подпольные брошюры, подстрекал к неплатежу податей, разделу выкупной земли, самовольной рубке удельного леса и неповиновению властям. Кроме того, как было указано в полицейском протоколе, Басин «позволял себе ругать Его Императорское Величество».
Отцу было предъявлено обвинение в том, что сам он и сыновья его занимаются «преступной противоправительственной агитацией и распространением нелегальной литературы».
В наш дом в деревне Кашутинской то и дело наведывалась полиция. Искали брата Константина. Он прятался у знакомых, в лесу, в тайнике под конскими яслями. После этого заболел туберкулезом костей. Долго и тяжело болел. Умер он очень молодым.
Против «бунтовщиков» власти предприняли крутые меры. На усмирение крестьян были брошены солдаты, жандармы и казаки. Во всех волостях уезда свирепствовали карательные отряды. К нам заявился архангельский вице-губернатор камер-юнкер Григорьев.
Все это происходило уже без меня…
Я СТАНОВЛЮСЬ ГВАРДЕЙЦЕМ
В 1904 году в возрасте двадцати одного года меня призвали на военную службу и направили в Петербург, в гвардию.
Был конец декабря. Столица встретила слякотной погодой. Шел мокрый снег. С Николаевского вокзала нас привели на Фонтанку, в «проходящие казармы» — большое одноэтажное здание, обнесенное высоким забором. Сюда собрали новобранцев — и гвардейских и армейских. На полу помещения грязи было не меньше, чем во дворе. Соломенные матрацы, сложенные в «костры», своей лоснящейся чернотой вызывали неприятное ощущение. «Неужели на них придется спать?» — с омерзением подумал я. Кто-то из вновь прибывших возмутился таким антисанитарным состоянием казарм. Офицер отправил протестанта в карцер.
Нам, будущим гвардейцам, посчастливилось избежать ночевки в этом клоповнике. Нас поместили в казармы лейб-гвардии Егерского полка, где мы переночевали, хотя и на полу, но в чистоте. А утром направили в Михайловский манеж, там выстроили и приказали снять шапки. Ждали главнокомандующего гвардией великого князя Владимира Александровича, брата Александра III, который должен был распределить призванных по частям.
Владимир Александрович прибыл в одиннадцать часов. Среднего роста, с седыми усами и бакенбардами, в шинели и глубокой фуражке он быстро вошел в помещение, поздоровался с офицерами, затем с солдатами — представителями от гвардейских полков — и скользнул взглядом по новобранцам. Кто-то подал ему кусок мела. Великий князь приблизился к правофланговому, пристально осмотрел его и, начертив на груди какой-то знак, громко сказал:
— В Измайловский!
Потом перевел взгляд на следующего. Опять черкнул мелком и бросил:
— В Павловский!
Так, медленно идя вдоль шеренги, главнокомандующий ставил пометки и выкрикивал названия полков.
Дошла очередь и до меня. На моей груди он вывел огромную единицу и произнес:
— В Преображенский!
Тотчас сзади кто-то подхватил меня под мышки и турнул в сторону. Еще чьи-то руки направили в другую шеренгу.
Так я стал рядовым 1-го батальона лейб-гвардии Преображенского полка.
После я узнал, что главнокомандующий делал разбивку вновь прибывших исключительно «по масти». Преображенцы все, как один, были шатены и с длинными носами. Измайловцы — блондины. Когда они выстраивались на плацу, то казалась, что волосы их обсыпаны мукой. Отсюда и прозвище им дали «хлебопеки». В Павловский полк, расквартированный на Марсовом поле (Царицыном лугу), подбирались курносые солдаты. Это делалось в честь Павла I.
А в Московском служили только рыжие. Их прозывали «жареными раками».
Преображенцы тоже имели кличку — «Захары». Среди солдат бытовало такое предание. Как известно, дочь Петра I Елизавета Петровна была возведена на престол преображенцами, свергнувшими Иоанна Антоновича и Анну Леопольдовну. Во время своего царствования Елизавета не забывала об этом и проявляла к преображенцам благосклонность. Иногда проводила с ними праздники. Однажды свои именины (в этот день по церковному календарю было двое святых — Захарий и Елизавета) царица вздумала отметить в нашем полку. Солдат надоумили — если она будет спрашивать: «Кто из вас Захары?» — отвечайте: «Все мы Захары».
Когда Елизавета приехала и задала такой вопрос, гвардейцы дружно гаркнули:
— Все мы Захары, все именинники!
Пришлось царице раскошелиться и угостить всех. С тех пор, как утверждали ветераны части, и закрепилось за преображенцами прозвание «Захары».
После распределения новобранцев по частям командир Преображенского полка пошел вдоль строя доставшихся ему новичков и тыльной стороной руки начал водить по их щекам и подбородкам. У кого была хорошая щетина, тот попал в «бородатые» роты. Их было две.
Отбор производился и по росту. У меня он равнялся двум аршинам и девяти с половиной вершкам. Если бы я был выше на полвершка, то попал бы в первую «его императорского величества» роту. Она отличалась от остальных тем, что носила на погонах царские вензеля, а командовал ею некоторое время великий князь Михаил, брат Николая II.
Все эти чисто внешние признаки, по которым сортировали новобранцев, тогда имели определенное значение. В гвардию брали самых сильных и рослых. А «одномастность» еще более отличала и выделяла эти подразделения на парадах. «Опора государя» должна была выглядеть внушительно.
1-й батальон Преображенского полка состоял из четырех рот и размещался на Миллионной улице (ныне Халтурина) в большом четырехэтажном здании рядом с Эрмитажем и Зимним дворцом. Из казарм крытый переход вел в Эрмитаж, а из Эрмитажа — в Зимний дворец. В случае чего преображенцы обязаны были по тревоге спешить на защиту царя. Это была его ближайшая охрана. Остальные три батальона размещались за Литейным проспектом в двух километрах от нас.
Преображенский полк, как известно, был создан еще Петром I и сослужил ему немалую службу в борьбе с боярами и царевной Софьей. В знак уважения к этой части Петр I носил мундир преображенца.
Но не всем самодержцам удавалось сохранить гвардию как надежную защитницу своих интересов от посягательств заговорщиков из высшей знати. Преображенцы нередко использовались офицерами-дворянами для свержения неугодных императоров. Так были сброшены Анна Леопольдовна и Петр III, а вместо них возведены на престол Елизавета Петровна и Екатерина II.
Рядовые солдаты, конечно, ничего не знали о политических интригах и являлись только механическими исполнителями воли военачальников.
Монархи стремились назначать на командные посты в гвардию проверенных и преданных им людей, старались создать впечатление, что пекутся о солдатах. С этой целью «их императорские величества» прибегали к мелким подачкам, носившим чаще всего показной характер.
Начиная с Петра I, все цари были шефами Преображенского полка, числились в нем на военной службе. Николай II при своем рождении тоже был зачислен в преображенцы и автоматически продвигался по лестнице чинов. Александр III, умирая, не успел произвести Николая в генералы, и тот всю свою жизнь из показной скромности носил мундир с погонами полковника, сохранив за собой должность командира 1-го батальона. Но фактически этим подразделением, когда я начинал службу, командовал полковник Дельсаль, потом его сменил князь Трубецкой.
Подчеркивая свое расположение к преображенцам, Николай II назвался кумом фельдфебеля 1-й роты Соколова и стал крестным отцом его новорожденного сына.
Кто только не служил в Преображенском полку — и великие князья, и просто князья, и принцы, и герцоги, и графы, и всякие приближенные «свиты его величества». Все это были крупные землевладельцы, обиравшие и беспощадно эксплуатировавшие народ.
Наряду с офицерами из русской знати в части немало было и аристократов иноземного происхождения: принц Ольденбургский, герцог Лейхтенбергский, барон фон дер Остен Дризен и другие. Приставка «фон» у офицеров с немецкими фамилиями обычно опускалась. Считалось неудобным афишировать, что в русской гвардии служили германские «фоны».
Командир Преображенского полка имел право свободно входить во дворец и в случае необходимости непосредственно докладывать государю. Здороваясь с нами, монарх называл нас «братцами», а других гвардейцев — в зависимости от наименований частей, «семеновцами», «измайловцами», «павловцами»… О привилегированном положении преображенцев свидетельствовали и такие детали. Команды или подразделения иных гвардейских частей, проходя мимо наших казарм на караул в Зимний дворец, обязательно играли «Марш преображенцев». Полковое знамя хранилось во дворце. На Зимней канавке возле казарм находился ботик Петра I. Он охранялся третьей ротой. Офицеры иногда катались на нем по Неве.
Большим праздником у нас считался так называемый день «преображения господня» (6 августа по старому стилю). Проводили его в Петергофе, в летней резиденции царя. В канун этой даты священники служили всенощную в Манеже в присутствии императора и его семьи, а 6 августа проводился парад.
На богослужения солдаты роты «его величества» ходили в дворцовую церковь.
Эти незначительные преимущества преображенцев умело использовались офицерами для идеологической обработки солдат. Все привилегии и традиции призваны были внушать нам уважение к службе, послушание, вызывать душевный трепет перед «высоким» назначением — охранять престол, быть верной опорой трона.
Комплектовался Преображенский полк в массе своей из крестьян. И не исключительно из зажиточных, как об этом пишет в своей книге «Революционное движение в русской армии в 1905—1907 гг.» Муратов. При наборе в гвардию руководствовались прежде всего тем, чтобы новобранцы были рослыми и физически крепкими. Их имущественное состояние на первый план не выдвигалось.
В первые дни все мы ходили ошеломленные необычностью обстановки. Представьте, жил-был парень в глухой забытой богом и людьми деревеньке и вдруг попал в блестящий Петербург, да еще куда! Служить самому «царю-батюшке». Сам великий князь начертал на груди твоей, где быть тебе. Помни это! Поселили в огромном четырехэтажном доме рядом с Зимним дворцом. И командуют тобой не какие-нибудь офицеришки из захудалых дворян, а графы, да князья, да герцоги. Чувствуй, брат, императора плечом подпираешь.
А то, что турнул тебя старослужащий, так это чтоб не забывал: чуть не так поведешь себя — так поддадут — не опомнишься.
В нескольких шагах от казармы — Дворцовая площадь с Александрийской колонной. Тут же Адмиралтейство, Сенат. Направо, вдоль Зимней канавки, — Нева, закованная в гранит. На том берегу — Петропавловская крепость. Она как бы напоминала солдату: ты теперь до последней пуговицы на мундире принадлежишь государю. Может он тебя и в унтеры произвести, а может и в порошок стереть, упрятать в каменный мешок вон той самой Петропавловки, где уж немало людей посходили с ума или истлели в глухих казематах. А будешь служить верой и правдой — тебе и харч готовый, и постель, и обувка, и одежка казенная, да и жалованья полтинник в месяц. Прочим же, кто не в гвардии, денег и на табак не хватает — только тридцать семь с половиной копеек за два месяца.
Когда выйдет счастье побывать в увольнении — можешь полюбоваться городом, его роскошными особняками, лихачами-извозчиками, златоглавыми соборами, красавицей Невой. Только не зевай, козыряй направо и налево, вытягивайся во фрунт, чтобы какой-нибудь поручик не вкатил тебе пощечину и не заслал на гарнизонную гауптвахту за неуважение к его чину.
Однако скоро восторженное состояние прошло. Началась унылая, однообразная солдатская жизнь, с ее муштрой, бесконечными нарядами и караулами.
Казарма нашего батальона размещалась, как я уже говорил, в большом четырехэтажном здании. В нем жил и командир полка генерал-майор В. С. Гадон и еще некоторые офицеры.
Каждый этаж разделялся на две половины сквозным коридором с арками по обе стороны. За арками — койки с соломенными матрацами, такими же подушками и одеялами из грубого сукна. Вдоль стен большие пирамиды с винтовками и поменьше — для тесаков.
Полы везде, кроме первого этажа, деревянные. Раз в неделю их подметали с сырыми опилками.
Во дворе под навесом на повозке стоял полковой денежный ящик, возле него круглые сутки — часовой. Неподалеку находилась баня с прачечной, где мы сами стирали себе белье.
Форма преображенцев состояла из русских сапог, мундира, шаровар, гимнастерки, шинели и фуражки-бескозырки, в царские дни солдаты надевали круглые каракулевые шапки.
Кормежка по калорийности была не такой уж плохой, но очень однообразной: щи и каша. Иногда как зарядят на целый месяц варить горох, так у солдата глаза на лоб лезут. Ели из общих бачков, по четыре — шесть человек на каждый.
Жалованье мы, рядовые, сначала получали полтинник в месяц. 6 декабря 1905 года (все даты по старому стилю), в день именин Николая II, денежное содержание увеличили вдвое и назначили «чайно-сахарное» довольствие (до этого чай и сахар солдатам покупали за свой кошт офицеры). Это было очередной подачкой царя в то беспокойное время.
СОЛДАТСКИЕ БУДНИ
В шесть часов утра в казарме гулко раздалось:
— Встава-а-ай!
Не успев досмотреть сны, гвардейцы вскакивали с жестких коек, протирали глаза и поспешно одевались. Унтер-офицеры поторапливали, с утра пробуя свои голоса:
— Живо-живо!
— Не копаться! В гвардии служите!
Кто не слышал побудки, с того дежурный по роте сдергивал одеяло и оглушал:
— Вста-а-ать! Что тебе, уши заложило?
Солдат подскакивал как очумелый.
Притоптывая, мы торопливо натягивали сапоги, потом «доили» огромные медные умывальники, отфыркивались под струями холодной воды и окончательно приходили в себя.
После завтрака — чая с черным хлебом — старослужащие уходили в различные наряды, караулы, на работы. У нас, молодых, начинались занятия. То в одном, то в другом конце широкого коридора звучали разноголосые команды:
— Р-р-ряды сдвой!
— Пр-равое плечо вперед, марш!
— Тверже ногу!
— Ать-два, ать-два, ать-два…
Новички старательно грохали тяжеленными сапогами по полу. Он прогибался и трещал.
Из первого взвода доносилось:
— К но-ге! На пле-е-чо!
Там разучивали артикулы с винтовкой.
В полдень шли в столовую есть щи и кашу. Потом на час казарма замирала — отдыхали. После «мертвого часа» опять шли на строевую подготовку. Затем упражнялись в словесности. Это было самое нудное: в наши головы вколачивалась история полка, начиная с петровских времен. Мы заучивали наизусть состав царской семьи. Каждый должен был уметь отвечать без запинки на вопрос: «Кто твое непосредственное начальство?» Отвечать полностью, с соблюдением субординации.
Были занятия и «по политике». Нам давали представление о «врагах внешних и внутренних». Разъяснив суть вопроса, унтер-офицер интересовался, кто как его понял. Чаще всего он подходил к рядовому Прокофию Малыку. Тот был уроженцем Харьковской губернии, совершенно неграмотный и плохо говорил по-русски. Он не всегда сразу понимал, что от него хотят. А унтер был рад случаю покуражиться над парнем:
— Ну, что шары выкатил? Я тебе сказал: внутренние враги есть студенты-бунтовщики.
— Так точно. Внутренние враги есть скубенты-будочники.
— Не скубенты, а студенты. Не будочники, а бунтовщики.
Малык не мог правильно выговорить слово «бунтовщики». Унтер сердился:
— Дубовая твоя голова! Что должен сделать солдат, когда узнает о бунтовщиках?
— Доложить.
— Кому?
— Отделенному або господину взводному.
— Так. А как ты будешь действовать в случае смуты?
— По тревоге бежать…
— Куда?
— К бун-тов-щи-кам, — с трудом, но на этот раз правильно выговорил Прокофий.
— Дурак! Слушай. Все слушайте. Если возникнет опасность для государства Российского и его величества государя императора и членов его императорского величества семьи, солдат-преображенец обязан немедленно, по команде своего начальства в полном боевом снаряжении выступить на их защиту.
Для унтер-офицеров Малык стал чем-то вроде козла отпущения. Они часто потешались над ним, а порой просто издевались.
Однажды Малыка заставили сунуть голову в холодный камин и кричать в дымоход: «Городовой, служба не везет! Помоги!»
Койка Малыка была рядом с моей. Как-то после команды на сон Прокофий долго лежал, уткнувшись в подушку, а потом повернулся ко мне и шепотом спросил:
— Не спишь? Скажи, почему они надо мной измываются?
Что я мог ему ответить на это? Посоветовал стараться, не давать повода для насмешек. Начал обучать его грамоте.
Унтеры цеплялись не к одному Малыку. Грубое обращение с солдатами, оскорбление их человеческого достоинства было делом обычным. Помню, как кто-то из унтеров вдруг вздумал проверить у нас чистоту портянок. Он скомандовал:
— Садись на пол, снимай сапоги!
У Мельникова портянки оказались в пятнах от мази, проникшей через кожу сапог. Унтер-офицер распорядился:
— Садись на прыжки, бери свои тряпки в зубы и — шагом марш!
Мельников выполнил приказание. «Гусиным» шагом он прошел длинный коридор из конца в конец. Некоторые из наблюдавших эту картину смеялись. Но большинство угрюмо молчали.
Первогодков в полку оскорбительно называли «серыми». Вечерами, когда выдавались свободные минуты, мы часто собирались отдельно от старослужащих и сетовали на свою долю, пели грустные песни.
Три месяца нас усиленно обучали строевым приемам и словесности. В марте устроили смотр-экзамен. После этого определили, кого куда. Меня назначили писарем 2-й роты.
Канцелярия размещалась тут же в казарме, за аркой. Два стола, книжный шкаф, несколько стульев — вот и вся ее обстановка. В мои обязанности входило вести всю переписку, составлять заявки и отчетные ведомости, связанные с обеспечением подразделения провиантом, вещевым и денежным довольствием, выдавать по распоряжению офицеров увольнительные и отпускные удостоверения, писать под диктовку доклады, рапорты.
Писарь пользовался некоторыми привилегиями. Он мог не вставать утром вместе со всеми по сигналу побудки, с ведома фельдфебеля отлучаться из казармы. Но в летних лагерях обязан был ходить на строевые занятия, стрельбы, участвовать в маневрах.
В моем ведении находилась небольшая ротная библиотека, состоявшая из книг и брошюр патриотического содержания. Имелись в ней также и некоторые произведения классиков русской литературы.
В силу своего нового положения мне приходилось теперь часто бывать вместе с командиром — капитаном Мансуровым. Это дало возможность получше узнать его. Он являлся крупным помещиком. Корни родословной Мансуровых уходили к татарские князьям. Отец капитана был членом Государственного совета. Весной 1906 года при открытии Первой Государственной Думы он удостоился высшей чести: стоял у царского трона и держал в руках символические регалии самодержца — скипетр и державу.
По своим политическим убеждениям молодой Мансуров был до мозга костей монархистом, он всеми фибрами души ненавидел революционеров.
— Это психически ненормальные люди, — говорил он о них.
По характеру капитан был выдержанным и довольно культурным офицером. Очень хорошо разбирался в психологии солдат, в их настроениях, умел завоевать симпатии подчиненных. На личные средства он приобретал для гвардейцев бытовые принадлежности, пополнял библиотеку книгами, конечно верноподданнического содержания. В беседах не навязчиво и прямолинейно, а исподволь, тактично проводил нужные ему взгляды.
Не очень высокий, сухопарый, с бросающейся в глаза лысиной, Мансуров отличался крепким здоровьем, подвижностью, был легок на ногу. На тактических занятиях он лихо водил гвардейцев в атаку и, казалось, не знал устали.
Не допускаю, чтобы у Мансурова было к рядовым какое-то доброе расположение. Однако, когда мы выступили в Петергофе с революционными требованиями, он с удивившей меня порядочностью отнесся к «преступникам», «опозорившим» своим выступлением Преображенский полк и сломавшим карьеру служившим в нем офицерам. В письменных показаниях следователю генералу Томашевичу Мансуров дал нам объективные характеристики.
Но это я уже забежал несколько вперед.
А пока преображенцы продолжали исправно заниматься шагистикой, ходить в наряды.
Над российской столицей тем временем собирались тучи. Надвигалась революционная гроза. Ее приближение ощущалось и у нас.
В казармы проникали слухи о забастовках рабочих, крестьянских волнениях и студенческих сходках. В Петербурге усилили караульную службу.
Преображенцы стояли на постах в различных государственных учреждениях, во дворцах великих князей и знатных сановников. Охраняли государственный банк, казначейство, департамент полиции, несли караул у главнокомандующего, в Мраморном дворце и во многих других местах.
Сменившись с поста, солдат едва успевал отдохнуть, как его опять куда-нибудь посылали. Всех нас держали в постоянном напряжении.
Особенно усиленные наряды под командой офицеров высылались в Зимний дворец. Гвардейцы располагались на подходах к нему, внутри — на лестницах, в коридорах, у покоев, кабинетов. За «усердную службу» во дворце каждый раз выдавалось по двадцать копеек. Сумма эта равнялась примерно дневной оплате работницы «на своих харчах». Подачка преследовала цель — повысить радение служивых.
С наступлением теплых дней вся гвардия обычно уходила из Петербурга в лагеря. Наши казармы на Миллионной занимали армейские части. Исключением не стал и 1905 год. Пешим порядком, с песнями направились мы в Красное Село, расположенное километрах в двадцати пяти от столицы. Разместились в палатках, по десять человек в каждой.
Наша 2-я рота была «прописана» на передней линейке, за нами — первая. Это было, вероятно, привилегией для подразделения «его величества», чтобы меньше отвлекать его на уборку.
В тыловой части находились кухни — столовые, канцелярии. Чуть поодаль — офицерские бараки. Командиру полка полагался домик. Тут же возвышалось благоустроенное двухэтажное здание офицерского собрания. В нем командиры питались и проводили свободное время.
С первых же дней лагерной жизни начались усиленные занятия. Строевая подготовка сменялась огневой, огневая — тактическими учениями… Всюду мы ходили обязательно с ранцами.
Утром мы поднимались в шесть часов, одевались, умывались, приводили в порядок территорию. Затем пили чай с хлебом и в восемь отправлялись в поле. Возвращались оттуда к двенадцати. Обедали, час отдыхали и снова шли постигать солдатскую науку.
С пяти часов вечера занимались разными хозяйственными работами. С девяти до десяти — свободный час. Завершался день вечерней поверкой и молитвой. Последней командой была:
— Накройсь!
А на следующее утро все повторялось.
Легче всего мы чувствовали себя на стрельбах. Проводились они за лагерем, сразу после завтрака. Вел туда нас обычно фельдфебель. Чуть позже появлялись командир роты капитан Мансуров и младший офицер подпоручик Есаулов. До их прихода я подготавливал список личного состава и устраивался за походным столиком. В мою обязанность входило отмечать попадания в мишень.
Офицеры располагались в небольшой палатке, откуда и следили за ходом занятий.
Тем, кто в хорошую погоду поражал мишень без промаха, а в плохую — из пяти пуль посылал в цель четыре, Мансуров раздавал по фунту ситного, который покупал за свой счет.
За это на другой день одаренные капитаном стрелки должны были из строя сказать ему:
— Покорнейше благодарим, ваше высокоблагородие!
В конце лагерного периода в 1905 году устроили соревнования. Каждая рота выделила по десять лучших стрелков. Условия были такие: кто хоть раз промажет — из дальнейших состязаний выбывает. Попавшим всеми выстрелами в центр мишени вручался приз — золотые часы, у кого кучность была похуже, тех награждали серебряными.
Случилось так, что в том году отличились очень много солдат и часов всем не хватило. Поэтому часть метких стрелков была отмечена приказом по полку.
После этого был разыгран впервые учрежденный этим летом переходящий приз генерала В. С. Гадона. За него боролись шестнадцать рот. Победительницей оказалась наша.
В торжественной обстановке нам вручили позолоченный бунчук.
Это были самые светлые моменты в нашей лагерной жизни. В остальное время нас учили наступать, держать оборону, ходить в разведку, как в бою. Мы совершали длительные марши, рыли окопы, спали хоть и в палатках, но прямо на земле, питались по-походному. Спины наши не успевали просыхать. Нам все чаще вспоминались зимние квартиры, и мы считали дни, когда вернемся в них.
В увольнение в Петербург пускали лишь немногих и то за особые заслуги и успехи в службе. По воскресеньям мы могли только ходить в другие части, расположенные рядом с нашей. Но и это давало нам хоть какую-то возможность общаться между собой, узнавать о происходящем за пределами лагеря.
ДВА ЗАЛПА УЧЕБНОЙ КОМАНДЫ
В воскресенье 9 января 1905 года уже с подъема в казармах царило необычайное оживление. Подразделения спешно к чему-то готовились. До нас дошло, что на Дворцовой площади собирается какая-то толпа и для наведения порядка туда посылают учебную команду нашего полка. На улицы города будут выведены и сводные роты из старослужащих. И действительно, они вскоре направились к Зимнему.
Все молодые солдаты были оставлены в помещении. Мы ничего толком не знали и ждали известий извне. Выходить из здания нам строго-настрого запретили. Ни воскресный отдых, ни что другое на ум, конечно, не шло.
Через некоторое время разнесся слух, что в районе Зимнего началась пальба. Солдаты шепотом передавали друг другу: «Учебная команда расстреливает мирную демонстрацию».
Это нас ошеломило.
— Как же так, братцы, — спрашивали мы друг друга, — выходит, народ бьют?..
— Нет, это японцы сюда прорвались. В них пуляют, — невесело пошутил кто-то.
— Говорят, там рабочие, студенты…
Все были возбуждены и вместе с тем растеряны. Чувствовали, что творится неладное.
Вечером вернулись те, кто был на месте событий. «Учебники», как мы называли курсантов полковой учебной команды, принялись чистить винтовки. Я стал наблюдать за Ильиным и Семеновым. Они делали свое дело, как мне показалось, с подчеркнутым усердием. У Семенова недобро горели глаза. Он с каким-то ожесточением гонял в стволе шомпол с протиркой. Я спросил:
— Стреляли?
Семенов утвердительно мотнул головой.
— Я курсистке одной влепил прямо… — Семенов осклабился и со смаком произнес нецензурное слово. У меня мороз пробежал по телу, и я быстро отошел от него. Мне стало как-то жутко: гвардия расстреливала мирную демонстрацию!
Почему для этого использовали именно учебную команду — догадаться было нетрудно. Она состояла большей частью из тех, кто во что бы то ни стало хотел выбиться в унтер-офицеры и по-собачьи готов был служить «батюшке-царю», мечтал о продвижении.
Настроение почти у всех из нашей роты было подавленное, разговаривали между собой мало. Видно, осмысливали случившееся.
Спать легли с тяжелым сердцем.
9 января и в последующие дни на улицах Петербурга хозяйничали патрули и казачьи разъезды. Население избегало выходить из домов даже днем потому, что всех мало-мальски подозрительных людей хватали и избивали. Наступила полоса жесточайших расправ.
В кровавое воскресенье по приказу Николая II и его правительства в народ стреляла не одна учебная команда Преображенского полка, а и павловцы, и другие воинские части. Залпы гремели на Дворцовой площади, у Нарвских ворот, у Троицкого моста, на Мойке, около дома графа Строганова, на Васильевском острове. Демонстрантов атаковали конные гренадеры.
«Его императорское величество» накануне этих событий предусмотрительно уехал из Петербурга в Царское Село. Собравшиеся перед Зимним дворцом не могли ему угрожать. И тем не менее по ним все-таки открыли огонь… с его «высочайшего соизволения».
День 9 января явился важным моментом в истории развития революционной борьбы русского пролетариата. Даже многие солдаты-преображенцы, воспитанные в духе повиновения и преданности самодержавию, поняли, что Николай II возложил на них позорную обязанность подавлять движение трудящихся масс, с оружием в руках выступать против своих же братьев и сестер…
Некоторые гвардейцы говорили:
— Нас посылают — мы и идем. Стреляем. А в кого? Ну, ладно, был бы неприятель, как на войне. А то ведь… свой же народ!
— Не пойдешь — тебя самого к стенке, Вот и выбирай.
— Как хотите, ребята, а получается скверно…
Весь трагизм своего рабского положения преображенцы поняли позже, и возмущение, кипевшее внутри каждого, вылилось наружу.
Генерал-майор В. С. Гадон доносил в штаб гвардейского корпуса о подробностях расстрела демонстрации около Александровского сада и о действиях против собравшихся на Невском проспекте. Вот выдержки из его рапорта.
«9 января от вверенного мне полка в помощь полиции было наряжено восемь сводных рот. Трем ротам под начальством полковника Дельсаля было приказано быть в полной готовности в казармах на Миллионной улице к девяти часам утра и к одиннадцати часам утра прибыть на площадь Зимнего дворца, где и поступить в распоряжение генерал-майора Щербачева. Эти роты были: Е. В.[1] и 2-я (1-я сводная) под начальством капитана князя Оболенского, 3-я и 4-я (2-я сводная) — капитана Старицкого и полковая учебная команда (3-я сводная) — капитана Мансурова…»
Дальше в этом документе рассказывалось, что примерно часа в два дня, ввиду безуспешных попыток конницы очистить панель на углу Александровского сада и Адмиралтейского проспекта, полковником Дельсалем было приказано 3-й сводной роте совместно с полуэскадроном лейб-гвардии Конного полка оттеснить демонстрантов к Невскому проспекту.
Подойдя вплотную к людям, тесно прижавшимся друг к другу и державшимся за садовую решетку, головной взвод вынужден был остановиться. Из толпы раздавались возгласы, что никто не уйдет, если даже будут стрелять. Солдатам говорили: «Кончите службу, будете в таком же положении, как и мы».
Гвардейцев пришлось отвести шагов на 120—130 назад. Вслед им неслись насмешливые возгласы о том, что войскам следовало бы воевать не с рабочими, а с японцами.
«В это время, — сообщал Гадон, — полковник Дельсаль получил от генерал-майора Щербачева приказание его сиятельства командира корпуса открыть огонь… На что из толпы махали шапками, кричали: «Кого же вы пошлете в Японию?»
После поданных на горне трех сигналов с промежутками между ними полковник Дельсаль приказал командиру 3-й сводной роты капитану Мансурову стрелять…»
Один за другим прозвучали два залпа.
Я в то время, как и многие мои сослуживцы, еще неясно осознавал всю глубину свершившейся трагедии. Но то, что в народ полоснули огнем, что улицы обагрились кровью рабочих и особенно женщин, детей и стариков, вызывало возмущение, заставляло задуматься. И люди думали.
Всю ночь на 10 января то в одном, то в другом углу шуршали соломенные матрацы, слышались тяжелые вздохи. Не легко уснуть, когда душа в смятении, когда в голову лезут самые противоречивые мысли.
Темные, замуштрованные солдаты, приученные беспрекословно выполнять приказы начальства, не могли пока разобраться в событиях и правильно их оценить. Одно понимали: царем совершено тягчайшее преступление.
Лишь позднее нам стало известно, что наш ротный командир капитан Н. Н. Мансуров за проявленную на Дворцовой площади «доблесть» высочайшим приказом от 16 января 1905 года был награжден орденом Святой Анны третьей степени. Острый на язык рядовой Василий Кубаенко по этому поводу сказал:
— Нынче ордена царь дает за стрельбу по заводским, по старикам, старухам да по малым детям. Куда господь бог смотрит? Спятил его помазанник…
Чтобы как-то загладить содеянное, самодержец принял специально подобранных «представителей» трудящихся и в беседе с ними о «печальных» событиях, по существу, обвинил самих же рабочих. Вместе с тем он не скупился и на обещания улучшить жизнь.
Правительством была оказана «щедрая» помощь семьям расстрелянных в день 9 января: за каждого убитого работника было выдано по тысяче рублей. Этот акт величайшего лицемерия еще больше возмутил народные массы. Повсюду развернулось забастовочное движение. Преображенцам по приказу венценосного полковника все чаще приходилось выполнять полицейские и жандармские функции. Подразделения посылали на Путиловский завод для «острастки» бастующих, которые держались очень стойко и с которыми полиция не могла справиться. Почти неделю гвардейцы охраняли пустовавшие цеха фабрики Торнтона. Фабрикант боялся, как бы текстильщики не испортили оборудование и не растащили хозяйское добро, и поэтому он призвал на помощь солдат.
Неприглядную роль пришлось сыграть нашему полку и во время революционного выступления гвардейского флотского экипажа в Петербурге. Матросы вышли из повиновения офицерам и предъявили командованию политические требования. Для их усмирения в срочном порядке были вызваны преображенцы.
Правда, во всех этих случаях оружие не применялось, до этого дело не доходило, но факт давления силой на революционные массы был налицо. Недобрая слава нашей учебной команды распространилась далеко, и, как только лейб-гвардейцы появлялись на фабрике или на заводе, сопротивление бастующих ослабевало. Боялись, как бы снова не раздались залпы…
Кстати, не могу пройти мимо версии о «незаряженных ружьях», содержащейся в книге «Начало первой русской революции. Январь — март 1905 года», изданной Академией наук СССР в 1955 году. В ней утверждается, что 9 января при стрельбе в народ у восьми человек учебной команды «ружья оказались незаряженными. Эти солдаты были отправлены командиром полка капитаном Мансуровым под арест».
Это не соответствует истине. Во-первых, командиром лейб-гвардии Преображенского полка тогда был генерал-майор В. С. Гадон, а не капитан Н. Н. Мансуров. Последний занимал должность командира 2-й роты 1-го батальона. Во-вторых, гвардейцы были вооружены не ружьями, а винтовками, у всех солдат учебной команды они были заряжены и никто из участников расстрела демонстрации в те дни не арестовывался. Восемь человек были действительно отданы под суд (ефрейторы Степан Скрыпник, Константин Шинкарев, Тимофей Дурыгин, Василий Тулюпа, Логин Полтавцев, Дмитрий Дятлов, младший унтер-офицер Иван Бойченко, старший унтер-офицер Константин Семенов), но не в 1905, а в 1906 году и совершенно по другому делу. Об этом свидетельствуют и оставшиеся в живых свидетели тех событий и документы, хранящиеся в Центральном Государственном военно-историческом архиве.
ПРОКЛАМАЦИИ В КАЗАРМЕ
«Солдаты и матросы, вы часть народа, но вас ведут против народа».
(Из воззвания Петербургской военной организации РСДРП. 1905 год.)С некоторых пор на лестницах казарм солдаты стали находить прокламации. Они появлялись также и в помещениях, где преображенцы несли караульную службу. Обычно их находили рано утром или поздно вечером. Многие гвардейцы не умели читать и, повертев бумажки в руках, сдавали унтер-офицерам. От тех они попадали к фельдфебелю и командиру роты.
Наш фельдфебель Иван Васильевич Афанасьев не принадлежал к числу служак. Я с ним был в хороших отношениях. Иногда по вечерам в тиши канцелярии мы делились новостями из дому, размышляли о происходящем в столице и во всей России.
Нас волновали многие вопросы: выборы в Государственную Думу, Манифест 17 октября, положение крестьян, ход русско-японской войны.
Иван Васильевич сын крестьянина. Он всем сердцем сочувствовал революции.
Службу Афанасьев нес исправно. Благодаря его стараниям, в роте у нас всегда поддерживался образцовый порядок. Капитан Мансуров был доволен им. Я тоже выполнял свои обязанности аккуратно. Оба мы не вызывали подозрений у офицеров и поэтому могли, когда надо, посекретничать или куда отлучиться.
Однажды вечером, зайдя ко мне в канцелярию, Афанасьев разгладил на столе небольшой, мелко исписанный листок.
— Рядовые нашли и отдали мне, — сказал Иван Васильевич.
Мы стали читать:
«Солдаты и матросы, вы часть народа. Все ваши требования тоже и наши, но вас ведут против нас, и вы в крови народной утопите свою свободу. Не слушайте команды, слушайте голос народный. Присоединяйтесь к нам. Восставайте заодно с нами. Нет силы, которая могла бы пойти против армии, объединившейся с народом».
— Видишь как! — удивился Афанасьев. — Объединяйтесь с народом, значит… Кто это пишет?
Я молчал. Мне вспоминались ссыльные, с которыми довелось познакомиться в Шенкурске. Кто знает, может быть, кто-нибудь из них? Афанасьев повторил вопрос:
— Тоже не знаешь?..
Я предположил:
— Наверное, социал-демократы.
— Что с ней делать? — Афанасьев свернул листок и прикрыл его широкой ладонью. — Уничтожить?
— Раз уж попала к нам в руки, пусть пока будет у нас, — ответил я. — Может быть, кое-кому почитаю. Оставьте.
— Смотри не попадись.
— Ничего, я потихоньку.
С листовкой я познакомил своих товарищей, которым доверял, а потом уничтожил ее.
После этого мы с Афанасьевым сблизились еще больше, стали откровенны друг с другом. Впоследствии, когда я включился в революционную пропаганду, он содействовал мне в этом, делая вид, что не замечает моих отлучек, а иногда и ходатайствовал перед командиром роты о предоставлении мне увольнения.
Втянулся я в подпольную работу незаметно для самого себя. Солдаты, получая из дома письма, нередко обращались ко мне за разъяснением непонятных вопросов или просто для того, чтобы прочесть написанное. Я, что мог, растолковывал, но часто и сам не знал, как надо ответить. В нашей ротной библиотеке, разумеется, ничего такого не было, что хоть в какой-то мере помогло нам понять события. Газеты выписывались монархические, реакционного направления. Все толковалось так, как было нужно правительству. Вольно или невольно приходилось обращаться к нелегальной литературе, как-то находить ее.
Связаться с нужными людьми помог такой случай. В ротах действовал распорядок, по которому ежедневно, между пятью и девятью часами вечера, родственникам разрешалось заходить беспрепятственно в казармы и навещать «служивых». Этим пользовались подпольные социал-демократические агитаторы. Они проникали к нам под видом родственников.
Однажды такая гостья навестила и меня. Я сидел в канцелярии и что-то — уж сейчас и не помню — писал. К столу подошла женщина, невысокая, с простым лицом, довольно молодая, скромно одетая. Я удивленно посмотрел на нее. Посетительница поглядела настороженно и, волнуясь, поправила на голове платок. Я подвинул стул, предложил сесть.
— Здравствуй, Кирилл, — она протянула мне руку. — Ну как твоя служба? — сказала громко пришедшая. — Почему ты ничего не пишешь?
Я смотрел на нее с недоумением. Женщина быстро шепнула:
— Я ваша дальняя родственница. Поняли? Наташа.
Дальше разговор продолжался полушепотом. «Наташа» спросила о службе, о моем положении в роте, о связи с родиной, о настроениях среди солдат. Я догадался, кто передо мной, и невольно улыбнулся. «Ничего не скажешь, — подумал я о своей собеседнице, — смелая». Да, чтобы прийти в военную казарму к неизвестному человеку, завести как ни в чем не бывало разговор, для этого требовалось немалое мужество и хладнокровие. Попади она на другого писаря-служаку, ей бы не сдобровать.
— Мы вас немножко знаем, товарищ Басин, — сказала «Наташа», — так что не удивляйтесь моему приходу. Нам надо, чтобы кто-нибудь разъяснял солдатам текущие вопросы. Они должны разбираться в том, что пишут в газетах, книжках. Вы человек грамотный… Можем ли мы положиться на вас?
Я уставился на нее, изучая. «Не провокация ли?» — мелькнуло в голове. Такую гостью могла подослать и охранка. «Наташа», видимо, догадалась о моих колебаниях.
— Я понимаю вас… Но даю честное слово, что все это будет между нами, — сказала она. — Как еще убедить, просто не знаю.
Мне почему-то захотелось поверить ей.
— Хорошо, — ответил я. — Рассчитывайте на меня.
«Наташа» сказала, что в следующий раз придет мужчина, назвала его кличку и ушла. Больше я ее не видел.
Потом пришел какой-то человек и дал мне несколько прокламаций. Мы условились с ним о следующей встрече.
Постепенно я подобрал себе помощников. Ими стали старший унтер-офицер Кузьма Андреев, рядовой Станислав Колесинский, ефрейтор Игнатий Бороздин, рядовые Яков Петренко, Василий Кубаенко.
Пропагандировать в роте революционные взгляды было чрезвычайно рискованно. Заниматься этим приходилось очень осторожно, в глубокой тайне. Запретную литературу я хранил в канцелярии под библиотечными книгами, на койке под матрацем, иногда просто держал в карманах. Передавал ее либо Кубаенко, либо Петренко, либо каптенармусу Гарановичу. Каждый из них — еще нескольким солдатам. Прочитанные брошюры и листовки возвращались ко мне.
Некоторые нелегальные книжки маскировались обложками популярных в то время творений о царе и высших сановниках. Они тайком от ротного ходили по рукам.
Мы тогда еще не разбирались в тонкостях программ политических партий, хватались за все, что казалось революционным. Важно было вообще настроить солдат против существовавшего режима. Однако многие уже тогда понимали, что Манифест 17 октября — это надувательство со стороны царя. Мы слышали, что съезд созданного в 1905 году Крестьянского союза принял резолюцию с требованием передать землю в общую собственность народа. Позднее, когда собралась Первая Государственная Дума, нам стала ясна программа трудовиков, которые выступали за ликвидацию помещичьего землевладения и за передачу всей земли тем, кто ее обрабатывает.
Земля для крестьян, свобода всему народу, отмена классовых привилегий и улучшение положения солдат — вот что в то время волновало умы преображенцев. Они жадно слушали пропагандистов, пробиравшихся в полк, искали ответа на многочисленные вопросы в легальной и нелегальной литературе.
Кстати, одним из активнейших агитаторов был Аркадий Гаврилович Петров-Остапов — брат писателя Скитальца. Однажды, когда он пришел в полк, находившийся в Красном Селе, его увидел рядовой Переверзев из учебной команды. Он сразу же доложил кому-то из командиров и попросил арестовать Петрова-Остапова. Это было сделано. Аркадия Гавриловича начали обыскивать. При нем была записка ко мне. Чтобы она не попала в руки офицеров, он незаметно проглотил ее.
Не найдя у Петрова-Остапова ничего подозрительного, задержавшие отпустили его. Аркадию Гавриловичу следовало бы немедленно уйти. Но в это время пошел сильный дождь. Петров-Останов решил переждать под крышей столовой. Тут он снова встретился с Переверзевым. Доносчик опять побежал к начальству и стал доказывать, что Петрова-Остапова зря освободили.
— Это главный агитатор из тех, что ходят в полк, — заявил он.
Подпольщика вторично схватили и отправили в охранное отделение. Там раскопали материалы о его нелегальной деятельности. Пропагандист был сослан в Сибирь.
Разумеется, не следует представлять дело так, что распространение революционных взглядов в полку было поставлено широко, велось регулярно и организованно. Но пропаганда все-таки велась благодаря активной деятельности военной организации петербургских социал-демократов. Ее агитаторы работали с писарями воинских частей столицы, как наиболее грамотными людьми, вовлекали их в подпольную работу, через них разъясняли остальным необходимость перехода войск на сторону народа.
Впоследствии в обвинительном акте по делу 1-го батальона Преображенского полка следствием было признано, что в течение зимы 1905—1906 годов наше подразделение было буквально забросано прокламациями. Сначала их подбирали и сдавали начальству, затем стали уничтожать на месте.
Но уничтожалось, конечно, не все. Какая-то часть запретной литературы все-таки доходила до тех, кому она была адресована.
Командир роты капитан Мансуров внимательно следил за настроением подчиненных, их разговорами. И хотя ему пока не удалось учуять никакой опасности, он все же усиленно настраивал мысли солдат в угодном для себя направлении. Главной его заботой, как и всех других офицеров, было уберечь гвардейцев от «тлетворного влияния времени», удержать в повиновении, сохранить мобилизационную готовность части. Каждое более или менее значительное политическое событие Мансуров обязательно комментировал, растолковывал так, как считал нужным. Он не оставлял без внимания даже письма, которые приходили в подразделение. Прежде чем попасть адресатам, они подвергались проверке.
Как-то ефрейтору Игнатию Кузьмичу Бороздину написал отец. Старик жаловался на плохую жизнь крестьян, на низкий урожай, на бедственное положение деревни. Прочитав это, Мансуров пригласил Бороздина в канцелярию и сказал, что у его родителя нездоровые настроения. Командир порекомендовал ефрейтору послать домой успокоительный ответ.
Аналогичный случай произошел и с рядовым Андреем Петровичем Исуповым. Крестный сообщил ему, что в городе у них царит произвол властей, людей чуть что арестовывают и всячески притесняют. С листком, в котором это было рассказано, Мансуров пошел к командиру полка. Тот приказал ротному самому ответить родичу Исупова.
Продавец винной лавки в Казани, получив послание от Мансурова, испугался. Он поспешил заверить офицера, что проявил легкомыслие, поддавшись настроению местных оппозиционных газет, и теперь раскаивается в своем поступке. После этого Мансуров поговорил с Исуповым и успокоился, полагая, что таким образом оградил его от нежелательного влияния.
Социал-демократической пропаганде он, как и другие офицеры полка, стремился противопоставить монархическую. Так, после опубликования 17 октября 1905 года царского манифеста Мансуров, посоветовавшись с генерал-майором Гадоном, стал через некоторое время распространять среди солдат брошюру придворного историка Дубенского «Что дал император Николай II русскому народу». В ней всячески превозносились «благодеяния» самодержца.
Видя тяготение подчиненных к печатному слову, капитан выписал для них газеты «Русское чтение», «Заря», «Сельский вестник», а подпоручик Есаулов с его разрешения — «Новое время».
Часто Мансуров сам читал эти издания вслух, стремясь, чтобы его слушатели поняли тот или иной материал именно так, как ему хотелось. Иногда он поручал провести громкую читку кому-нибудь из взводных. Как бы давая некоторую отдушину от политической литературы верноподданического характера, Мансуров с ведома командира полка стал давать в ротную библиотеку произведения А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова. Солдаты охотно брали эти книги в караулы и наряды.
Зная, что нас, крестьянских детей, конечно же волнуют аграрные вопросы, ротный не обходил их. Он брал инициативу в свои руки. Познакомив гвардейцев с брошюрой Демчинского «Чего хотят люди, которые ходят с красными флагами», Мансуров говорил, что дело вовсе не в количестве земли, имеющейся в распоряжении хлебопашцев, а в том, как она обрабатывается.
— За границей наделы зачастую еще меньше, — убеждал он. — Но, благодаря высокой культуре обработки их, урожаи там куда больше.
Мы мысленно сопоставляли сотни и тысячи десятин дворянских, помещичьих и монастырских пашен с лоскутными наделами своих родителей и никак не могли согласиться с капитаном. Когда он уходил, солдаты начинали толковать по-своему:
— Культура, конечно, дело хорошее, только землицы все же не хватает…
— Вот, вот, пахать-то нечего! Куда ни кинь, везде один и тот же клин… Что хочешь, то и сей.
— А навозу где взять, если лошади нет, да и коровенку за недоимку увели?
— Так что культура культурой, братцы, а землица-то прежде всего…
Как ни изощрялись господа офицеры, а революционные веяния все глубже проникали в сознание служивых. Они все внимательней прислушивались к словам подпольных агитаторов, все охотнее читали листовки и прокламации. Начальство наконец стало замечать это, забеспокоилось.
Однажды зимним вечером разводящий, сменив посты, возвращался в караульное помещение. Он поднялся на крыльцо и при свете уличного фонаря заметил под ногами какую-то бумагу. Гвардеец наклонился. В руках у него оказалась небольшая брошюра. Преображенец огляделся — нигде никого. Тогда он отнес книжицу начальнику караула. Тот прочитал ее. Брошюра призывала солдат не участвовать в подавлении выступлений рабочих и крестьян. В ней приводились примеры отказа военнослужащих выполнять распоряжения офицеров. Унтер доложил об этом командиру роты. Мансуров в свою очередь счел необходимым показать находку генерал-майору Гадону. Так она, по словам Мансурова, дошла до адъютанта главнокомандующего ротмистра князя Щербатова.
Этот случай насторожил Мансурова. Он стал кое-кого подозревать. В марте 1906 года аресту подвергся солдат Росляков, который должен был в этот день увольняться в запас. При обыске в его вещах нашли книги «преступного содержания». Рослякова отправили в охранное отделение.
До сих пор в нашей роте не было случаев шпионства и фискальства. Поэтому я решил дознаться, кто же совершил эту подлость. Выяснилось, что по доносу ефрейтора Сбруева (из 1-й роты) начальство пожелало осмотреть вещи Рослякова. Когда тот заявил, что у него с собой ничего нет, ефрейтор нашей роты Карл Гезлер показал сундук Рослякова. В нем и обнаружили революционную литературу.
Поступок Гезлера меня возмутил. При построении на вечернюю поверку я разоблачил его перед всеми солдатами.
Гезлер ничего не сказал, затаил злобу. После событий 1906 года в батальоне Гезлер, опасаясь расправы за предательство, сумел при содействии своих покровителей уволиться в запас. На военный суд в октябре 1906 года в село Медведь он не явился. Его клеветнические показания были оглашены заочно.
Вскоре после ареста Рослякова заведующий хозяйством части полковник Лошкарев сообщил Мансурову, что его швейцар и лакей рассказали, будто унтер-офицер Гаранович встречается с какой-то подозрительной курсисткой.
За Гарановичем была организована слежка. Мансуров установил контакт с подполковником Модлем из охранного отделения. Тот записал приметы Гарановича. Но уличить каптенармуса в чем-либо предосудительном не удалось.
Через некоторое время Гаранович получил из дому телеграмму о болезни матери. Он попросил у капитана Мансурова отпуск. Мансуров запросил волостного старшину. И когда он подтвердил, что мать Гарановича нездорова, командир роты выхлопотал унтер-офицеру отпуск. При этом Мансуров осторожно прощупал Гарановича:
— Не остается ли тут у тебя в Петербурге зазноба, которая будет скучать?
— Нет, — ответил Гаранович. — Была у меня знакомая прачка, но мы с ней поссорились.
— Поедешь на родину, так не забудь, что служишь в гвардии. Береги честь мундира! — покровительственно пожелал Мансуров. — Между прочим, если будут спрашивать тебя дома о том, как решается вопрос с землей, то говори, как я вам разъяснял.
— Так точно, ваше высокоблагородие, — ответил Гаранович послушно. — Я буду говорить землякам, что нужны власть и порядок и бунтовать грех.
— Ну то-то же! Поезжай с богом!
Гаранович не знал, что Мансуров в последнее время стал часто заходить к нему в ротный цейхгауз неспроста. На следствии ротный показал, что он посылал Гарановича с каким-нибудь поручением, а сам тем временем обшаривал карманы его одежды, висевшей на стене, — искал, нет ли в них чего-либо подозрительного. Когда Гаранович готовился к поездке домой, Мансуров ухитрился осмотреть его сундук и ящики письменного стола. Но ничего, кроме обычных служебных документов и личных писем, не нашел. Просмотрев отчеты и расчеты, капитан убедился лишь в том, что Гаранович хорошо исполняет свои служебные обязанности.
По приказанию генерала Гадона Мансуров встретился в охранном отделении с подполковником Модлем и справился, что дала слежка за Гарановичем. Модль сказал:
— Ваш командир полка напрасно беспокоится. У нас нет никаких данных о том, что Гаранович революционер.
Со второй половины октября 1905 года я стал посещать собрания рабочих в клубе Карла Маркса на Васильевском острове. Но он по требованию полиции вскоре был закрыт.
Несколько позже у Балтийского завода я познакомился с рабочим по кличке «Взводный». Подлинную фамилию его не знаю. У него на руках после 9 января остались шрамы от казачьей шашки. С иронией и болью, хмуря густые брови, «Взводный» говорил мне:
— Ну вот, теперь мы ученые. Больше не пойдем к царю просить милости, а будем требовать свое с оружием в руках.
У «Взводного» жил родственник, восемнадцатилетний юноша. Он часто приходил ко мне в ротную канцелярию, передавал прокламации. И сам разбрасывал их в казарме, на дорожках, у бани, у помоек. Идет солдат по своим делам, подберет листок и прежде, чем передать начальству, полюбопытствует: что же в нем написано?
Юношу я частенько угощал солдатским ужином. Этот паренек плохо говорил — у него был физический недостаток. Куда он потом делся, я так и не знаю.
Однажды мне удалось побывать на занятиях в одном из политических кружков. Мне там дали брошюру под названием «Долой социал-демократов!». Но заглавие не соответствовало содержанию. В действительности, как меня предупредили, в ней излагались некоторые программные вопросы социал-демократической партии.
Несколько дней спустя, поздно вечером, когда солдаты уже спали, я сидел в ротной канцелярии за столом и при свете лампы читал брошюру. Неожиданно ко мне зашел подпоручик Есаулов.
Я сунул книжку под лежащий на столе отчет. Есаулов, видимо, заметил это. Он подошел ко мне вплотную и скривил губы в усмешке.
— Чем занимаешься в столь поздний час? — спросил он и поднял исписанные мною листки. — Так-с, читаем, значит? Просвещение дело полезное. Гм… любопытно. «Долой социал-демократов»… Надо посмотреть. Где ты это взял?
— Купил у разносчика книжек, — ответил я.
Есаулов недоверчиво посмотрел на меня и положил брошюру себе в карман.
На другой день меня и фельдфебеля Афанасьева Мансуров позвал в квартиру капитана Михайлова, находившуюся в нашем здании. Очевидно, он не хотел пока случившееся предавать огласке.
— Где ты взял эту штуку? — спросил Мансуров, побледнев от гнева.
Я повторил, что купил на улице, так как заинтересовался названием.
— Это же революционная пропаганда! Кому-нибудь давал читать?
— Никак нет, ваше высокоблагородие!
— А сам всю прочитал?
— Только начал.
— Врешь, по глазам вижу! Заразился смутьянским духом! А этот писака, — капитан потряс брошюрой, — просто жрать хочет, вот и несет всякую чепуху. Таким книжкам не место в роте! Что у нас, своей библиотеки нет? Или газет не выписываем? Зачем же читать эти бредни?
Мансуров начал выдергивать листы и рвать их в клочья.
— Смотри, Басин, если еще раз замечу, — пеняй на себя. Разве худо тебе писарем?
Я пообещал, что впредь ничего подобного делать не буду. Теперь приходилось быть особенно осторожным.
Осенью 1905 и зимой 1906 года внешне в полку все обстояло спокойно. Но так только казалось. В действительности в сознании солдат происходило брожение, зрело недовольство порядками в стране, высокомерным обращением офицеров, запретом открыто высказывать волновавшие нас мысли.
В своем Манифесте от 17 октября 1905 года царь провозгласил свободу слова. Но на самом деле никакой свободы не было. К тому же «дарованные» права даже формально не распространялись на армию. За каждое вольное высказывание нас сурово одергивали.
И вот настало время, когда накопившееся в душах солдат возмущение начало пробиваться наружу в самых различных формах.
В январе 1906 года в 1-м батальоне произошла нашумевшая тогда в части история с пшенной кашей. Ее слишком часто давали нам на ужин. Она была жидка, невкусна, плохо заправлена и давно всем надоела. Однажды наша рота, придя на ужин, взялась было за ложки, но, заглянув в бачки, многие тут же отодвинули их.
— Опять кашица!
— Она, треклятая!..
Кое-кто все-таки стал есть. Остальные же не притрагивались к пище. В столовой слышались недовольные возгласы, шум. Когда подразделение ушло, на столах против обыкновения осталось большое число полных бачков.
В 1-й и 3-й ротах опостылевшую кашицу кто-то расплескал по ступенькам лестниц.
Узнав о случившемся, капитан Мансуров пришел в казарму.
Встав против выстроившихся солдат, он спросил:
— Значит, гвардейская каша вам не нравится?
С левого фланга донеслось:
— Да, поприелась, заменить бы чем…
Мансуров метнул злой взгляд в сторону говорившего:
— Солдатам положено есть, что дают! Понятно? Предупреждаю, чтобы больше таких фокусов не было!
Капитан Мансуров доложил об инциденте командиру полка. На следующий день генерал-майор Гадон собрал ротных.
Как мы потом узнали, он приказал им раскладку не менять, ту же еду готовить в те же дни.
С этим офицеры и разошлись. Но вопреки этому решению меню все же изменилось: кашу начали готовить только раз в неделю и стали сдабривать салом.
Эпизод, конечно, не очень значительный. Но раньше у нас ничего подобного не бывало.
А в 16-й роте произошел такой случай. Фельдфебелем там был некий Викулин, до невозможности придирчивый, грубый. Одним словом, «шкура». Он по всяким пустякам жестоко наказывал солдат, издевался над ними. Когда стало совсем невтерпеж» гвардейцы через взводных заявили командиру роты: «Рота такого фельдфебеля не желает!»
Командир батальона полковник Ганецкий и младший офицер роты подпоручик Бенуа четыре часа уговаривали солдат, старались помирить их с Викулиным. Но те упорно стояли на своем: «Рота фельдфебеля не желает!».
Викулина, хоть и не сразу (через шесть месяцев), а все же уволили из части.
Все это свидетельствовало о том, что лейб-гвардии Преображенский полк теперь был далеко не такой уж надежной опорой престола, как раньше.
В ЛЕТНИХ ЛАГЕРЯХ
Накануне Дня Международной солидарности трудящихся 1 Мая 1906 года Петербургский комитет РСДРП выпустил прокламацию:
«Товарищи! Дружно, как один человек, празднуйте Первое мая. Во вторник, Первого мая, пусть ни один из вас не работает».
Призыв социал-демократов был дружно поддержан рабочими. 1 Мая повсюду в Петербурге проходили забастовки, демонстрации, митинги и собрания. Станки остановили пролетарии Городского и Выборгского районов, Петербургской стороны, Васильевского острова, Нарвской заставы.
Гвардейские части в это время уже находились в летних лагерях. С ведома фельдфебеля Ивана Васильевича Афанасьева я тайно ездил в Териоки на митинг. Из Красного Села уехал в субботу, сразу после занятий. В Петербурге заночевал у писателя Скитальца.
Утром, переодевшись в штатскую одежду, я вместе с его сестрой направился в Териоки по железной дороге. На пограничной станции Белоостров офицер не спросил паспорта, а только посмотрел, нет ли при нас какой-либо контрабанды.
Народу на митинг собралось много. На нем выступали питерские рабочие, некоторые члены Государственной Думы — представители ее левого крыла, в том числе лидер трудовиков А. Ф. Аладьин.
Из беседы с ним еще на квартире Скитальца, а затем из его речи мне стала понятной программа крестьянской Трудовой группы. Она добивалась отмены всех сословных и национальных ограничений и установления равенства всех граждан перед законом, введения всеобщего избирательного права. В аграрном вопросе выступала за ликвидацию помещичьего землевладения и передачу всей земли крестьянам. Состоявшая из разнородных элементов, группа эта колебалась между кадетами и социал-демократами. Но, как отмечал В. И. Ленин, она проводила «совершенно ясную линию защиты интересов крестьянства против помещиков».
Аграрную программу трудовиков поддерживали и солдаты. В частности, она нашла отражение в нашей петиции царю, которую мы выработали летом 1906 года.
В конце мая и в начале июня в Гореловском лесу, расположенном в нескольких километрах от Красного Села, проходили нелегальные солдатские собрания с участием трудящихся.
Те, кому удавалось на них побывать, потом подробно рассказывали остальным, о чем говорили выступавшие, какие были приняты решения. Некоторые приносили оттуда подпольную литературу и пускали ее по рукам. Иногда в палатки к нам приходили агитаторы от рабочих и беседовали с солдатами.
Все это, безусловно, сказывалось на настроении гвардейцев.
6 июня нам стало известно, что по приказу Николая II преображенцы должны идти пешим порядком в Петергоф для усиления охранной службы в летней резиденции императора.
Солдаты заволновались. То тут, то там стали собираться группы, слышался ропот:
— Если мы царю нужны — пусть везет. Сам небось не ходит!
— Говорят, Московский полк потребовал поезд, так сразу дали.
Дело, конечно, было не в каких-то двадцати пяти километрах, отделявших лагеря от Петергофа, а в том, что у многих уже вышел срок службы, а их в связи с неспокойным положением в стране и столице задерживали и могли снова бросить против народа.
По существовавшему в полку обычаю после вечерних поверок старослужащие кричали из палаток:
— На родину!
— Старше в полку нет!
— Пропадаю!
Возгласы означали, что задержка с увольнением в запас заставляет солдат мучиться, «пропадать» тут, в части, в то время когда уже надо быть дома.
Николаю II войска были необходимы для подавления рабочих выступлений.
Гвардейцы сетовали на свою судьбу. К обычным в таких случаях выкрикам добавились и новые:
— Пешком в Петергоф не пойдем!
— Поедем!
— А стрелять в народ не будем!
— Не бу-удем стрелять в народ!
— Пешком не пойдем!..
Никогда прежде таких категорических заявлений командиры не слышали. Напрасно пытались они хоть кого-нибудь узнать, солдаты изменяли голоса, а когда их спрашивали — молчали.
Однако стоило офицеру уйти из палатки, как вдогонку ему неслось:
— Не пойдем пешком!
— А стрелять в народ не будем!
7 июня, возвратившись с занятий, снова заговорили о том, чтобы в Петергоф не ходить, по рабочим огонь не открывать, в случае чего — забастовать. Большинство преображенцев возлагали надежды на Государственную Думу, рассчитывали, что с ее помощью получат наделы.
Другие возражали:
— Землю крестьянам не дадут.
— А Государственную Думу разгонят!
Однажды после вечерней поверки гвардейцы долго не расходились, собирались кучками неподалеку от передней линейки и продолжали оживленно обсуждать волнующие их вопросы. Перед палатками 2-го, а затем и 3-го батальонов скопилось особенно много солдат. Среди них были и семеновцы и артиллеристы. В центре находился гармонист. Он вовсю растягивал меха, кто-то сыпал частушками:
Моя милка шилом шила, Топором лапшу крошила; Рукодельная была, Сарафаном пол мела!Потом из толпы вышел ефрейтор Игнатий Бороздин и пустился отплясывать «Барыню».
Несмотря на этот взрыв веселья, в поведении солдат было что-то такое, что заставило дежурного по полку графа Игнатьева насторожиться. Он приказал им разойтись. Сначала Игнатьева будто и не слышали. Ему пришлось повторить свое требование несколько раз. Гвардейцы нехотя направились к палаткам. В тишине июньского вечера из конца в конец лагеря опять покатилось:
— На родину!
— Не пойдем пешком!
— Стрелять в народ не будем!
На помощь дежурному по полку поспешили ротные командиры и фельдфебели. С большим трудом лишь к двенадцати часам ночи они уложили нас спать.
А утром 8 июня преображенцы вновь загалдели. Однако открыто призвать к отказу от похода не решился никто.
Возвратившись из командировки и узнав о брожении в части, генерал-майор В. С. Гадон решил об этом никому не докладывать. Он считал, что во время марша привычные к дисциплине солдаты войдут в обычные рамки, их страсти улягутся и все забудется.
В половине шестого подразделения выстроились. В косых лучах раннего солнца поблескивало оружие. Погода была безветренной, ясной. Все предвещало большую жару. Гадон и батальонные командиры объявили порицание личному составу за недостойное поведение и выразили уверенность, что дальнейшими примерными действиями преображенцы загладят свой проступок.
— Постараемся… — вяло и недружно ответил на это наш батальон. Раздалась команда:
— Шаго-о-ом марш!
Колонны двинулись. Все шли хмурые. Иногда, так чтобы не слышали офицеры, кто-нибудь вздыхал:
— Вот вам и поезд, братцы!
— Топай, топай…
Нарочито бодро Мансуров бросил:
— Запевай!
— Запева-а-ай, — подхватили в других подразделениях.
Но солдаты молча стучали сапогами по сухой, как камень, дороге.
Так и шли до самого Петергофа.
Некоторые командиры пытались заставить подчиненных петь. Но ничего не добились. Где-то было взлетел неуверенный голос, но, никем не поддержанный, замер.
— Что же вы не поете? — сердилось начальство.
— Жарко, ваше высокоблагородие. Пыли много…
СТРЕЛЯТЬ В НАРОД НЕ БУДЕМ!
Вечером 8 июня лейб-гвардии Преображенский полк прибыл в Новый Петергоф. В этом живописном городе-парке жил царь со своей семьей и свитой. В разное время года Николай II пребывал в различных местах. В летние дни от петербургской духоты и жары выезжал в Петергоф. В осеннюю слякоть спешил в Крым. И только в зимние месяцы Романовы жили в столице или в Царском Селе.
Николая II я видел несколько раз. Внешне это был самый заурядный человек, среднего роста, с рыжеватой бородой и вихляющей походкой. Тот, кто не знал самодержца лично, мог свободно принять его за обыкновенного армейского офицера. Под глазами у Николая II отвисали большие мешки — признак пристрастия к спиртному. На портретах художники обычно эту деталь опускали.
Монарх приезжал в Красносельские лагеря. Объезд частей он всегда начинал с Преображенского полка, находившегося на правом фланге, и в частности с нашей роты, стоявшей первой. Однажды, направляясь к нам, Николай II, как обычно, сказал стоявшему в начале линейки дневальному:
— Здорово, братец!
Первогодок, увидев на плечах прибывшего погоны полковника, не долго думая, отчеканил:
— Здравия желаю, ваше высокоблагородие!
Николай II усмехнулся (надо было «ваше императорское величество»), но ничего не сказал и вместе со свитой двинулся к полковому знамени.
Иногда он появлялся у нас часов в пять утра и приказывал горнисту играть тревогу. Начиналась суматоха. Солдаты быстро собирались, выстраивались и форсированным маршем шли к Красному Селу. Там было военное поле. Посреди него возвышался так называемый «царский вал». На нем беседка, в которой располагались семья Николая II и высшие сановники. Сам царь верхом на лошади занимал место у подножия насыпи и принимал парад войск. Все гвардейцы проходили с винтовками «на плечо», а павловцы «на руку», будто устремлялись в атаку. Это отличие для лейб-гвардии Павловского полка было установлено, чтобы подчеркнуть его особые заслуги в войнах.
Николай II и его окружение упивались на этих смотрищах кажущейся военной мощью. Но русско-японская война, как известно, показала всем гнилость и бессилие российской империи. Теперь ее расшатывала еще и революция.
Усталые и хмурые, разместились преображенцы в казармах лейб-гвардии Уланского и в манеже Конно-гренадерского полков. В комнатах было по двадцать пять — тридцать коек. Матрацами солдат не обеспечили, спать пришлось по-походному: шинель в изголовье, шинель под себя, шинель на себя.
По огромному парку, раскинувшемуся на побережье Финского залива, разлилась тишина. Царские хоромы тщательно охранялись жандармами и тайной полицией, подвластными коменданту дворца обер-палачу революции 1905 года генералу Трепову.
Устраиваясь на отдых, гвардейцы и не подозревали, что находятся накануне небывалых за время всей истории своей части событий.
После поражения декабрьского вооруженного восстания в Москве революция не сразу пошла на убыль. Наоборот, многим из нас тогда казалось, что она только набирает силу. Борьба продолжалась и в городе и в деревне. Крестьяне выступали против помещиков. В промышленных центрах не прекращались стачки и забастовки. В Петербурге почти ежедневно проходили массовые митинги и демонстрации. Волнения захватывали и воинские части. В конце мая 1906 года в Кронштадте восстали военные моряки. Их выступление, поддержанное рабочими, имело ярко выраженный политический характер. Ходили слухи, что правительство предполагало послать нас на подавление кронштадтцев.
Преображенцы не желали больше выступать в роли жандармов.
Возбужденное состояние, появившееся у солдат еще в Красном Селе, не прошло, как рассчитывал командир полка. С утра 9 июня, пользуясь тем, что был свободный день, гвардейцы собирались группами и горячо обсуждали волновавшие их вопросы. Родилась мысль: все наши претензии и требования предъявить царю, поскольку он рядом.
Унтер-офицер Прокофий Прытков, старший унтер-офицер Кузьма Андреев, рядовой Дмитрий Сокотнюк, ефрейтор Игнатий Бороздин и я, обменявшись мнениями во время прогулки по парку, пришли к выводу, что необходимо собрать солдат на митинг.
— Надо договориться, с чем идти к императору, — сказал я.
— Правильно, — поддержал Прытков. — Солдаты недовольны многим. И тем, что их положение бесправно, и что отслуживших срок задерживают, и что приходится помогать полиции в подавлении забастовок… Наше ли это дело — стращать народ оружием, когда он добивается лучшей жизни?
По аллеям шныряли люди в штатском. Мы избегали встречаться с ними: резиденция Николая II усиленно охранялась и вокруг было полно шпиков и переодетых жандармов.
Перед вечерней поверкой в ротах первого батальона наблюдалось необычное оживление. О своих солдатских нуждах многие говорили громко, не таясь. К нам пришел дежурный по полку командир 4-й роты капитан Старицкий. Он был какой-то настороженный и после переклички оставался у нас до тех пор, пока все мы не отправились в казармы. Только тогда Старицкий удалился, уверенный, что солдаты утихомирились и будут отдыхать.
Но о сне никто и не думал. Как только Старицкий покинул батальон, гвардейцы высыпали во двор, который располагался позади двухэтажного корпуса и был обнесен со всех сторон высоким забором. На заднем плане находились хозяйственные постройки. Фасадом здание выходило на Уланскую улицу. На противоположной ее стороне были расквартированы 3-й батальон и музыкантская команда.
Мы с Прытковым вышли на середину двора. К нам тотчас же присоединились Андреев, Сокотнюк, Бороздин. Раздались возгласы:
— Товарищи, все сюда!
Из помещений показались новые группы преображенцев. Их число быстро росло. В основном, это были люди из 1-го батальона, но среди них встречались и из 3-го, и музыканты. Всего набралось около трехсот человек. Закрыли ворота.
— Братцы, будем действовать сообща — один за всех, все за одного! — зычно крикнул рослый бородач Прокофий Алексеевич Прытков, уроженец Воронежской губернии. — Один прутик сломать легко, а попробуй сломать веник…
— Верно! — отозвались солдаты.
— Друг за дружку стоять!..
— Давайте запишем наши требования! — предложил я.
— И предъявим их начальству, а то и самому царю! — поддержал Прытков.
Я вынул из кармана листок, на котором имелись кое-какие наброски, и стал читать.
Первым шло требование об увольнении в запас всех, кто уже выслужил положенный срок.
— Верно! — раздались возгласы.
— Хватит тут пропадать в полку!..
— Домой!
Мы стали обсуждать пункт за пунктом. Прокофий Алексеевич давал подробные пояснения. Его дополнял унтер-офицер Кузьма Андреевич Андреев, уроженец Останской волости, Псковской губернии.
К тому, что у нас было подготовлено, собравшиеся добавили немало нового. В выработке этой своеобразной петиции все участвовали активно. В возгласах, высказываниях чувствовалось единодушие, какой-то подъем. Мы вдруг стали между собой как бы ближе.
В самый разгар митинга у ограды появился капитан Старицкий вместе со своим помощником подпоручиком Астафьевым. Заглянув в щель и увидев солдат, они попытались войти во двор. Но отворить ворота им не удалось. В это время ординарец Колесниченко вывел из конюшни коня и направился с приказами в штаб. Задержать Колесниченко не успели, и он открыл засов. Старицкий с Астафьевым воспользовались этим моментом и проскользнули к гвардейцам. На их лицах отразилось не то изумление, не то растерянность.
Старицкий — среднего роста, подвижной, сухощавый шатен, с небольшой бородкой и усами. Одет он был в китель, черные брюки с красным кантом, на ногах русские сапоги. На правом боку — револьвер, на левом — шашка. Примерно так же выглядел и подпоручик Астафьев.
Расстегнув кобуру и положив руку на торчащую оттуда рукоятку, Старицкий подошел к нам и приказал:
— Разойдитесь, братцы!
Преображенцы зашумели:
— Мы тут сами себе хозяева!
Взбешенный этим неповиновением, Старицкий побледнел. Видя, что он хочет припугнуть их револьвером, участники митинга возмущенно закричали:
— Долой Старицкого!
— Сыщик!
— Полковой шпион![2]
Старицкий повысил голос, стараясь всех перекричать:
— Опомнитесь!.. Солдаты вы или нет?
— Это только вы нас скотами считаете…
— Довольно, натерпелись!
— Побойтесь бога! — продолжал взывать к гвардейцам дежурный. — Если у вас есть какие-либо жалобы, то каждый может заявить их законным порядком. А сейчас — разойдитесь, не безобразничайте!
В ответ послышалось:
— Вон Старицкого!
Видя, что собравшихся ему не унять, Старицкий что-то сказал по-французски своему помощнику. Астафьев исчез. Старицкий тоже стал медленно пятиться назад. Добравшись до ворот, скрылся за забором. Митинг был сорван. Зная, что сейчас прибегут офицеры, мы покинули двор.
Когда явились командиры, все уже лежали на койках и делали вид, что спят. Ротные остановились в замешательстве. Поднимать нас они не решились.
Я, свернувшись на шинели, думал, перебирал в памяти происшедшее. В ушах звенели слова:
— Пусть объяснят, где наши товарищи, которых арестовали зимой! Освободить их и вернуть в полк! Пиши, Басин.
Я отвечал:
— Пишу-у!
— Чтоб допускали к начальству с жалобами. Пиши…
— Пишу, братцы, пишу! — И заносил все это в тетрадку, которую теперь спрятал за пазуху. Ни за что не отдам ее преждевременно. Что-то будет завтра? Конечно, придет командир полка, а может быть, и командующий дивизией. В первую очередь спросят с Прыткова, меня, Андреева. Но мы не сдадимся! Будем добиваться, чтобы наши требования дошли до царя.
…Ночь плыла над Петергофом, теплая, тихая, июньская. Императорский дворец был погружен в сон. Не спали лишь его охранители да многие из нас.
Утром 10 июня офицеры, явившись в роты, не здоровались с нами. Не скрывая негодования, они спрашивали, что случилось вчера. Но все молчали.
Приехал генерал Гадон и тоже, не поздоровавшись, холодно поинтересовался:
— Что там у нас произошло? Чего мы хотим?
И ему никто не ответил.
Генерал прошел вдоль строя взад-вперед, внимательно вглядываясь в лица, потом остановился и сказал:
— Как не стыдно! Вы же — преображенцы, прибыли в гости к государю и так позорно ведете себя. Срам! Пятно на гвардию! Вы меня поняли?
Опять гробовое молчание. Крайне обиженный и расстроенный, Гадон произнес:
— Ну, раз вы меня не поняли и не хотите понять, то, как ни дорого мне имя полка, честь его, я вынужден обо всем доложить высшему начальству. Пусть оной карает вас.
Мы каменно молчали.
Никто не отзывался на обращения Гадона, надеясь, что я выйду и изложу ему наши требования, текст которых находился у меня. А я рассудил так: если сейчас объяснить генералу, чего мы хотим, то он и остальное полковое начальство постараются это происшествие замять и вряд ли поставят о нем в известность высшее командование.
Поэтому я стоял и думал: «Докладывай. Мы этого и добиваемся».
Нас направили на петергофский плац на строевые занятия. Солдаты выполняли приемы безукоризненно. Вышагивали мы там до одиннадцати часов. Затем в часть приехал командующий дивизией генерал-майор С. С. Озеров. Гадон доложил ему о событиях по телефону, а он в свою очередь немедленно отправился с рапортом к главнокомандующему гвардией великому князю Николаю Николаевичу[3].
После встречи с ним Озеров сообщил Гадону, что солдатскому митингу большого значения придавать не следует.
— Надо как можно благополучнее завершить пребывание полка в Петергофе, — сказал он. — Всю эту историю надо по возможности перевернуть на экономическую почву. В разговоре с нижними чинами не стращать их, а воздействовать на сердце и чувство.
С таким вот намерением и прикатил к нам свиты его величества генерал Озеров. Высокого роста, усатый, полный собственного достоинства, он прошел в столовую, где собрался 1-й батальон. Стараясь придать своему лицу приветливое выражение, он поздоровался. Ему ответили. Озеров окинул взглядом гвардейцев и сказал:
— Господа офицеры! Я хочу один побеседовать с солдатами. Поэтому прошу вас удалиться.
Офицеры оставили помещение. Наступила тревожная тишина. Озеров обратился к нам:
— Я, братцы, желаю говорить с вами не как начальник, а как старый преображенец[4], носящий мундир полка вот уже тридцать пять лет! Прошу, чтобы кто-нибудь из вас откровенно объяснил мне, что у вас произошло?
Наступила продолжительная пауза. Взоры всех обратились на меня. Тогда я вышел и стал перед генералом.
— Какой роты? — спросил он.
— Второй… рядовой Басин, ваше превосходительство.
Озеров покровительственно похлопал меня по плечу:
— Молодец, молодец! Ну рассказывай, в чем дело?
— Вчера вечером мы собрались, чтобы поговорить о том, что нас волнует, но нам помешали, — ответил я. — Мы скажем, что у нас наболело на душе, но дайте нам возможность промеж собой потолковать.
— Сколько же вам на это надо времени? Часа достаточно?
— Хватит.
— А дадите ли вы мне слово, — сказал генерал, — что никто из посторонних к вам сюда не войдет?
— Даем, — за всех ответил я, чувствуя молчаливое согласие товарищей.
Как только генерал вышел, я встал на стол:
— Товарищи, давайте обсуждать!
Послышались возгласы:
— Фельдфебелей вон!
Солдаты им не доверяли. Мне казалось, что в данном случае удалять их, пожалуй, не имело смысла. Все равно теперь уже они нам помехой не будут, зато определенное впечатление на них это произведет. Пусть чувствуют нашу силу. Я высказал свою мысль однополчанам. Прытков поддержал меня. Фельдфебелям лишь поставили условие: ни во что не вмешиваться.
Достав тетрадку, я стал зачитывать изложенные в ней требования. По каждому из них присутствовавшие высказывались. После этого писарь 1-й роты Сокотнюк записывал окончательную формулировку каждого пункта.
Преображенцы вели себя организованно. В обмене мнениями особенно активно участвовали Прокофий Прытков, Кузьма Андреев, Иосиф Романовский, Александр Гаранович, Никифор Нерубайский, Андрей Герасимов, Трофим Тихомиров.
За час мы успели не только выработать петицию, но и переписать ее набело.
По истечении установленного времени Озеров не замедлил снова явиться в столовую. Я обратился к нему:
— Ваше превосходительство, мы просим вас дать честное генеральское слово, что никто из тех, кто выступал и будет выступать здесь, после не пострадает.
Озеров ответил:
— Прежде всего, благодарю тебя. Даю слово, что поскольку я разрешил говорить, то никто не будет подвергнут наказанию.
— Позвольте зачитать требования, с которыми согласны все солдаты.
Озеров удивился и рассердился:
— Какие еще могут быть требования? Нижние чины могут высказывать только пожелания и просьбы. У вас что, действительно требования?
Солдаты ответили, что это «просьбы и пожелания».
— Все ли согласны с изложенным на бумаге?
— Все! — дружно отозвались гвардейцы.
Генерал продолжал уточнять:
— Если кто-нибудь хоть с одним пунктом не согласен, поднимите руку!
Таких не оказалось.
Тогда фельдфебель Петр Соколов от имени всех фельдфебелей батальона доложил Озерову, что они в петиции не участвуют.
— Хорошо, — принял к сведению его заявление генерал и обратился ко мне. — Читай!
Четко и громко произнося каждое слово, я огласил составленный нами документ. Озеров взял его и стал разбирать, сообщая нам, что может быть удовлетворено властью его, а что придется доложить «высшему начальству». Командующий дивизией пробыл с нами около трех часов и настойчиво старался внушить, что во многом мы неправы, а отдельные пункты просто несовместимы с воинским долгом и присягой. Когда разговор коснулся несения преображенцами полицейской и охранной службы, Озеров заметил:
— Можно ли вас освободить от нее? Ведь одной полиции никак не справиться с революционерами. Бунтовщиков много, за них все рабочие. Если войска не помогут полицейским силам, то царя-батюшку могут убить. А вы присягу ему на верность давали!
— Стрелять в народ больше не будем! — стояли на своем солдаты.
Многих интересовало: почему Государственная Дума не принимает закон о наделении крестьян землей?
— Это не так-то просто, — отвечал Озеров. — Частная собственность священна и неприкосновенна, охраняется законом.
— Теперь все прикосновенно, — слышались резкие реплики.
— Подождем, все уладится! Зачем же бунтовать? Земля будет дана, только не сразу! — успокаивал генерал.
Ему стало жарко, он несколько раз порывался расстегнуть воротник мундира, но вовремя спохватывался и опускал руку. Переубедить гвардейцев ему не удавалось. Озеров чувствовал, что имеет теперь дело не с прежними бессловесными существами. Вот что мы требовали.
«Петиция
1-го батальона лейб-гвардии Преображенского полка
1. Человеческое обращение с нами начальства.
2. Освобождение от несения полицейской службы.
3. Свободное увольнение со двора и свободный доступ всюду[5].
4. Устройство читальни, в которую выписывались бы всевозможные передовые газеты и журналы, которые до сего времени нам было запрещено читать.
5. Чтобы не вскрывали солдатских писем.
6. Почему до сего времени не уволен 1903 год, и чтобы к 1 будущему января был уволен 1904 год[6].
7. Отменить принудительное отдание чести нижними чинами при встречах[7].
8. Требуем объяснить, где находятся наши товарищи, арестованные нынешней зимой, и возвратить их обратно немедленно с возвращением им прежнего звания.
9. Улучшить пищу, вообще варить ее по вкусу солдат, в частности отменить горох, в кашу прибавить сала, на ужинную варку также прибавить мяса или сала. Улучшить качество хлеба, так как он всегда бывает сырой и горелый.
10. Выдачу на руки солдатам денег за экономическую крупу[8].
11. Удовлетворить полностью бельем и постельной принадлежностью всех чинов, улучшение обмундирования и т. д.
12. Более лучшее лечение, уход и обращение с больными.
13. Отменить отдание чести, становясь «во фронт» всем гг. офицерам полка, кроме своих ротных и батальонных командиров, как требуется Уставом.
14. При увольнении в запас выдавать все обмундирование второго срока, а не бессрочное, как было до сего времени.
15. Право свободного доступа к начальству с ходатайством о своих нуждах и право свободно собираться нам для обсуждения своих нужд.
16. Право на бесплатный проезд в отпуск по железной дороге с сохранением содержания за все время отпуска.
17. Выражаем свою солидарность (согласие) с требованием депутатов Государственной Думы о наделении крестьян землей.
18. Ненаказуемость за политические убеждения.
19. Наш девиз (правило): один за всех и все за одного».
Во время чтения пункта об увольнении в запас солдат, выслуживших срок службы, я заявил Озерову, что ходил к члену Государственной Думы А. Ф. Аладьину, и тот объяснил: призванные в 1903 году должны быть уволены в запас теперь, а пришедшие в армию в 1904 году — в январе.
Озеров ничего на это возразить не смог. Он только пытался объяснить причину задержки, которая нам была и без того хорошо известна. Озеров спросил нас:
— Дадите ли вы мне обещание, что во время пребывания в Петергофе, в гостях у императора, будете думать только об исполнении долга службы и присяги?
— Постараемся, — раздались возгласы.
— Обещаете ли вы также сохранять порядок в лагере?
Ответ последовал утвердительный, но слабый и недружный.
Во время беседы с нами Озеров вел себя выдержанно и произвел хорошее впечатление. Многие были уверены, что генерал поможет восстановить справедливость. Он дал честное генеральское слово никого не трогать.
Вручив петицию, мы откровенно торжествовали.
После отъезда Озерова я снял с оставшегося у меня черновика копию и послал ее в Петербург, в легальную большевистскую газету. На другой день наши требования были напечатаны на первой странице с описанием происшедших событий. Весть о выступлении преображенцев произвела в столице огромное впечатление. В правительственных кругах наблюдалась растерянность и даже паника.
Еще через двое суток о случившемся в нашем полку рассказали многие провинциальные периодические издания.
Владимир Ильич Ленин, узнав об этом эпизоде, заметил: «Уж если преображенцы оказались неблагонадежными у царя, то чего же еще ждать хуже для царя?»
Несколько позднее в статье «Армия и народ» В. И. Ленин так писал о выступлении гвардейцев:
«Посмотрите на факты. Солдаты Преображенского полка выставили требование — поддержка Трудовой группы в борьбе за землю и волю. Заметьте: не поддержка Думы, а поддержка Трудовой группы, — той самой, которую обвиняли кадеты в «грубом оскорблении» Гос. думы за аграрный проект 33-х об уничтожении частной собственности на землю! Солдаты, видимое дело, идут дальше кадетов: «серая скотинка» хочет большего, чем просвещенная буржуазия…»
Несколькими днями позже, 16 июня, Военная организация РСДРП выпустила специальную листовку «Гвардия ненадежна!». В ней говорилось:
«Всероссийский преображенец потерял несколько сот телохранителей — преображенцев — их захватила Всероссийская Революция.
Армия маленького венценосного полковника стала меньше на батальон; настолько же выросла победоносная армия Великой Революции.
По высочайшему приказу 1-й батальон лейб-гвардии Преображенского полка переименован в особый пехотный батальон, он в опале, он наказан, у него нет знамени, ему не дано в шефы ни государя, ни государыни вдовы, ни государыни жены, ни короля датского, ни королевы греческой… он не носит имени никакого царя, императора, герцога, эрцгерцога.
Почетное наказание!
Революция будет его шефом, революция даст ему имя и Красное знамя…»
Далее Военная организация РСДРП обращалась прямо к бывшим гвардейцам и к тем, кого пока еще не лишили этого звания:
«Поймите, что ваш первый, главный, непримиримый враг — это царь, император всероссийский. Пока в России есть царь, самодержавный или конституционный, не видать вам солдатской воли. Вы хотите рассуждать, читать газеты, иметь политические убеждения. Царь этого боится, как черт ладана…
Боится царь, что это поймете вы, гвардейцы, его последняя надежда. Значит, нужно вас держать в казарме взаперти, чтобы зверь не проскакал, чтобы птица не пролетела, не допустить газеты, не пропустить пропагандиста. Царю нужно, чтобы вас душили ротными и полковыми учениями, усталый солдат вечером с ног валится, где ему думать, зачем и против кого его на завод посылали… Рассуждающие солдаты — враги царя, и он злейший враг солдатской воли, потому что он враг свободы и счастья рабочих и крестьян.
…Солдаты! В одиночку вам не получить свободу для солдат: идите же вместе с народом, а не против народа, за землю и волю, за Учредительное Собрание, за Демократическую Республику».
Листовка Военной организации РСДРП, написанная образно, живо и убедительно, является образцом революционной публицистики. Благодаря ей многие солдаты и матросы узнали о событиях в нашем батальоне и выразили свою солидарность с преображенцами.
В ВЫСШИХ СФЕРАХ СМЯТЕНИЕ
Позже мы узнали, что генерал-майор С. С. Озеров, уйдя от нас, сразу же собрал офицеров и рассказал им о встрече с нами, о том, что нижние чины поняли его, успокоились, горячо благодарили за беседу и дали слово вести себя хорошо. Он сообщил также, что и сам обещал солдатам полную безнаказанность за все происшедшее и, как свидетельствовал князь Оболенский на следствии, просил даже не узнавать фамилии людей, говоривших с ним.
Генерал попросил офицеров сделать вид, что они не знают о поданной петиции, что ее вообще не было, а генерал сам записал просьбы преображенцев. Таково желание главнокомандующего. А когда будут спрашивать подробности, то надо говорить, что было собрание, были крики и заявления об экономических нуждах.
Князь Оболенский на это возразил: не к лицу гвардейским офицерам кривить душой, скрывать, что одним из главных вопросов был земельный, то есть политический вопрос-Генерал ничего не ответил. Всем было понятно, что Озеров старается затушевать социальную подоплеку выступления гвардейцев, и офицерам волей-неволей пришлось отвечать интересующимся так, как советовал Озеров. В других подразделениях этому не очень-то верили. Многие обращались за разъяснениями непосредственно ко мне и Прыткову. Мы, как могли, растолковывали. За Прытковым и мной следили, и приходилось быть осторожным. Особенно придирались почему-то к Прыткову.
Как-то вечером, после поверки, он вышел в одной нижней рубашке на крыльцо. Откуда ни возьмись — командир роты капитан Михайлов.
— Почему не по форме одет? — спросил он. — Что тут делаешь?
— Вышел подышать свежим воздухом, — ответил Прокофий. Михайлов смотрел на него с недоверием.
— Да чего же тут особенного, ваше высокоблагородие?
А на другой день дежурный по части князь Оболенский все же услышал, как Прытков перед вечерней поверкой говорил однополчанам:
— Чего мы желаем — того весь народ желает…
В понедельник 12 июня утром к нам пришел временно командовавший ротой подпоручик Есаулов[9] и завел речь о нашей петиции.
— Ваши требования несуразны, — говорил он. — Они не соответствуют воинскому долгу и дисциплине.
Поскольку Есаулов разрешил всем свободно высказываться, я не удержался и стал защищать выработанный нами документ. Это не понравилось Есаулову, и он приказал мне сесть и замолчать.
Позже в показаниях следователю Есаулов оклеветал меня, заявив, что я якобы с целью унизить Есаулова грубо вмешивался в его беседу, отвечал за других, прерывал офицера и возражал ему.
Эта клевета хотя и была опровергнута солдатами, на суде все же осталась в силе.
Вообще Есаулов и раньше относился ко мне со скрытой неприязнью.
Через некоторое время мне стали также известны и некоторые подробности того, как наш командир полка докладывал о происшедшем царю. Гадон поехал во дворец сразу же, как только узнал о вручении Озерову петиции. Николай II был настолько ошеломлен и испуган, что пообещал ему никого из нас не наказывать.
Волю императора Гадон объявил офицерам. Это вызвало среди них смятение. Капитан Старицкий обиделся: как же так, солдаты нанесли ему оскорбление на митинге и останутся без воздействия? Он подал рапорт об увольнении со службы. Бумага была принята, а вечером возвращена обратно.
— Все изменилось, — сказал Гадон. — Над бунтовщиками состоится суд.
Под влиянием Трепова, вошедшего в кабинет Николая II после Гадона, самодержец изменил свое решение.
Один за другим последовали приказы. Великий князь Николай Николаевич телеграфировал генералу от инфантерии Газенкампфу[10]:
«Прошу вас сделать соответствующее распоряжение, чтобы завтра, 13 июня, было назначено судебное следствие над нижними чинами первого батальона лейб-гвардии Преображенского полка и над начальствующими лицами для выяснения виновности по событиям в Петергофе.
Лейб-гвардии Преображенский полк прибудет в лагерь Красного Села до двенадцати часов дня».
Приказом № 31 по войскам гвардии и Петербургского военного округа от 16 июня 1906 года 1-й батальон лейб-гвардии Преображенского полка переименовывался в особый пехотный батальон и лишался прав гвардии.
Приказом № 32 от 17 июня полковник князь Трубецкой, капитаны князь Оболенский, Мансуров, Михайлов и Старицкий, подпоручики Фон Дэн и Есаулов оставлялись в этом подразделении на тех же должностях, а князь Оболенский лишался звания флигель-адъютанта…
Николай II ставил на вид главнокомандующему войсками гвардии и Петербургского военного округа великому князю Николаю Николаевичу, делал замечание командиру гвардейского корпуса князю Васильчикову, объявил выговор командиру 1-й бригады 1-й пехотной дивизии генерал-майору Сирелиусу. Генерал-майор Озеров и генерал-майор Гадон со службы увольнялись без мундира и пенсии, с лишением их придворного звания «свиты его величества».
Все эти приказы зачитывались в ротах, эскадронах, батареях, сотнях и командах при собрании всех чинов. И надо сказать, что они не столько устрашали солдат, сколько способствовали противоправительственной пропаганде, лили воду на мельницу революции.
В дни нашего выступления революционным брожением были охвачены и другие подразделения и части столичного гарнизона.
Судья генерал-майор Томашевич, который вел следствие по делу преображенцев, в своем секретном рапорте главнокомандующему войсками гвардии и Петербургского военного округа великому князю Николаю Николаевичу писал:
«Не предоставляется оснований думать, что бывшие утром 8 июня перед выступлением разговоры о том, чтобы «забастовать» и не идти в Петергоф, ограничивались только одним 1-м батальоном, да и по существу своему они могли возникнуть лишь при наличности сознания, что ВЕСЬ ПОЛК НАСТРОЕН ОДИНАКОВО».
Томашевич не ошибался. Когда наша часть прибыла в Петергоф, солдаты 2-го и 4-го батальонов также собирались кучками на берегу канала за казармами. В их поведении было «что-то такое», что заставило, например, фельдфебеля 16-й роты найти повод, чтобы отвлечь своих подчиненных от нежелательных разговоров.
Когда 2-му батальону командование объявило о немедленном походе в Кронштадт, гвардейцы стали выкрикивать:
— Не пойдем!
Но под угрозой репрессий все же вынуждены были подчиниться. В Кронштадте они опять начали группироваться и о чем-то беседовать. Чтобы посторонние не могли услышать, преображенцы ложились на землю «звездами», голова к голове.
12 июня личный состав 2-го батальона был очень возбужден. Перед учением в 8-й роте, несмотря на запрещение дежурного офицера, все пели. Занятия в тот день сорвались. Когда командиры познакомили гвардейцев с содержанием нашей петиции, пытаясь подать ее в своем толковании, в 5-й роте раздалось «ура». Штабс-капитан Шереметьев спросил:
— Почему вы кричите «ура»?
Ему ответили:
— Это в честь первого батальона…
Возгласы одобрения наших действий слышались и во время ужина в столовой.
В 4-м батальоне 11 июня нижние чины намеревались устроить собрание.
Очень беспокоились за судьбу подследственных и солдаты 13-й роты. Они весь день ходили мрачными, задумчивыми. Их командир граф Литке уговаривал подчиненных не предпринимать никаких шагов к протесту.
— Так ведь первый батальон за всех старался, — возражали ему. — Как же его не поддержать?
Втайне от начальства петицию всюду горячо обсуждали.
Солдаты 14-й и 15-й рот 4-го батальона стали было собираться в манеже Конно-гренадерского полка, чтобы обсудить и одобрить наши требования, но офицеры помешали это сделать.
Волнения наблюдались и в других воинских частях. В лейб-гвардии саперном батальоне на большом митинге рядовые приветствовали преображенцев громовым «ура». Солдаты 23-й артиллерийской бригады с 10 по 14 июня 1906 года собирались, чтобы продемонстрировать свою солидарность с нами. В лесу близ деревни Александровки ночами проходили собрания с участием воинов 37-й артиллерийской бригады. Об этом доносили министру внутренних дел Столыпину его подчиненные.
АРЕСТ
Днем 12 июня до нас дошел слух, что для усмирения непокорного батальона из Красносельских лагерей форсированным маршем идет карательный отряд, состоящий из пехоты, кавалерии, артиллерии. Я стал успокаивать товарищей:
— Бояться вам нечего: ведь прежде всего арестуют меня и Прыткова. А из-за нас двоих проливать кровь неблагоразумно.
Я предчувствовал, что нас непременно заберут. Слово, которое дал генерал Озеров, мне казалось ненадежным. Так оно и вышло.
Офицерам с большим трудом удавалось удержать солдат других подразделений от открытого выступления в поддержку нашей петиции. Ротные и батальонные командиры ультимативно заявили полковому начальству, что, если не будут арестованы Басин и Прытков, они не ручаются за спокойствие и порядок.
Гадон срочно обратился к Озерову с предложением:
— Развяжите связанное вами!
Вечером 12 июня к нам вновь прибыл генерал Озеров, и столовая опять превратилась в своеобразный зал для собрания. Преображенцы стояли плотной толпой и с тревогой ждали, что скажет им генерал на этот раз.
Озеров нахмурил брови и голосом, в котором теперь уже звучала сталь, произнес:
— За организацию волнений в батальоне, за крамольную агитацию приказываю унтер-офицера Прыткова арестовать!
Находившиеся в столовой колыхнулись и замерли. Появились конвойные, и Прокофия Прыткова повели. Он пытался было протестовать, но Озеров резко оборвал его:
— Молчать. Никаких разговоров! — Потом повернулся ко мне: — Рядовой Басин, ты нарушил слово, которое дал мне — вести себя тихо и не заниматься смутьянством.
И снова команда…
Не успел я оглянуться, как оказался под стражей.
Товарищи проводили Прыткова, потом меня сочувственными взглядами.
И вот я шагаю по вечернему Петергофу. Надвигалась белая ночь, смягчая очертания домов и деревьев. Воздух удивительно чист и прозрачен. Под ногами стелется плотно утрамбованная дорога. Передо мной маячит спина в серой шинели да поблескивает узкий штык. С боков тоже охрана, и еще двое сзади. Шагах в ста впереди пятеро пехотинцев сопровождают Прокофия Прыткова. Позади всех на лошади квартирмейстер полка капитан Вильчковский.
Конвойные — из 3-го батальона. Вид у них мрачный. Я слышу их прерывистое дыхание. Невольно в голову приходит мысль: «Рвануться в сторону, бежать!» Но потом ее сменяет другая: «Куда? Все равно найдут… Нет, лучше держаться достойно».
Нас доставили на гауптвахту Каспийского полка, находившуюся на окраине Петергофа, и поместили в одиночки. Расставаясь с Прокофием, мы крепко пожали друг другу руки:
— Прощай, брат! — сказал Прокофий.
— Держись! — подбодрил его я.
Как мне стало известно много позже, в тот же вечер в казармы нашего батальона заявились пьяные уланские офицеры.
— Где Басин и Прытков? — орали они, потрясая оружием.
Нет худа без добра. Арест спас нас от неминуемой расправы.
Ночь я провел почти без сна. Утром, услышав доносившийся с улицы приглушенный шум, подошел к окошку, стал на табуретку и прильнул к решетке.
На обширном плацу выстроились подразделения каспийцев. Николай II обходил их. Потом остановился посреди двора и что-то стал говорить. Из-за дальности я не слышал его слов. Когда он кончил, раздалось «ура!». Вверх полетели шапки.
«Ясно, — подумал я. — Царь приехал поднять «патриотический дух», убедиться в верности солдат».
День тянулся медленно.
В ночь на 14 июня меня и Прыткова перевели в арестантский вагон и под усиленным конвоем повезли. Куда — мы не знали. Поезд набирал скорость, и колеса все торопливее пересчитывали стыки рельсов. Стражи сосредоточенно курили махорку, поглядывая в окна. Там, в белесой полутьме мелькали луга и перелески. Офицер — начальник конвоя — боролся с дремотой.
Я тоже закрыл глаза и попытался уснуть. Но сон не приходил. Передо мной вставали лица товарищей, оставшихся в Петергофе. Подумалось: «Что-то будет теперь с ними?» Сам же над собой усмехнулся: «А с нами?.. С нами-то как обойдутся?»
В ту июньскую ночь мы с Прытковым были уверены, что нас везут на расправу. «Ну что ж, — думал я. — Не мы первые, не мы последние. За народную правду пострадало немало людей. Важно, что погибнем не зря…»
Вспомнилась родная деревня. Хорошо там летом в эту пору! Среди лугов и полей струится быстрая Вага. Вода в ней теплая-теплая. Босые ноги тонут в прибрежном песке… Что там сейчас делают отец с матерью? Тяжело им будет, когда узнают о моей судьбе.
…Ехали около двух часов. Прибыли в Петербург. У платформы стояла арестантская карета, нас посадили в нее. Снова отправились в путь в окружении конвоиров. Офицер шел по тротуару. Дребезжали по булыжной мостовой колеса, цокали подковами лошади.
Через окошко я видел полоску улицы, редких прохожих, испуганно глядевших в нашу сторону. Остановились перед воротами петербургской военно-одиночной тюрьмы, находившейся на Выборгской стороне около Финляндского вокзала.
Во дворе, обнесенном высоким каменным забором, нас встретил помощник начальника этого заведения с охраной. В приемнике меня и Прыткова раздели донага, обыскали, потом поместили в разные камеры.
Прежде эти казематы предназначались для заключения солдат, осужденных за различные уголовные преступления. В 1905—1906 годах в тюрьму стали помещать и «политических».
Медленно и однообразно потянулись дни в тесном каменном склепе, длиной в пять шагов, шириной в размах рук. Высоко, под самым потолком, — небольшое окно с решеткой. Маленький столик, табуретка, унитаз и раковина для умывания. К стене привинчена узкая железная откидная койка, на ней тонкий, как блин, тюфячок и тощая подушка. Одеяло из серого солдатского сукна. В железной двери глазок и форточка для подачи пищи. Над головой — электрическая лампочка. Небольшая батарея парового отопления. В углу лежала тряпка, которой по утрам заключенный был обязан вытирать каменный пол.
Если встать на табурет, можно увидеть кусочек неба. Но делать это запрещалось.
В помещении царила мертвая тишина. От нее становилось жутко. Впрочем, иногда она нарушалась. От жесткого режима некоторые заключенные сходили с ума. Не выдержав одиночки, тяжело заболел психическим расстройством мой сосед. Он дико кричал круглые сутки. Особенно страшно было слышать бессвязные вопли узника ночами. Порой волосы вставали дыбом.
Время от времени больных навещал тюремный доктор Маштаков. Он сочувственно относился ко мне. На свой страх и риск иногда приносил книги из своей библиотеки. Я читал, и это несколько облегчало тяжелое одиночество.
Маштаков вскоре распорядился отправить занемогшего в больницу.
Позже я узнал, что одновременно со мной в этой тюрьме под следствием находился мой земляк и школьный товарищ Федор Федорович Едемский — уроженец деревни Борок, расположенной в пяти километрах от Шенкурска. Федор Федорович служил солдатом в Петровском полку. В 1906 году он вез из Петербурга в свою часть нелегальную литературу, но на Николаевском вокзале его арестовала царская охранка.
Едемский тоже заболел психическим расстройством. И его отправили в лечебницу. Там он вскоре умер.
При тюрьме имелась церковь с тремя этажами отдельных каморок, предназначенных для «разговора» узников с богом. В каждой камере на столике лежало евангелие, а в углу висела небольшая иконка. Иногда к нам заглядывал тюремный священник для «душеспасительных» бесед. От меня он всегда уходил ни с чем.
Однажды, когда заключенных обходил подполковник Ананьин со своим помощником капитаном Ковалевским, я заявил ему, что считаю неправильным применение к нам, политическим, находящимся под следствием, режима, установленного для отбывающих наказание уголовников.
Ананьин взбеленился и в присутствии надзирателей закричал:
— С тебя надо шкуру содрать с головы и до пят!
Надо сказать, что к срочным заключенным[11] здесь официально применялись телесные наказания.
Мы с Прокофием Прытковым пробыли в каменных мешках год и три месяца. Переносить все невзгоды нам помогало сознание того, что пострадали мы за правое дело.
СЛЕДСТВИЕ И СУД
Когда Прыткова и меня арестовали, 1-й батальон сразу же был обезоружен и, как мне потом рассказывали, на следующий день — 13 июня вместе со всем полком пешим порядком отправлен в Красное Село.
Всю дорогу солдаты шли молча, погрузившись в невеселые думы, шли навстречу неизвестности, догадываясь, что царь не пощадит никого.
Дорога пролегала по низинке, покрытой густым лесом. Вдруг из кустов выскочило какое-то животное и побежало через дорогу.
— Лось, лось!
Командир первой роты князь Оболенский обернулся и громко сказал:
— А впереди — Медведь!
В его шутке была горькая правда: по высочайшему приказу весь 1-й батальон Преображенского полка, переименованный в особый пехотный и лишенный прав гвардии, направлялся в ссылку в Новгородскую губернию.
Под конвоем 7-й роты лейб-гвардии Финляндского полка разоруженных преображенцев привели на вокзал и погрузили в теплушки. Коротко прогудел паровоз, состав тронулся. На станции Уторгошь бывших гвардейцев высадили из вагонов, и пошли они в село Медведь, находившееся в пятнадцати километрах от железной дороги.
Каким-то образом местное население узнало о том, что сюда прибывает опальный батальон. Как после стало известно, жители готовились встретить его торжественно, с цветами. Но подразделение вступило в селение глубокой ночью, когда все спали. Пожалуй, это и к лучшему, потому что офицеры наверняка приказали бы разогнать народ. И кто знает, как бы все это обернулось.
Сдали прибывших под надзор 199-го пехотного Свирского полка и разместили в бывших аракчеевских казармах, где до этого содержались пленные японцы.
Следствие по делу преображенцев было поручено вести В. А. Томашевичу. Началось оно в июне и продолжалось до конца сентября.
Прыткова и меня тоже допрашивали. 15 июня в арестантской карете нас привезли в здание петербургского военно-окружного суда на Мойке.
Своей очереди я ожидал в камере с грязными серыми стенами и запыленными стеклами окна. Вскоре вызвали к военному судье и следователю по особо важным делам генерал-майору В. А. Томашевичу. Кабинет был обширный, пол устлан ковром, вдоль стен старинные массивные стулья. Прямо перед входом — большой письменный стол под зеленым сукном, за ним — человек средних лет с довольно упитанным, но несколько усталым лицом. Это — Томашевич. За его спиной на стене — портрет царя в полный рост. Знаком Томашевич отпустил конвоиров.
В течение всего допроса я стоял перед ним навытяжку.
Томашевич внимательно и несколько исподлобья посмотрел на меня:
— Басин?
— Так точно, ваше превосходительство.
— Имя? Сколько лет? Образование?
Перо Томашевича быстро бегало по бумаге. В кабинете больше не было ни души.
— Расскажи мне, что у вас там произошло в Петергофе?
Сидя в одиночке, я много думал над тем, как вести себя на допросе, и сейчас почти не волновался. Я стал по порядку рассказывать все, как было.
Заметив, что я не называю ни одной фамилии, генерал Томашевич перебил меня вопросом:
— Кто кричал в Красном Селе «на родину», «не пойдем», «не поедем»?
— Я не могу никого назвать, потому что возгласы раздавались из всех палаток. Я, как ротный писарь, спал отдельно, солдатских лиц не видел.
Томашевич все писал. Выражение его лица было непроницаемым. Я продолжал рассказывать теперь уже о митинге:
— Старицкий при входе во двор сразу взялся за револьвер и приказал разойтись, но никто не тронулся с места, — говорил я. — Вдруг откуда-то послышалось: «Долой Старицкого!» Потом звучало «ура!», кто-то свистел и произносил слова «сыщик», «шпион». Но кто и что именно делал, я не знаю…
— Не знаешь? — в упор спросил меня Томашевич.
— Нет.
Допрос длился больше часа. Я уже устал стоять и поглядывал на стулья. Но Томашевич, казалось, не замечал этого. Он задавал мне вопрос за вопросом. Я старался говорить уверенно и спокойно.
Наконец, Томашевич поднялся с места. Роста он оказался высокого. Генерал подал мне несколько исписанных листков.
— Прочитай и подпиши. Вот здесь, — показал он.
Я ознакомился с записью и поставил свою фамилию. Томашевич позвонил. Вошли конвойные и увели меня.
Когда я покидал кабинет, перед дверью уже стоял Прокофий Прытков.
Вести следствие Томашевичу помогали полковник Голубев и штабс-капитан Попандопуло. Были допрошены все солдаты и офицеры нашего батальона, а также командиры других подразделений полка.
Стремясь, чтобы люди его роты давали показания в желательном для начальства духе, капитан князь Оболенский ежедневно ходил вместе со своими подчиненными на прогулки и наставлял их, как нужно себя вести у следователя, что говорить. Подобная обработка велась и в остальных подразделениях. Но бывшие преображенцы не поддавались этому давлению. Смалодушничали лишь некоторые. В частности, предательские показания дали ефрейторы Гезлер и Котинский.
24 сентября обвинительный акт был готов. Из четырехсот человек, числившихся в батальоне, к суду привлекался сто девяносто один.
Томашевич предлагал судить и офицеров, однако Николай II не согласился.
Поскольку генерал Озеров дал честное слово, что за подачу петиции никто не будет наказан, то бунтарей решили привлечь за то, что они захотели добиться освобождения от несения полицейской службы, немедленного увольнения в запас солдат, отслуживших положенный срок, улучшения пищи и изменения некоторых распоряжений начальства, а также за сбор после вечерней поверки 9 июня на митинг и выработку требований. И еще за невыполнение приказа дежурного по полку капитана Старицкого разойтись.
Я, кроме того, обвинялся в дерзком вмешательстве в объяснения подпоручика Есаулова с целью унизить его, а Прытков в грубости по отношению к капитану Михайлову и капитану князю Оболенскому.
За все эти «преступления» нам по закону грозило заключение в дисциплинарный батальон на сроки от одного года до трех лет. Но нашим палачам это наказание показалось слишком мягким, и они, исказив факты, для пятерых из нас добились более жесткого приговора. Андреев, Прытков и я были приговорены к каторжным работам на восемь лет каждый, Журавлев на шесть и Сидоренко на четыре года.
Судебный процесс проходил в селе Медведь с 14 по 19 октября 1906 года. В состав выездного Петербургского военно-окружного суда входили: председательствующий генерал-майор Биршерт, временные члены полковник Семенов и капитан Добровольский — из 22-й артиллерийской бригады, подполковник Федоров и капитан Нецветаев из 85-го пехотного Выборгского полка. Обязанности военного прокурора исполнял полковник Шебеко.
Защитниками у нас были штабс-капитан Коган и подполковник Жанколя. Они отнеслись к нам сочувственно, помогли написать кассационные жалобы в главный военный суд. Там их поддержали видные в то время адвокаты Грузенберг, Соколов и капитан Сыртланов.
Главный военный суд определил допущение процессуальных нарушений закона, приговор отменил и назначил дополнительное следствие.
Новый следователь полковник Петров повел дело в нашу пользу.
Новый суд в августе 1907 года заменил нам каторжные работы отправкой в дисциплинарный батальон на три года (без зачета предварительного одиночного заключения в петербургской тюрьме).
Таким образом, мне и Прыткову в общей сложности пришлось отбывать наказание четыре года.
А какова же судьба других однополчан?
По своему социальному положению до армии все они относились к той категории людей, которых господствующие классы нещадно эксплуатировали. Среди них были сапожники, кузнецы, плотники, слесари, железнодорожные рабочие, каменщик, колесник, стекольщик, портной, столяр, чернорабочий… Но самой многочисленной группой были, конечно, хлебопашцы. Они прибыли в полк с разных концов Руси: из Тверской, Подольской, Херсонской, Таврической, Енисейской, Полтавской, Архангельской, Томской и многих других губерний. Русские, украинские, белорусские, польские имена и фамилии. И каждому рукой державного «правосудия» за участие в революционном движении отмерено один, два, а большинству три года заключения в дисциплинарном батальоне. Я уже говорил: под суд был отдан 191 человек — те, кто не могли доказать, что они на митинге не присутствовали. Из всего этого числа оправдали лишь тридцать два. Остальные сто пятьдесят девять понесли кару.
В именном списке преображенцев, подвергавшихся судебному преследованию, есть и фамилия унтер-офицера 2-й роты Константина Семенова, уроженца Воронежской губернии. Того самого Семенова, который 9 января так цинично говорил мне о расстрелянной им молодой девушке-курсистке. Судьба сыграла с ним злую шутку. Семенов, зверствовавший на Дворцовой площади и по приказу царя убивавший ни в чем не повинных людей, также оказался в числе осужденных военным судом… за революционные беспорядки.
Унтер-офицер К. Т. Семенов, безусловно, не разделял наших взглядов. Его наказали наряду с другими взводными за плохое воспитание солдат и недостаточное наблюдение за ними.
Семенов отбыл лишь половину срока, а вторую ему скостили, как примерному служаке.
Случайными среди нас были также рядовой Андрей Журавлев, который оказался участником событий в нашем батальоне отнюдь не по своим убеждениям, и ефрейтор Андрей Сбруев. Сбруева, кстати, и оправдали. Все остальные преображенцы были настроены революционно, на следствии и суде держались достойно, ни в чем не подвели друг друга и вполне заслужили доброго слова.
В ДИСЦИПЛИНАРНОМ БАТАЛЬОНЕ
В сентябре 1907 года из петербургской военно-одиночной тюрьмы меня перевезли в село Медведь, а Прыткова отправили отбывать наказание в Воронежский дисциплинарный батальон. Унтер-офицера Андреева сослали в Сибирь. Я тоже мог угодить туда же, если бы не выручили друзья. А было это так. После событий в нашем батальоне оставшийся за Мансурова подпоручик Есаулов вечером опечатал ротную канцелярию, в которой я до ареста жил, как писарь. Зная, что там мною спрятана запрещенная литература, старший унтер-офицер Александр Николаевич Гаранович и кашевар Антон Юрьевич Нищук ночью пробрались к задней стенке строения, оторвали несколько досок и, проникнув в бывшую мою «резиденцию», забрали запрещенные издания. Есаулов, явившийся туда утром с обыском, конечно, ничего не нашел.
В Медведе после более чем годовой разлуки я встретился со своими товарищами. Почти половина их была досрочно освобождена, другая, хотя и числилась на жестком режиме, находилась не за решетками, а в 3-й роте, командиром которой был капитан Миткевич-Желтко. Он относился к опальным преображенцам довольно либерально. Бывшие гвардейцы вели себя безукоризненно, не в пример другим заключенным, попавшим сюда за нарушения дисциплины и моральную неустойчивость.
Первые три недели я отбывал наказание в 3-й роте, потом меня перевели в 4-ю, а через месяц — в 5-ю, где режим был уже тюремный.
У всех, кто прибывал в батальон, снимали погоны и зачисляли в разряд «испытуемых». За ограду их выпускали только под конвоем.
После того как «испытуемые» проходили половину срока, не нарушая принятого здесь порядка, их переводили в число «исправляющихся», возвращали наплечные знаки различия и выпускали на прогулки без конвоиров.
Дисциплина в подразделениях была очень строгая. Если кто в чем-либо провинится — сажали в карцер, наказывали розгами. Командир роты имел право назначать тридцать, а начальник батальона — сто ударов.
В 5-й роте меня назначили писарем. Это давало мне некоторую свободу: бывать в окрестных селениях, встречаться с крестьянами. В деревне Щелино я познакомился с Ефимом Ивановичем Братышенко. У него был фруктовый сад. Радушный хозяин угощал яблоками. Часто мы беседовали с Ефимом Братышенко на политические темы. Он разделял мои убеждения, жил надеждами на будущее. Оба мы понимали, что революции не хватило сил, чтобы свергнуть самодержавие. Она только расшатала устои империи.
— Придет время, и все это повторится, только уже с большим размахом, — говорил Ефим Иванович. — Рано или поздно народ победит!
В маленькой, но опрятной избе за откровенными разговорами с гостеприимным Братышенко я на время забывал о мрачной действительности, которая всех нас окружала.
Возвращаясь от него, чувствовал какой-то подъем, хотелось что-то делать уже сейчас.
Как я упоминал, в батальоне наряду с людьми хорошими много было и нравственно опустившихся. «Надо как-то воздействовать на них», — мелькала мысль. Из наиболее развитых и надежных товарищей образовал в своей роте нечто вроде актива. Он был невелик — всего восемь человек. Но влияние на остальных мы стали оказывать существенное.
Командир роты капитан Крюков это заметил и нашей деятельности не препятствовал. Он был человеком либерального толка и к крутым мерам почти не прибегал. Но такие офицеры были, конечно, редкостью. Большинство обращалось с отбывающими сроки жестоко.
Впоследствии, когда Крюкова сменил штабс-капитан Козлянинов — личность болезненно нервная и желчная, житье наше резко ухудшилось. Участились случаи применения телесных расправ.
Однажды Козлянинов нашел повод поистязать солдата-еврея. Роль палачей он заставил исполнять заключенных — одного опять-таки еврея, другого русского. Наблюдая, как они порют товарища, Козлянинов придрался к еврею-исполнителю, что он недостаточно сильно бьет наказанного, и скомандовал:
— Ложись сам!
Тот молча распластался на лавке и без единого звука перенес двадцать ударов розгами.
Еще более тяжелой была обстановка в других подразделениях. В июне 1908 года восемь заключенных 4-й роты сговорились и выступили против несения воинских обязанностей.
— Пусть нас хоть в арестантские роты[12] отправляют, — говорили они, — лишь бы не служить в царской армии.
Все восемь были приведены на территорию дровяного двора. Под барабанный бой, заглушавший крики и стоны, каждому из них всыпали по сто ударов. Экзекуция была зверской. Несчастных намеревались пороть до тех пор, пока они не откажутся от своего заявления, и те вынуждены были сдаться.
Среди офицеров дисциплинарного батальона были и откровенные садисты. Они с удовольствием мордовали и уродовали людей, цинично заявляя при этом, что «серой скотинке» даже полезно время от времени «полировать кровь».
Эти дикие сцены на всю жизнь врезались в мою память. И в первые дни после отбытия наказания и сейчас нет-нет да и зазвучат в ушах нечеловеческие вопли жертв самодержавия.
Для меня и моих сослуживцев пребывание в дисциплинарном батальоне явилось как бы очередной ступенькой политического прозрения. Мы поняли, что наше положение в Российской империи было даже более бесправным, чем положение крестьян и рабочих. Император хотел, чтобы мы оставались лишь бессловесной и послушной силой в руках правящих классов для держания в покорности всех угнетенных. Однако эти времена проходили. Армия становилась все более ненадежной. В стране медленно, но верно зрела новая революция. И в октябре 1917 года она свершилась. Народ под руководством созданной В. И. Лениным большевистской партии взял власть в свои руки. И мне особенно отрадно, что Преображенский полк одним из первых в те исторические дни перешел на сторону взявшихся за оружие рабочих и крестьян.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Мои воспоминания о мятежных преображенцах воспроизводят, конечно, не абсолютно полную картину событий тех далеких лет. И это естественно. Уж очень много воды утекло с той поры.
Чтобы кое-что воскресить, перепроверить, начал разыскивать своих однополчан. Но из участников нашего выступления в июне 1906 года мало кто уцелел.
Племянник Прыткова и работники Воронежского обкома партии сообщили мне, что мой товарищ Прокофий Алексеевич принимал активное участие в борьбе за установление Советской власти. В 1917—1919 годах был председателем ревтрибунала. В районе станции Миллерово его схватили белоказаки и расстреляли.
Откликнулись и родственники Кузьмы Андреевича Андреева. По их словам, а также по утверждению псковских архивариусов, он умер от тифа в ссылке в Красноярском крае.
Отыскались сын Ефима Ивановича Братышенко Иван Ефимович и бывшие преображенцы более позднего призыва Кузьма Федорович Медведев и Юрий Владимирович Новосельский, ныне генерал-лейтенант. Они оказали мне большую помощь в сборе материала для книги, в уточнении отдельных фактов. За это приношу им самую сердечную благодарность.
Я не склонен придавать брожению в лейб-гвардии Преображенском полку бо́льшего значения, чем оно имело. Движение это, безусловно, возникло под воздействием общей революционной обстановки. Оно еще не отличалось бурностью и размахом. Солдаты в силу своей политической малограмотности в то время не были готовы к более решительным действиям.
Но недооценивать протеста преображенцев, как это делают некоторые историки, не следует. Не надо забывать, что против царя выступили гвардейцы самой отборной и привилегированной части.
В ряде изданий, посвященных этим событиям, допущены неточности. Мимо них я не могу пройти. О некоторых из них выше уже говорилось. Но не о всех.
Так, в известных записках И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» утверждается:
«Сапоги семеновцев и преображенцев щемили снег на Пресне в декабре 1905 года в Москве…»
Должен сказать, что ни одного солдата Преображенского полка в 1905 году на Пресне не было.
Л. Андреев в книге «Революционное движение в войсках Северо-Западного округа», ссылаясь на «Солдатское дело» № 13 за 1906 год, пишет, что после ухода капитана Старицкого и подпоручика Астафьева на наш митинг якобы пришли ротные командиры и стали уговаривать солдат разойтись. Это не соответствует истине. Офицеры прибыли не на митинг, а в казарму, когда мы уже лежали на койках и делали вид, что спим.
Не посылались преображенцы и на усмирение Семеновского полка.
В этом же труде автор заверяет, будто наши требования были предъявлены начальству 8 июля. В действительности это случилось почти на месяц раньше — 10 июня, и не в Петербурге, а в Петергофе.
Говорю об этом не ради полемики, а исключительно в интересах достоверности. Я, может быть, теперь единственный живой участник и свидетель выступления гвардейцев и не хочу, чтобы эти ошибки остались в исторической литературе.
Примечания
1
Е. В. — его величества.
(обратно)2
Как-то зимой Старицкий по поручению командира полка Гадона проводил дознание по делу десяти солдат, задержанных царской охранкой. Старицкий рьяно добывал сведения, компрометирующие арестованных. Это было известно гвардейцам. Поэтому они и выкрикивали «сыщик», «шпион».
(обратно)3
Великий князь Николай Николаевич в 1905 году сменил на посту главнокомандующего гвардией великого князя Владимира Александровича, ушедшего в отставку.
(обратно)4
Прежде генерал-майор С. С. Озеров был командиром лейб-гвардии Преображенского полка и до сих пор продолжал носить мундир этой части.
(обратно)5
Увольнение со двора (из казармы) было весьма ограничено. А тем, кому удавалось его получить, не разрешалось посещать многие публичные места: театры (кроме Народного Дома на Петербургской стороне), кинематографы, большинство садов, митинги, собрания, лекции и беседы.
(обратно)6
Увольнение солдат этих годов призыва задерживалось правительством ввиду революционных событий.
(обратно)7
Солдаты хотели, чтобы это делалось добровольно, без принуждения.
(обратно)8
Экономическую крупу — здесь сэкономленную крупу.
(обратно)9
Капитан Н. Н. Мансуров был в отпуске за границей.
(обратно)10
Газенкампф — помощник главнокомандующего войсками гвардии.
(обратно)11
Заключенные на срок от одного до двух месяцев.
(обратно)12
Арестантские роты — нечто среднее между тюрьмой и каторжными работами. Заключенные в них лишались почти всех гражданских прав.
(обратно)
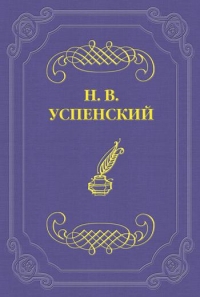
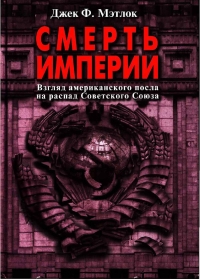

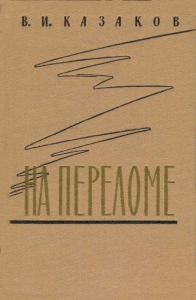

Комментарии к книге «Мятежный батальон», Кирилл Борисович Басин
Всего 0 комментариев