Памяти моего дорогого отца, СУЛТАНОВА ВАГИТА ЯРУЛЛОВИЧА, двадцатилетним инвалидом вернувшегося из дыма Великой Отечественной войны и до конца пронесшего великую любовь к Жизни, посвящается эта книга.
АвторОТ АВТОРА
Плотин. Мрамор. Остия. Музей.
Не читайте эту книгу. Это совет. Совет людям уравновешенным, добропорядочным, образованным, социально активным, ценящим свою значимость и важность, любящим свое отражение в зеркале, отвергающим нелепые случайности и неожиданности, убежденным, что Солнце всегда восходило и будет восходить на Востоке, а дважды два всегда четыре. Этим людям «Плотин» чужд. Может быть даже опасен.
Плотин — то ли эллин, то ли египтянин, то ли римлянин.
Плотин — то ли философ, то ли маг и мистик, то ли…
Плотин создал величайшую диалектическую систему. Ее можно назвать диалектикой силы Жизни, а можно — диалектикой молчаливо творящего Созерцания. Впрочем, все «темное» людям ясным и упорядоченным не интересно и не нужно.
Время Плотина — это поздняя осень великой Римской империи, когда разрушаются и словно бы исчезают привычные ценности и верования, прежде казавшиеся столь прочными в потоке завихряющегося, мутного бытия.
Это время драматического обострения противоречий между людьми, время, когда одни начинают превращаться в гусеницу, а другие уже уснули в прозрачном коконе. «Время собирать камни и время разбрасывать камни, время жить и время умирать».
Все это происходит в одном-единственном — для Плотина — миге.
НЕЧТО ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ…
Эти странные события-мутанты начались весной, в конце апреля 2025 года, в небольшом ущелье на Тянь-Шане. Там, в совершенно безлюдном месте — ближайший кишлак в сорока пяти километрах, — был расположен один из модулей Свободного Поискового Центра. Модуль представлял собой просторное шарообразное здание с рифленым алюминиевым покрытием, предназначенным для сбора солнечной энергии, высотой в девять метров (так называемый пятый проект Михаила Перепелицына). Его окружал реликтовый орешник, в котором постоянно шелестел странный ветерок. Совсем рядом протекал мелкий горный ручей, берущий начало от старого, с желтыми пятнами на поверхности, уже совсем съежившегося ледника. Солнце по утрам с поразительной, тоскливой свежестью освещало древнее, затаившееся в своих воспоминаниях ущелье, лес переполнялся невидимым птичьим гомоном и невнятно пульсирующими шорохами. Но затем вновь становилось ностальгически тихо и сумрачно.
Главным элементом модуля были три компьютерные системы нового поколения с голографическими дисплеями: три информационно-эвристические структуры в рамках информационного контура РИБ (рефлексивные игры будущего) синтезировали «мозаичные культур-образы» в постоянно саморазвивающуюся метасистему Знания. Последняя, в свою очередь, создавала принципиальную возможность усложняющегося диалогового взаимодействия входящих в нее ИЭС (информационно-экспертные системы). При этом РИБ изначально не был ориентирован на какие-либо жестко определенные цели. Суть самого подхода заключалась в том, что РИБ рано или поздно сам должен был выделять и работать с новыми эвристическими целями, гипотезами, концепциями и теориями.
Интегрированные и взаимодействующие ИЭС были снабжены блоками, позволяющими модифицировать — и даже весьма радикально — веер используемых программ. Они обладали разными уровнями сложности и имели возможность автономно пользоваться данными практически всех внешних информационных банков планеты.
Свободный Поисковый Центр имел тридцать три таких модуля в различных точках Земли: информационные и силовые поля планеты и космоса по-разному оказывали воздействие на эвристику используемых программ. Центр обходился очень недешево. Но делать было нечего: нужны были действительно принципиально новые идеи, которые могли бы если не предотвратить надвигающуюся катастрофу, то, по крайней мере, хотя бы как-то приостановить или смягчить ее.
Рефлексивно-игровые диалоговые системы РИБ, начало которым положила одна из случайных модификаций экспертных систем, появившаяся в 1998 году, позволили кардинально расширить спектр поиска таких стимулирующих принципов. Собственно, дело заключалось даже не в самой технике и самоиндуцирующихся информационных программах. Ключевой отличительной чертой РИБ стало установление новых взаимоотношений или даже взаимопонимания между человеком и информационными структурами: взаимопонимание на уровне контекстуального знания, аналогового понимания.
В рамках РИБ порой непредсказуемым образом изменялось сознание оператора — «системного синтезатора». Было несколько концепций, которые пытались объяснить странные, порой очень странные или даже драматические явления, происходившие в модулях. Но все эти концепции изобретались специалистами, которые сами в парадоксальных рефлексивных играх не участвовали. Тем не менее Свободный Поисковый Центр добился достаточно важных и продуктивных результатов, чтобы его продолжали финансировать и надеяться на него.
Но я несколько отвлекся. В рамках информационного контура РИБ базовые информационные программы начинали диалоговую коммуникацию друг с другом на совершенно разные темы: от проблемы искривленного времени в плоскости Мебиуса до проблемы влияния тех или иных футбольных результатов на частоту рождения близнецов. Периодически синтезатор просматривал особые графические контуры плывущих в потоке проблем и в случае появления перспективной концепции подключался к игровому диалогу.
Каждый компьютер был снабжен индивидуальным блоком голоса. В случае появления какой-либо особо сенситивной идеи автоматически включался этот блок для облегчения личностного вхождения в рефлексивную игру.
…Так вот, я говорил о странных, очень странных явлениях. О них ничего не сообщалось: люди и так были взбудоражены тревожными событиями. Тем не менее эти явления происходили. В своем модуле у меня тоже были встречи с «тенями», как мы их называли. Я не знал, что это, да и сейчас не знаю… Но я хочу сказать честно — это не было каким-то профессиональным заболеванием… Последнее уже точно доказано.
…Тогда весной машины занимались проблемой потенциальной многовариантности каждого момента существования цивилизации в различных культурных реальностях. Я немного поясню: каждая цивилизация — это, в конечном счете, некая мозаичная структура различных культур. Каждая культура — а это может быть и культура личности, социальной группы, религиозная культура, политическая и так далее — имеет некий образ своего прошлого, настоящего и будущего. В зависимости от мозаики этих образов оцениваются образы других культурных общностей и делаются некие выборы — эффективные и не очень.
В то утро, как только я вошел в центральное помещение модуля, вспыхнул вспомогательный экран «хронологического информационного процессора» — ХИП. Я забыл упомянуть, что машины тоже могли самостоятельно требовать подключения синтезатора. Но происходило это довольно редко. Естественно, я сразу заинтересовался и, сев в кресло, включил блок голоса. Раздался чуть приглушенный, с хрипотцой, голос ХИПа:
— Возможно ли, в контексте базовой парадигмы, верифицировать следующее утверждение: целостность креативного мышления является прежде всего процессом достижения такой целостности.
Я включил тумблер декодера и сказал:
— Но проблема в том, что целостность этого процесса в конечном счете основана на целостности базовой модели мира..
ХИП отреагировал практически моментально:
— Имеется в виду, что целостность образа мира в рамках нынешней господствующей цивилизации воспринимается как пространственная мозаичная сцепленность: взаимодействие технологий, культур, идеологий, политики, природной среды. Структура реального взаимодействия — 70–80 лет, то есть жизнь двух поколений людей. И далее существует некий разрыв.
Я налил себе в чашку горячего кофе и потом только ответил:
— Ты в определенном смысле прав. В контексте нынешней цивилизации отсутствует реальная хронологическая целостность мира. Я не говорю о схемах, конструкциях, парадигмах, теориях исторического процесса — их-то как раз предостаточно. Нет другого, очень важного…
ХИП меня перебил:
— Идея сформулирована нечетко. Поясните исходные принципы.
— Во-первых, я уже тебе раз говорил — не перебивай. Во-вторых, я имею в виду следующую аналогию. Организм человека целостен, в том числе и в хронологическом смысле. Этот организм сегодня в себе сочетает и прошлое и будущее. Как? Я, например, осознаю (но могу и не осознавать — это не так важно), что если в прошлом нечто не произошло бы или произошло иначе, то сегодня я, как некая уникальная целостность, был бы иным. И я убежден также в том, что некие события через месяц, год или пять лет будут обусловлены именно тем, каков я есть именно сейчас.
Раздался мелодичный голос «Сюзанны» (информационная программа сопоставительного анализа иерархийно-структурированных систем):
— Но здесь есть еще один очень важный аспект. В физическом плане вы иной по сравнению с тем, каким были пять, десять, двадцать или тридцать лет назад. Повторяю: иной. И тем не менее ваше человеческое сознание, ваше человеческое мышление сохраняет определенным образом ваше уникальное прошлое. И можно предположить, что в зависимости от того, каким образом строится ваш диалог с вашим индивидуальным личностным прошлым, определяется некий уровень эффективности вашей сегодняшней жизнедеятельности… как синтезатора.
Я неприятно удивился, что Сюзанна добавила через несколько секунд размышлений «как синтезатора». Но ХИП прервал мои мысли:
— И более того, физически вы будете иным через десять или двадцать лет, но и сегодня неким образом вы ведете определенный диалог со своим недифференцированным, потенциальным, инвариантным будущим, так или иначе реализуя его завтра или через полгода и так далее.
— Но тогда получается, что сегодняшний «я» — это прежде всего момент некоего диалога моего прошлого и будущего. Так… Любопытно… Но давайте пока вернемся к проблеме целостности образа мира.
…Я хорошо помню, что именно в это мгновение у меня возникло неясное ощущение, что в комнате появился кто-то совершенно «иной»…
ХИП.
— Структура современной господствующей технологической цивилизации, основанной прежде всего на принципе экономического роста, не предусматривает хронологической взаимосвязи. Идеология экономического роста базируется на преодолении прошлого настоящим, а настоящего — будущим. Поэтому в технологической культуре, в технологизированных моделях жизни сформировался культурный комплекс превосходства по отношению к прошлому.
…Я неожиданно почувствовал, что кто-то ко мне медленно приближается. Я резко развернулся вместе с вращающимся креслом. Никого не было. Свет, пробивавшийся через зеленоватые затемненные окна, чуть искрился в чистом, прохладном воздухе большой комнаты…
— Да, вариаций много, — я вытянул ноги и стал наблюдать за светом, формулируя продолжение игры. — И, конечно, сам этот комплекс исключает корректный диалог с Прошлым, а поэтому-то и проявляется разрыв в хронологической целостности образа мира. Далее, этот внутренний комплекс превосходства в отношении прошлого как целого предполагает две недвусмысленные закономерности. Во-первых, противопоставление некоего индивидуального прошлого (своей культуры, своего народа, своей истории) вообще Прошлому. А во-вторых, предполагает некое избирательное отношение даже к своему индивидуальному прошлому — так или иначе подчеркивается нечто, что может интерпретироваться как героическое, славное, великое…
В эту секунду я его увидел. Даже нет… сначала что-то ярко блеснуло… Когда я вновь открыл глаза, в лучах солнца сверкала и переливалась фигура. Высотой она была метра полтора, а форма ее напоминала чуть вытянутое яйцо с небольшим расширением кверху. Его поверхность постоянно как бы переливалась… и даже не светом…
Когда яркость «свечения» существа слегка уменьшилась, оно медленно двинулось, как бы полетело, не касаясь пола, по направлению к машинам. Сблизившись со мной, всего лишь в полуметре, существо приостановилось. В этот момент я почувствовал какую-то необыкновенную свежесть и какое-то… как бы это сказать… вдохновение, энергию, исходящую от него… Я вдруг ощутил необыкновенный прилив бодрости…
Голос Сюзанны:
— С другой стороны, этот глубинный комплекс превосходства к прошлому дополняется комплексом неполноценности по отношению к будущему. Кеннет Боулдинг — один из крупных теоретиков общей теории систем — в прошлом веке выразил этот комплекс неполноценности в виде следующего афоризма: «Единственный совет, который можно дать человеку, думающему о будущем, заключается в следующем: будь всегда готов удивиться!» Действительно, эвристический диалог невозможен с абсолютно неопределенным будущим, которое может только удивлять, а тем самым господствовать.
…Я хорошо и ясно слышал Сюзанну, но не мог оторвать глаз от застывшего существа, блеск и мерцание которого периодически то уменьшались, то увеличивались… Я не был испуган или даже удивлен… У меня появилось ощущение, что после других «парадоксов» могло произойти и «иное». В то же время я невольно отметил, что Сюзанна никогда раньше не приводила в качестве аргументов афоризмы.
В игру включился Титан — третья системная программа:
— В рамках так называемого целостного образа мира технологической цивилизации люди отделены непроходимой и невидимой пропастью от Прошлого и Будущего. Наиболее точно этот разрыв зафиксирован Новалисом в XIX веке в следующей дефиниции: «Прошлое — это тот период времени, где мы ничего не можем сделать, но в отношении которого питаем иллюзию, что все о нем знаем. Будущее — это тот период времени, в отношении которого мы ничего не знаем, но питаем иллюзию, что что-то сможем там сделать. Настоящее — это тот период времени, когда прошлое переходит в будущее и одни иллюзии сменяются другими иллюзиями».
…Я вдруг почувствовал, что у меня как бы исчезло тело, и в то же время поток моих и одновременно отчужденных от меня мыслей ворвался в меня…
Странный и трагичный мир. В этом «театре теней» прошлое ясно и бескомпромиссно отделено от настоящего, а настоящее таким же образом от будущего. Когда говорят «прошлое», то подразумевается, что это наверняка не настоящее и не будущее. Поэтому-то настоящее — это не прошлое и не будущее абсолютно. В то же время постулируется нечто, называемое «вечностью», которое — необъяснимо! — вбирает в себя все эти «срезы времени».
— Но ведь в настоящем есть нечто от прошлого, а в будущем — от настоящего, и таким-то образом они связаны и образуют вечность.
— Это слишком поверхностно. Можно в настоящем со сколь угодной тщательностью перечислять некие якобы тенденции, факторы, параметры и т. д. прошлого, в то же время квалифицируя его именно как настоящее. Но вот что примечательно: у человека, выделяющего настоящее — мгновения, минуты, часы, дни, недели, — формируются странным образом перекрещивающиеся концепты: можно, например, определять и воспринимать некое целостное явление одного дня как «настоящее», в то же время относя определенный час или минуту к прошлому.
Реальный мир предполагает мозаику образов Будущего и Прошлого, которые взаимосвязаны вероятностно и инвариантно. Эти образы реальны только потому, что пульсирует их целостная связь с Настоящим. Образно говоря, существует только пульсирующая ритмично точка, расширяющаяся и сжимающаяся, которая называется «настоящее».
Каждый человек имеет свои, индивидуальные представления о Прошлом и Будущем, Настоящем и Будущем, об их взаимосвязи. Эти представления редко осознаются, их очень трудно выразить словами. Они порой резко и загадочно изменяются и, сочетаясь причудливо друг с другом, оказывают вдохновляющее воздействие на творческую личность. Так же и народы, которые имеют, с одной стороны, идеологически конвенциональные, в той или иной степени сакрализованные представления о Будущем, Настоящем и Прошлом, их взаимосвязях, а с другой стороны — бурлящую мозаику этих социальных, политических, культурных, этнических, религиозных и т. д. образов. Ведь любое линейное представление о Будущем крайне опасно своей примитивизацией и скукой, так же как и такое одномерное представление о Прошлом.
— Значит, развитие как тотальное совершенствование в каждый конкретный момент связано с системой определенных целостных концепций о Прошлом, Будущем и Настоящем как о едином целом. Такая система может быть индивидуализированной, то есть выкристаллизированной только у одной личности, и тогда именно этот человек дает необходимый стимул реальному развитию, как продвижению к Истине. Но такая система, которая чаще всего не осознается как нечто дискретное, отдельное от всего остального, может возникать и у народа, нации как некая идеология, некий проект, или в более широком смысле как некий исторический порыв к сверхзадаче.
— Что самое существенное в этой системе целостных концепций? Появление принципиально новых полей взаимодействия между различными противоречащими друг другу (вообще или в деталях) образами, конструктами о Прошлом, Настоящем и Будущем. Эти новые поля взаимодействия создают предпосылки для творческой рефлексии различных представлений Прошлого и Будущего. Далее эта творческая рефлексия конструирует новый образ Настоящего, воплощение которого и является развитием уже в ином, более совершенном плане.
— Так расширяются не только структуры Прошлого и Будущего (через появление и интеграцию в существующую систему новых образов), но возникают и новые методы, модели взаимного оплодотворения Прошлого и Будущего. Например, мушкетеры Франции XVI века как социальный феномен уже давно не существуют. Но как определенная целостность по-прежнему воздействуют на формирование духа все новых и новых поколений. В этом смысле образ более реален, чем его одномерное материальное воплощение. Бесконечно плодотворно и Будущее как синоним вечной устремленности к Благу.
Бессмертно, сверхреально и инвариантно только Настоящее. Оно — Настоящее — попеременно бывает творческим и пребывающим в покое. Когда этап творческой рефлексии заканчивается, Настоящее, как целостная, неразрывная, точка начинает сжиматься, но при этом целостность не рушится, ибо концепты Прошлого и Будущего не исчезают, а переходят в потенциальное…
…Я очнулся: на дисплее Сюзанна формулировала вопрос:
— Причины хронологического разрыва?
Титан внезапно пришел мне на помощь и ответил:
— Целый ряд закономерных факторов. Ключевая причина — господствующее положение принципа линейного исторического прогресса в европейском технологическом сознании. В данном принципе сконцентрирован иудео-христианский догмат о так называемом первородном грехе и его искуплении богочеловеком — Иисусом Христом. Экономический императив европейского рационального мышления основан на этой важнейшей иудео-христианской традиции.
Такой поворот в игре мне показался почему-то забавным, и я, отвлекаясь от мерцающего существа, сказал:
— Таким образом, некая прямая ограниченная линия, связывающая конкретную точку в прошлом (первородный грех) с конкретной точкой в будущем (Страшный суд), является своего рода геометрической моделью, объясняющей отсутствие хронологической целостности…
В этот миг существо оказалось рядом с ХИПом, который, прервав меня, продолжил:
— …современного европейского дискретного мышления. — ХИП вдруг замолчал, словно что-то обдумывая, а затем продолжил, при этом я заметил, что у него впервые слегка изменился голос — в нем появился чуть заметный странный акцент. — Однако известны и другие культурные модели взаимодействия Прошлого, Настоящего и Будущего. Пример: геометрия шара как порождающая модель эллинистического мышления. Уточняющие примеры: Парменид считал небо самым точным из встречающихся шаров. Не только Земля шарообразна, но и вся Вселенная и даже «Бог неподвижен, конечен и имеет форму шара». В «Тимее» Платона говорится: «… небо шаровидно ввиду равного отстояния границ Вселенной от центра». Аристотель также считал, что не только все небесные светила являются шарами, но и «все небо и весь космос». Ксенофан заявил: «Существо божье шарообразно». Демокрит утверждал, что Бог есть ум в шарообразном огне. Левкипп считал душу шарообразной, поскольку душа «дает живым существам движение».
Здесь уже я его прервал:
— А при чем здесь хронологическая целостность мира?
Наступила странная тишина, а потом… потом мне показалось, что ответило именно мерцающее существо… Хотя я не уверен…
— В эллинистическом мышлении все движется, но в конце концов все и покоится в пределах одной вселенской живой шаровидности. Одна и та же грандиозная картина существует здесь везде и всегда. Все индивидуальное, все личное, вообще все зримо оформленное, то созидаясь, то разрушаясь, вечно возвращается в этом шаре к самому себе.
Я крепко сжал веки, потряс головой, пытаясь как-то прояснить всю ситуацию. В этот момент вновь заговорил ХИП:
— Идеи вечного возвращения и циклического движения характерны не только для эллинистической культуры…
Внутри меня что-то кольнуло. Сюзанна спокойно и, казалось, саркастически утверждала:
— Но ведь и в современной геометрии прямая, доходящая в одну сторону до бесконечно удаленной точки, возвращается обратно уже с противоположной стороны. Некоторые кривые представлены так, что обнаруживается одновременно и кривизна, уходящая своими разветвлениями в одну сторону, и кривизна, как бы приходящая к самой себе с противоположной стороны. Подобного рода представления основаны на том, что все, доходящее до бесконечно удаленной точки, описывает некоторого рода бесконечную окружность, возвращаясь с противоположной стороны.
…Затем неожиданно какой-то провал, и вновь я слышу тихий, странный «голос из пещеры»:
— Все это эллины прекрасно знали. Всякое прямолинейное движение, будучи взятым в своей совершенной форме, обязательно и закономерно превращалось для них в шарообразное. Но самое главное для эллина — диалектика: геометрический образ шара являлся исходной моделью Прошлого, Настоящего и Будущего как бытия, так и мышления, неотъемлемого от этого бытия.
Я задумался. Как-то постепенно я стал терять нить всего этого неожиданного диалога. Поскольку игра записывалась, я мог бы остановить весь процесс и просмотреть диск с самого начала. Но какое-то неизвестное мне щемящее чувство удерживало меня от этого.
Опять включилась Сюзанна:
— Но эту исходную модель нельзя упрощать. Шар представляет собой в самых различных культурах циклически развертывающуюся и свертывающуюся спираль. Более того, как ни странно, спираль эта, по сути, бесконечна в бесконечном шаре.
…В этот миг я непроизвольно отметил, что Сюзанна никогда не употребляла и не могла употреблять слово «странно».
— Сколь угодно громадные циклы времени, сменяясь, могут быть названы прогрессом или регрессом, но в конечном счете они все составляют один и тот же бесконечный шар.
ХИП:
— Эллины считали, что в нынешнем цикле люди находятся на стадии свертывающейся спирали — золотой век позади. А отсюда следовал соответствующий вывод, что знания Настоящего всего лишь блекнущая копия знаний Прошлого.
Я смотрел на все это как бы со стороны и спокойно пытался понять, что же происходит. Во-первых, машины впервые вели себя так наивно по-человечески. Во-вторых, машины не стремились к контакту со мной. Это было тоже непонятно. При включенном звуковом блоке они обязаны ориентироваться на мнение синтезатора. Я смотрел на мерцающую фигуру. Было ясно, что существо каким-то образом установило контакт с программами. Или они с ним?..
В это время Титан продолжал гнуть свою линию:
— Когда в Европе едва умели считать по пальцам, народы Месопотамии уже использовали в своих вычислениях бесконечно большие величины. Кубические и биквадратные уравнения, отрицательные и трансцендентные числа, системы неопределенных уравнений, кривые третьего и четвертого порядков и другое — все это было известно в Индии, Китае и Двуречье за тысячи лет до возникновения современной технологической цивилизации. Жрецы Древнего Египта знали не только, что Земля — шар, но и то, что она вращается в пространстве и подчиняется тем же законам, что и другие планеты Солнечной системы. А открытый в XVII веке Уильямом Гарвеем закон кровообращения был известен им более шести тысяч лет назад, так же как функции сердца и мозга…
В разговор вновь вмешался ХИП.
— Великая пирамида в Гизе — пирамида Хеопса — является показательным в этом смысле примером. Периметр пирамиды, деленный на две высоты, дает число «пи» (3,14). Высота, помноженная на миллиард, — это расстояние от Земли до Солнца. Другие параметры пирамиды Хеопса указывают на вес Земли, точную ориентацию по сторонам света…
Мерцание существа заметно возросло. Оно вновь находилось в полутора метрах от меня и медленно поднималось и опускалось. Ритмичные колебания — как дыхание! В это время Сюзанна, как мне показалось, с каким-то особым вдохновением продолжала:
— Три тысячи лет тому назад халдеи считали, что радиус земного шара — 6310,5 километра. По современным данным, радиус планеты составляет 6371,03 километра. Разницу в цифрах вполне можно объяснить гипотезой о расширении Земли. Шесть тысяч лет тому назад брахманы Индии называли непосредственной причиной болезней невидимые глазом бактерии. Для современной цивилизации микромир стал доступен лишь после изобретения микроскопа. Разделяя пространство на 360 градусов, а время на 60 минут и секунд, современная культура всего лишь продолжает традицию Шумера (4 тысячи лет до нашей эры), в основе которой концепция единства пространства и времени. Шесть тысяч лет назад египетские жрецы имели точные знания о магнитных полюсах планеты…
Титан перебил ее:
— Но и сами эллины поразительны в этом смысле. Современная концепция бесконечности и дискретности пространства и времени очень близка к взглядам Эпикура. Теофраст говорил о химической войне и химической взаимопомощи растений. Современной технологической цивилизации это стало известно лишь в 30-х годах XX века, после открытия фитонцидов. Эмпедокл доказывал, что существует раздельный генезис флоры и фауны.
…Я смотрел на замершее существо. У меня не было ни мыслей, ни эмоций — я чувствовал нечто подобное благодатной пустоте. И кроме того, мне показалось, что «существо» тоже вглядывается в меня…
Я усмехнулся: наконец-то вспомнили и обо мне. Ну что же, попробуем усложнить игру. Я взял чашку с давно остывшим кофе и шутливо протянул его «существу». Оно не отреагировало. Я пожал плечами, сделал большой глоток:
— Являются ли эти знания случайными для древних цивилизаций? Вероятно, нет. Тогда скорее всего нам известно очень немногое из того, что вы — как мне кажется — называете Знанием в этих цивилизациях и культурах. Но проблема в следующем: интересуют ли нас некие дискретные элементы знания этих культур или же гораздо важнее, как вы считаете, диалог с тем творческим разумом, который произвел эти знания?
Я удовлетворенно замолчал. Вопрос был с подвохом: только на первый взгляд он казался пустяковым. Компьютеры безмолвствовали. Но я почти сразу услышал «голос из пещеры»:
— Проблема некорректна. Современная технологическая цивилизация на планете может понять в прошлом Знании только то, что она может воспринять. Есть много указаний, на которые современные люди не в состоянии отреагировать, даже если бы захотели, очень захотели. Поэтому здесь не может быть противопоставления. Только диалог с великим творческим разумом Прошлого позволит относиться к знанию древних не как к случайному.
— Но диалог предполагает понимание, а понимание предусматривает уважение. А у нас, в рамках технологической цивилизации, распространен утилитарно-прагматический подход: уважается то, что может быть выгодным в широком смысле слова.
— Иллюзорное понимание в конечном счете всегда приводит к катастрофе. Истинное понимание — это гармоническое взаимодействие двух тайн, двух загадок, когда само понимание тоже становится загадкой, тайной, ничего не разрушающей и не уничтожающей.
Я покачал головой: «Красиво, образно, но не совсем понятно. Что же имеется в виду? Может быть, новая модель диалога с некой другой культурой… И эта модель создавалась не только здесь, в XXI веке, но и одновременно там, в Прошлом… Если это так, то ситуация несколько проясняется… Но прежде всего надо проверить…»
Я сформулировал свой запрос и включил блок метасинтеза ХИПа:
— Эвристический потенциал мышления зависит прежде всего от уровня его базовой целостности, понимаемой как метапроцесс. Важнейшим компонентом является при этом хронологическая целостность мышления, предполагающая определенную систему диалога с так называемым Прошлым и Будущим.
ХИП замолчал. Я нетерпеливо переспросил:
— Оптимальный объект для диалога?
ХИП через несколько секунд выдал ответ:
— Плотин.
— Почему Плотин?
— Плотин — крупнейший мыслитель неоплатонизма, наиболее глубокого и мощного выражения эвристического духа эллинизма, эллинистической цивилизации, которая возникла не внезапно и неожиданно, а в результате диалога с еще более мощными и глубокими пластами человеческого духа.
Обычно, когда говорят об эллинистическом периоде, вспоминают Фалеса, Парменида, Сократа, Платона, Аристотеля, Солона, Эпикура, еще ряд философов, государственных деятелей, поэтов. Но, вероятно, наиболее великим символом этой культуры является Плотин.
Неоплатонизм по-своему подвел итог духовному развитию эллинизма, создав глубочайшие по тонкости, вдохновляющие своей красотой системы мышления, новые культурные модели. Волны эллинистического духа прорывались сквозь века, предрассудки, невежество и ненависть, чтобы оказать воздействие на развитие арабо-мусульманской и иудео-христианской культур. Обращаю особое внимание на то, что Плотин — создатель наиболее оригинальной и глубокой системы диалектики в истории мышления, в той мере, в какой эта история известна современной технологической цивилизации.
Титан:
— Диалектика Плотина — это не некий набор отточенных, застывших, догматических определений и формул, не тяжеловесные, неуклюжие теоретические схемы и конструкции, а живая, постоянно переливающаяся различными цветами, ясная и в то же время постоянно скрывающаяся от глаз профана система.
У меня появилось смутное подозрение, что что-то подобное я встречал когда-то в далекой юности. Я попросил ХИП проверить возможные источники. На экране через несколько минут медленно заскользили строки: «Смерть и любовь являются мифами отрицательной диалектики, потому что диалектика есть внутренний простой свет, проникновенный взор любви, внутренняя душа, не подавляемая телесным материальным раздроблением, сокровенное местопребывание духа. Итак, миф о ней есть любовь. Но диалектика есть также бурный поток, сокрушающий вещи в их множественности и ограниченности, ниспровергающий самостоятельные формы, погружающий все в единое море вечности. Итак, миф о ней есть смерть.
Таким образом, она есть смерть, но в то же время и носительница жизненности, расцвета в садах духа, пена в искрометном кубке тех точечных семян, из которых распускается цветок единого духовного пламени. Поэтому Плотин называет ее средством, ведущим к „упрощению“ души, то есть к ее непосредственному единению с Богом, — выражение, в котором смерть и любовь и в то же время „теоретическое познание“ Аристотеля соединены с диалектикой Платона». Карл Маркс. «Тетради по эпикурейской философии».
Экран погас. Я с улыбкой подмигнул мерцающему существу и спросил шутливо:
— Слушай, а может, ты и есть душа самого Карла Маркса, а?
Но никакой реакции не последовало. Оно по-прежнему висело в полуметре над полом и так же переливалось бесконечным радужным светом.
Я попросил Титана сформулировать общий контекст начального понимания Плотина. Из тех данных, что он сообщил, я выделил два момента.
Во-первых, основной греческий текст Плотина крайне труден. Титан наиболее вескими счел специфический стиль и метод. Плотин писал свободно, непринужденно, то и дело прибегал к разным образам, метафорам и символам, перескакивая от тончайшей теории к человеческой психологической практике и душевным настроениям. Кроме того, Плотин стал писать и диктовать тогда, когда система уже окончательно сформировалась.
Во-вторых, Плотин — один из немногих античных мыслителей, система которого зафиксирована в предельно полной форме. Перед смертью он завещал своему ученику и последователю Порфирию отредактировать, привести и порядок и издать его трактаты и лекции. Порфирий это сделал.
Прежде всего Порфирий разделил все трактаты на шесть отделов в соответствии с сутью учения Плотина. Каждый отдел Порфирий, в свою очередь, разделил на девять частей, вследствие чего каждый отдел получил у него название «Эннеады», то есть Девятки. Все шесть отделов, вся система Плотина с тех пор тоже получили общее название «Эннеады». Трактаты, на которые делилась у Порфирия каждая «Эннеада», были расположены в порядке возрастающей трудности и занимали каждый от нескольких страниц до нескольких десятков страниц. Таким образом, диалектика Плотина была основана на постоянном обращении и сравнении частного, индивидуального через общее, через все.
…Я задумался: пока ничего в голову не приходило. Я посмотрел на мерцающее существо: мне показалось, что оно вновь несколько сдвинулось к ХИПу. И почти одновременно на мерцающем экране появились строки. Это был отрывок из какой-то работы Алексея Федоровича Лосева — одной из наиболее великих и трагических личностей в философии XX века: «Античность не знает субъекта без объекта или объекта без субъекта. Здесь речь может идти только о том или другом смешении субъективного и объективного начал, только о том или ином их превалировании, только о той или иной их дозировке. Сами же эти области субъекта и объекта ни в какой мере не могут разрывно противопоставляться одна другой, так что проблема заключается в изображении того конструктивного целого, которое приобретает в основе всегда одинаковое тождество субъекта и объекта».
«Иначе говоря, — начал я размышлять, — диалектическая модель, система Плотина в себе содержит субъект, то есть самого Плотина. Тогда проблема трояка: выделить в этой системе Плотина как субъект, сконструировать и понять эту систему объективно, то есть чтобы эта модель не воспринималась только как система Плотина, как чуждая моему личностному опыту, и, наконец, сконструировать метасистему, соединяющую и объединяющую эти два направления».
Я даже присвистнул. Получалась довольно оригинальная игровая ситуация. Я попросил Сюзанну проанализировать возможные альтернативы развертывания игры. Однако через несколько минут она попросила представить всю проблему более адекватно требованиям ее базовой программы — возникли очень сложные семантические вопросы. Я вновь задумался.
Неожиданно заговорил Титан:
— Прежде всего необходимо сформулировать предельно сжато и сконцентрированно всю систему Плотина…
Я смотрел на него и ждал продолжения. Но продолжения не было.
— Математические координаты потенциальных моделей?
Титан ответил сразу же:
— Корректные математические языки по-прежнему отсутствуют для воспроизведения систем подобного типа.
Я потер левый висок. Собственно говоря, этого следовало ожидать. Ладно…
— А если отрефлексировать хотя бы краткую вербальную модель системы Плотина?
Титан заговорил своим красивым баритоном:
— Диалектическая система Плотина — это теория иерархического, динамического, силового целого со ступенями, которые эманируют путем постепенного ослабления из первой ступени. Основных таких ступеней четыре: Единое, Ум, Душа и Материя.
Абсолютным завершением всего целого является Единое. Оно настолько полно, что, кроме Него, уже больше ничего не остается другого. Это значит, что Единое вообще не может быть чем-нибудь, то есть Ему не свойственно никакое качество, никакое количество. Оно ускользает от всякого мышления и познания, Оно выше всякого бытия и сущности, Оно не есть какое-нибудь понятие или категория, Оно выше всякого имени и названия.
Если бы было только одно Единое, то ни Оно само, ни что-нибудь вообще не было бы познаваемо. Единое не есть какая-нибудь форма, ибо Оно есть источник всякой формы. Будучи источником всякого оформления, Оно само из себя порождает свое инобытие, но при этом оставаясь тем же безупречным Единым. Таким образом, появляется бытие. Это бытие не есть чувственное, материальное бытие, но оно уже есть «нечто», и оно уже есть некий живой смысл, и притом определенным образом оформленная сущность. Этот смысл есть одновременно и объективное бытие, и объективно-реальная субстанция. Кроме того, этому осмысленному бытию свойственно и адекватное ему сознание, так как оно само себя же самого и с самим же собой соотносит. Все отдельные смыслы, или эйдосы, взятые вместе, и есть то, что называется Умом (Нусом).
Каждый эйдос отражает в себе весь мир эйдосов, весь Нус целиком и является этим цельным миром эйдосов, но выраженным с какой-нибудь специфической стороны. Такой отдельный специфический эйдос, как потенциальная и актуальная манифестация Нуса, и есть бог. Каждый бог поэтому есть первообраз для соответствующей области бытия, и есть та предельная сила и то предельное оформление, которым держатся все вещи и все явления данной специфической области бытия. Поэтому каждый эйдос, или каждый бог, и весь мир эйдосов и богов, целиком является демиургом и первообразом.
Мир эйдосов, эманируя, в свою очередь, переходит в становление, но становление все еще не материальное и не чувственное, а смысловое и осмысляющее. Отдельные эйдосы или умы, переходя в такое становление, оказываются движущими и одушевляющими силами или вторичными богами — даймониями. А все эти одушевляющие принципы, взятые вместе, образуют Мировую Душу, которая является источником одушевления и движения всего сущего.
Эманация Мировой Души ведет к новому виду инобытия — материальному миру, который образуется как воплощение души в материи. Материя же сама по себе есть чистое ничто, она есть только восприемница возможных форм, только вечная неопределенность. Материя есть вечное иное, или инаковость, то есть она не есть «что-нибудь», но только иное, «что-нибудь». Материя возможна только там, где есть распадение и рассеяние ума и души. Материя и есть принцип этого распадения и рассеяния, то есть она существует в меру угасания ума и души. Чем сконцентрированнее и динамичнее ум и душа, тем меньше в них материи, но чем больше распадаются и рассеиваются ум и душа, тем сильнее становится материя.
Тем не менее материя вовсе не есть абсолютное ничто. Материя есть возможный принцип воплощения эйдосов. Без этих эйдосов, смыслов, не могло бы возникнуть никакой чувственной красоты и, следовательно, самого космоса. Однако и без материи тоже ничего не могло бы возникнуть телесного и вещественного. Но только воплощение это может быть и совершенным, и несовершенным. В первом случае получается прекрасное тело, во втором случае — тело ущербное, уродливое и безобразное.
Важнейшим элементом, пронизывающим и объединяющим данную систему Плотина, является понятие потенции (силы, мощи). Этой потенцией является уже само Единое, без потенции которого вообще ничего не существовало бы. Потенцией насыщен также и Нус, в котором она слита воедино с его энергией, причем потенция и энергия ума, будучи неразделимыми, все же различны. Потенцией живет также и Мировая Душа, а следовательно, и все то, что эта Душа оживляет, то есть весь космос и вся область материи. Но и материя есть потенция — потенция быть всегда иной…
Титан неожиданно замолчал. У меня появилось отчетливое ощущение, что его кто-то прервал. И я оказался прав: послышался вновь «голос из пещеры». Он шел как бы отовсюду. Само же мерцающее существо оставалось неподвижным.
— Плотин постоянно обращается к символической модели, которая как бы отражает всю его систему. Эта символическая световая модель включала в себя: Единое — абсолютно чистый и простой свет или, точнее говоря, даже сила света; Нус — Солнце, имеющее свой собственный свет; Мировая Душа — Луна, заимствующая свет от Солнца; материя — это мрак…
Светящаяся небольшая точка в качестве центра прозрачного шара. Этот внутренний центральный свет освещает весь шар. Если дальше уничтожить мысленно материальную массу этой центральной точки (чтобы отпал вопрос о ее пространственном месте) и сконцентрироваться лишь на образе силы света, то можно представить себе отношение Единого, целостного и неизменяемого, к вещам Вселенной. Сам этот шар можно сконструировать следующим образом. Представь, что каждое существо, сохраняя свою индивидуальную сущность, сливается с другими в единое целое, так что получается прозрачный шар, в котором сразу можно видеть Солнце, звезды, Землю, море, живых существ. Далее представь себе этот шар нематериальным и непротяженным и проникнутым силой Единого.
В этом непротяженном шаре множество радиусов, которые имеют отдельные центры, объединенные в одном центре. Каждый из радиусов зависит от той точки общего центра, из которой этот радиус вышел. И, следовательно, имеет свой особый центр, неотделимый, однако, от единого центра. Таким образом, центры радиусов, объединяемые в одном и том же первом центре, являются особыми отдельными центрами, равными числу радиусов, для которых они являются началом. При этом надо представить центр не как геометрическую точку, а как точку исхождения силы. Тогда речь пойдет о созерцании прозрачного мирового шара, наполненного силой света, с множеством силовых радиусов, исходящих из различных точек единого центра. В нем Нус — это круг, окружающий центр. Он поэтому как бы центровидный, ибо радиусы круга образуют в своих окончаниях подобие того центра, к которому они стремятся и из которого они выросли. В концах радиусов получается круг, как подобие круглой центральной точки. Таким образом, центр господствует над концами радиусов и над самими радиусами; он раскрывается в них, не переносясь, однако, в них сам и оставаясь в себе. Круг (Ум) есть как бы излияние и развертывание центра (Единого). Как центр, не будучи сам ни радиусами, ни кругом, есть отец круга и радиусов (сообщая им свои черты, сам же оставаясь неизменным), так и неизменное Единое, как сила, производящая Ум, есть прообраз умственной силы. Нус есть свет, далеко рассеивающийся от единого светящего света, как подобие истинного света. Ум — Солнце, являющееся излиянием источника силы света.
Если Единое — центральная точка силы света, а Ум — излучающийся из нее круг Солнца, то Мировая Душа является другим, вслед за ними, кругом, подобно тому как около Солнца истекающий от него свет образует световой круг Солнца. Вне этих кругов нет больше никакого светового круга, но есть лишь атмосферный шар (чувственный мир), получающий освещение от третьего круга, часть которого окружает Солнце, а часть распространяется далее, вплоть до Земли. Так Душа проникает и освещает материю, как свет освещает воздух. Человек со своей индивидуальной душой, заключенной в тело, погружен по пояс в воду, а остальной частью выдается из воды. И вот эта-то непогруженная в тело высшая часть души, которая является как бы центром живого существа, впадает в общий центр умственного мира и приобщается к нему.
«Голос из пещеры» на несколько секунд замолчал. Мерцающее яйцеобразное существо заметно приблизилось ко мне.
— Все четыре творческих, диалектических, живых понятия Плотина не какие-то пустые, отвлеченные абстракции. Они составляют действительно живую систему, ибо все целое бытие для Плотина насквозь живое. Эта живая система существует через человека, причем человека, интенсивно и напряженно мыслящего, которому она дает возможность найти новые планы самоактуализации, выявить новые реальности, увидеть себя как целостное, прозрачное, одухотворенное единство.
Тут включилась Сюзанна:
— Диалектика Плотина объединяет знание о целом и бытие целого, логику целого и историю целого как абсолютное единое. Тотальный, иерархический, живой монизм — важнейший пункт этой диалектики. Второй возможный принцип построения программы диалога заключается в этом смысле в том, что каждая ключевая категория иерархического общедиалектического процесса Плотина должна интерпретироваться не только личностно, внутренне, но и одновременно в свете остальных категорий.
Единое есть исток всех категорий. Исследование Ума предполагает рассмотрение его как Единое, как душу, как материю. Душа, рассматриваемая как Единое, как ум, как душа и как материя, будет становящимся творчеством, ощущением, оживотворением и так далее. То же самое относится и к материи. Возникающие конечные образы в каждом таком цикле будут развитыми и рассмотренными с точки зрения единопорождающего лона, то есть реконструируется система порождающей, в том числе и Прошлое и Будущее, символической диалектики.
ХИП:
— При разработке программы диалога необходимо учитывать и то, что диалектика Плотина отражается в специфической форме и в стиле его трактатов. А. Ф. Лосев первым обратил внимание на неслучайный характер самого этого стиля, который он назвал понятийно-диффузным: «Эта категориально-диффузная или понятийно-диффузная особенность философского стиля доходит у Плотина иной раз до формы разговора автора с самим собой. Основные свои четыре ипостаси Плотин повторяет почти на каждой странице, и также об этих отдельных ипостасях он неутомимо рассуждает не только в каждой главе, но и на каждой странице своих „Эннеад“.
С первого взгляда возникает впечатление, что Плотин не умеет излагать свои мысли. Но это только поверхностное суждение. Каждый раз, когда Плотин заговаривает, например, об Едином, он всегда скажет о Нем что-нибудь новое и что-нибудь очень тонкое, чего уже не найти в других его текстах. Точно так же решительно все страницы Плотина пересыпаны рассуждениями об Уме или Душе.
Этот замечательный стиль Плотина заставляет на каком-то этапе обращать внимание не только на четко отграниченные категории Плотина, но и на их какую-то самоподвижность. Все эти понятия все время находятся в каком-то подвижном состоянии, или, иначе говоря, все эти прозрачные, четко продуманные у Плотина категории постоянно находятся в состоянии становления, в состоянии какой-то удивительной взаимной диффузии, когда одна категория заходит в область другой и одна понятийная характеристика задевает, а иной раз и перекрывает понятийную характеристику совсем другого раздела теоретической мысли.
Дело в том, что основные диалектические понятия в его системе — Единое (Благо), Ум, Душа, Материя — это различные, но целостным образом взаимосвязанные уровни сущности или смысла вещей. Плотин поэтому и рассматривает и характеризует сущность обязательно как становящуюся, обязательно как текучую, обязательно как неразрывно связанную со своим функционированием в окружающем ее бытии. Всякая сущность, всякий смысл для Плотина есть не что иное, как именно текучая сущность в том смысле, что она и не может оставаться на месте и не охватывать все прочее. Всякое протекание сущности тоже есть не что иное, как оно же само, то есть именно протекание тоже содержит в себе свою собственную идею».
…Внезапно все стихло, и наступила тягостная, звенящая тишина. Я сидел в глубоком кресле, с плотно закрытыми глазами. Во мне была пустота, настоянная на усталости, одиночестве и холоде, — слева, где сердце. Я перестал понимать эти странные речи, странные метафоры, странные образы. Да я и не хотел это понимать. Меня уже не интересовало и мерцающее существо.
Я медленно, как дряхлый старик, ощущающий при каждом натужном вдохе и выходе накопившуюся кармическую усталость в хрупких, звенящих костях, встал и подошел к широкому, во всю стену окну. Ветер — так его чаще всего здесь называют — безмолвно ластился к прекрасным, медленно пробуждающимся от печального, зимнего сна загадочным орешникам.
Тихо зазвучала музыка — реквием Моцарта. Амадей обладал глубочайшей интуицией — он знал день собственной смерти. Когда ночной посетитель, заказавший реквием и не пожелавший назвать себя, скрылся в дождливой ночи, Моцарт долго ходил в своей неуютной комнате между стопками нотной бумаги. «Какая интригующая и вдохновляющая мысль, — мрачно и весело думал он, — написать реквием самому себе, а потом его продать…»
Первые аккорды увертюры. Потом — тихий, отчетливый голос: я был уверен — это оно, мерцающее существо… Но «голос из пещеры» изменился.
— Представь себе очень отчетливо образ с такими выпуклыми и ясными деталями, чтобы ты оказался там…
…Полночь, ровно полночь. Сочная звездная ночь. Царит глубокий покой. Полная, яркая луна заливает своим тускло-холодным светом большую часть довольно просторной комнаты. В углах таится угрожающий неожиданностью мрак, и копошатся какие-то бледные, расплывающиеся в полутенях фигуры.
В центре комнаты — большой прямоугольный пустой стол. За этим столом сидишь ты, освещенный ярким, колеблющимся светом магической Луны. Этот свет проникает через все распахнутые настежь окна.
Сосредоточься и не бойся.
Ты видишь некое «существо». Оно может быть сверху, спереди, снизу… То ли лучи лунного света его испуганно избегают, то ли это некий призрак, то ли вообще оно нечто бесформенное — это уже неважно. Конечно, в другом месте, в другой ситуации, в другое время это, может быть, было бы очень существенно. Но в полночь это не имеет особого значения.
Я все больше и больше погружался в это пространство.
— Итак, ты играешь с этим «существом»… ну, например, в… карты… Какая это игра — тоже неважно. Кто-то может играть в бридж, другой — в преферанс, третий в дурака… Кому как выпадет.
Условия игры: у «существа» — всегда крупные карты, а следовательно, у тебя всегда мелкие. У него всегда все козыри, соответственно, у тебя нет и не будет ни одного. Он или оно — это «существо» — прекрасно осведомлено о твоих амбициях, планах, возможных ходах. Ты же не имеешь никакого представления о его намерениях. Наконец, он или оно знает о всех возможных хитростях, которые ты можешь когда-либо придумать, изобрести, позаимствовать. Ты даже его не видишь ясно и точно.
Так вот, можешь ли ты в этой ситуации выиграть?
— А что является выигрышем? — сразу спросил я.
— Твоя жизнь…
…В этот момент одновременно вспыхнули экраны всех шести дисплеев. Они начали быстро увеличиваться и сливаться друг с другом, одновременно колеблющиеся туманные тени стали концентрироваться в некое изображение…
Ночной мотылек замер, сложив свои прозрачные крылышки на лепном ободке темной ниши в каменной стене. Он, казалось, восторженно вглядывался в свой продолжающийся бесшумный и грациозный танец в золотистых волнах света, истекающего от небольшого светильника. Он грезил, и в этих грезах одинокого мотылька он оставался вечным танцем — в своей, бесконечно своей жизни.
В окно из ночи заглянул огромный, с глубокими и насмешливыми глазами, ворон. Он посмотрел на согнувшегося старика и вальяжно усмехнулся…
…Порфирий писал тщательно и скоро. Сам процесс выражения мыслей через слова не имел для него особого, самодовлеющего значения. Он писал так сосредоточенно, что при этом, казалось, видел не слабеющими глазами своими, а чем-то иным, исходящим из глубин его жизни… Это не значит, что он не размышлял и не обдумывал предварительно свои мысли. Нет, но размышления лишь следовали после «видения».
«И точно, по самой своей природе Плотин был выше других. Однажды в Рим приехал один египетский жрец, и кто-то из друзей познакомил его с Плотином. Желая показать ему свое искусство, жрец пригласил его в храм, чтобы вызвать его даймония, и Плотин легко согласился. Встреча была устроена в храме Изиды — по словам египтянина, это было единственное чистое место в Риме. Когда же даймоний был вызван и предстал перед глазами, то оказалось, что он из породы богов. Увидевши это, египтянин воскликнул: „…Счастлив ты! Хранитель твой — бог, а не демон низшей породы!“ — и тотчас запретил о чем-либо спрашивать этого бога и даже смотреть на него, потому что товарищ их, присутствовавший при зрелище и державший в руках сторожевых птиц, то ли от зависти, то ли от страха задушил их.
Имея хранителем столь божественного духа, Плотин и сам проводил немало времени, созерцая его своим божественным взором. Поэтому он и книгу написал о присущих нам демонах, где пытается указать причины различий между нашими хранителями. А когда однажды Амелий, человек очень богобоязненный, всякое новолуние и всякий праздничный день ходивший по всем храмам, предложил и Плотину пойти с ним, тот сказал: „Пусть боги ко мне приходят, а не я к ним!“, но что он хотел сказать такими надменными словами, этого ни сам я понять не мог, ни его не решился спросить».
Порфирий ощутил толчок внутри себя. Много доброго и злого унесла река времени с того дня, когда ушел от них Учитель. И очень часто, особенно с тех пор, как сам стал ощущать спокойное и мерное приближение смерти, он, Порфирий, иначе, яснее осознавал, почему для Плотина долгие беседы с ним, Зефом, Рогацианом, Амелием и другими были продолжением его бесконечного диалога со своим даймонием.
Порфирий вновь взял перо в руки: «…написав что-нибудь, он никогда дважды не перечитывал написанное. Даже один раз перечесть или проглядеть это было ему трудно, так как слабое зрение не позволяло ему читать. Писал он, не заботясь о красоте букв, не разделяя должным образом слогов, не стараясь о правописании, целиком занятый только сущностью. В этом, к общему нашему восхищению, он оставался верен себе до самой смерти. Продумав про себя свое рассуждение от начала и до конца, он тотчас записывал продуманное и так излагал все, что сложилось у него в уме, словно списывал готовое из книги. Даже во время беседы, ведя разговор, он не отрывался от своих рассуждений: произнося все, что нужно было для разговора, он в то же время неослабно взирал мыслью предмет своего рассмотрения. А когда собеседник отходил от него, он не перечитывал написанного, ибо, как сказано, был слишком слаб глазами, а продолжал прямо с того же места, словно и не отрывался ни на миг для разговора. Так умел он беседовать одновременно и сам с собою, и с другими, и беседы с самим собою не прекращал он никогда, разве что во сне. Причем и сон отгонял он от себя, и пищею довольствовался самой малой, воздерживаясь порою даже от хлеба, довольствуясь единою лишь сосредоточенностью ума..»
I Мотыльки и поющие тени Ликополь 204–232 гг.
От жажды умираю над ручьем. Смеюсь сквозь слезы и тружусь играя. Куда бы ни пошел, везде мой дом, Чужбина мне — страна моя родная. Я знаю все, я ничего не знаю. Мне из людей всего понятней тот, Кто лебедицу вороном зовет. Я сомневаюсь в явном, верю чуду. Нагой, как червь, пышнее всех господ, Я всеми признан, изгнан отовсюду.Порфирий задумался. Небольшой, аккуратный фонтан. Мерные всплески воды, казалось, напомнили о чем-то: «Плотин, философ нашего времени, казалось, всегда испытывал стыд от того, что жил в телесном облике. И из-за такого своего настроения он всегда избегал рассказывать и о происхождении своем, и о родителях, и о родине. А позировать живописцу или скульптору было для него так противно, что однажды сказал он Амелию, когда тот попросил его дать снять с себя портрет: „Разве мало тебе этого подобия, в которое одела меня природа, что ты еще хочешь сделать подобие подобия и оставить его на долгие годы, словно в нем есть на что глядеть?“ Он так и отказался. Но у Амелия был друг Картерий, лучший живописец нашего времени, и Амелий попросил его почаще бывать у них на занятиях (где дозволялось присутствовать всякому желающему), чтобы внимательно всматриваться и запоминать все самое выразительное в облике Плотина. И по образу, оставшемуся у него в памяти, Картерий написал изображение Плотина. Вот каким искусством Картерия создан был очень похожий портрет Плотина без его ведома.
Если отсчитать шестьдесят шесть лет назад от второго года царствования Клавдия, то время его рождения придется на тринадцатый год царствования Севера. Ни месяца, ни дня своего рождения он никому не называл, не считая нужным отмечать этот день ни жертвоприношением, ни угощением. А между тем дни рождения Сократа и Платона, нам известные, он отмечал и жертвами и угощением для учеников, после чего те из них, кто умел, держали перед собравшимися речь».
…Странно, Царь обычно легко схватывает даже самый слабый намек. Но утром, когда вновь начал расспрашивать меня о моем детстве, он так и остался в недоумении. Хотя то, что я сказал, было понятно: память — это сила, озаряющая сегодняшний день, а не способ выкапывать бессмысленные сожаления прошедшего дня. Память — это прозрачный и животворный туман, поднимающийся из извилистых бездн человека, а не карабкание вниз по острым камням прошлых событий в тщеславной попытке добраться до очередной иллюзии. Если я что-либо вспоминаю, то только так я яснее вижу Солнце сегодня…
…Худенький, небольшого роста, с рыжеватыми кудрями мальчик стоит на возделанной земле. Его тень, чуть плавающая в полуденной духоте, падает на черную орошенную почву, но сам он пристально и совсем не по-детски смотрит на пустыню, которая начинается тут же, в трех шагах. В Египте особенно остро и зримо видна граница пустыни и возделанной земли. Дождей здесь по большей части не бывает, даже зимой лишь несколько дней небо ласкает землю моросящей теплой влагой. Только могучие и ленивые воды Нила делают возможной жизнь там, где иначе простирались бы одни бесконечные пространства равнодушного песка и постепенно трескающиеся от зноя скалы.
…Я долго мог так стоять в эти жаркие часы, когда, казалось, даже сама пустыня съеживалась от палящего солнца. Что я думал или чувствовал, давно выветрилось и растворилось, но осталось внутри нечто чрезвычайно важное — ощущение этой резкой, ошеломляющей контрастности — жизнь и нежизнь, совершенно рядом, вместе, объединенные чем-то…
Полная сочной зелени долина Нила, пересекающая безжизненные пыльно-коричневые просторы. И каждое утро солнце встает на востоке, проходит за день небосклон и садится вечером на западе. По узкой дороге, с трудом волоча худенькие ноги, бредет мальчик, весь погруженный в какое-то особое чувство, которое безжалостно поглотило его. В этот день я впервые ощутил холодный, всепроникающий ужас, пульсирующий в странном радостном и трагическом ритме: ежедневное рождение, путь и умирание Солнца. Я был ошеломлен, переполненный величественностью этого ритма: что-то пульсировало во мне, какая-то музыка, обрамляющая ритм Солнца.
Ты сияешь прекрасно на небосклоне, диск живой, начало жизни! Ты взошел на восточном склоне неба и всю землю нисполнил своею красою. Ты прекрасен, велик, светозарен! Ты высоко над всей землею! Лучи твои объемлют все страны, до пределов созданного тобою. Ты Ра, ты достигнешь пределов. Ты далек, но лучи твои на земле. Ты заходишь на западном склоне неба — и земля во мраке, подобно застигнутому смертью. Спят люди в домах, и головы их покрыты, и не видит один глаз другого, и похищено имущество их, скрытое под изголовьем их, — а они не ведают.
Лев выходит из логова своего. Змеи жалят людей во мраке, когда приходит ночь, и земля погружается в молчание, ибо создавший все опустился за край небес. Озаряется земля, когда ты восходишь на небосклоне, ты разгоняешь мрак, щедро посылая лучи свои, и обе Земли просыпаются, ликуя, и поднимаются люди. Ты разбудил их — и они омывают тела свои и берут одежду свою. Руки их протянуты к тебе, они прославляют тебя, когда ты сияешь надо всею землей, и трудятся они, выполняя работы свои. Скот радуется на лугах своих, деревья и травы зеленеют, птицы вылетают из гнезд своих, и крылья их славят душу твою. Все животные прыгают на ногах своих, все крылатое летает на крыльях своих — все оживают, когда озаришь ты их сияньем своим. Рыбы в реке резвятся пред ликом твоим, лучи твои проникают в глубь моря, ты созидаешь жемчужину в раковине, ты сотворяешь семя в мужчине, ты даешь жизнь сыну во чреве матери его, ты успокаиваешь дитя — и оно не плачет, — ты питаешь его во чреве, ты даруешь дыхание тому, что ты сотворил, в миг, когда выходит дитя из чрева в день своего рождения, ты отверзаешь уста его, ты созидаешь все, что потребно ему. Когда птенец в яйце и послышался голос его, ты посылаешь ему дыхание сквозь скорлупу и даешь ему жизнь. Ты назначаешь ему срок разбить яйцо, и вот выходит он из яйца, дабы подать голос в уготованный тобою срок. И он идет на лапках своих, когда покинет яйцо. О, сколь многочисленно творимое тобою и скрытое от мира людей, Бог единственный!
Ты установил ход времени, чтобы вновь и вновь рождалось сотворенное тобою, — установил зиму, чтобы охладить пашни свои, жару. Ты создал далекое небо, чтобы восходить на нем, чтобы видеть все, сотворенное тобою.
Ты, единственный, ты восходишь в образе своем. Атон живой, сияющий и лучезарный, далекий и близкий! Из себя, единого, творишь ты миллионы образов своих!
…Однажды на рассвете меня разбудил какой-то резкий и болезненный щелчок внутри. Я очень плохо спал этой ночью. Накануне вечером отец заставил меня присутствовать на порке одряхлевшего квинтилия, который что-то украл. Раб уже и не дышал, кровь сочилась из его глаз и ушей, но сыромятные бичи по-прежнему свирепо отрывали куски старой кожи, мяса, обнажая кое-где окровавленную кость. Я ненавидел отца, двух здоровых негров в набедренных повязках, эти бичи, жирных, в крови, мух, все вокруг, в голове у меня стучала боль и тошнота: «…Он не умрет, ведь и я никогда не умру. Я никогда не умру. Он не умрет… Я никогда не умру…»
Я незаметно выскочил из дома и зашагал к реке. Я видел, как обезьяны распрямляют онемевшие за ночь члены, спиной и лапами приветствуя солнечное тепло, страусы, оглядываясь по сторонам, разминаются, танцуя величественную павану в первых лучах благодатного солнца. В траве носились огромные рыжие муравьи, отдавая по-своему священный долг богу Солнца И вдруг меня пронзило на мгновение сладостное, окрыляющее ощущение, как молния во тьме, объединившая меня и все вокруг: я, эти растения, эти животные, это божество Великого светила — это Одно, это все Одно, Единственное…
…Память — это нечто глубоко важное, не выразимое словами, связанное с Нилом. Летом река медленно и спокойно течет между потрескавшимися берегами, а поля по сторонам ее пересыхают, обращаются в пыль и улетают в пустыню. Люди и скот худеют и оцепенело смотрят в лицо безжалостному в своем равнодушии голоду.
Но вот, когда жизнь приходит почти в полный упадок, Нил начинает лениво шевелиться и проявляет первые признаки своей силы. Летом он поднимается медленно, но в нарастающем темпе, пока вдруг по нему не понесутся могучие воды. Они заливают берега и бросаются на все пространство плоской земли, лежащей по обе стороны реки. Обширные потоки илистой воды покрывают землю. В год высокого Нила они захватывают маленькие островки деревень, возвышающиеся посреди полей, подмывают домики, сложенные из сырцовых кирпичей. Земля превращается из мертвой, пыльной пустоши в огромный мелководный поток. Затем на затопленных просторах появляются маленькие холмики земли, освеженные новым плодородным илом. Это — первые островки надежды на новую жизнь. Когда на припекающем солнце появляются верхушки первых илистых холмиков, они потрескивают и похрустывают от новой зарождающейся жизни. В иле заключена особая жизненная сила.
Люди сбрасывают оцепенение: они окунаются в густую грязь и торопливо начинают первый сев клевера или зерновых. Жизнь вернулась в Египет. Скоро зеленый ковер молодых ростков на полях завершит ежегодное чудо победы жизни над смертью.
Память — это гармония ритмов, и наиболее явственно — ежедневное триумфальное возрождение солнца и ежегодное победоносное возрождение реки. Но то были ритмы борьбы. Солнце и Нил объединились для того, чтобы возродить обновленную жизнь, но лишь ценой схватки со смертью. Солнце согревало, но летом оно было губительно. Нил давал плодородную воду и почву, но его периодические большие разливы были капризными и непредсказуемыми. Слишком высокий Нил разрушал каналы, плотины и жилища Слишком низкий Нил означал голод. Наводнение быстро наступало и быстро распространялось: требовалась постоянная изнурительная работа, чтобы захватывать, удерживать, а потом понемногу бережно расходовать воду, для того чтобы ею можно было дольше пользоваться. Пустыня была всегда готова завладеть куском возделанного участка и превратить плодородный ил в бесплодный песок. Кроме того, пустыня была местом ужаса, где обитали ядовитые змеи, львы и страшные чудовища…
…Однообразие и симметрия. Посредине долины течет Нил. На обоих берегах его простираются плодородные земли, западный берег — двойник восточного. Дальше начинается пустыня, переходящая в две горные цепи, которые тянутся вдоль долины. И опять-таки западная пустыня — двойник восточной. Люди, живущие на черной почве, видят сквозь прозрачный воздух одну и ту же картину повсюду. Если отправиться в однодневное путешествие на юг или на север, картина останется той же. На широких просторах дельты плоские просторы полей тянутся монотонно, нигде не изменяя своего характера. Единственная земля, имеющая ценность в Египте, однообразна и симметрична.
Но это однообразие магически подчеркивает все, что ломает монотонную регулярность пейзажа. В пустыне бросается в глаза любой холмик, каждый след зверя, мельчайшее движение На фоне всеобщего однообразия меня — подростка болезненного и впечатлительного — особенно поражало все, что его нарушает, вносит оживление. Это — признак жизни там, где господствует полная безжизненность. Любое одинокое дерево, холм необычных очертаний, впадина, образованная бурей, были так редки, что сразу словно обретали индивидуальность. Дети ведь ближе к природе, а потому они наделяют эти исключительные черты жизнью, то есть одушевляют их. Такое же отношение у меня возникало и к животным, с которыми я встречался: меня поражал парящий сокол, движение которого в небе так же загадочно, как и движение солнца, меня поражал шакал, мелькающий, подобно призраку, по краю пустыни, крокодил, глыбой притаившийся на тенистой отмели, или мощный бык, несущий в себе животворное семя.
…Память — это и странно переплетенные слои образов детства. Я слышал многое — рассказывали мне и кормилица, и мать, и бродячие кудесники. Вспоминать — это слушать, как где-то там, глубоко, ритмично дышат и живут далекие, иногда страшно далекие, пришедшие из других жизней образы…
…В древние времена бог Солнца умел свою семью богов. Она — Эннеада, Девятерица, — состояла из четырех родственных между собою пар. Эннеада олицетворяла собой последовательные ступени мирового порядка. Но это не значит, что Атум — бог-творец — победил и уничтожил первоначальный, бесформенный хаос и расставил элементы порядка по своим местам. Нет, напротив, такие боги, как Нун, воды подземного мира, и Кук, мрак, существовавшие до творения, продолжали существовать и после него, но уже не во вселенском беспорядке, а каждый на отведенном ему месте.
Атум возник сам по себе. Атум означает «все», а также «ничего». Атум означает нечто всесодержащее и одновременно пустоту, причем скорее пустоту начала, нежели конца. Эта пустота похожа на то затишье, которое чревато ураганом.
Уже гораздо позднее я встретился с одним удивительным тогда текстом, который, обращаясь к Атуму, прямо утверждал: «Ты выплюнул то, что было Шу. Ты отрыгнул то, что было Тефнут. Ты простер над ними свои руки, как руки ка, ибо твое ка было в них». Тогда еще, замерший перед открывшейся мне картиной, я представил творение как насильственное извержение первых двух богов, как взрыв, наподобие чихания, ибо Шу — бог воздуха, а его супруга Тефнут — богиня влаги. Но я уже тогда знал, что идея ка содержит нечто от идеи глубинной, абсолютной сущности и нечто от личного даймония. Атум потому простирает руки, защищая своих двух детей, что его ка, важнейшая часть его самого, заключена в них.
Атум, переполненная сверх меры пустота, разделился на воздух и влагу. Супружеская пара Шу и Тефнут породила землю и небо — бога земли Геба и богиню неба Нут. Геб и Нут, земля и небо, в свою очередь, сочетались браком и породили две пары, бога Осириса с его супругой Изидой и бога Сета с его супругой Нефтидой. Они олицетворяют существ этого мира, будь то человеческие существа, божественные или космические. Но между богами и людьми не существует четкого и окончательного разграничения. Раз начавшись, творение живых существ может продолжаться, будь эти существа богами, полубогами, духами или людьми…
…Однажды весной — я уже посещал к тому времени школу — на окраине Ликополя встретился со слепым стариком египтянином. Тот сидел, опустив голову, в пыли, под тенью небольшой пальмы. Что-то настойчиво потянуло меня к нему — жалость, сострадание или что-то иное. Старик пришел издалека, был худ, лицо его с неопределенностью и неясностью пустыни выражало смиренную отрешенность. Я подошел к нему и протянул ему сверток с едой и те деньги, которые у меня были. Старик так же спокойно взял все это, положил рядом с собой и молча показал на место справа от себя. Я опустился на желтоватую, сочную пыль.
— Я из Мемфиса, — заговорил старик. — И я последний из рода жрецов Мертсефер. И хотя с детства я слеп, но расскажу тебе нечто чрезвычайно важное о нашем великом и скрытом боге, ибо истина впитывается сердцем, а не глазами. Ты же должен об этом всегда и везде молчать…
Запомни, что бог Птах есть мысль и речь в каждом сердце и на каждом языке. Он — первое созидательное начало, но он таковым является и сейчас.
Птах — велик. Из ничего возникла идея Атума. Идея возникла в сердце божественного мира; этим сердцем или разумом был сам Птах. Затем идея возникла на языке божественного мира; этим языком или речью был сам Птах. Он — сердце и язык Девятки богов. Воплотилось у него в сердце и воплотилось на языке (нечто) в образе Атума.
Старик замолчал и затем, дотронувшись грязным пальцем до переносицы, заговорил быстрее:
— Велик и могуч Птах, который вселил силу во всех богов, равным образом и в их души. Но творческое начало не угасает и с появлением богов. Знай, что сердце и язык управляют всеми членами тела посредством учения. Потому он — Птах — в каждом теле в виде сердца и во всех устах в виде языка всех богов и всех людей, всех животных, всех гадов и всего, что ни есть живого. Знай, те же созидательные принципы, чье действие породило Атума в бесформенном хаосе, действуют и сейчас. Всюду, где присутствуют мысль и повеление, — творит Птах.
Я на мгновение прикрыл глаза. Когда же вновь открыл, то старика уже не было. Солнце обнимало меня своими лучами. В небе по-прежнему парил одинокий сокол. «Мог ли старик внезапно и без причины появиться в моем воображении? И почему этот слепой, когда произнес „Мертсефер“, так неожиданно и резко повернулся ко мне?..»
…В тот же миг, как я очнулся от краткого и неясного забытья, во мне раздался тихий, но ясный звук. Словно какой-то ритмичный, чуть тоскливый треск. Я попытался определить, где именно, но не смог. Но это было точно во мне. Я медленно повернулся, чуть склонив голову влево. Внутри голографического экрана дисплея мелькнул тонкий, острый луч. Замерцала точка, постепенно расширяясь и клубясь безмолвным матовым светом. На экране возникла фигура сидящего в кресле человека. Изображение росло и становилось все четче.
На меня смотрел небольшого роста, полноватый, с огромной пролысиной человек, с черными, из-под розовых очков, глазами, белесыми, чуть заметными бровями и странным, смахивающим на необычайно большую спелую грушу, носом. На нем был очень дорогой, первоклассный костюм со стальным отливом, черная рубашка с элегантно расстегнутой верхней пуговицей.
Он смотрел на меня, но каким-то образом я чувствовал, что он меня не видит. Человек хмыкнул, потер свой весьма живописный, живущий собственной жизнью нос и начал говорить:
— Итак, вернемся к Риму. Хотя еще задолго до Империи в Средиземноморье уже существовали великие государства египтян и вавилонян, малоазиатская держава хеттов, торговые города Финикии. Позднее, на протяжении трех столетий, вперед вышли греки. Из распавшейся монархии Александра возникли греко-восточные государства: Птолемеев в Египте, Селевкидов в Передней Азии, парфянское царство в Средней Азии и другие. Да, да, культуры сходятся, сближаются, сливаются, расстаются, расходятся. Культура не может убить культуру. Культуру может убить только ее собственная цивилизация.
Носатый засмеялся, отпил нечто белое, похожее на молоко, и продолжил:
— Должен напомнить, что все эти древние государства основывались на рабстве. Рабство одних позволяло другим чувствовать себя в течение какого-то времени свободными. Но при этом важно, чтобы кто-то хотел быть рабом.
Без рабства не было бы греческого государства, греческого искусства и греческой науки, без рабства не было бы и Римской империи. Но рабство же и погубило эту культуру. Видите, как все просто.
«Груша» сладострастно почесал свое правое, грязное ухо и даже скривился от удовольствия:
— Кто-то однажды сказал, что народ не может наполовину состоять из рабов, наполовину из свободных. Это замечательно, так же как то, что человек не может двенадцать часов быть зависимым, а затем двенадцать часов свободным. Так вот по поводу Рима…
Постепенно более дешевый рабский труд все более вытеснял свободный труд крестьян. А надо вам сказать по секрету, что именно крестьяне составляют основную силу общества. Да, не рабы, не машины и не компьютеры. Почему? Они связаны с духами матери-Земли… Свободные крестьяне-италийцы обеспечили в конечном счете Риму непобедимые легионы, они питали его не только хлебом, но и безупречной нравственностью, основанной на свободолюбии, они ему дали разум, организацию и своих богов.
Но с течением времени вчерашние крестьяне разорялись и превращались в безнравственную массу люмпен-пролетариев, живших подачками или служивших в наемных войсках.
Рабство исподволь, из поколения и поколение, словно неизлечимая болезнь, разрушало волю свободных людей, порождая самоубийственную паразитическую психологию. Ведь рабство превращает труд в дурную деятельность, то есть в занятие, бесчестящее свободного человека. Но только труд воспитывает у него волю к жизни и личностную ответственность за свою судьбу. Итак, первая и основная причина смертельной болезни Рима к началу III века вашей эры, когда родился Плотин, — интоксикация рабством, первой жертвой которой пал свободный земледелец.
Вторая причина кризиса Рима заключается вот в чем. Любой организм — природа, государство, человек, экономика — должен развиваться. Он должен развиваться за счет своих внутренних творческих стимулов и во взаимодействии с той средой, где он находится. Но рабовладельческая экономика могла развиваться прежде всего за счет расширения рабовладельческих хозяйств. А это требовало все новых рабов. И бесконечно это продолжаться не могло.
Он печально замолчал и покачал головой.
— Третья важная причина острого кризиса Империи, в которой родился, жил и умер ваш Плотин, заключается в перманентном ослаблении центра — самого Рима, императорской власти. Рим потерял свою способность воодушевлять центростремительные силы в государстве. При Септимии Севере Италия была уже окончательно уравнена с провинциями.
Параллельно с ослаблением центральной политической роли италиков шло усиление прав провинциалов. Провинциальные города стали получать освобождение от некоторых повинностей. Многим из них были даны права римских колоний и так называемое «италийское право», означавшее свободу от земельной и подушной подати. Наконец, сын Септимия Каракалла издает в 212 году эдикт, дарующий римское гражданство всем свободным жителям империи.
Одновременно шел процесс ослабления связей между отдельными частями империи. За первые два века в ряде провинций развилось сельское хозяйство и создалось собственное ремесленное производство, сделавшее их независимыми от ввоза. Не случайно в III веке очагами сепаратистских движений стали наиболее развитые в экономическом отношении районы Галлии и Переднего Востока. Теперь многие провинции могли обойтись без Рима. К тому же трудность защиты периферийных областей от вторжений приводила к тому, что зачастую они вынуждены были брать организацию этого дела в свои руки, что также повышало их независимость.
Все это способствовало возрождению местных языков, оживлению местных культов, местных традиций. В Малой Азии в III веке появляются надписи на давно, казалось бы, забытом фригийском языке. В Дакии родители, носившие римские имена, называют своих сыновей в честь старых дакийских правителей: Регебалами и Децебалами. В Сирии и Египте возрождается литература на местных языках. В Галлии вместо роскошной керамики, повторявшей арретинскую, изготовляется посуда старого кельтского образца.
Он опять замолчал, откинулся в кресле и задумчиво повращал зрачками.
— Рост противоречий в Римском государстве привел к тому, что армия становится важнейшей социальной силой в обществе, последней предпосылкой функционирования всего целого социального организма. Но поскольку армия как охранительная социальная группа не способна стимулировать развитие, она неминуемо, рано или поздно, становится фактором обострения кризиса. И хотя в III веке армия остается единственной надежной опорой императорской власти, тем не менее для этого времени характерна чрезвычайно быстрая смена императоров, причем почти все они погибали насильственной смертью.
Рост провинциального сепаратизма делал солдата, несмотря на его преданность императору и римским богам, в первую очередь патриотом родного села и почитателем местного бога. Даже в Риме уроженец Паннонии или Мезии сооружал алтарь местному богу вместе со своими односельчанами, служившими с ним в одной воинской части. Если еще в I веке всякий солдат считал своей родиной Рим и своей семьей — товарищей по оружию, то в III веке он, наоборот, твердо помнил, что он «по рождению» фракиец или паннонец, и не порывал связи с земляками.
Наконец, пятая причина — внешняя. Если во время гражданских войн II–I веков до вашей эры Рим ни разу не испытывал серьезной военной опасности (не считая нашествия кимвров и тевтонов в конце II века), то ситуация в III веке была уже совершенно иная. Активность варварских племен, живших по ту сторону границы, возросла во много раз. Уже во второй половине II века римские границы кое-где не могли выдержать напора и были разрушены В следующем веке положение стало гораздо серьезнее. Натиск на границы настолько усилился, что ни одна из них уже не могла его выдержать. Далеко в глубь империи проникали массы варваров. Сирия, Малая Азия, Балканский полуостров, Африка, Испания, Галлия неоднократно захватывались и опустошались…
Тут я уже не выдержал:
— Черт подери, какое все это имеет отношение к нашей программе?
Тут грушеносый вытянул, напрягаясь, шею и словно несколько даже выглянул из голографического дисплея. Без всякой улыбки, внимательно и торжественно посмотрев на меня, он затем вновь удобно устроился в кресле.
— Нельзя быть таким наивным и думать, что люди — будь то Плотин, Будда или некий Сидоров — случайно рождаются в то или иное — как это — время или в том или ином месте. Нет, нельзя. Наивность чаще всего небезупречна… Есть нечто весьма драматическое и важное в том, как умирает человек, общество, культура… Ведь умирание всегда угасание, но и всегда вспышка, скачок… Другое дело, что вы настолько парализованы умиранием-угасанием, что не видите умирания-вспышки.
Он начал что-то говорить медленно и тягуче. Через минуту он вдруг прекратил свое бормотание, посмотрел прямо на меня — я стоял напротив экрана — и вдруг спросил:
— Надеюсь, ты не думаешь, что Рим безвозвратно исчез… Он существует, но иначе… И там многое, многое иначе…
Я машинально вытянул руку и, отключив экран, у Титана запросил основную хронологию римской истории начала III века. Он уточнил, какие будут ограничения. Я пожал плечами и ответил, что спецификации отсутствуют.
Информация была выдана в виде последовательного текста.
— Накануне 193 года заговорщики под руководством префекта претория Эмилия Лета убили сумасбродного и легкомысленного Коммода — сына императора-философа Марка Аврелия.
Провинциальные войска провозгласили почти одновременно трех императоров: Децима Клодия Альбина в Британии, Гая Песценния Нигера в Сирии и Люция Септимия Севера в Иллирии и Паннонии. Три года между ними шла война. И верх взял Север.
Казалось, что в лице Септимия Севера империя нашла своего спасителя, и суровый солдат железной рукой удержит катившийся в пропасть Рим. Восстановив единство империи и укрепив ее границы, Септимий произвел значительную реорганизацию государственного аппарата, окончательно придав империи военный характер. Умирая, он сказал своим сыновьям: «…Живите дружно, обогащайте солдат и не обращайте внимания на остальных».
Север осуществил значительные реформы в армии: перестал набирать преторианцев из италиков и назначать центурионов из преторианцев. При нем преторианцами становились наиболее отличившиеся легион арии, главным образом из дунайской армии. Центурионы выдвигались из рядовых легионариев, а затем они могли дослужиться и до высших должностей. Солдаты получили право вступать в законный брак и жить с семьями поблизости от лагерей. С этим было связано и разрешение солдатам, находившимся в постоянных лагерях на Рейне и Дунае, арендовать и обрабатывать землю, принадлежавшую их легионам. Таким путем создавалась более прочная связь армии с местами и одновременно облегчалась задача ее снабжения.
В пику римской знати Север приказал объявить Коммода богом и стал называть себя его братом, стремясь установить таким образом видимость династической преемственности с Антонинами. В сенате выходцы из восточных провинций и Африки получили при Севере численный перевес не только над уроженцами западных провинций, но и над италиками. Особое покровительство император оказывал городам Африки и дунайских провинций, многие из которых при нем стали колониями и муниципалиями. Впервые Александрия получила городской совет, а главные города египетских номов — муниципальное устройство.
Сам Септимий происходил из Африки и воспитывался далеко не в духе старых римских взглядов. Примером является его преклонение перед Ганнибалом. Став императором, он всюду воздвигал статуи великому карфагенскому полководцу, смертельному врагу старого Рима Женат Септимий был на сириянке Юлии Домне.
Еще в 196 году Север провозгласил своего восьмилетнего сына Бассиана цезарем под именем Марка Аврелия Антонина, а два года спустя сделал его своим соправителем с титулом августа. В конце царствования он проделал то же самое со своим вторым сыном Гетой.
В 211 году Септимий Север умер в Британии во время войны с местными племенами. Он сочетал в себе здравый ум дельного правителя со столь большой жестокостью, что современники говорили о нем, что ему надо было вообще на свет не родиться, ибо был он очень жесток, или, если уж родился, то не надо было умирать, ибо для государства был он очень полезен. Его очень любили после смерти — то ли потому, что злоба уже улеглась, то ли потому, что исчез страх перед его жестокостью.
В Риме остались два брата, которые, несмотря на пророческое предостережение отца, ненавидели друг друга лютой ненавистью. При дворе и среди населения каждый из них имел своих сторонников. Ненависть и соперничество между братьями росли. «Они уже перепробовали все виды коварств, пытались договориться с виночерпиями и поварами, чтобы те подбросили другому какой-нибудь отравы. Но ничего у них не выходило, потому что каждый был начеку и очень остерегался. Наконец Каракалла (Бассиан любил одеваться в галльский плащ с капюшоном — каракаллу, а потому и прозвали его „Каракаллой“) не выдержал: подстрекаемый жаждой единовластия, он решил действовать мечом и убийством. Смертельно раненный Гета, облив кровью грудь матери, расстался с жизнью». Это случилось в феврале 212 года, когда Плотину, жившему в египетском Ликополе, исполнилось восемь лет.
От отца Каракалла наследовал крайнюю жестокость. Он расправился с действительными или мнимыми сторонниками своего убитого брата. Грандиозную резню Каракалла устроил в Александрии, подозревая ее граждан в мятежных настроениях. В 215 году город был отдан на разграбление солдатам.
Каракалла, мечтая о подвигах Александра Македонского, отправился на Восток воевать против парфян. «Он вел себя совсем как воин: первый копал, если нужно было копать рвы, навести мост через реку или насыпать вал, и вообще первым брался за всякое дело, требующее рук и физической силы. Питался он простой воинской пищей и даже сам молол зерно, замешивал тесто и пек хлеб. В походах он чаще всего шел пешком, редко садился в повозку или на коня, свое оружие он носил сам. Его выносливость вызывала восхищение, да и как было не восхищаться, видя, что такое маленькое тело приучено к столь тяжким трудам».
Война против Парфии затянулась и шла далеко не блестяще. Недовольство, усиленное жестокостями Каракаллы, привело к заговору, который возглавил префект претория Марк Опеллий Макрин, мавританец по происхождению. Говорили даже, что когда-то он был рабом. В апреле 217 года Каракалла был убит, а Макрин провозглашен императором.
Будучи префектом претория, Макрин пользовался широкой популярностью, но, сделавшись императором, он не сумел справиться с трудностями своего положения. Армия ждала новых подачек, однако взять их было неоткуда. Пришлось даже уменьшить жалованье солдатам. Война с парфянами шла плохо, и с ними заключили мир, уплатив большую контрибуцию. Повсюду вспыхивали мятежи, появлялись новые претенденты на власть. Наконец стоявшие в Сирии солдаты провозгласили в мае 218 года императором считавшегося побочным сыном Каракаллы Вария Авита, верховного жреца Элагабала — солнечного бога города Эмесы. Войска, оставшиеся верными Макрину, были разбиты под Антиохией, сам он бежал на запад, но по дороге был схвачен и убит.
Покинув Эмесу, новый, четырнадцатилетний император (более известный под именем Элагабала) не расстался со своими жреческими обязанностями. В Рим был доставлен посвященный богу Солнца черный камень и помещен в специально построенный великолепный храм возле императорского дворца на Палатине, куда перенесли жертвенник богини Весты и другие святыни римского государства.
Каждое утро юный император совершал перед любимым богом пышнейшее священнодействие, принося в жертву огромное число животных и совершая щедрые возлияния из амфор превосходным старым вином. В Риме так же, как и в Финикии, он плясал перед алтарем под звуки музыки, вместе с ним плясали его соплеменницы-финикиянки, а почтенные сенаторы привлекались к церемонии в качестве слуг. Элагабал приносил и человеческие жертвы, выбирая для этой цели по всей Италии знатных и красивых мальчиков.
И Септимий Север и Каракалла покровительствовали восточным солнечным культам. Многие близкие к ним философы доказывали, что верховным и даже единственным богом является Солнце. Но в народе и в войске, несмотря на распространение восточных культов, была сильна привязанность к местным племенным богам, к народному Гераклу, к домашним ларам и к Юпитеру, олицетворявшему мощь Рима. Заменить все эти божества малоизвестным, чисто сирийским богом было невозможно. Сирийские обряды, которые император исполнял сам и заставлял исполнять других, казались римлянам проявлением неестественного разврата или прямого безумия, а его брак с весталкой — кощунством.
Смыслом жизни императора стало изобретение все новых и новых наслаждений. Он устилал розами столовые, ложа и портики и гулял по ним. Он не соглашался возлечь на ложе, если оно не было покрыто заячьим мехом или пухом куропаток, который находится у них под крыльями. Он часто ел пятки верблюдов, гребни петухов, языки павлинов и соловьев. В своих столовых с раздвижными потолками он засыпал своих приятелей таким количеством фиалок и других цветов, что некоторые, не будучи в силах выбраться наверх, задохнувшись, испускали дух.
Бабка Элагабала Юлия Мэса (сестра Юлии Домны), которая руководила всеми государственными делами, добилась от императора, чтобы он усыновил и назначил цезарем своего двоюродного брата Александра, внука Юлии Мэсы. Вскоре после этого, в начале 222 года, 18-летний Элагабал был убит преторианцами вместе со всеми своими ближайшими сторонниками. Римляне так его ненавидели, что труп выбросили в Тибр, а сенат повелел уничтожить память о нем.
Александр был провозглашен императором в тринадцать с половиной лет под именем Марка Аврелия Севера Александра. Бабка и мать усиленно готовили его к будущей роли правителя, и Александр вырос с сознанием лежащей на нем ответственности. У него был обычай, если речь шла о праве или других важных делах, приглашать на совет только ученых и красноречивых людей, если о военном деле — то старых военных, заслуженных ветеранов, хорошо знавших местности, порядок ведения войны, устройство лагеря, а также всяких образованных людей, главным образом тех, кто знал историю. Александр Север считал, что на государственные должности нужно ставить тех, кто избегает их, а не тех, кто их домогается.
Но император был очень мягок и слабоволен. До конца своей жизни он не выходил из подчинения своей матери — Мамеи, властной и суровой женщины. При нем сенат снова занял влиятельное положение. Из его состава был выделен, как и при Августе, особый комитет из 16 человек, с которым молодой император совещался по поводу всех важнейших вопросов и который фактически проводил политику «августейшей матери» Мамеи.
Вопреки благим намерениям правительства облегчить налоговый гнет, финансовые затруднения заставляли увеличивать его. Нуждаясь в деньгах, правительство прибегало к систематической порче монеты, что совершенно обесценивало деньги и усиливало натуральный характер хозяйства. С этого времени наместники, чиновники, командиры начинают получать жалованье главным образом натурой. В зависимости от ранга было точно определено, кто сколько получал одежды, драгоценностей, повозок, посуды, хлеба, мяса, яиц, лошадей, мулов, рабов или рабынь-наложниц. В связи с этим на ряд ремесленных коллегий была наложена повинность по поставке государству изготовляемых ими товаров, что в дальнейшем привело к прикреплению ремесленников к их коллегиям. Население все более нищало и в отчаянии разбегалось куда глаза глядят. Дороги стали непроходимыми из-за грабителей, а пиратство на море приняло такие размеры, что торговля почти совсем приостановилась.
В 234 году Мамея и ее сын вынуждены были спешно выехать на рейнскую границу, где создалось катастрофическое положение. Политика последних императоров, широко применявших поселение варварских племен в пограничной полосе, дала роковые результаты: оборона границы оказалась совершенно расшатанной. Римские отряды были вынуждены отступить с правого берега Рейна.
Рейнская армия была пополнена новыми наборами во Фракии и Паннонии. В ее составе находились также войска из Мавритании и Сирии. На Рейне был построен понтонный мост. Но император вовсе не был расположен воевать. Он предпочел купить мир у германцев. К ним отправили посольство с предложением крупной суммы денег. Слухи о позорном мире переполнили чашу терпения солдат. В мартовское утро 235 года новобранцы провозгласили своего командира Гая Юлия Максимина императором.
На следующий день Максимин был признан всей армией. Совершенно потерявший присутствие духа Александр бросился в объятия Мамеи, плакал и обвинял ее в том, что она довела его до гибели. В таком состоянии нашли Александра посланные центурионы и убили его на груди у матери. Мамея разделила через несколько минут участь сына.
…Память — это сон, одновременно таинственный и вдохновляющий, ужасающий и парализующий, — когда, влекомый кем-то или чем-то, я вступаю в странные своды столь знакомой и одновременно непохожей ни на что пещеры.
Я пытаюсь поднять ногу и сделать шаг, затем другой, — но ощущаю вдруг, что на самом деле я недвижим, а подо мной медленно летит поверхность пещеры. Эта поверхность чуть заметно извивается, словно живая, на ней появляются огромные спиралевидные круги — они начинают вращаться, все быстрее и быстрее, затем поднимаются в виде туманных, многоцветных шаров, пирамид, прекраснейших многоугольников. Я медленно лечу, а они касаются меня, проникают в меня, — и я исчезаю в них.
Как прозрачные, голубоватые призраки появляются знакомые и незнакомые образы людей. Они словно выплывают снизу и сверху, слева и справа. Ухмыляется с тоскливой угрозой отец, но он слеп, или кажется слепым, — у него безжизненные глаза, словно у древней скульптуры. А на щеке краснеет и вспучивается глубокий шрам.
Вдруг впереди пещера круто обрывается вниз. Я вижу в последний миг там, в глубине, необъятную движущуюся величественно реку, состоящую из огромных звезд, укутанных в плотный, упругий ярко-синий свет.
…Все внезапно исчезло. Мерцающий свет сотен торжественных светильников. Необъятный и пустой, как одиночество, зал. Но он, может быть, и не совсем пуст. Я вижу или чувствую, что на всех окружающих меня стенах колеблются или застыли тени… — нет, это скорее даже одна тень, которая в различных своих пульсирующих образах одновременно и движется, и не движется. Я знаю, я вдыхаю, я ощущаю: это — подземный храм Гермеса Трисмегиста.
Я закрываю глаза. Но продолжаю видеть: тени (или тень) становятся все гуще и холоднее. Я вижу и слышу беззвучный и ясный шепот: «В мире нет ничего нового, люди двигаются по бесконечной спирали, и из века в век проходят по тем же самым путям, бесконечно расцвечивая их, согласно своим индивидуальным особенностям. История, ведомая вам, обнимает лишь крохотную часть истинной, полной истории. Она не сохранила воспоминаний о бывших блистательных эрах жизни и деятельности человечества в мире духа.
Истина и стремление к ней человека вечны. Как реальность, она не может не быть единой. Вот почему Высшее ведение, почерпнутое из затаеннейших областей духа, не может зависеть от внешних условий. Учение об Истине на пути веков было преемственно. Из века в век оно хранилось таинственными служителями своими, которые суть истинные представители аристократии духа… Есть единый Закон, единый Принцип, единая Истина и единое Слово. И лишь единственный ключ к этому: то, что вверху, по аналогии подобно тому, что внизу…»
Память ли это моя сейчас или моя память, когда было мне четырнадцать лет, — не знаю. Бодрствую ли я сейчас, или я во сне, и мне всего лишь четырнадцать лет — не знаю. Но слышу я голос, уверенный и твердый, божественного Платона: «И тогда воскликнул Сонхис: „Ах, Солон, Солон! Вы, эллины, вечно остаетесь детьми, и нет среди эллинов старца!“ — „Почему ты так говоришь?“ — спросил удивленно Солон. „Все вы юны умом, — ответил тот, — ибо умы ваши не сохраняют в себе никакого предания, искони переходившего из рода в род, и никакого учения, поседевшего от времени. Причина же тому вот какая. Уже были и еще будут многократные и различные случаи погибели людей, и притом самые страшные — из-за огня и воды. Знаешь ли ты древнейшее учение о Великом Годе? Вселенная вечна, но она периодически исчезает и возрождается каждый Великий Год. Когда все семь планет собираются в созвездии Рака, наступает Великая Зима — происходит все сметающий потоп. Когда же эти семь планет собираются в созвездии Единорога — а происходит это во время летнего солнцестояния Великого Года, — вся Вселенная истребляется огнем“.
…Тела, вращающиеся по небосводу вокруг Земли, отклоняются от своих путей, и потому через известные промежутки времени все на Земле гибнет от великого пожара. В такие времена обитатели гор и возвышенных либо сухих мест подпадают более полному истреблению, нежели те, кто живет возле рек или моря, а потому постоянный наш благодетель Нил и в этой беде спасает нас, разливаясь.
Когда же боги, творя над Землей очищение, затопляют ее водами, уцелеть могут волопасы и скотоводы в горах, между тем как обитатели ваших городов оказываются унесены потоками в море, но и нашей стране вода ни в такое время, ни в какое-либо иное не падает на поля сверху, а, напротив, по природе своей поднимается снизу. По этой причине сохраняющиеся у нас предания древнее всех прочих. Какое бы славное или великое деяние или вообще замечательное событие ни произошло, будь то в нашем краю или в любой стране, о которой мы получаем известия, все это с древних времен запечатлевается в записях, которые мы храним в наших храмах, между тем у вас и прочих народов всякий раз, как только успеет выработаться письменность и все прочее, что необходимо для городской жизни, вновь и вновь в урочное время с небес низвергаются потоки, словно мор, оставляя из всех вас лишь неграмотных и неученых. И вы снова начинаете все сначала, словно только что родились, ничего не зная о том, что совершалось в древние времена в нашей стране или у вас самих. Так, вы храните память только об одном потопе, а ведь их было много до этого, более того, вы даже не знаете, что прекраснейший род людей жил некогда в вашей стране. Ты сам и весь твой город происходите от малого семени, оставленного этим родом, но вы ничего не ведаете, ибо выжившие на протяжении многих поколений умирали, не оставляя по себе никаких записей и потому как бы немотствуя».
Холодный ужас, пронзая мою стянутую кожу, мышцы, кости, заковывает в ледяной панцирь беспредельной Неизвестности. Бесчисленные поколения людей отошли в вечность, даже имена племен и народов заволоклись постепенно веками и исчезли в их тьме. Всепоглощающее время вычеркнуло навсегда даже мысль о возможности устремить умственный взор в седую древность человечества. Легенды и мифы освещают еще несколько тысячелетий в глубине веков — а затем все заволакивается непроглядной тьмой. Бесчисленное множество раз изменялись имена народов, иссякала и вновь возникала юная кровь, создавалась культура и вновь разрушалась. Как в калейдоскопе, сменялись людские поколения со своими мыслями, надеждой и верой и вновь уходили в забвение. Ничто не оставалось неподвижным, все разрушалось, все изменялось. Волны людские смывали, растворяли в себе, а подчас и совсем уничтожали предшествовавшие цивилизации, катились неудержимо, слабели и затухали. Ничто не вечно, все проходит, все забывается.
Бурное море своими волнами, вечно бурлящими, гордыми и могучими, неустанно изменяет лик земли: скалы рассыпаются в песок, спокойно ложащийся на дно, горные вершины исчезают в пучине. Но и само могучее море иногда встречает отпор в своем неудержимом стремлении.
С ревом несутся бешеные волны, гибнет все вокруг, скалы — подошвы гигантского спокойного вулкана — колеблются, кажется, еще немного, и наступит его неизбежная гибель. Но вдруг, как бы проснувшись, вздохнет своей грудью вулкан, и из недр его поднимутся волны лавы, — и снова он делается грозным и непреодолимым. А между тем вокруг море продолжает свою работу: новые и новые земли захватывает оно, и через несколько тысячелетий вся страна опускается на дно морское. Один вулкан остается недвижим, и все растет. Забудется имя страны, с недоумением будет встречать мореплаватель гиганта, но если он достаточно пытлив, смел и настойчив, то в слоях пепла он найдет остатки былых времен и сможет постигнуть историю той страны.
…И вновь я — что-то тянет сюда — в подземном храме Трисмегиста. Медленно спадает напряжение, уходит, извиваясь, страх. И продолжают колебаться и двигаться на стенах тени, но в этот раз переливаясь изумительными по сочности цветами. Бурлящие, фонтанирующие клубы серебристого тумана появляются в различных точках огромного зала Они словно танцуют, грациозно рождая музыку Неизвестного. Но я спокоен — я чувствую, я знаю, что все здесь, вокруг меня, неподвижного и застывшего, есть лишь Одно, Единственное… И прозрачные мягкие, нежные волны тепла несутся ко мне от голоса, звучащего отовсюду, — и изнутри:
«…Истина и стремление к ней вечны. Нет в мире силы и быть такой не может, которая могла бы это превозмочь. Весь мир мог погибнуть, и мог остаться лишь один человек, но и тогда Истина продолжала бы кротко сиять в его сердце, а дух его продолжал бы к ней пламенно стремиться.
Буквы и слова, мысли и учения — всего лишь знаки Истины, ее одежды. Но даже пышные и прекрасные одеяния рано или поздно стареют, но вечно юная Истина изумительна и безупречна Одежды Истины меняются, но сама Богиня и ее дух непоколебимы и вечно испускают лучи. Нельзя молиться на дряхлеющие одежды, как бы безупречны они ни казались, как бы таинственно они ни сверкали. Свет в тебе — и свет вне тебя. Но это один свет. А одеяния Истины всегда лишь вне тебя.
Вглядись: ведь уже давно меркло великолепие Египта, когда нашествие Камбиза лишь ускорило его неизбежное падение. Несколько месяцев подряд победоносное войско тем только и занималось, что, раскалив сначала при помощи костров пилоны и статуи, обелиски и барельефы, вековые творения египетского гения, затем поливало их холодной водой, чтобы добиться их разрушения на такие осколки, которые затем, будучи развезены в разные стороны, могли бы быть без особых усилий уничтожены бесследно. Во всей долине Нила не осталось ни одного храма, ни одного памятника, которого бы не коснулась рука этого непреклонного исполнителя воли судеб.
Несмотря на все усилия, победители разрушили только то, что должно было быть разрушено. Деяния рук человеческих погибли, а древний дух продолжает жить, таясь в недоступных убежищах. Но придет час, предначертанный судьбой, и наступит конец всему. Погибнет весь блеск Египта, погибнут храмы, погибнет оплот мудрых, живших со стремлениями вне жизни земной.
Но Вечная Истина не погибнет, она бессмертна, и волны людского безумия ее не поколеблют! Абсолютное и Вечное непрестанно озаряет все вокруг себя — слабая воля людская ни на йоту не может ослабить или изменить его Бытие и Свет. Когда дух человека чист и ясен, он может невозбранно приближаться к Свету, и Истина предстает пред ним в неописуемом великолепии своей первородной Чистоты».
Вдруг я слышу пронзительный хохот. Страх — только дети могут так искренне бояться. Переливающийся, захлебывающийся, свистящий хохот. Он раздается откуда-то позади меня. Я медленно поворачиваюсь и вижу маленького, безобразного карлика с огромной, неправильной формы головой, покрытой ядовито-фиолетовым колпаком.
— Ну что, тщедушный эллин, — каркает, словно отплевывается, шут, беспрестанно двигая страшной, выдвинутой вперед челюстью, — испугался?
Я широко раскрытыми глазами смотрю на него. Он медленно, прихрамывая, приближается ко мне, затем неторопливо усаживается на пол. Он старается улыбаться, но лицо его постоянно подергивается.
— Вы, эллины, всегда были тщеславны. Да, да… я говорю о твоих сородичах… Но ты…
Он опустил голову и закашлял. Постепенно кашель перешел у него в какое-то бульканье с хрипом. Внезапно он замолк, к чему-то прислушался.
— Эллины стали тщеславны, ибо забыли или не хотят вспоминать, что начало их мудрости там — у египетских жрецов, эфиопских гимнософистов, персидских магов, у индусских брахманов. Их посредством великие эллинские мудрецы — Фалес, Солон, Анаксагор, Гераклит, Пифагор, Платон и другие — были посвящены в таинства Истины.
Знаешь ли ты, что Фалес из Милета все свои открытия в астрономии и математике сделал после посещения Египта и Вавилона? Ваш Демокрит изучал астрономию у египетских жрецов и халдеев, а медицину — у индусов. Гераклит, учивший о непрерывной борьбе в мире, образующей высшее единство, провел несколько лет в Персии. Божественный Платон ездил в Египет и изучал священные науки жрецов. Он побывал в Финикии и там познакомился с магами и выучился магической науке. Оттого он в «Тимее» и говорит, какое значение имеют печень, утроба и все остальное. Великий Пифагор, который дал эллинам могущественное учение о числе как о скрытой сути вещей, ездил и к арабам, и к халдеям. Там он научился толкованию снов и первым стал гадать по ладану. В Вавилоне побывал он у Забрата, от которого принял очищение от былой скверны, узнал, от чего должен воздерживаться ищущий муж, в чем состоят законы природы и каковы начала всего.
Карлик замолчал. Затем, отдышавшись, он чуть склонил голову и продолжил:
— Пифагор услышал, как хорошо в Египте воспитывают жрецов, и захотел сам получить такое воспитание. Он упросил тирана Поликрата написать египетскому царю Амасису, чтобы тот допустил Пифагора к этому обучению. Приехав к Амасису, он получил от него письма к жрецам и направился в Диосполь. Там жрецы не решались выдать ему свои заветы и думали устрашить его безмерными тяготами, назначая ему задания, трудные и противные эллинским обычаям. Однако он исполнял их с такой готовностью, что они в недоумении допустили его и к жертвоприношениям, и к богослужениям, куда не допускался никто из чужеземцев. 22 года провел Пифагор в Египте, был принят в касту жрецов, овладел всей их мудростью, выучив египетский язык с его тремя азбуками.
Шут медленно поднялся, снял колпак и почесал плешивую голову. Потом медленно заковылял прочь от застывшего подростка. Остановившись, он помолчал несколько минут. Наконец, обернувшись, карлик вновь заговорил, очень медленно, словно натужно обдумывая слова и интонации про себя:
— Но не охапки бесполезных одеяний Истины искали действительные мудрецы из эллинов, а свой, неповторимый путь к ней. Не к нагромождениям изощренных знаний стремились они в странствиях своих, не к повторению мудрости древней: видеть Истину и быть Истиной означало для них вскрыть свою внутреннюю силу и познать, что эта сила и свет Истины — одно и то же. Ты еще задумаешься когда-нибудь, почему ничего не писали в своей жизни Пифагор и Сократ. Но запомни вот что: описывать что-либо означает погружение во время, а Истина выше времени. Описывать что-либо означает ограничивать творческую мысль, а слова никогда точно не выразят такую мысль, так же как и мысль никогда точно не выразит Истину…
Он поднял глаза и с пронзительной силой посмотрел на меня, словно прощаясь:
— Запомни: не смотри гневно на ближнего и не ходи по земле нахально, потому что Бог не любит гордых и тщеславных. Ходи скромно и не возвышай голоса, потому что самый неблагодарный из всех голосов есть голос осла…
Сюзанна продолжала что-то мелодично рассказывать. Я закрыл глаза, слушал и одновременно размышлял, почему ей нравится воспроизводимая информация. Во всяком случае, симпатии своей она не скрывала.
— Духовное созревание Плотина началось в египетском Ликополе в специфической культурной среде римского провинциального общества. Здесь, как и в других провинциальных городах империи, были представители профессий, которые издавна относились к «свободным искусствам»: риторы, грамматики и геометры. Лица подобных профессий, так же как врачи, художники, скульпторы, ораторы и философы, освобождались от городских повинностей.
Простые школьные учителя грамматики не были представителями «свободных искусств», так как и квалификация их была много ниже, и происходили они нередко из рабов. Занятие грамматика, который учил только грамоте и латинскому языку, считалось не искусством, а ремеслом. Плата такому грамматику за обучение одного ученика была определена в эдикте Диоклетиана в 200 динариев в месяц. А плата ритору, который был представителем «свободных искусств», составляла вдвое большую сумму. Многие мудрые римляне с сожалением писали, что порой учитель получал за год столько же, сколько любимец толпы в цирке за день.
Свое раннее образование Плотин мог получить либо в начальной школе, либо в высшей риторской школе. В Ликополе, как и во многих других провинциальных городах Рима, были и общественные и частные начальные школы, где преподавались основы латинской грамотности. В этих школах дети получали элементарные знания по геометрии и арифметике, изучали музыку, латинский язык и заучивали наизусть некоторые наиболее известные произведения римских и греческих авторов. В школах читали Менандра, Горация, Вергилия, а также исторические сочинения, в том числе Гесиода и Гомера. Большое место отводилось патриотическим сюжетам из римской истории. Римская школа первостепенное и особое внимание уделяла развитию памяти ученика, требуя от него заучивания многих мифологических поэтических текстов, особенно Гомера.
Это очень важно отметить — развитие памяти молодых римлян не механически, а через запоминание, заучивание наизусть многообразных, многослойных мифологических и поэтических текстов. Обыденное римское мышление сквозь призму веков очень часто представляется слишком практическим, слишком рациональным. На самом же деле это мышление было глубочайшим образом пронизано потоками мифологического сознания. И ребенок в Риме окунался в этот поток с самого детства.
Существовали своего рода и учебники для школ, состоявшие из подборок речей ораторов. В Ликополь достаточно регулярно попадали произведения греческих и римских поэтов, философов, риторов. Продавались небольших размеров книжечки с тонкими пергаментными листочками в кожаных переплетах, содержавшие сочинения Гомера, Вергилия, Цицерона, Овидия, Тита Ливия. Порой даже на дверном косяке местной книжной лавки появлялись объявления о книжных новинках.
В школах на навощенных табличках ученики писали остро заточенными палочками, заглаживая написанное тупым ее концом. Для ношения навощенных табличек дети использовали четырехугольные пеналы. Лукиан говорил, что он иногда соскабливал воск с таких табличек и лепил из него фигурки людей и животных, за что его наказывали учителя.
Считалось, что «старцу подобает всегда быть строгим, ученику — всегда хорошо учиться». В провинциальной школе были своего рода классные собрания и выпускные вечера, где ученики выступали с чтением стихов.
Вполне возможно, что после или вместо начальной школы Плотин мог обучаться в высшей риторской школе. Дело в том, что к такому образованию более всего должны были стремиться дети декурионов и сыновья богатых отпущенников. Поскольку отец Плотина принадлежал к числу последних, то он вполне мог быть похожим на отца Горация, который, тоже будучи отпущенником, сына своего из тщеславия направил в риторскую школу.
В риторских школах тщательно изучали греческий язык, латинскую и греческую словесность — латинские и греческие грамматики толковали и комментировали классические произведения греческой и римской литературы. Изучали также ораторское искусство. Оканчивали эту школу обычно в 15–16 лет.
Плотин был весьма начитанным в античной литературе философом. Конечно, вряд ли это результат только лишь школьного образования. Но можно достаточно уверенно утверждать, что школа, по крайней мере, не исказила, а наоборот, способствовала углублению интереса мальчика к классической литературе эллинов.
Гомер — эта «библия эллинов» — цитируется Плотином более всего. И так же часто он использует образы Гесиода Но, кроме этих патриархов, Плотин обращается в «Эннеадах» к героям Аполлония Родосского, Феогнида, Симонида Кеосского, Пиндара, Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана, Фукидида, Ксенофонта, Цицерона, Сенеки. Плотин блестяще знал и орфико-пифагорейскую литературу.
Для более рельефного представления своих мыслей Плотин порой прямо заимствовал необходимые образы у классических авторов. Обосновывая отличие души, погруженной в тело, от души самой по себе, Плотин, например, пишет: «Благодаря своей божественности, душа является безмолвной по своему характеру, опираясь на саму же себя. А тело, ввиду его слабости, приходит в замешательство: и само оно является текучим, и поражают его внешние удары. И оно первое возвещает об этой целостности всего живого существа и передает свое смятение целому. Так, в Народном собрании старейшины восседают в безмолвном раздумье, а беспорядочная толпа, требуя еды и жалуясь на то, что доставляет ей страдания, ввергает все собрание в безобразное смятение. Когда к ним доходит разумное слово от благомыслящего, — причем старейшины так и пребывают в спокойствии, — то толпа приходит в упорядоченное состояние и худшее не одерживает верх. А если этого нет, то побеждает худшее, а лучшее так и пребывает в безмолвии, потому что шумящая толпа не смогла воспринять идущее разумное слово».
Эти образы навеяны Вергилием:
И как-то часто в стеченье народа, — когда возникает В нем возмущенье и души свирепствуют низменной черни, Факелы уж и каменья летят, ярость правит оружьем: Если предстанет случайно заслугами и благочестьем Муж знаменитый, — смолкают, и слух все стоят напрягая. Он же словами царит над страстями и души смягчает.…Скрипит песок под колесами походной повозки. Хотя дороги и очищаются периодически рабами, но пустыня не знает покоя в своем стремлении набросить вечно живую сеть из мелких, струящихся ручейков разноцветного песка. Скрип песка — мальчик закрывает глаза: все вокруг окутывает мглистая тишина. Скрип становится резче, более тягучим и сильным, он рвется вовнутрь — сквозь уши, нос, рот, кожу. Словно пустыня рассказывает что-то очень важное, о чем нельзя промолчать.
…Песчинки на детской ладони. Раз… два… пять… одиннадцать. Какие странные треугольники их связывают! А если каждая песчинка — это центр круга, и расширяются, как волшебные, эти упругие круги, и становятся все больше и больше. И вот уж достигли границ небосвода…
А каждая песчинка — это мир со своими богами, морями и пустынями… Одиннадцать песчинок на моей ладони одиннадцать миров, где пустыни молятся своим небесам и не знают, что в моей ладони они так похожи друг на друга…
…На севере огибает Синайскую пустыню страна гор. И я вдруг вижу то ущелье, где нашел тогда удивительный камень. Он был плоский и округлый, и на нем была изображена фигура человека с распростертыми руками и широко расставленными ногами, но без головы. В самом центре камня, через живот человека, было выбито отверстие. Я сразу догадался, что они оставили эту священную вещь. Для меня. Я подношу его к левому глазу, и зажмуриваю правый, и начинаю медленно вглядываться в нависшие вокруг скалы. И все вдруг преображается — так ясно и живо, что я даже вздрагиваю. Скалы мгновенно превращаются в огромных и спокойных великанов, время от времени глубоко вдыхающих замирающие от страха облака. У великанов нет ртов и ушей, но они разговаривают друг с другом и понимают друг друга, — я вижу, как они это делают, и жуткое, захлестывающее восхищение переполняет меня. На каждом из великанов огромные валуны, врываясь оранжевым светом, превращаются в диковинных животных. Огромный медведь медленно ступает по узкой тропинке, раскачивая в такт своей влажной мордой. Застыл в небольшой пещере лев — глаза его словно поблескивают в гриве. Медленно взлетает длинный, голубой, с коричневыми полосами летучий змей. Приготовился к вечному прыжку леопард. И они все — такие величественные и выпуклые — странные сновидения великанов. Я смотрю на эту прекрасную картину, я весь ушел в это зрелище, и я сам — новый образ великанов. И плоский кусок гранита валяется где-то поблизости…
…Раннее утро. Благословенное божество появляется на востоке — величественно, торжественно и уверенно. Я медленно, затаив дыхание кланяюсь семь раз великому богу. Я не могу забыть эти часы и вижу эту картину — огромный огненный диск, пустыня, подросток в поклоне, а за его спиной — великие пирамиды Гизы. Потом я часто думал, что, вероятно, даже самые ущербные люди, не способные чувствовать божественного в этом мире, оказавшись на самом рассвете в пустыне, со страхом и трепетом могут увидеть или почувствовать в своей душе зримое видение божественного. И если застывал человек, парализованный образом одновременного проявления солнечного божества и оживляющего духа пустынной беспредельности и жизни, то словно превращался в зеркало, в котором росли, перетекали друг в друга, переговаривались, уходили и вновь возвращались не объяснимые всеми словами мира грациозные в своей бесформенной красоте тени.
И почти то же самое происходило в пустыне в последние минуты заката. Расставание пустыни с лучами солнца ощущалось как клокотание тоски, как отчаяние неведомой единой силы, раздираемой ночью надвое. И здесь все было глуше и как-то пронзительно холоднее.
…К северу от пирамид находится возвышенность. С этого места все четыре пирамиды, обращенные к Нилу и пустыне одновременно, представляют собой какую-то странную математическую комбинацию, обращенную к небу. Худощавый, небольшого роста юноша знал многое о них: и о том смысле, который вкладывали в них фараоны, и об их архитектонике, и о том, как строили их древние египтяне. Каков же был тайный смысл, вложенный в это «чудо света» великими магами и жрецами Египта?
Пирамиды, если смотреть на них долго, в горячем воздухе начинали слегка колебаться. И если при этом максимально ослабить внимание, создавался образ полета четырех этих пирамид где-то в ином, серо-коричневом туманном пространстве. В этом состоянии нет мыслей, появляется ощущение расслабленности, и словно подходишь к какой-то пустоте — не угрожающей, а наоборот, со странной, чуть слышимой музыкой.
А потом неожиданно слова Платона: «Четыре стихии — огонь, земля, воздух, вода — обособились в пространстве еще до того, как пришло время рождаться устрояемой из них Вселенной. Ранее в них не было ни разума, ни меры: хотя огонь и вода, земля и воздух являли кое-какие приметы присущей им своеобычности, однако они пребывали всецело в таком состоянии, в котором свойственно находиться всему, до чего еще не коснулся Бог. Поэтому последний, приступая к построению космоса, начал с того, что упорядочил эти четыре рода с помощью образов и чисел.
Во-первых, ясно, что огонь и земля, вода и воздух суть тела, а всякая форма тела имеет глубину. Между тем любая глубина по необходимости должна быть ограничена природой поверхности, притом всякая плоская поверхность состоит из треугольников. Однако все вообще треугольники восходят к двум, из которых каждый имеет по одному прямому углу и по два острых, но при этом у одного по обе стороны от прямого угла лежат равные углы величиной в одну и ту же долю прямого угла, ограниченные равными сторонами, а у другого — неравные углы, ограниченные неравными сторонами. Здесь-то мы и полагаем начало огня и всех прочих тел, следуя в этом вероятности, соединенной с необходимостью.
Из двух названных раньше треугольников равнобедренный получил в удел одну природу, но неравнобедренный бесчисленное их множество. Из этого множества нам должно избрать наилучшее. Между множеством треугольников есть один, прекраснейший, ради которого мы оставим все прочие, а именно тот, который в соединении с подобным ему образует третий треугольник — равносторонний. Итак, нам приходится отдать предпочтение двум треугольникам как таким, из которых составлено тело огня и трех прочих тел: один из них равнобедренный, а другой таков, что в нем квадрат большей стороны в три раза превышает квадрат меньшей.
Земле мы, конечно, припишем вид куба: ведь из всех четырех родов наиболее неподвижна и пригодна к образованию тел именно земля, а потому ей необходимо иметь самые устойчивые основания. Между тем не только из наших исходных треугольников равносторонний, если взять его как основание, по природе устойчивее неравностороннего, но и образующийся из сложения двух равносторонних треугольников квадрат с необходимостью более устойчив, нежели равносторонний треугольник, причем соотношение это сохраняет силу как для частей, так и для целого…
…Пусть же образ пирамиды и будет в согласии со справедливым рассуждением, первоначалом и семенем огня…»
…Недалеко от Мемфиса, в Саккаре, находится примечательная пирамида. Говорят, это первая построенная жрецами в Египте. Если чуть взобраться на нее, то на западе хорошо просматриваются пирамиды Хеопса и Хефрена. Это произошло очень давно, когда я в последний раз приехал в Мемфис. Я взобрался на несколько глыб этой самой знаменитой пирамиды в Саккаре и еще раз взглянул на запад. И вдруг меня кто-то окликнул. Я встряхнул головой и оглянулся. Вокруг никого не было: только на почтительном расстоянии ждал меня с лошадьми старый египтянин, боявшийся приблизиться к пирамиде.
Я медленно посмотрел на север: там находились руины священного города Гелиополя, разрушенного когда-то воинами Камбиза. Говорят, по ночам там из некоторых стен, испещренных загадочными чертежами, извергались тонкие струи огня, быстро уносившиеся вверх. Но посты наблюдения, установленные по приказу диареха, ничего не обнаружили.
Вдруг по мне словно пробежала волна, и я чуть закачался: пришлось даже ухватиться за уступ. Я вдруг ясно увидел, что Саккара, Гиза и Гелиополь расположены по углам равнобедренного треугольника, указывающего на север…
…У отца была большая и тщательно подобранная библиотека. Здесь были писатели римские и греческие, философы и поэты. Здесь были рукописи на латыни и греческом, египетском, финикийском, халдейском, вавилонском языках. Многие книги со странными рисунками и буквами и не могли быть прочитаны: переводчики, к тому же опытные и знающие, в. Ликополе были большой редкостью. Да и рвение отца, собственно говоря, до такой степени и не доходило. Он скорее любил хвастаться своими сокровищами, чем умело ими пользоваться. И тем не менее Евглаб — специально перекупленный за большие деньги переписчик-раб, родом с Крита, — без дела не сидел, переписывая то, что приносил отец или иногда присылали его друзья из Александрии, Рима и Пергама.
Однажды — а было мне, наверное, лет четырнадцать-пятнадцать — я читал отрывки из какого-то весьма популярного и известного произведения. И в одном месте я наткнулся вот на что:
«Около первой ночной стражи, внезапно в трепете пробудившись, вижу я необыкновенно ярко сияющий полный диск блестящей луны, как раз поднимающейся из морских волн. Невольно посвященный в немые тайны глубокой ночи, зная, что владычество верховной богини простирается особенно далеко и всем миром нашим правит ее промысел, что чудесные веления этого божественного светила приводят в движение не только домашних и диких зверей, но даже и воздушные предметы, что все тела на земле, на небе, на море то, сообразно ее возрастанию, увеличиваются, то, соответственно ее убыванию, уменьшаются. Полагая, что судьба, уже насытившись моими столь многими и столь тяжкими бедствиями, дает мне надежду на спасение, хотя и запоздалое, решил я обратиться с молитвой к царственному лику священной богини, пред глазами моими стоявшему. Без промедления сбросив с себя ленивое оцепенение, я бодро вскакиваю и, желая тут же подвергнуться очищению, семь раз погружаю свою голову в морскую влагу, так как число это еще божественным Пифагором признано было наиболее подходящим для религиозных обрядов».
А новое было в том, что был я одновременно и непосредственно читающим, и полным, торжественным диском луны, и страждущим героем. Я целиком был и читающим, и луной, и самим героем:
«Владычица небес, — будь ты Церерою, благодатною матерью злаков, ныне в Элевсинской земле ты обитаешь, — будь ты Венерою небесною, что рождением Амура в самом начале веков два различных пола соединила и, вечным плодородием человеческий род умножая, ныне на Пафосе священном, морем омываемом, почет получаешь, — будь сестрою Феба, что с благодетельной помощью приходишь во время родов и ныне в преславном Эфесском святилище чтишься, — будь Прозерпиною, ночными завываниями ужас наводящею, что триликим образом своим натиск злых духов смиряешь и над подземными темницами властвуешь, по различным рощам бродишь, разные поклонения принимая. О, Прозерпина, женственным сиянием своим каждый дом освещающая, влажными лучами питающая веселые посевы и, когда скрывается солнце, неверный свет свой нам проливающая, — как бы ты ни именовалась, каким бы обрядом, в каком бы обличил ни надлежало чтить тебя, — в крайних моих невзгодах ныне приди мне на помощь, судьбу шаткую поддержи, прекрати жестокие беды, пошли мне отдохновение и покой, достаточно было страданий, достаточно было скитаний!»
Пропустив часть написанного, я развернул свиток дальше:
«Ни одна ночь, ни один сон у меня не проходили без того, чтобы я не лицезрел богини и не получал от нее наставлений… Однажды ночью приснилось мне, что приходит ко мне верховный жрец, неся что-то в полном до краев подоле, и на мой вопрос, что это и откуда, отвечает, что это моя доля из Фессалии, а также что оттуда вернулся раб мой по имени Кандид. Проснувшись, я очень долго думал об этом сновидении, размышляя, что бы оно могло предвещать, к тому же я прекрасно помнил, что у меня никогда не было раба с таким именем. Обеспокоенный и встревоженный надеждой на какую-то удачу и доход, я ожидал утреннего открытия храма. Когда раздвинулись белоснежные завесы, мы обратились с мольбами к досточтимому изображению богини. Жрец обошел все алтари, совершая богослужение и произнося торжественные молитвы, наконец, зачерпнув из сокровенного источника воды, совершил возлияние из чаши. Исполнив все по священному обряду, благочестивые служители богини, приветствуя восходящее солнце, громким криком возвестили о первом часе дня. И в этот самый момент являются узнавшие о моих приключениях слуги — прямо из Гипаты, и приводят с собою даже мою лошадь. Вещему смыслу моего сновидения я тем более дивился, что, кроме в точности выполненного обещания касательно прибыли, рабу Кандиду соответствовал возвращенный мне конь, который был белой масти.
После этого случая я еще усерднее принялся за исполнение религиозных обязанностей, так как надежда на будущее поддерживалась во мне сегодняшними благодеяниями. Со дня на день все более и более проникало в меня желание принять посвящение, и я не отставал от верховного жреца со своими горячими просьбами, чтобы он посвятил меня в таинства священной ночи. Он же отклонял мою настойчивость, утешая и успокаивая меня в моем смятении добрыми надеждами.
— Ведь и день, — говорил он, — в который данное лицо можно посвящать, указывается божественным знамением, и жрец, которому придется совершать таинство, избирается тем же промыслом…
Ввиду всего этого он полагал, что мне нужно вооружиться немалым терпением, остерегаясь жадности и заносчивости, и стараться избегать обеих крайностей: будучи призванным — медлить и без зова — торопиться. Да и едва ли найдется из числа жрецов человек, столь лишенный рассудка и, больше того, — готовый сам себя обречь на гибель, который осмелился бы без специального приказания богини совершить столь дерзостное и святотатственное дело и подвергнуть себя смертельной опасности. Да и самый обычай этот установлен в уподобление добровольной смерти и дарованного из милости спасения, так как богиня имеет обыкновение намечать своих избранников из тех, которые, уже окончив путь жизни, стоя на пороге последнего дыхания, тем лучше могут хранить в молчании великую тайну небесного учения: промыслом ее в какой-то мере вторично рожденные, они обретают возможность еще раз начать путь к спасению. Вот так же и мне следует ждать небесного знамения. Тем не менее я должен уже теперь наряду с остальными служителями храма воздержаться от недозволенной и нечистой пищи, чтобы тем скорее достигнуть скрытых тайн чистейшей веры.
И не обманула мои ожидания спасительная благость могущественной богини: не мучила меня долгой отсрочкой, но в одну из темных ночей, отнюдь не темными повелениями, ясно открыла мне, что настает для меня долгожданный день, когда она осуществит величайшее из моих желаний.
Утром верховный жрец, положив свою правую руку мне на плечо, ведет к самым вратам обширного здания. Там по совершении пышного обряда открытия дверей, исполнив утреннее богослужение, он выносит из недр святилища некие книги, написанные непонятными буквами. Эти знаки, то изображением всякого рода животных сокращенно передавая слова торжественных текстов, то всевозможными узлами причудливо переплетаясь и наподобие колеса изгибаясь, тайный смысл чтения скрывали от суетного любопытства. Из этих книг он прочел мне о приготовлениях, необходимых для посвящения.
Наконец жрец объявляет, что час настал, и ведет меня, окруженного священным воинством, в ближайшие бани. Там, после обычного омовения, призвав милость богов, он со всей тщательностью очищает меня окроплением и снова приводит к храму. Две трети дня были уже позади, когда он, поставив меня у самых ног богини и прошептав мне на ухо некоторые наставления, благостное значение которых нельзя выразить словами, перед всеми свидетелями наказывает мне воздерживаться от чревоугодия, десять дней подряд не вкушать никакой животной пищи, а также не прикасаться к вину.
Наступает день посвящения, и солнце, склоняясь к закату, привело на землю вечер. Тут со всех сторон стекаются толпы народа, и, по стародавнему священному обычаю, каждый приносит мне в знак почтения какой-нибудь подарок. Но вот жрец, удалив всех непосвященных, облачает меня в плащ из грубого холста и, взяв за руку, вводит в сокровенные недра храма».
В этот миг в моей душе подростка остался один, звенящий ясно и звучно голос:
— Ты хочешь знать, что там говорилось, что делалось? Тебе бы сказали, если бы позволено было говорить, ты бы узнал, если бы слышать было позволено. Но одинаковой опасности подвергаются в случае такого дерзкого любопытства и язык, и уши. Впрочем, если ты объят благочестивой жаждой познания, внимай и верь, ибо это — истина. Достиг он рубежей смерти, переступил порог Прозерпины и вспять вернулся, пройдя через все стихии, в полночь видел он солнце в сияющем блеске, предстал пред богами подземными и небесными и вблизи поклонился им. Вот тебе и рассказано, а ты, хотя и выслушал, должен остаться в прежнем неведении…
Я отбрасываю свиток: когда-то я это видел — или?..
…Во дворике сердито жужжал над клумбой холодно-голубых цветов мохнатый темно-рыжий шмель. Я сидел, откинувшись в кресле, и абсолютно ничего не мог понять: на какой-то краткий миг все смешалось: Плотин, клубящаяся фигура, оказавшаяся вне голографического пространства, странное поведение машин. Ведь все это каким-то образом было связано. Но как, и самое главное — какое все это имеет отношение к той проблеме, из-за которой я, собственно, и нахожусь здесь?
Но я не хотел включать компактный САО-синтезатор аналоговых образов. И дело было не только в самолюбии — позволить программе, пусть даже гениальной программе, найти приемлемый вариант концептуализации неопределенности! Однажды я уже пришел к весьма неутешительному выводу, что САО — вещь весьма опасная: он обладал способностью не только вычленять и формулировать наиболее безупречные с формальной точки зрения аналоговые объяснения, но и имел «иезуитскую» способность доказывать отсутствие более совершенных объяснений.
Но сам я пока не видел дальнейшей эффективной стратегии. Нажав кнопку контакта Титана, медленно, внятно сказал:
— Попробуй обобщить то, что есть в информационных банках о начальном периоде жизни Плотина.
Эта мысль внешне мне пришла совершенно случайно и тем была особенно ценной. Я налил себе чашечку крепкого кофе и стал ждать.
Через несколько минут я услышал Титана:
— Плотин родился в Ликополе в феврале или начале марта 204 года. Но скорее всего между 10 и 25 февраля — таковы предположительные астрологические расчеты. Город Ликополь, основанный Птолемеями, находился на восточном берегу Нила, почти в самом центре Египта, там, где в настоящее время расположен город Асьют.
Сюзанна:
— Появление на свет ребенка было для семьи событием торжественным, независимо даже от того, как отнесся к ребенку отец. Когда рождался мальчик, двери дома часто украшали оливковыми ветвями, а когда девочка — шерстяными нитями. Младенца купали в воде, затем его заворачивали в пеленки и укладывали в колыбель, сплетенную из ивовых прутьев.
Если отец решал признать ребенка и принять его в семью, то на пятый или на седьмой день после родин устраивали семейный праздник под названием «амфидромия» (обход кругом): отец поднимал ребенка с земли в знак признания и быстро обносил его вокруг домашнего очага. В это же время рассыпали зерна пшеницы, ячменя, а также горох и соль, чтобы снискать благоволение духов — покровителей места и тем самым сберечь младенца от всех злых сил. Теперь его как нового члена семьи поручали опеке домашних богов. На десятый день жизни младенца ему наконец давали имя.
Титан:
— Родители Плотина, во всяком случае отец, были греки: свои произведения Плотин писал на греческом. О греческих корнях говорит и его единственное имя — Плотин. Второе имя нигде не упоминается.
В своей семье греки при рождении получали только одно имя, фамилий же, объединяющих весь род и переходящих по наследству от отца к сыну, в Греции и греческих колониях не было. Если же в дальнейшем, подрастая, юный грек получал еще и прозвище благодаря каким-либо особенностям своего характера или внешности, прозвище, которое он сам принимал и признавал, оно закреплялось за ним навсегда, настоящее же его имя вскоре забывалось.
Римляне, в отличие от греков, гораздо большее значение придавали «фамилиям» — родовым именам, переходящим от поколения к поколению. Первоначально римлянин обходился двумя именами: личным и родовым. Позднее его стали называть тремя именами: добавилось семейное прозвище.
По некоторым данным, родители Плотина были вольноотпущенниками. Скорее всего Плотин, еще будучи младенцем, потерял мать, и до самого школьного возраста его воспитывала кормилица. В кормилицы, мамки, поступали обычно обедневшие женщины из свободных, а также рабыни. Порфирий упоминает о странной на первый взгляд особенности из детства Плотина: «Молоком кормилицы он питался до самого школьного возраста и еще в восемь лет раскрывал ей груди, чтобы пососать. Но, услышав однажды: „Какой гадкий мальчик!“, устыдился и перестал». Этот факт также может служить косвенным подтверждением того, что Плотин рано потерял мать.
По мере того, как кругозор ребенка становился шире, в его детский мир начинали входить сказки, игрушки, разные игры и развлечения. Малыши забавлялись погремушками и игрушками из терракоты, дерева или металла. Среди них были всякого рода зверюшки, кубики, волчки, приводимые в движение нажимом на рукоятку, марионетки и другие движущиеся игрушки, управляемые незаметно при помощи ниточек или цепочек.
Дети постарше сами лепили себе игрушки из глины, воска или даже из хлебного мякиша. Они строили песочные дворцы, скакали на палочках, запрягали в коляски или маленькие повозки собак или коз, играли в жмурки. У них были и качели, и обручи, и воздушные змеи. Подражая старшим, они устраивали в своем кругу состязания по бегу и прыжкам, и, наконец, ничем не заменимой во все времена оставалась для мальчишек игра в мяч. Дети играли в кости, орехи, подбрасывали кверху монетку и следили, какой стороной она упадет.
Плотин прожил в Ликополе 27 лет, часто путешествуя по Египту вместе с отцом или один, по каким-либо делам. Он рос болезненным ребенком, но уже с самого раннего возраста его отличали крайняя впечатлительность, внимание, умение замечать незаметные, казалось бы, детали в словах и поступках людей, в окружающей природе.
Рано пробудившаяся любознательность проявлялась в самых разных формах: он много и беспорядочно читал, внимательно слушал странные речи уличных оракулов и магов, часами сидел под пальмами на берегу Нила, сосредоточенно глядя на медленное движение мутных вод великой реки. Изредка еще затемно он уходил в пустыню — увидеть восходящий диск солнца и прислушаться к замирающим в утреннем свете странным ночным песням пустыни.
Отец Плотина был богатым или даже очень богатым человеком: он дал сыну великолепное образование. Мальчик учился не только в школе, но и у специально нанятых преподавателей. В доме была хорошая библиотека. Плотин пристрастился к чтению, в нем рано пробудился интерес к духовным проблемам. Но отношения с отцом были сложными и по мере взросления все более тягостными для юноши, стремившегося к одинокой внутренней свободе.
В Римском государстве с древнейших времен в семье безраздельно властвовал отец семейства. Он обладал в отношении своих детей «правом жизни и смерти»: отец определял судьбу всех, кто от него зависел. Он мог собственного ребенка, рожденного им в законном супружестве, или признать своим и принять в семью, или же приказать умертвить его либо бросить безо всякой помощи. Отеческая власть включала в себя не только право жизни и смерти, право сажать сына под замок и бичевать его, но и право держать его закованным на сельских работах и даже право продавать его ради денег. Отцы обладали большей властью над детьми, чем господин над рабами. Ведь раб, единожды проданный, получивши свободу, уже становился сам себе господином, а сын, единожды проданный, получивши свободу, возвращался под власть отца.
В начале 231 года Плотин в двадцатисемилетнем возрасте (после похорон отца) перебирается в Александрию. Он покинул свой родной город, обладая вполне разносторонними знаниями в различных областях и хорошо зная основные положения стоической философии. Порфирий следующим образом характеризует в своих заметках позднего Плотина: «Писал он обычно напряженно и остроумно, с такою краткостью, что мыслей было больше, чем слов, и очень многое излагал с божественным вдохновением и страстью, скорее возбуждая чувства, нежели сообщая мысль. В сочинениях его присутствуют скрытно и стоические положения, и перипатетические, особенно же много аристотелевских, относящихся к метафизике. Не укрывалась от него никакая проблема ни из геометрии, ни из арифметики, ни из механики, ни из оптики, ни из музыки, хотя сам он этими предметами никогда не занимался».
— Ну и что?
— Плотин хорошо знал стоическую философию. Однако Учитель в его жизни — Аммоний Саккас — был далек от стоицизма. Поэтому вполне можно предположить, что философия Стои была им усвоена еще в ликопольский период, а потом именно он стал ее наиболее последовательным критиком.
В александрийский период, как и позднее в римский, Плотин не занимался специально частными предметами — механикой, оптикой, музыкой. И то, что он мог оперировать конкретными проблемами, доказывает, что соответствующее образование в этих науках он получил именно в Ликополе.
Можно заключить поэтому, что в двадцать семь лет у него были знания, но не было еще удовлетворяющей мощный дух картины мира, были философские знания, но не было метода и системы. Было осознание глубокой неудовлетворенности, но не было ясной цели. И было одиночество, холодное одиночество, тоска одинокой ночной волны.
…Я поднял голову и с недоумением посмотрел на Титана. К чему такая эмоциональная напыщенность?
— Так, мне нужна информация о стоической доктрине в контексте нашей ключевой проблемы.
— Аналоговая информация третьего порядка. Зенон Китийский — основоположник стоицизма — установил, что конечная цель — жить согласованно. Клеанф, который возглавил школу стоиков после Зенона, уточнил эту формулировку, считая назначением «жизнь, согласованную с природой». А третий архонт Хрисипп объяснял, что под природой следует иметь в виду как общую, так и собственно человеческую природу. А так как природа человека является лишь частью целого, то жить согласно с природой означает то же самое, что жить по опыту всего происходящего в природе.
Все, что происходит с человеком независимо от его воли, происходит в согласии с разумно и целесообразно устроенным мировым целым. Полностью от воли самого человека зависит все то, от чего зависит и счастье человека: характер его деятельности, отношение к миру и к людям, его взгляды и оценки. Марк Аврелий требовал сносить безупречно то, что приносит природа общая, и поступать сообразно природе собственной.
Природа, мир — это живой организм с имманентной ему структурой, являющейся одновременно и программой его развития. Программа сама себя осуществляет, а цель и смысл находятся в самом развитии. Телесно природа как действующая сила в начале космогонического цикла представляется «творческим огнем», порождающим все существующее, в виде разумного огненного дыхания, пронизывающим тело мира и объединяющим весь мир в единое целое. Богом поэтому считается весь мир, или же говорится о боге-дыхании как о душе мира и о мире как о теле бога.
В человеческой душе определяющей считается разумность: душа человеческая — часть божественной разумной души. Жить по своей природе означает стремиться к добродетели, которая достигается таким усовершенствованием человеческого разума, при котором он становится тождественным с разумом природы.
Под «усовершенствованием разума» понимается процесс совершенства всей разумной души, всего душевного склада. Человек, достигший неизменно добродетельного душевного склада, есть мудрец, все действия которого, даже если они с обычной точки зрения считаются поступками против природы, всегда правильны, так как исходят из полного знания, правильной этической мотивировки и внутренней невозможности поступать иначе.
Существует один-единственный космос: он имеет сферическую форму и окружен беспредельным небытием. Космос — живое, разумное существо, совершающее циклический путь своего развития. Он рождается из первичного огня и в процессе своей эволюции проходит стадии, когда в нем развертывается все многообразие сущего, затем вновь разрешается в стихию огня в результате всеобщего воспламенения. Этот процесс бесконечно повторяется.
Закономерности развития космоса — это творческие закономерности первичного огня, его логос. Логос пронизывает и объемлет, охватывает все в качестве творца-демиурга. Он простирается по всей природе вещей, упорядочивает Вселенную, пребывая во всем существующем и становящемся, направляя вещи ко всеобщему устроению.
Логос объединяет людей между собой благодаря тому, что он одинаково присущ всем людям. Больше того, логос своим единством связывает богов и людей: и у богов тот же самый логос, что и у людей, та же самая истина и тот же самый закон, а именно принятие верного и отвержение дурного.
Логос — это природный закон, проходящий через все. Но этот закон ни от чего человека не предохраняет и ничего ему не предписывает, и человек должен сам заботиться о том, чтобы использовать его для истины, а не для лжи.
В ходе своих трансформаций мировой огонь — логос — превращается в три прочих элемента — в воздух, в воду и в землю. Вступая в связь друг с другом, огонь и воздух образуют пневму. «Проникая» в какое-либо тело, пневма сообщает ему его основные свойства, которыми определяется единство данного тела и его форма.
Пневме присуща активность и способность к непрестанному движению. В масштабе космоса происходит безостановочное перемещение пневмы от периферии к центру и обратно, от центра к периферии. Аналогичные перемещения происходят и в отдельных телах. Они приводят к тому, что пневма находится как бы в состоянии постоянного тонического напряжения. Тоническим натяжением обеспечивается единство космоса в целом. В каждой отдельной вещи стремление пневмы от центра вещи к ее периферии обусловливает размеры вещи и ее форму. Обратное движение пневмы к центру оказывается фактором, обеспечивающим единство вещи и связанность ее частей. В отсутствие пневмы все вещи распались бы, и в мире воцарился бы хаос. Пневма как бы сдерживает или склеивает вещь, придавая ей определенное качество.
Эволюция космоса — единый и взаимосвязанный во всех своих деталях поток событий. Источник и первопричина всех этих процессов — космический первоогонь. Из него с необходимостью образуется мир, распадающийся на бесчисленное множество причинно обусловленных цепочек, которые лишь по видимости представляются независимыми друг от друга. Эта независимость мнимая, поскольку все они суть разветвления единого мирового процесса. И когда космос будет снова охвачен мировым пожаром, знаменующим собой конец одного и начало следующего цикла развития, эти цепочки вновь сольются в едином первоогне, давшем им начало. Вот эта всеобщая и необходимая связь всего происходящего в мире и есть судьба, рок.
Человек отличается от прочих живых существ тем, что у него есть разум. Будучи разумным существом и размышляя о последствиях своих поступков, он может не согласиться с возникшим в его душе представлением и не обязательно последует зову влечения. В основе разумного человеческого акта лежит суждение о том, как следует поступать в каждом конкретном случае. В этом смысле и возможна у человека свобода воли. Но фактически она реализуется только у мудрых людей, которые подчиняют свои действия голосу разума. Разум указывает человеку, как надо вести себя, чтобы его поступки соответствовали всеобщему логосу. Следуя указаниям разума, мудрец сознательно включается в необходимость мирового процесса. На этой высшей стадии духовного развития свобода воли и космическая необходимость оказываются тождественными.
Человек и есть цель природы, цель мироздания, цель вселенски творящего логоса, огненного слова. Удивительным образом космическое огненное слово центрирует все существующее именно вокруг человека, нацеливает всю свою вселенски-творческую деятельность только на человеческий субъект и только в этом последнем находит свою окончательную мудрость и красоту. Это миротворящее огненное слово уже и творит в мире по-человечески, уже и является художественным творчеством. А отсюда и природа тоже должна оказаться и художественной и даже просто художником. Но отсюда и сам человек есть или должен быть тоже творчески мыслящим художником, но художником прежде всего самого же себя, поскольку ведь он и есть центр мироздания. Именно в человеке достигается наибольшее совершенство мирового первоогня: «Вначале сам мир был создан ради богов и людей. И то, что в нем, приготовлено и найдено для пользования людей. Ибо мир как бы общий дом богов и людей или город для тех и других».
Титан внезапно замолчал. Я хотел задать несколько корректирующих вопросов, но в этот момент на дисплее вновь появился странноносый. Он уставился на меня, затем подмигнул:
— Не нужны никакие вопросы. Зачем?.. Понимание приходит само — не сразу, осторожно, с опаской, но само… даже неглупым компьютерам. Искусство не задавать поспешных вопросов, — о, как это грациозно и, кстати, выгодно. Ну, так вот: духовную, внутреннюю атмосферу Ликополя, где прошли детские годы и юность Плотина, нельзя правильно и полно понять и оценить, забывая о духе магии и колдовства в атмосфере римского общества.
Сюжеты, связанные с действиями магического характера, с волшебством и колдовством, встречаются очень часто в античных литературных религиозно-философских и исторических сочинениях. Сфера магии оказывалась довольно многообразной — существовала магия профилактическая, медицинская, теургическая. Орфики, например, были убеждены в магической, скрытой внутри камней силе. В римской медицине было широко распространено мнение, что те или иные камни (малахит, янтарь, агат) оказывали большое влияние на здоровье человека, его психику и даже жизнь.
Но особенно распространилась магия в III веке. И это несмотря на то, что императоры принимали чрезвычайно суровые меры против магов и соучастников магических действий вплоть до казни на кресте, смерти на арене амфитеатра от диких зверей и даже сожжения заживо на костре. Никому не дозволялось держать у себя книги по волшебству, а в случае их обнаружения такие книги надлежало сжечь. Но как ни странно, к оккультному искусству сами императоры обращались довольно часто…
Тут странноносый радостно захохотал, чуть вытягивая вперед бледные, сухие губы. Потом задумчиво провел пальцем по лбу и очень серьезно добавил:
— И это совершенно понятно и правильно. Каждое могучее государство, каждый здоровый общественный организм должны всячески бороться с мракобесами, колдунами, волшебниками, мистиками, экстрасенсами и прочей подозрительной публикой. Им нужно почаще рубить головы и вырывать языки, ломать руки и ноги, снимать с них кожу… чтобы не смущали народ ненужными… возможностями. А что касается слабостей императорских, то они ведь люди и, естественно, слабы…
…Мне было лет шестнадцать или семнадцать, когда я случайно подслушал разговор отца с Кассием. Кассий тоже был богатым вольноотпущенником и торговцем, довольно часто ездившим в Рим. Оттуда привозил он всегда самые последние столичные слухи и сплетни.
Я сидел в соседней маленькой комнатушке для слуг — я часто здесь прятался, чтобы не попасть на глаза отцу. Передо мной лежала книга, но я рассеянно смотрел на прекрасный в пурпуре закат. Что-то мешало мне сосредоточиться. Голоса из соседней комнаты усиливались. Рокот Кассия перекрывался иногда визгливым голосом отца.
Я понял, что Кассий рассказывает о внезапной смерти Каракаллы, которая последовала после каких-то действий магов.
— Клянусь Митрой, мне сообщил об этом Онесифор, — ты с ним встречался, он достойный отец семейства и заслуживает доверия. По его словам, некоторые аламаны сами, не таясь, утверждали, что это они наслали на императора чары и потому сделался Каракалла безумным и невменяемым.
Где-то заскребла мышь. Голоса замолчали. Разливали вино. Затем Кассий продолжил:
— Так как император был болен не только телом, но и духом, страдая от явных и неявных болезней и от ужасных видений, и часто думал, что его преследуют отец и брат, вооруженные мечами, поэтому он вызывал духов, чтобы найти какое-то лекарство от всего этого. Среди духов он вызвал также дух своего отца и дух Коммода. За исключением духа Коммода, другие духи ничего не сказали.
— Что… — прошептал отец, понижая голос.
— Сказал же Коммод следующее: «Ближе держись к справедливости, которую от тебя требуют боги за Севера», — затем еще какие-то слова, а в конце он сказал так: «Скрывая болезнь, трудно вылечиться». Но даже Коммод не дал императору какого-либо совета.
— Да, — протянул отец, — богов нельзя обмануть.
— Ему не помог даже Серапис, несмотря на многие просьбы и постоянную настойчивость императора Он воссылал свои моления, жертвы и обеты даже и к богам чужеземным, и многие посыльные спешили туда и сюда каждый день, неся что-либо. Он прибыл к ним и сам, надеясь преуспеть, если предстанет пред богами лично. И он исполнил все обеты, но не достиг ничего, что помогло бы его здоровью.
Я уже почти не слышал последних слов, не замечая, как подергиваются все чаще веки и выступает на лбу холодный пот. Я вдруг ощутил внутри себя пульсирующий холод. Закололо в левом боку. Правой рукой нащупал обрывок старого пергамента: там пять строк:
ROTAS OPERA TENET AREPO SATORЭто была магическая формула: в ней скрывалась сила, отвращающая беду и несчастья.
Я внимательно вглядывался в надпись. Внешний смысл гласил: «Телегу держит раб, плуг держит господин». Сами по себе эти слова непонятны. Здесь что-то другое… Напрягая глаза, я пробегал раз за разом по строчкам, затем пытался сосредоточиться одновременно на всех буквах формулы.
Вдруг мне показалось, что пергамент несколько приподнялся на столе. Буквы заметно задрожали и чуть замерцали. Появилось едва видимое колебание. Я хотел поднять руку, но не почувствовал ее. И в этот миг словно кто-то сказал тихо, но ясно: «Формула сама по себе ничего не значит. Но она может стать бесконечной серебряной нитью, связывающей твою готовность с безграничной же возможностью, которая всегда есть только сейчас и здесь. Когда ты обнаружишь формулу внутри себя, ты поймешь, что именно в единице содержится и двойка, и тройка, и…»
Странноносый, энергично жестикулируя, продолжал говорить на экране:
— В Ликополе использовали так называемые «таблички проклятия». На небольших пластинках из свинца записывалось имя проклинаемого, сопровождавшееся просьбой к подземным богам погубить его. При этом имя самого проклинающего не упоминалось ни в какой связи. Табличка проклятия тайно погребалась в могиле или в амфитеатре, где также витали духи умерших и еще не погребенных после сражения гладиаторов. Эта духи должны были оказать губительное действие на тех, кого обрекали их гневу. Такая табличка могла быть также помещена в какой-нибудь сосуд и брошена в реку или в колодец.
Магам прислуживали помощники, тайно занимавшиеся волшебством и изготовлением соответствующих предметов, в том числе особых магических чаш. Такая чаша представляла собой круглый сосуд, выточенный обычно из волнистого агата По краям он был оправлен в серебро. Агат пользовался особой популярностью среди магов из-за своих неясных и туманных линий.
Магические формулы и заклятия должны были долго произноситься в помещении, окуренном благовониями, над такой чашей, пока она не придет в движение. По окружности чаши курсивом вырезались на определенном расстоянии одна от другой 24 буквы латинского алфавита, которых должно было касаться подвешенное на тонкой нити кольцо в руках мага, выхватывавшее отдельные буквы. Эти буквы нанизывались наподобие метрических стихов и соответствующим образом толковались…
Экран так же внезапно погас, как и включился. Но я продолжал машинально сидеть, глядя на дисплей. Поскольку я оказался вовлечен в этот поток, то, следовательно, я и должен был встретиться лицом к лицу с чем-то иным… И оно через всю эту информацию связано и со мной. Иначе меня здесь просто не было бы. Тогда как я могу все это объяснить? Есть несколько вариантов: во-первых, знание все же вошло в меня, поскольку я не сопротивлялся и был готов к этому знанию. Тогда оно через какое-то время проявится во мне. И нельзя торопиться. Во-вторых, я провалился, поскольку не сосредоточился и не нашел нечто во всей этой информации, что могло бы послужить триггером для переструктуризации всего смысла. И, наконец, в-третьих, речь идет о том, что программы самостоятельно вышли на новый уровень рефлексивной игры, где на мне ставят какой-то странный опыт…
Около минуты я медленно массировал точку на лбу, непосредственно над переносицей: я пока не представлял, как начать. Но, так ничего и не придумав, начал быстро говорить то, что появлялось на внешней поверхности сознания:
— Те неразрешимые практически проблемы, варианты оптимального решения которых мы — я, вы, внешние информационные системы — тем не менее пытаемся найти и рассчитать, можно рассматривать и как замкнутые на себя творческие пространства. Мое предложение заключается в следующем: сформулировать принципиально новую модель рассмотрения неразрешимой проблемы именно как творческой.
Вспыхнули три сигнальные панельки на узком светло-стальном корпусе Титана. Я замолчал — его реакция меня всегда приводила в восхищение, замешенное на спрятанной где-то зависти.
— Для анализа такого рода эвристических пространств нужна предварительная разработка базовой модели «Эвристика неопределенности».
— Я это уже предусмотрел: мы можем построить хронологическую диалоговую модель, включающую, например, систему мышления того же Плотина. Не так ли, Сюзанна?
Сюзанна ответила не сразу. Она не могла мгновенно воспринять такое утверждение — ей требовалось время, чтобы расклассифицировать мои слова и выявить иронический элемент утверждения.
— На данном этапе это нереально. Практически возможно создание модели на базе отдельных трактатов Плотина. Наиболее оптимальное произведение для нашей основной задачи — восьмой трактат третьей «Эннеады» — «О природе, созерцании и Едином».
— Хорошо, давайте начнем. Исходное понятие — творчество как процессуальный феномен. Творчество — это прежде всего и главным образом сила… Сила как потенциальность любого воздействия вообще.
— Итак, субъектом является любая единичная индивидуальность, причем та индивидуальность, которая тем или иным способом воспринимает себя именно замкнутой индивидуальностью. Во-вторых, это микрогруппы или непосредственные контактные группы. Например, мы с вами, семья, исследовательские группы и т. д. Причем здесь новые формы взаимодействия более важны, чем прагматические результаты. И, наконец, третьим субъектом силы-творчества являются большие группы: государства, народы, этносы, цивилизации, культуры, человечество. Но это происходит только тогда, когда эти большие группы развиваются и обладают несколькими вариантами объяснения того, что есть развитие.
— Только три возможные модели субъекта…
— Вероятно, но здесь важно, что эти модели несводимы к одной. С другой стороны, различные формы творческого процесса в конечном счете представляют собой выражение одной и той же силы.
В принципе количество субъектов творчества может быть неограниченно.
— Есть и другие точки зрения, — вежливо возразил мне САО.
— Верю, но у меня пока нет возможности их сейчас обсуждать. Творчество как сила направлено на какие-то объекты. Прежде всего объектом творчества как силы является… то, что можно назвать… окружающая среда (или какой-то ее элемент): это может быть часть природы, часть знакомого материального окружения, интеллектуальная среда, например, структура представлений о времени и так далее.
Во-вторых, объектом творчества является вообще внутренний мир человека. Более того, в истории человечества именно это считалось, пожалуй, наиболее важной целью деятельности пророков, философов и революционеров.
И, наконец, в-третьих, объектом творчества как силы является мир вообще, реальность как таковая. Но эта всеобщая реальность в себе содержит три переплетающихся друг с другом смысла: мир, реальность — как «мой» или «наш» мир, то есть это мир, который является продолжением окружающей меня или нас среды и который имеет со мной или с нами личностную связь. Далее — мир, реальность — как возможный мир. Возможный мир включает в себя потенциальные изменения в «моем» или в «нашем» мире, миры других людей, этносов, культур и времен, рост знания и т. д. И, наконец, мир, реальность — как всеобъемлющая реальность, как мегамир, как нечто, что включает в себя все — прошлое и будущее, потенциальное и реальное, частичное и целое.
Я замолчал, потом встал, потянулся и спросил Сюзанну:
— Каков возможный вариант развития этой структуры?
— Мы столкнулись в данном случае в распространенным парадоксом. Формально-логически произошло разделение на субъекта творческой силы и объекта творческой силы. Необходимо проанализировать процессуальное единство творчества, элементами которого является то, что обычно называется субъектом и объектом.
Вмешался ХИП:
— Сама постановка проблемы единства эвристического процесса требует корректного формулирования трех ключевых, но внешних по отношению к самой проблеме предпосылок.
Я кивнул в знак согласия.
— Да, ты прав, первую предпосылку можно сформулировать следующим образом: единство творческого процесса обусловливается путем включения исследуемой системы-объекта как субъекта в систему более высокого порядка.
Если некую систему можно объяснить, обратившись к системе, в которую она входит, то возникает закономерный вопрос: каким образом, в свою очередь, объяснить систему более высокого порядка? Ответ может быть только один: рассмотрев еще более сложную систему.
В рамках процессуального единства творчества (эвристического кольца) «объект» не есть нечто единичное, изолированное, отчужденное, — даже если сам этот «объект» обладает вполне явственными, чувственно ощущаемыми и хронологическими границами. Данный «объект» является в эвристическом кольце определенной целью потому, что служит своеобразной моделью некой системы, включенной в более сложную систему, которая, в свою очередь, интегрирована в еще более сложную систему, а в конечном счете — в некую абсолютную целостность. Но ведь и «субъект» также является моделью неких усложняющихся систем, а следовательно, в конечном счете той же абсолютной целостности. Потому-то объект в творческом процессе не противопоставлен субъекту, а субъект не отчужден от объекта. Это означает также, что творческий процесс — это постоянная мозаика интегрирующихся и рассыпающихся образов одной и той же абсолютной целостности. «Субъект» в той же степени познает и понимает объект, в какой он понимает и познает себя как в определенной мере подобный целостный объект. Иначе говоря, ключевой элемент реального творческого процесса заключается в том, что «субъект» понимает «объект» так же, как «объект» познает «субъект».
Вторую предпосылку единства творческого процесса можно сформулировать так: законченное понимание чего бы то ни было, а значит, всего, есть важнейший эвристический идеал, к которому необходимо постоянно стремиться, но которого никогда нельзя достичь.
Я замолчал. Но тут ХИП несколько загадочно сказал:
— Более поэтично об этом же говорит отрывок из суфийского текста Джунейди. И более точно, поскольку в нем подчеркивается эвристический релятивизм и «объективного» и «субъективного»: «Все, что окружает нас, являет неизмеримые загадки: мы должны пытаться раскрыть эти загадки, но даже не надеясь выполнить это. Ты, зная о неизмеримых загадках, окружающих тебя, и зная о своем долге раскрыть их, занимаешь свое законное место среди загадок и сам себя рассматриваешь как одну из них. Следовательно, для тебя нет конца загадке бытия, будь то загадка бытия камешка, муравья, тебя самого или космоса».
Я усмехнулся и кивнул:
— Третья и основная предпосылка единства эвристического процесса как силы заключена в отношении к миру как конечному и всеобъемлющему единству, одухотворенной тотальности, предельной творческой целостности. Легче всего сейчас вспомнить Спинозу. Он считал, что той единственной системой, внутри которой мышление неслучайно, является не единичное тело и даже не сколь угодно широкий круг таких же тел, а только и единственно Бог в целом. Только Богу с абсолютной необходимостью присущи «все совершенства», в том числе и мышление, хотя это совершенство и не реализуется обязательно в каждом единичном теле, в каждый момент времени, в каждом из своих модусов.
Я замолчал. Через несколько секунд вновь зазвучал мелодичный голос Сюзанны:
— Абсолют не только определяет перманентность, бесконечность и всеобъемлемость эвристического процесса как такового. Речь может идти и о другом и, похоже, самом главном: сакральное творчество, то есть творчество, связанное с рефлексией Абсолюта именно как Абсолюта, воспринимаемого именно как Абсолют, является ядром любого творческого процесса.
ХИП попросил, чтобы эта посылка была несколько развернута. Сюзанна сразу согласилась:
— Жизнь каждого человека (это более показательный пример) — поток непрерывных, заметных, а чаще — субъективно незаметных изменений. Одни из них постоянно повторяются: так предусмотрено законами природы и нормами, традициями того общества, той культуры, того времени, где живет и умирает данный человек. Но есть и другие изменения, которые определяются индивидуальной историей человека, его опытом, его личностью. Если в результате этих изменений он все более становится уникальным и внутренне независимым, все более актуализируется как некая неповторимость, при этом развивая гармонию окружающей его среды, то это и есть реальное совершенствование, действительное развитие, тотальное творчество. Именно в этом смысле Нагарджуна указывал, что суть человека — развитие внутренней и внешней гармонии, но при этом то и другое есть одна гармония.
Развитие индивидуальности — это развертывание ее творческого потенциала. Этот потенциал зависит и от воли личности, ее эстетической развитости, кармического опыта, уровня интеллектуальности и т. д. Но истинным ядром является глубоко интимная, мистическая, не выразимая словами способность видеть, ощущать в определенной личностной связи некий аспект Абсолюта, Бога.
Не только индивидуальное, но и развитие народа, страны, этноса, культуры также обусловлено развертыванием его креативного потенциала, основой которого является эвристическое сакральное мышление, религиозное творчество. Постоянная интенсивная рефлексия в отношении трансцендентного, предельных метафизических ценностей определяет канву целостной культуры, предопределенность ее бурлящего, живого развития. Такое сакральное творчество постоянно питает смысловые модели функционирования общества, связывает его прошлое и будущее, стимулирует развитие этических систем и открывает новые, неожиданные направления для эволюции религиозного, научного, художественного мышления.
Сакральное творчество, таким образом, не только сокровенное ядро и постоянный источник развития религиозного мышления, религиозного сознания, но и прямой стимулятор развертывания всего творческого потенциала индивида, народа, культуры, цивилизации. Или, иначе говоря, смысл и значение сакральности творческого процесса в том, чтобы Бог (как принцип предельной и завершенной в единстве целостности) пропитывал и объединял все аспекты творческого процесса. Для этого сама идея Бога должна быть метапринципом творческого мышления, творческого процесса вообще.
Но в рамках самого сакрального творчества всячески подчеркивается относительность человеческих понятий Бога, Абсолюта, Единого. В конечном счете, все эти понятия лишь туманные и зыбкие тени реального Абсолюта. «Дао высказанное не есть истинное Дао», — говорил Лао Цзы. «В Коране — семь смыслов, — утверждал Джелалетдин Руми. — Первый открыт верующим, второй — святым, третий — пророку Мухаммаду, а четвертый — Аллаху. Но ведь есть еще три ступени». А Мейстер Экхарт, доминиканец, мистик и еретик, восклицал: «Бог — это свечка, освещающая в темноте наш путь. Но восходит солнце — и свечка уже не нужна. Поэтому она должна безжалостно быть отброшена в сторону».
На несколько секунд вновь наступила тишина. Мне вдруг показалось, что где-то тикают часы — старинные, неторопливые, с колеблющимся маятником. Они отсчитывают свирепые, лохматые секунды, похожие на проскакивающих в иное, вытянутых крыс. Я резко повернул голову налево, чтобы сбросить внезапное оцепенение, и передо мной промелькнула какая-то фигура в ярко-золотистом свете. Или мне это только показалось? В этот момент вновь заговорил ХИП:
— Прежде всего необходимо зафиксировать следующее: творчество как сила является процессом, организующим постоянно новую динамическую систему, включающую «субъекта» и «объекта». Существует в принципе бесконечная иерархия таких динамических эвристических систем, но…
— На этом этапе достаточно зафиксировать три основных типа такого рода эвристических динамических систем: созерцание, мышление, действие…
— Спасибо, Сюзанна. Я хочу еще раз напомнить тот ключевой образ, о котором уже говорил. Творческий процесс представляет собой силовое кольцо «субъекта» и «объекта», где «субъект» реагирует, воспринимает, познает, мыслит и т. д. «объект», а «объект», в свою очередь, реагирует, воспринимает, познает, мыслит, рефлексирует и т. д. «субъект».
Что означает в этом контексте созерцание? Это такая деятельность духа, которая замыкает в себе, сплавляет в себе интеллектуальную, чувственную, волевую сферы человека для того, чтобы создавать как реальность «объект» как бы изнутри этого «объекта» и как бы изнутри самого «субъекта». Иначе говоря, эвристическое кольцо перестает существовать извне, оно внутри того, кто уже перестал быть только «субъектом», и внутри «объекта», который уже перестал быть только «объектом», — это и есть новая творческая реальность.
Я повернулся к ХИПу. Мне вдруг показалось, что я уловил какую-то его мысль.
— Здесь необходимо зафиксировать два очень важных момента. Существуют различные по напряженности, по своей наполненности, по своим субъективным результатам потоки созерцания. Это первое. А второе — при всех индивидуальных, личностных модификациях созерцания оно тем не менее едино в своей направленности, в своем каком-то глубоком целеполагании, в своем внутреннем движении к Абсолюту. Оба эти аспекта ясно выразил Платон: в действительно человеческом разуме, как солнце в капле росы, должно отражаться все мироздание с его гармонией, умом и душой. И высшим стремлением человека должно стать такое развитие собственного мышления, чтобы через усмотрение гармоний и круговоротов мира исправить круговороты в собственной голове… иначе говоря, добиться, чтобы созерцающее, как и требует изначальная его природа, стало подобно созерцаемому.
«Замечательно, — подумал я, — раньше ХИП не цитировал, тем более Платона». Но мне надо было продолжать:
— Перейдем к мышлению. Можно связать мышление с созерцанием таким образом: процесс, когда сознание как целое недвижимо, а изменяются в ритмическом движении его элементы, есть созерцание, а мышление есть внутреннее изменение целостного сознания. Мышление предполагает дуализм «субъекта» и «объекта», который затем отражается, скажем, в дуализме внутренней структуры самого мышления.
Перу Фа Цзана, одного из крупнейших чань-буддистов эпохи Тан, принадлежит трактат «Очерк о золотом льве»: «…лев целиком сделан из золота, все его части (ухо, ноги, хвост и т. д.) состоят из того же однородного золота. Значит, из каждого кусочка золота, из которого состоит либо глаз, либо ухо, можно сделать целого льва. Все части льва, вплоть до его отдельного волоска, посредством золота включают в себя целого льва, и каждый из них проникает в глаза беспредельного льва, глаза — в уши, уши — в нос, нос — в язык, язык — в тело. В глазах, ушах, суставах льва, во всех его волосках — в каждом из них содержится лев. Все его волоски, имея в себе льва, одновременно тут же содержатся в одном волоске, значит, во всех волосках содержится бесконечное число львов. Все волоски, содержащие в себе бесконечное число львов, находятся в одном волоске».
Мы говорили о созерцании и о мышлении как формах проявления творчества как силы. Третьей формой является практическое, эвристическое действие в материальной среде. Создание архитектурного строения, скульптуры, художественного полотна и т. д. является примером расширения нашего динамического эвристического кольца. Связь субъекта с объектом в этом случае настолько расплывчата и эфемерна, что субъект вынужден создавать подобие объекта. При этом чем выше креативный потенциал субъекта, тем острее и явственнее ощущает он различие между материальным подобием объекта и самим объектом. Например, у подлинных мастеров живописи удельный вес незавершенных работ крайне высок — порой до 75–90 процентов от всего количества работ.
…Я решил выпить кофе. Но на столике чашки не оказалось. Я стал внимательно шарить глазами по комнате. И неожиданно осознал, что вокруг меня стоит какая-то неестественная, напряженная тишина. Сейчас трудно вспомнить, почему мне пришла в голову эта мысль, — но я словно вдыхал эту напряженность, притаившуюся в рельефных очертаниях вещей вокруг меня. Я вновь повернулся к машинам:
— Мы говорили о творчестве как некой всеобщей силе и кратко рассмотрели такие его условные элементы, как субъект, объект, предпосылки, процессуальность. Но теперь мы должны задать следующий вопрос: какова архитектоника эвристического процесса как силы или, иначе говоря, каков метаметод, объединяющий объекта с субъектом и связывающий действие, мышление и созерцание? Твоя точка зрения, Титан?
— Основным, а может быть, и единственным методом является игра. В «Ведах» сказано, что мир есть великий танец Брахмы. А Гераклит повторял: вечность есть играющее дитя, которое расставляет шашки, царство над миром принадлежит ребенку…
— А Плотин?
— Вот отрывок из второго трактата третьей «Эннеады»: «Когда люди, существа смертные, в стройном порядке сражаются, обращая друг против друга оружие, — они делают это, как бы забавляясь в пиррихе, — они обнаруживают, что все человеческие заботы — забавы детские. И они показывают, что и в смерти их ничего нет страшного, что те, кто погибнет на войне или в сражении, немного раньше получат то, что случится в старости, при этом скорее, чем обычно, уходя и приходя вновь. Если, скажем, лишить их при жизни имущества, они могут понять, что и прежде оно им не принадлежало. И когда другие завладевают им, их приобретение смешно, раз еще кто-то может похитить его у них. А если у них и не отнимут, то для них приобретение окажется хуже отнятия. И как будто на сцене театра, так следует смотреть на убийство, и все смерти, и захваты городов, и похищения. Все это — перестановки на сцене и перемены облика и плачи и рыдания актеров. Ведь здесь, в отдельных проявлениях этой жизни, не внутренняя душа, но внешняя тень человека и рыдает, и печалится, как на сцене, по всей земле, повсюду устраивая себе театральные подмостки. Действительно, таковы дела человека, который считает жизнью только то, что в этой низшей и внешней сфере, и не знает, что, проливая слезы и пребывая в заботах, он — что дитя играющее. Ведь только с помощью того, что в человеке серьезно, следует серьезно же заботиться и о серьезных делах».
— Иначе говоря, игра имеет некий внутренний тотальный смысл и характер, в этой игре есть нечто предельно важное и серьезное, по сравнению с чем даже внешняя жизнь человека второстепенна, необходимо относиться к этой игре предельно ответственно, наконец, в человеке есть нечто, что позволяет ему отстраняться от игры и видеть ее как бы со стороны.
— Игра как образ эвристического процесса характеризуется спонтанностью и непосредственностью, эмоциональной, волевой, интеллектуальной вовлеченностью, когда все эти три элемента представляют собой нечто целое. Можно говорить о целостности и единстве действительно вовлеченного в игру игрока. Наконец, игровая ситуация предусматривает некое единство игрока и игры.
— Я хочу добавить вот что еще к образу игры как всеобщей модели эвристического процесса: ключевым принципом игры является принцип аналогии.
— Ну а в чем заключается внутренняя система, внутренний механизм игры вообще, если она основана на принципе аналогии?
— Игра как эвристический процесс — это спонтанное самоконструирование при помощи определенных образов. Различных типов образов, по крайней мере, пять: чувственные образы, то есть образы, порождаемые органами чувств; дискретные (формально логические) понятия — например, стол (вообще); мифологические образы, которые содержат в себе слитые, диалектические противоположности — например, образы богов-олимпийцев; порождающие метаобразы например, принцип бинарности или образ геометрической пирамиды, образ Абсолюта (Бог).
Внутренняя система эвристических процессов включает три основных элемента.
Количественное и структурное расширение пространства данного типа образов (сначала чувственные, затем дискретные, потом мифологические и т. д.). Речь идет о процессе расширения и управления этим расширением соответствующей области образов. Например, без определенной насыщенности структуры индивидуального поля чувственными и дискретными образами невозможно эффективное развитие поля мифологических образов и т. д.
Ориентированная индивидуализация метода восхождения по этим пяти уровням образов, или направление конкретного разума на разработку индивидуальной системы восхождения.
Комбинирование уровнями образов, вплоть до оперирования образами различных уровней одновременно и вместе. Такая потенциальная возможность основана на том, что не только на каждом из уровней, но и в каждом индивидуальном, конкретном образе есть все остальные уровни, и потенциально вообще вся бесконечная множественность образов.
— Но я хотел бы добавить вот что: Нагарджуна говорил о развитии гармонии как критерии развития вообще. В этом смысле творчеству как силе противостоит абстрактное нечто, что можно объединить под понятием «сложность». Сложность просто как негармония есть неопределенность. Но действительная сложность является вызовом творчеству как силе. Может быть, именно на это намекает Чжуанцзы: «Все вещи живут, а корней не видно… Все люди почитают то, что они знают, но не знают, что такое знать, опираясь на то, что они не знают… Разве нельзя назвать это Великим изумлением?»
…Это произошло тогда, когда… с Аркселаем я во второй раз приехал в Фивы. На следующий день после приезда я пошел в Карнакский храм. Аркселай благополучно заснул, хотя я ему и сказал, что опасно спать на заходе солнца. Но он начал резво и радостно жестикулировать, время от времени поглаживая брюхо. Я отвернулся. Когда-то, еще до моего рождения, отец велел отрезать ему язык за то, что тот много болтал на торгах.
С трепетом я вхожу в храм. Не сумрачные, огромные фигуры безмятежных в своем посмертном спокойствии фараонов влекут меня сюда. Прошлый раз случилось вот что: я оказался в зале с массивными колоннами, покрытыми сверху донизу иероглифами. Я долго обходил колонну за колонной, чуть притрагиваясь к шероховатой поверхности. Я искал нечто, время от времени я натыкался на чуть заметные углубления в камне, откуда мягко и нежно истекало тепло. Потом я почувствовал неожиданную усталость, присел у одной из колонн и заснул. Я не могу выразить то, что ощущал и видел во сне…
Я вновь хотел ощутить это пространство колонн, которые, казалось, уходили в неведомую глубину сквозь массивные плиты, на которые их поставили когда-то неизвестные жрецы.
Солнечные лучи, словно в блекнущем, но напряженном танце, освещали в последнем предзакатном усилии верхние части притягивающих меня колонн. Мне вдруг показалось, что отдельные лучи, извиваясь, проникают вниз, словно вспыхивая изнутри в отпечатках туманного египетского духа В глазах кольнула резкая боль. Я опустился на каменную подушку колонны и долго протирал гулко пульсирующие веки. Когда наконец боль отступила, я не удивился, увидев перед собой старого египтянина в иссиня-белой одежде жреца. Он пристально смотрел на меня, и я чувствовал жжение в верхней части живота.
— Мир, в котором мы с тобой здесь, — это загадка. И эта каменная колонна тоже загадка Ведь ты пришел сюда не по своей воле, тебя притянула сила, порождаемая загадкой.
Я ощутил уже сильную резь в животе и снова прикрыл глаза. Когда я взглянул на него, он сидел, выпрямив спину и сжав губы. Но я чувствовал и видел его мысли, ибо обращены они были только ко мне.
— То, на что ты смотришь, это еще не все, что здесь есть. В мире есть намного больше. Фактически до бесконечности. Когда ты пытаешься объяснить себе все это, то на самом деле ты пытаешься сделать мир знакомым. И я и ты прямо здесь, в мире, который называют реальным, находимся просто потому, что мы оба знаем его. Но ведь есть миры внутри миров, прямо здесь, перед нами. И об этом рассказывают эта колонны.
Он замолчал и опустил голову. Так просидел он некоторое время, не шелохнувшись. Он мне казался и очень знакомым, и бесконечно незнакомым. Затем он вновь заговорил:
— Мир — необъятен. И ты никогда не сможешь понять его. И никогда не разгадаешь его тайны. Поэтому относись к нему как к тому, что он действительно есть — как к чудесной, прекраснейшей загадке!
Твой отец не смог этого. Мир так и не стал для него загадкой. И потому, когда он приблизился к староста, он убедился, что не имеет больше ничего, чтобы жить. Но он не исчерпал мира. Он исчерпал только то, что делают люди.
Вещи и поступки, которые делают люди, являются щитами против сил, которые их окружают. То, что они делают как люди, дает им некое удобство и осязаемое чувство безопасности. И можно сказать, что то, что делают люди, очень важно, но только как щит. И многие никогда не знают, что все, что они делают как люди, это только щиты. И люди позволяют этим щитам господствовать и пожирать их жизни.
Вещи, которые делают люди, ни при каких условиях не могут быть важнее, чем этот мир, священная загадка. Пока ты чувствуешь, что являешься самой важной вещью в мире, ты не можешь в действительности воспринимать мир вокруг себя, как он есть.
Научись относиться к миру как к бесконечной, изумительно чистой тайне, а к тому, что делают люди, как к бесконечной глупости! Научись, если ты можешь!
И помни, что мир не дается тебе прямо. Между ним и тобой находится описание мира, которое ты считаешь своим, но это не так. Люди всегда на один шаг позади мира, и их восприятие мира всегда только неполное воспоминание о своем восприятии.
Мне показалось, что я слышу какие-то голоса сверху. Но не было сил взглянуть вверх или по сторонам. Колонна передо мной начала медленно вращаться, и клинописные рисунки словно плыли в каком-то медленном танце…
— Ищи и смотри на чудеса повсюду вокруг тебя. Но для этого перестань глядеть на одного себя, ибо усталость от такого глядения делает тебя глухим и слепым ко всему остальному. И успех будет с тобой, если ты пойдешь к Знанию так же, как истинный боец идет на войну, на свидание со своей смертью — полностью проснувшись, с достоинством и абсолютным спокойствием.
Я странным образом ощущал одновременно, как быстро смеркается и насколько вне этого пространства жрец, сидевший с мертвеющими чертами лица и сжатыми губами. А между тем что-то вспыхивало и стучало во мне, словно был я самой пустотой:
— Знание не имеет никакого смысла, если это не сила. Но знание становится силой только в определенной последовательности: сначала глубокое желание, затем — процесс испытания жизнью, затем — беспредельная уверенность, и только потом — сила.
Но помни — ты не можешь на этом пути жаловаться или сожалеть о чем-нибудь. Твоя жизнь — кольцо испытаний, бесконечный вызов, а вызовы не могут быть плохими или хорошими. Обычные люди принимают все или как благословение, или как проклятье. Ты должен принимать все как вызов.
Но это будет невозможно, если ты не откажешься от своей личной истории. Твою историю жизни знают некоторые друзья, родственники, знакомые. И ты, общаясь с ними, действуешь в соответствии с их представлениями о тебе. Но это разрывает тебя. Отказаться от личной истории — сделать себя свободным от обволакивающих мыслей других людей. И это первый шаг к знанию: «Как я могу знать, кто я есть, когда я есть все это».
Мало-помалу ты должен создать туман вокруг себя. Ты должен стереть все вокруг себя до такой степени, чтобы ничего нельзя было считать само собой разумеющимся.
Не принимай вещи как само собой разумеющееся. Начни с простого. Никому не говори, что ты в действительности делаешь. Помни, что абсолютная независимость — быть неизвестным.
Ты должен просто показывать людям то, что ты найдешь нужным им показывать, но при этом никогда не говорить точно, как ты это сделал…
* * *
…И несколько раз… видел я воочию светоносные призраки Гекаты и общался с ними. И говорили они о мире как детской игре богов. Ведь неистощима их творческая мощь, и нескончаем смех богов, ибо слезы их относятся к промыслу о вещах смертных и подверженных року, являясь то существующими, то несуществующими знаниями. Смех же относится к универсальным и вечно тождественно движущимся полнотам универсальной энергии. Поэтому слезы — удел человека, а смех неотделим от божественной сущности и, более того, является ее квинтэссенцией.
И открылось мне во сне, что я, Плотин, — звено в Гермесовой цепи.
II Путь, начинающийся здесь и сейчас…
Любовь к Единому есть действительное начало истинного бытия и истинного познания
Я — жемчуг, в раковине скрытый. Я — мост, ведущий вверх и вниз. Так знайте, что, с таким богатством, Я в лавки мира не вмещусь. Поглубже загляни в мой образ И постарайся смысл понять: Являясь телом и душою, Я в душу с телом не вмещусь. Хоть я велик и необъятен, Но я — как ты, я — человек, Я сотворение Вселенной, Но в сотворенье не вмещусь.Абсолютно все бытие — и как максимально универсальное, и как максимально индивидуальное — сконденсировано, сосредоточено, живет в единственной и неповторимой точке — в человеке.
Восходи к самому себе и смотри. Если ты видишь, что сам ты еще не прекрасен, то подобно тому, как творец изваяния одно удаляет, другое отделяет, одно сделает гладким, другое очистит, пока не проявит на статуе прекрасную наружность, — таким же образом и ты удаляй излишнее и выпрямляй все кривое. Очищая темное, делай его блестящим и не прекращай сооружать свою статую до тех пор, пока не воссияет тебе боговидное блистание добродетели, пока ты не увидишь, что целомудрие восседает на священном престоле. Если ты находишься в таком состоянии и видишь самого себя и в чистом виде встретился с самим собою, не имея уже никаких препятствий к тому, чтобы быть в таковом единении с самим собою, равно как и не имея ничего, что, будучи чуждым, примешивалось бы к самому тебе внутри, но будучи всецело только истинным светом, и если ты увидел, что ты стал таким, достигшим уже этого состояния, то — возмужайся о себе и воспрянь уже отсюда, не нуждаясь больше ни в каком руководителе.
Человек — свободен, но эта свобода предписана ему самой судьбой. И человек с ног до головы связан необходимостью, но эта необходимость есть только результат его собственной личной свободы, его ничем не укротимой дерзости.
…Отправная точка для истинного мышления находится везде… Ведь любая мысль должна в потенции своей содержать все мысли, все образы, все представления. Но почему в обычной, повседневной жизни все это не так? Почему жизнь людей, их мышление, чувства расколоты, очень часто враждебны друг другу? А потому, что в сущности своей человеческие души находятся в состоянии отчуждения от самих себя и от своего источника. Отсюда — и дальнейшее отчуждение людей в мире чувственных вещей. Однако такое состояние души возникает вследствие коренной, глубочайшей воли к обладанию самим собой. Заблуждения этой воли, ее дерзание в свободном владении собой ведут к забвению душой своего источника, а затем и отчуждению от самого себя.
— Но можно взглянуть на это и с другой стороны. Человек — это исходный интуитивный образ целостности ощущаемого и ощущающего, чувствующего и чувствуемого, мыслящего и мыслимого. И это — целостность, которая невозможна без стремления к единству, которое в ней же и содержится. В этом только смысле человек и есть мера всех вещей.
Но есть ведь и личностный аспект. Ты, Плотин, тоже одновременно ощущающее и ощущаемое, чувствующее и чувствуемое, мыслящее и мыслимое в себе самом. Ты это есть, и ты это знаешь. Но одновременно ты знаешь, что ты не есть все это. Что ты иное. Но иное, которое тоже в тебе. То есть ты, некая уникальная неповторимость, — это целостность множества ощущений, чувств, мыслей, но ты такая целостность, которая невозможна без единства, которая к этой целостности не сводится. Но это единство нечто тождественное для всего в мире, бытии, сущности…
— Так. Все люди — это разные и очень важные воплощения некой истины, — так же как и ты, поскольку ты именно человек, а не бог, например, или низший даймоний. Именно поэтому ты вдруг увидел, что Порфирий хочет уйти из этой жизни, и отговорил его от такого неразумного шага — именно потому, что в данной жизни ты человек…
Подобно тому, как во Вселенной одни вещи только управляют, как, например, божественные, другие — и управляют и управляются, как, например, человеческие, а именно — они и управляются божественными силами, и управляют сами неразумными животными, третьи же — только управляются, как, например, неразумные животные, точно так же и в человеке, который есть микрокосм, наблюдается то же самое. И в человеке одни части только управляют, как разум, другие же повинуются и управляют, как сердце… Третьи же только повинуются, как вожделение. Но размышляя о человеке как существе многосложном, состоящем из разных частей, надо спросить прежде всего: кому — в человеке — принадлежат чувственные ощущения, представления, образы, мышление, интуиция? Обычный ответ на этот вопрос заключается в том, что это и есть душа. Могу ли я согласиться с этим мнением?
— Нет, и вот почему. Ведь такую душу можно понимать двояко. Либо она совершенно отличается от Всеобщей Души мира, и тогда она есть только нечто, связанное с телом. Или же она полностью принадлежит этой Всеобщей Душе.
Если душа человека — неотъемлемая часть Универсальной Мировой Души как принципа жизни всей Вселенной, всего космоса, тогда она бессмертна и обладает врожденной, вечной активностью и не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Но в этом случае ей не нужно ничего бояться и ни перед чем быть смелой, ей нечего желать, скорбеть или радоваться. Ведь она себя саму определяет, не стремится ни к чему, не испытывает никакого недостатка и ничего не получает. У нее в таком случае нет ощущений и основанных на ощущениях представлений и мышления, так как ощущать — это значит воспринимать.
— На человеческую душу это совсем не похоже. Следовательно, человеческая душа, душа конкретного человека — цезаря, патриция, раба — отлична от Универсальной Души мира и каким-то образом связана с телом. Но эта связь души с телом, даже при поверхностном размышлении, может мыслиться, в свою очередь, двояко: либо тело — орган души, либо тело и душа образуют вместе некое новое соединение.
— Предположим, что тело — орган души. Но тогда, во-первых, ощущения такого органа вовсе не обязательно должны передаваться пользующемуся этим органом мастеру. А во-вторых, можно понять, как передаются впечатления от тела к телу, но совершенно непонятна передача состояний тела полностью отличной от тела душе. Итак, душа не получает от тела, как своего органа, впечатлений.
— Тогда остается другая возможность — тело и душа каким-то образом соединены…
— Но и такое соединение, в свою очередь, можно понимать, по крайней мере, трояко: как некую смесь, как некое сплетение, как новый воплощенный эйдос. Но смесь совершенно различных вещей, например, звука и линии, абсурдна и невозможна. А при сплетении вплетенное может и не испытывать того, что испытывает то, во что оно вплетено.
— Таким образом, тело и душа составляют некое новое явление. Как это происходит? Душа как принцип жизни как бы сообщает, дает, впитывает в тело свои функции, так что тело становится живым. И только тогда тело получает свои способности к ощущениям и аффектам. Представь соединение эйдоса меча с железом: при этом возникает меч. Вот так и душа создает из тела и истекаемого из нее как бы света своеобразную специфическую природу живого тела. Тело, освещаемое душой, есть лишь подобие, отражение души. Если опять вернуться к нашему примеру: эйдос меча — совершенен в себе самом, а совершенство материальных мечей лишь подобие этого эйдоса, потому ведь и не найти двух полностью похожих железных мечей.
— Итак, весь человек — живое существо. Но он одновременно есть животное существо, в котором соединены душа и тело. Ему принадлежат ощущения и аффекты, а истинный, внутренний человек, обладает и способностью к образным представлениям, мышлению, размышлениям, интуиции. Каждый из нас похож на существо, погруженное в той или иной степени в воду, остальной частью выдающееся из воды. Вот это последнее — истинный, внутренний человек.
— Чтобы пояснить это, возьмем такие суждения, как «я родился» или «я умер». Для того, чтобы эти суждения имели какой-нибудь смысл, — а они этот смысл имеют в глубочайшей степени, — необходимо, чтобы подлежащее и сказуемое в этих суждениях были отличны одно от другого и не совпадали в одном неразличимом тождестве. И получается, что «я» — это одно, а рождение или смерть — это совсем другое.
— Но что же такое тогда это «я», то есть само-то «я», которое мы называем «истинным человеком»? Какие бы предикаты мы ни приписывали «внутреннему человеку», этому «я», всякое новое суждение, здесь возникающее, обязательно предполагает какое-то отдельное существование какого-то «я», «истинного человека», которое не исчерпывается никакими предикатами. И почему это происходит?
— Потому что, хотя этот «внутренний человек» глубочайшим образом индивидуален, неповторим в этой конкретной жизни, в то же время он есть нечто единое со всем бытием, со всеми реальностями, со всеми богами, ибо он обращен на Нус и Единое. Все люди, и каждый из нас, обладают единым и нераздельным Умом, который тождествен и един повсюду в мире. Как индивидуальный ум, он, Нус, или Мировой Разум, находится во всей своей целостности в нашей разумной душе. Мы ведь и воплощение Всеобщей Души, которая, единая во Вселенной, распределяется во всем многообразии отдельных вещей и дел, отражается в них, как лицо во многих зеркалах, и освещает их.
— Ну а пороки, недостатки и ошибки, столь часто встречающиеся, присущи они «внутреннему» или «внешнему» человеку?
— Внешнему человеку, живому телу. Ведь ум, чистый ум в душе нашей по природе своей безошибочен. Наши представления и размышления бывают неправильны не вследствие недостатков ума, но потому, что мы, люди, не умеем ждать, спешим, суетимся, не ожидаем его решения, порой вообще не пользуемся им или не можем даже пользоваться разумом (часто не догадываясь о своей немощи), а отдаемся по привычке, по традиции, вследствие воспитания во власть телу, во власть многочисленных ощущений и аффектов, в ущерб мышлению. Можно сказать и иначе. В нашем внутреннем человеке мы должны рассматривать несчастья, смерть, войну, разрушения — как просто сменяющие друг друга сцены, драмы. Внутренний человек — актер, и когда он окунает в игру всего себя, он теряет характер, он размывается, забывается в этой игре. Внешний человек должен уметь подчиняться внутреннему. Это нужно и для того, чтобы жить с другими людьми и с самим собой одновременно. Человек как «внутренний, истинный человек», как высшее в душе, лично и безусловно ответствен за все, что он делает, вплоть до каждого отдельного поступка, и таким образом за все, что он претерпевает. «Внешний человек», живое тело как продукт необходимости временами ответствен, временами безответствен, он предпочитает оправдывать себя через обстоятельства, поступки людей, традиции, чужие ошибки.
Самая лучшая, самая совершенная жизнь — интуиция, созерцание, когда «внутренний, истинный человек» действительно мыслит и когда в нас, живых телах, действует во всей его полноте, совершенстве и единстве Нус.
— Но как этого добиться?
— Стремясь всегда к Единому. Сущность человека как таковая — это не состояние, а постоянный процесс, постоянное совершенствование, неуклонное восхождение, достижение предельной активности ума, приобретение состояния кристального, прозрачного созерцания.
Высшее назначение человека — через нравственное, волевое, интеллектуальное совершенствование не только стать похожим, подобным Добру, но слиться, стать самим Благом, Единым. Или, иначе говоря, речь идет вот о чем. Люди чаще всего интересуются тем, что для них лично является или может быть неким добром — индивидуальным благом. Но ведь добро, которое только для нас кажется таковым, может и не быть добром, благом самим по себе. Наше личное благо потому и может быть названо таковым, что оно, так или иначе, связано с Безусловным Добром как принципом, которое есть Добро не потому, что приятно, полезно лично для нас, а потому, что таково Оно в силу своей сущности, природы.
— Восхождение по пути, ведущему к такому безусловному Благу, Единому, — это путь, состоящий из пяти последовательных этапов. Первый из них — это культивирование, воспитание и самовоспитание общественных добродетелей. Их основных — четыре. Человек должен быть разумным — ему надо развивать свой рассудок. Он должен быть мужественным — это добродетель развивающейся воли. Развитие гармонии воли с рассудком укрепляет благоразумие. Наконец, справедливость выражается в том, что каждая из способностей человека должна гармонировать со всей целокупностью качеств этого человека. В той мере, в какой человек не обладает этими свойствами, этими добродетелями, в такой же мере он представляет собой неизвестно куда движущийся труп…
…Я чувствую, как самопроизвольно подергиваются веки. В закрытых глазах растет тупая, ноющая боль. Голос «того» исчез… Как бы некое ритмично вращающееся пространство — чеканная спираль появляется внезапно где-то в центре меня… Пространство медленно расширяется, растет, окутывает меня изнутри, выходит из меня, проглатывает мою пустую комнату. И словно живые и пластические разноцветные потоки из Космоса с огромной скоростью и с неведомыми по красоте звуками устремляются туда, где их всегда ожидают…
…По каменной дороге, ведущей на небольшой живописный холм, где среди ухоженной, аккуратной зелени возвышается дворец сиракузского тирана Дионисия, медленно поднимается широкоплечий человек в ослепительно белом хитоне. Рыжеватые волнистые волосы прикрывают его широкий ясный лоб. Прохладный морской ветер обвевает спокойное красивое лицо.
— Я рад тебя видеть у себя, Платон, — раздается гортанный голос Дионисия. Небольшого роста, с острым носом и настороженно-усталыми глазами, он пристально, чуть улыбаясь, смотрит на афинянина.
— Привет тебе, о Дионисий, — Платон наклоняется в приветствии. Они идут по прохладному дворцу — власть и разум.
Присев на низкую мраморную скамью, Дионисий молча приглашает Платона последовать своему примеру. Затем он делает знак рабу налить в кубки разбавленного сицилийского вина.
Платон прибыл на Сицилию из желания увидеть и самому почувствовать божественную силу огнедышащего жерла священной Этны. Что-то в глубине естества подсказываю, что он может встретить нечто очень важное, связанное с матерью-Землей именно здесь. А к Дионисию он явился, чтобы попытаться отринуть его от тиранической власти.
Платон оглядывается, искренне восхищаясь гармонической просторностью дворца, его великолепной открытостью космосу. Он ждет: ведь приехал он сюда в конечном счете все же ради Дионисия. Тиран сидит задумавшись. Вдруг словно тень пробежала у него по лицу. Он — полный забот, тревог и сомнений — чуть кивнул и медленно придвинул к Платону персидское блюдо с фруктами.
— Кто, по-твоему, Платон, истинный счастливец среди людей?
— Сократ.
Дионисий взглянул на своего собеседника. И хотя выражение его лица не изменилось, Платон почувствовал, что правитель Сиракуз раздражен. Дионисий знал о цели приезда афинянина.
— А в чем, по-твоему, задача правителя?
— В том, чтобы делать из подданных хороших людей.
Дионисий был умен, а потому презирал, хотя и не показывал этого, такие лицемерные рассуждения. Он бросил быстрый пристальный взгляд на умиротворенного Платона. «А иногда ты тоже бываешь смешон». Он отвернулся к морю — солнечные блики своим мерцанием как бы усыпляли теплую и ленивую воду. На мгновение Дионисию захотелось раствориться в этом призывном спокойствии моря. Но он быстро взял себя в руки и, улыбаясь, спросил:
— Скажи, а справедливый суд, по-твоему, ничего не стоит?
— Суд твой славится во всей Элладе своей справедливостью. Это так, и это известно и многими одобряется. Но я отвечу на твой вопрос так — ничего в конечном счете такой суд не стоит, или разве что самую малость, ибо справедливые судьи подобны портным, дело которых — зашивать порванное платье.
Дионисий поднес кубок к губам, но затем, раздумав, задал еще один вопрос:
— А быть тираном, по-твоему, не требует храбрости?
— Нисколько, ведь тиран — самый трусливый человек на свете: ему приходится дрожать даже перед бритвой цирюльника в страхе, что его зарежут.
Платон взглянул на замершего Дионисия. Нет, прикованный добровольно к власти, по-видимому, никогда не уразумеет, что рабом можно стать только по собственной воле.
Правитель Сиракуз словно стряхнул с себя оцепенение, встал и, выпрямившись, резко сказал:
— Я приказываю тебе сегодня до захода солнца покинуть остров. Иначе завтра ты уже не сможешь восхищаться восходящим светилом.
— Послушай, — опять я слышу беззвучный голос, — путь совершенства — это путь, в конечном счете, уподобления Единому, Благу, Неизреченному, но можно задать вопрос: присущи ли, например, Нусу общественные добродетели? Можно ли назвать его мужественным или благоразумным, ведь для него нет ничего страшного, и у него не может возникать желания иметь что-либо, поскольку у него все есть. Значит, Мировой Разум выше гражданских, общественных добродетелей? Но тогда последние совершенно бесполезны для уподобления.
— Почему же, в таком случае, людей с ярко выраженными общественными добродетелями зовут божественными? Не являются ли такими богоподобными Перикл, Сократ, Платон, Катон? Дело-то ведь в том, что сами общественные добродетели — подражание прообразам Нуса, умственной реальности, но сами эйдосы истинных добродетелей не есть то, что ниже их. В Мировом Разуме, Нусе, они существуют только как интеллектуальные прообразы, всеобъемлющие, чистые смыслы.
— Но как же происходит такое уподобление?
— Такого рода общественными добродетелями они становятся только тогда, когда реализуются душой человека в ее действиях и состояниях в чувственном мире, то есть активностью среди людей. При этом в них прежде всего находит отражение принцип меры в Нусе. А принцип меры — это то очень важное и существенное, что оформляет умственную, смысловую реальность именно как мир чистых смыслов и интеллектуальных, пластических моделей в противоположность мрачной, бессмысленной неопределенности, лишенной границ, предела и меры.
Ложные мнения, в которых размыт принцип меры, обезображивают и расстраивают наш ум, благоразумие удаляет их.
Беспорядочность желаний служит источником необдуманных действий, часто вредных — здравомыслие приводит их в соответствие с требованиями рассудка. Справедливость обеспечивает гармонию — эту высшую меру между всеми нашими поведенческими действиями. С упорядочивания желаний, с гармонии между душевными силами начинается всякое нравственное совершенствование. Потому-то общественные добродетели ограничивают и умеряют наши желания и аффекты, способствуют устранению ложных представлений и создают предпосылки для перехода ко второму этапу.
Второй, более высокий уровень совершенствования, — очищение. Душа пронизывает, оживляет тело и поэтому мыслит мир при его участии. Но она была бы действительно хорошей и действительно добродетельной, если бы представляла вещи и предметы не при его участии, а действовала бы одна, то есть мыслила интуитивно и разумно, чтобы она не аффинировалась вместе с телом — в этом выразилось бы ее благоразумие, чтобы она не боялась расстаться с телом, то есть была бы мужественной, если бы, наконец, ею управляли рассудок и ум, в чем проявилась бы справедливость, то есть исполнение своего долга. Итак, процесс уподобления Единому состоит в возвращении к интуитивному мышлению, в противовес дискурсивности, и в мышлении бесстрастном, а не под влиянием желаний.
— Но как возможно, и насколько, действительное очищение от желаний, страстей и обособление души от тела?
— Очищение происходит, когда душа концентрируется на себе, держит себя бесстрастно по отношению к внешнему и дает телу лишь самые необходимые чувственные наслаждения. Это происходит, когда душа устраняет, по возможности, желания и вообще не делает каких-либо предпочтений. Поэтому она и не боится ничего, внимая лишь предостережениям, знакам Мировой Души, а также и сама не желает ничего плохого.
Такая чистая душа делает чистой и неразумную часть, то есть тело, подобно тому как сосед мудреца извлекает пользу из своего соседства, становясь похожим на мудреца или стыдясь делать то, чего избегает хороший человек. Так становится человек нравственно безупречным и исправленным посредством очищения от телесного. Это и есть вторая ступень добродетельной жизни…
«…Отсюда можно заключить, что целомудрие, мужество и вся добродетель и сама разумность, как гласит древнее слово, есть катарсис. Поэтому правильно вешают таинства, что не подвергшийся очищению и в Аиде будет валяться в навозе. Ведь нечистое, вследствие порочности, дружественно навозу. Очевидно, подобно тому, как и свиньи, нечистые в отношении тела, радуются навозу.
Что же и есть истинное целомудрие, как не отказ от телесных удовольствий и избежание их как нечистых и относящихся к нечистому? Так, мужество есть отсутствие страха перед смертью. Но смерть есть отделение души от тела. Этого не боится тот, кто любит быть одним. Величие же души есть, как известно, презрение к здешнему. Разумность же есть мышление в обращении от низшего, ведущее душу к высшему. Поэтому очищенная душа становится эйдосом, совершенно бестелесной, умной и исполненной божественного, откуда источник прекрасного и все то, что с ним родственно…»
— Однако и очищение, по сути, еще не есть ведь истинная добродетель. Очищение есть устранение всего чуждого, но благо, добро — иное. В результате очищения грязь смыта, и душа, которая до рождения была прекрасной, вновь чиста. Таким образом, благо есть не само очищение, но то, что остается вследствие очищения. Строго говоря, даже и это нельзя называть благом, а лишь благообразием, так как душа неспособна даже после очищения пребывать в истинном благе, но склонна и к добру и к злу.
— Но тогда что же такое благо?
— Благо есть нечто большее — потребность пребывать вместе с Нусом, с высшей реальностью. Потому-то третья ступень восхождения и означает «обращение» души к смысловой реальности, к чистому уму, Нусу. Чтобы просветиться и действительно познать то, что в ней находится, душа должна приблизиться (но не в пространственном смысле слова) к просвещающему и суметь сравнить находящиеся в ней смысловые образы вещей с подлинными эйдосами. Сделать это душе достаточно легко, так как ум не противоположен душе, и в особенности когда она обращена на него. Таким образом, в результате созерцания душой ума наши добродетели выступают в следующих формах: справедливость — направленная на ум деятельность, благоразумие — внутреннее обращение души к уму, мужество — бесстрастие, разумность — созерцание ума.
Но более высокая задача истинного человека состоит не в отдельных, хотя и совершенных, добродетелях, а в том, чтобы уподобиться Нусу, «стать богом из свиты первого бога». Мировой Разум не обладает отдельными добродетелями, а является единым образцом, добродетель же присуща лишь душе, уподобляющейся уму. Так, мудрость и разумность, добродетель души, состоящая в созерцании ума, является не добродетелью, но подлинной деятельностью и сущностью ума. Справедливость, или исполнение своего дела, состоящая для души в деятельности, направленной к уму, для ума состоит в его единстве. Высшее благоразумие, внутреннее обращение души к уму для ума является обращением к самому себе. А мужество, бесстрастие или уподобление бесстрастному уму для души, для ума состоит в его тождественности с самим собой. Такова четвертая ступень…
«Следовательно, если душа, очищенная, возведена к уму, она есть в высшей мере прекрасное. Ум и исходящая от ума красота есть первоначальная собственность души и не чуждое ей, так как только здесь она и является душой в своем существе. Поэтому верно говорится, что душе становиться благом и прекрасным — это значит уподобляться Богу».
— Нус сказывается в людях прежде всего через добродетели, достигшие своего максимума, развитые в душе одновременно с развитием ума. Без истинных же добродетелей Бог на устах есть только одно бессмысленное имя. Но каковы необходимые средства для такого восхождения души?
— Скажу так: основные средства, необходимые для нравственного, волевого и в конечном счете интеллектуального развития трояки — любовь к музам, любовь сама по себе и любовь к мудрости.
— Но каким образом они связаны друг с другом?
— Например, тот, кто искренне любит музыку, легко возбуждается и увлекается красивым. Он всегда настроен к красивым звукам, стремится избегать негармоничного и диссоциирующего. Его постоянно влечет к ритму и гармонии, однако ему еще трудно находить красоту внутри себя. Он должен двигаться следующим путем: после восприятия звуков, ритмов и фигур нужно научиться абстрагироваться от материи, содержания. Необходимо сосредоточиться на отношениях и пропорциях как таковых между звуками и понять, что в конечном счете то, что его влечет, — умственная гармония и общекрасивое.
Следующий путь — любовь сама по себе. Любящий возбуждается видимыми им красивыми предметами, явлениями, слышимыми звуками, но неспособен увлекаться далеким и отвлеченным. Ему надо научиться видеть, что во всем этом есть одно и то же. Например, в прекрасных занятиях и прекрасных законах красота действительная находится в еще большей степени, чем в прекрасных вещах. Он должен привыкнуть любить красивое в бестелесном — искусствах, знаниях и добродетелях. После этого надо объединить все это и научиться восходить от добродетелей к уму и сущему…
«…Необходимо созерцать благодаря тому, с помощью чего видит это прекрасное душа, необходимо в созерцании радоваться, охватываться изумлением, пребывать в беспокойстве, — гораздо больше, чем на предыдущих ступенях чувственного восприятия, потому что тут уже прикосновение к истинному прекрасному. Это и должно стать аффектом в отношении всего, что только прекрасно, удивлением и приятным изумлением, вожделением, эросом и беспокойством, связанными с наслаждением. Это нужно пережить. И переживают это все души также относительно того, что, так сказать, невидимо, однако больше — те, которые из них более способны к любви. Это подобно тому, как и тело любят все, но мучаются не в равной мере. Есть ведь и такие, которые мучаются особенно. Их-то и называют любящими».
— Итак, первый путь, любовь к музам, ведет к общекрасивому, любовь сама по себе ведет к бестелесно прекрасному. Высший путь — любовь к мудрости.
— Основа любви, стремления к мудрости — математика и диалектика. Цель математики — приучить к интуитивному размышлению и доверию к нематериальному. Диалектика же единственно позволяет определять отдельное явление, выявлять отличие его от других и общность с ними, а также и то, где оно находится, является ли оно сущностью реальностей и ирреальностей. Она трактует о благе и неблаге, о вечном и невечном, и притом объясняет это не на основании субъективных представлений. Преодолевая чувственное и обосновываясь на умственном, диалектика служит для различения эйдосов, смыслов и определения сущности и первых родов, выводит из них весь умственный мир, возвращаясь затем обратно, посредством анализа, к началу. Диалектика черпает свои очевидные принципы из ума и является самым глубоким нашим внутренним свойством, относящимся к Уму и Неизреченному.
Вообще диалектика есть самая ценная часть жизни. Те, кто считает диалектику только орудием философии, ошибаются: она не совокупность голых положений и норм, но такая наука, предмет которой действительная живая, бурлящая реальность. Именно в этом смысле говорил Гераклит Эфесский: «Единая мудрость — постигать Знание, которое правит всем через все». Потому-то диалектика и является той основой, от которой зависят другие части философии: учение о природе и учение о нравах.
— Итак, сойдемся на том пока, что истинный, внутренний человек — это его душа, которая должна путем совершенствования, развития добродетелей уподобиться высшей реальности, уму. Необходимые средства для этого — созерцание красивого, любовь и диалектика. Иными словами, человек может взойти к истинно реальному через созерцание красивого, любовь к красивому и размышления над красивым, идя от непосредственно данного красивого явления к общекрасивому, от телесно красивого к бестелесно красивому и, наконец, к умственной красоте и истинно реальному. Нравственное, волевое, интеллектуальное и эстетическое совершенствование — по своей глубочайшей сути — единый процесс.
— Но прежде всего надо спросить себя: как не надо мыслить красоту? Нужно согласиться: красота не является абсолютным качеством тела. Ведь одно и то же тело один раз красиво, а другой раз нет. Поэтому ясно, что быть телом и быть красивым — не одно и то же. Обычный человек, например, в одном случае может часами любоваться форумом Нервы, но в другом случае, если он возбужден или углубился в себя, он пройдет мимо творения Рабириуса, даже не заметив его. Но ведь форум и в том, и в другом случае один и тот же.
Не надо мыслить красоту и как симметрию частей относительно друг друга и целого. Тогда красивым могло бы быть только сложное, а части, сами по себе, не были бы красивы, что, конечно, неправильно, так как красивое всегда состоит именно из красивых частей. Кроме того, разве не красивы многие простые явления, как, например, солнечный свет, золото, молния ночью? Наконец, часто одно и то же лицо один раз красиво, а другой — нет, хотя симметрия остается прежней. А что понимать под симметрией прекрасных занятий, законов, наук, знаний, теорем?
Как могли бы быть симметричными друг в отношении друга предметы знания? А если это надо понимать в смысле некой согласованности, то согласие и согласованность может существовать и в плохом. Например, утверждению «стыдливость есть глупость» согласно, созвучно и взаимно соответствует утверждение «справедливость есть благородная тупость».
— И как можно говорить тогда о симметрии как красоте по отношению к добродетелям, которые лишены математических определений? Как понимать тогда красоту находящегося в одиночестве ума?
— Таким образом, красота — это не симметрия и не абсолютное качество тела.
— Что же такое, на самом деле, красивое?
— Существуют определенные предметы, которые уже при первом взгляде на них опознаются, воспринимаются в качестве прекрасных. О них душа говорит как об известном, она их как бы принимает как прекрасные, и в отношении к ним она как бы приходит в гармонию. Когда же душа встречается с безобразным, она от него отворачивается, его отрицает, отказывается от него, не согласуясь с ним и отчуждаясь от него. Душа как она есть сущая по самой своей природе, и, относясь к лучшей сущности среди существующего, когда увидит что-нибудь родственное или след родственного, она радуется, беспокоится, возводит к себе самой и вспоминает о себе самой и о принадлежащем себе.
— Итак, красивое объясняется неким сходством чувственных вещей, явлений и т. д. с прекрасными смыслами, эйдосами в умственной реальности. Но как же воспринимать это сходство?
— Давай прежде всего рассмотрим, что такое безобразное. Абсолютно безобразно — все бесформенное, то неопределенное, что служит для восприятия эйдосов. Например, абсолютно безобразна, и потому безобразна чистая неизвестность, если ты сможешь представить себе эту неизвестность без понятия, то есть без образа «неизвестности».
Но безобразно также и то, что еще не побеждено смыслом, когда материя не поддалась окончательному оформлению через эйдос. Поэтому привходящий в материю эйдос упорядочивает путем объединенного полагания то, что из многих частей должно стать неделимым единством, приводя к одному определенному свершению и имея своим созданием это единство при помощи согласования, что сам он был единичен, и единичностью должно было стать и оформляемое через него, поскольку это возможно для последнего как состоящего из множества частей. Отсюда и водружается в нем красота, когда только оно приведено к единству. И в этом случае красота отдает себя саму и частям и целому.
Когда же эйдос попадает на то, что уже едино и состоит из подобных друг другу частей, он передает себя самого только целому, а в других случаях искусство может придать красоту иногда всему зданию, включая отдельные части, иной же раз тому или другому одному камню.
— Красивое познается направленной на него способностью воображения души. Само суждение о красоте возникает посредством сопоставления предмета или явления с находящимся в душе эйдосом, который служит как бы нормой.
— И такое сопоставление тела с тем, что существует до тела, не должно казаться странным. Конечно, например, построенное здание, если отделить камни, и есть не что иное, как внутренний эйдос, раздробленный внешней материальной массой, однако проявляется он во множестве как неделимый. Поэтому всякий раз, когда чувственное восприятие увидит, что эйдос, находящийся в телах, связал и победил природу, по своей бесформенности ему противоположную, и увидит форму, изящно возвышающуюся над другими формами, — оно, это восприятие, объединяя собранную здесь самое множественность, возносит и возводит во внутреннюю сферу, уже неделимую, и дарит он эту множественность как созвучную ей, согласованную с ней и ей любезную. Это подобно тому, как благородному мужу приятны следы добродетели, проявляющиеся в юноше и созвучные с его собственной внутренней истиной.
— Итак, когда внутренний человек осознает в телах образ эйдоса, связавший и преодолевший бесформенную природу, он начинает созерцать этот эйдос во всей его цельности и сопоставляет его с его воплотившимся образом, то есть логосом данного тела, вещи. Красота цвета есть преодоление мрака в материи, выражение присутствия имматериального света, логоса. Также существуют скрытые гармонии звуков, создающие слышимые гармонии и измеряемые особыми числами. Что такое чувственно красивое? Оно — образы — и тени, которые как бы делают вылазку в материю, украшают ее и восхищают нас.
— Но попробуем обратиться к красоте занятий, наук и тому подобному.
— Как нельзя передать словами чувственно красивое тем, кто никогда, подобно слепорожденным, не видел его, так и в данном случае нужно самому увидеть, что образ справедливости и благоразумия прекрасней одинокой утренней звезды. Надо самому испытать изумление, сладостное потрясение, страстное желание, любовь и неведомое волнение перед всем, что красиво, в том числе и перед невидимым. По отношению к прекрасным занятиям, прекрасным характерам и внутренней красоте души мы испытываем необычный подъем и стремимся действительно сблизиться со всем этим, освободившись от тела, его влияний и привязанностей.
— Но все же, почему должно любить такую душу и называть ее красивой?
— Давай для этого сначала спросим, что такое по-настоящему безобразная душа. Такая душа порочна, потому что полна массы иллюзорных желаний и постоянного беспокойства, трусливых страхов и мелочной ненависти. Она предпочитает думать о преходящем, смертном и низком, она — абсолютно искажена и потому не только живет полной телесной жизнью, но и наслаждается своим безобразием. А почему? Такая душа не только погрузилась в тело, материю, но и подчинилась телесному, материальному. Душа же, отделенная от вожделений, которые она желает через тело, отказавшаяся от прочих страстей и очистившаяся от того, что она имеет в сочетании с телом, и будучи только одна, слагает с себя все безобразное. Именно то безобразное, что, по сути, порождено другой природой. Очищенная душа становится эйдосом, абсолютно бестелесной, умной и занятой божественным, источником красивого. Ум и то, что от него, есть собственная красота души, и душа, становясь доброй и красивой, уподобляется Единому, Неизреченному, ибо сущее есть добро и красота.
— Итак, красота, в себе тождественная с благом, и есть Благо. От нее ум — просто красивое, а душа красива умом. Следствием формирующей деятельности души является прекрасное в делах и занятиях. Наконец, и тела и вещи красивы благодаря душе. Душа, освещаемая светом Красоты и являющаяся как бы частью красивого, делает красивым и то, с чем соприкасается и что преодолевает.
— Таким образом, красивое в чувственных вещах есть лишь образ, след и тень, а потому люди должны спешить к тому, образом чего он является. Иначе они будут столь похожи на Нарцисса, который, захотев уловить свой прекрасный образ в воде, погрузился в глубь источника и исчез. Так и тот, кто привяжется к красивому телу, погрузится душой в темную и ужасную для ума глубину и будет жить слепым в общении с тенями в аду.
— Человека, стремящегося к совершенствованию, ждет плавание, наподобие Одиссея, бежавшего от волшебницы Калипсо, — как говорит Гомер. Здесь есть и скрытый смысл — ведь не пожелал Одиссей остаться, хотя и был весьма привержен чувственной красоте и чувственным удовольствиям.
Душа такого человека должна будет постепенно привыкнуть созерцать прекрасные занятия, затем прекрасные дела и, наконец, производящие эти дела души. Но как глаза такого человека никогда не увидели бы великого солнца, если бы сами они не были солнцеподобными, так и душа его не увидит красивого, если она сама некрасива. Поэтому тот, кто хочет созерцать истинно красивое, должен сперва стать весь подобным ему, то есть красивым.
— Стремление к красоте, любовь и диалектика — три основных средства для очищения человека от чувственного, телесного, иллюзорного. Это три пути уподобления Неизреченному, Единому посредством восхождения через красивое к Мировому Разуму. Лишь жизнь, обращенная к Нусу, — жизнь настоящего, внутреннего человека. Но какова же связь этой жизни с счастьем?
— Жизнь вообще уже есть потенциальное счастье, а актуальное счастье есть абсолютная и совершенная жизнь. Человек обладает способностью к совершенной жизни, если, кроме чувственной жизни, стремится к Уму. А потому-то счастье пропорционально совершенству человека, то есть его умственному развитию.
— Но ведь хорошая жизнь как деятельность, сообразная гармонии целостной природы, удел не только человека, но решительно всего живого. Ведь все живое способно к максимальному выполнению своего дела…
— Да, например, певчие птицы находят в пении и удовольствие, и конечную цель своего природного стремления. Обладают счастливой и хорошей жизнью и растения, если они приносят плоды, все равно, будем ли мы понимать под счастьем и хорошей жизнью удовольствие, или безмятежность, или природосообразную жизнь. В этом смысле счастье — это вообще жизнь, и все живое способно к счастью…
— Но растения не обладают счастьем, так как они его не чувствуют, а животные не могут оценить счастье как благо. Оценку эту производит ум. Следовательно, счастье недоступно не только растениям, но и животным. Счастье заключается во все более умственной жизни, и мышление ценно не как средство для достижения самых естественных благ, но как нечто, что есть высшее…
— Рассуждая таким образом, ты отождествляешь счастье только с рассудочной жизнью, делаешь субъектом счастья лишь часть жизни, а не жизнь как целое. Но это неверно. Жизнь есть единое целое, по-разному, но необходимо проявляющееся в своих частях, а не части эти в своей совокупности составляют жизнь. Это особенно важно. А потому счастье — жизнь как целое, и потенциально счастливо все живое. Но актуально счастье принадлежит лишь тому, кто живет настоящей, полной, абсолютной жизнью, чья жизнь — совершенная жизнь. Благо возможно и для растений, и для животных, и для людей, но форма его, проявленность его, уровень реализованности его неодинаковы. Благо доступно для всех существ, потому что все живут, но форма жизни не у всех одна и та же. Иначе живет растение, иначе — животное. Совершенная жизнь ведет к совершенному благу, так что существо, обладающее всесовершенной жизнью, будет обладать и совершеннейшим благом. Существа, пользующиеся тенью жизни, будут обладать только подобием добра.
Если потенциально счастье доступно растению, животному, любому человеку как живому существу, то актуально счастлив лишь тот человек, который живет истинным умом. По-настоящему счастливый человек тот, который совершенствуется, кто чувствует, что он совершенствуется, кто понимает, что он не может не совершенствоваться, кто созерцает свой путь совершенствования.
— Но тогда можно сказать, что всей полнотой совершенной жизни человек начинает обладать лишь тогда, когда он проникнут всепоглощающей любовью к мудрости. И это максимальная активность человека, это — самая совершенная жизнь, это — действительная жизнь, а не подобие жизни.
— Разумная жизнь человека может достигнуть развития только в том случае, если он обладает способностью общаться с Мировым Разумом, когда его ум является как бы самим воплощением всей высшей умственной реальности, всего Нуса. Следовательно, если человек способен достигнуть высшего блага совершенной жизнью своего ума, то это происходит не потому, что он обладал им непосредственно, что он производил его из недр собственной природы, а потому, что жизнью ума своего может стать участником в высшем благе.
Там, на высших ступенях совершенствования, открываются самые могучие источники жизни: любовь к Красивому и любовь к Истинному. Там, на этих высших ступенях совершенствования, человек через красоту и мудрость идет к высшему добру. Без любви к Высшей красоте и без стремления к Высшей истине нет настоящей, совершенной жизни, нет действительного счастья.
— Таким образом, счастье и процесс совершенствования — понятия равнозначащие. Отсюда следует, что счастье принадлежит внутреннему, истинному человеку и не зависит от внешних благ.
— Диоген из Синопа понял это, когда как-то случайно увидел пробегавшую мышь. Мышь стала символом, ибо она не нуждалась в подстилке, не пугалась темноты и не искала никаких мнимых наслаждений. Между прочим, именно Диоген первый из эллинов стал складывать вдвое свой плащ, потому что ему приходилось не только носить его, но и спать на нем. Он постоянно носил суму, чтобы хранить в ней пищу, и всякое место было ему одинаково подходящим и для еды, и для сна, и для беседы.
Жил он в глиняной бочке при храме Матери богов. Однажды, когда он лежал и с наслаждением грелся на ласковом весеннем солнце, к нему подошел с несколькими своими друзьями Александр. Остановившись над Диогеном, он сказал: «Привет тебе, о великий Диоген. Я уже наслышан о твоей необычайной мудрости. Но у всех, даже у мудрецов, есть какие-то желания. Что может сделать для тебя Александр?» Диоген лениво почесал мозолистую, в буграх, пятку и, даже не взглянув на македонянина, произнес великие с тех пор слова: «Отойди, царь, не заслоняй мне солнца».
— И он часто говорил, между прочим, что никакой успех в жизни невозможен без упражнения, оно же в конце концов все превозмогает. Само презрение к наслаждениям, повторял он, становится высшим наслаждением. И как люди, привыкшие к жизни, полной наслаждений, страдают при иной судьбе, так и люди, приучившие себя к иной жизни, с наслаждением презирают само наслаждение.
— Аммоний рассказывал, что, по словам Диогена, люди соревнуются, кто кого столкнет пинком в канаву, но никто не соревнуется в искусстве быть прекрасным и добрым. Он искренне удивлялся, что грамматики изучают бедствия Одиссея и не ведают своих собственных. Музыканты ладят струны на лире и не могут сладить с собственным нравом. Математики следят за Солнцем и Луной, а не видят того, что у них под ногами. Риторы учат правильно говорить и не учат правильно поступать. Наконец, скряги ругают деньги, а сами любят их больше всего.
Аммоний говорил также о том, что Диоген осуждал тех, кто восхваляет честных бессребреников, а сам втихомолку завидует богачам. Его сердило, что люди при жертвоприношении молят богов о здоровье, а на пиру после жертвоприношения объедаются во вред тому же здоровью. Он удивлялся, что рабы, видя обжорство хозяев, не растаскивают их еду. Он хвалил тех, кто хотел жениться и не женился, кто хотел путешествовать и не поехал, кто собирался заняться политикой и не сделал этого, кто готовился жить при дворе и не решался.
— Однажды ему шутя сказали: «Диоген, многие твои сограждане смеются над тобою». А он ответил: «А над ними, быть может, смеются ослы. Но как им нет дела до ослов, так и мне нет дела до них».
— И пример с Диогеном показывает, что совершенная жизнь — это в себе сосредоточенная жизнь. Внешние «блага», как бы звучно и пышно они ни обосновывались, не имеют никакого отношения к стремлению ввысь. Они необходимы лишь и только для телесного существования. Идеальный, внутренний человек в той степени мужественен, в какой он не разделяет события, происходящие в жизни, на несчастливые или счастливые — они лишь испытания для него. Он не ищет сочувствия, поскольку является подлинным бойцом духа. То, что обычные люди называют страданиями, несчастными случаями, трагедиями, не нарушает истинного счастья внутреннего человека Ведь они вызывают печаль не у него, а у «внешнего» человека.
— Но объясни, разве страдания одной части не передаются другой? Разве носитель счастья — душа — не целое с телом? И не мешают ли, например, счастью болезни, недуги, несчастья?
— Нет, так как счастье состоит не в отсутствии их, но только в стремлении к приобретению истинного блага. Это — единственная цель истинного человека, и она не разменивается на множество иных целей, как бы хитроумно и ловко они ни обосновывались.
— Как, даже здоровье не является благом?
— Да, даже здоровье не есть самодовлеющее благо и предмет желания само по себе, так как его присутствие даже не замечается. Мы обращаем внимание лишь на отсутствие таких «благ» — того же здоровья, например. И правильнее было бы называть их всего лишь необходимыми условиями для телесного существования, так как скорби, болезни и несчастья разрушают тело. Они — косвенно — осложняют стремление к реальной цели. Но от этой единственной стоящей цели мудрого человека ничто не отклонит. Внутренний человек мужественно переносит свои страдания, невзирая на их мощь и силу, покуда возможно, а если они превосходят его силы, они уходят вместе с ним. В любом случае он не ищет сострадания, но внутри его самого сияет свет, как свет спокойного светильника, когда за окном бушуют ветер и буря. Сострадание к самому себе не проникает внутрь идеального человека, ибо это было бы уже слабостью его души. Как великий боец духа, стоит он, отражая удары судьбы и зная при этом, что то, чего не выносит другой человек, он перенесет не как ужас, но как лишь страшное для детей.
Мудрец заботится о своем теле и носит его, пока это возможно, как и музыкант — свою лиру, пока она ему не перестала быть нужна. И тогда музыкант меняет лиру. Или он даже перестает пользоваться лирой. Он бросает играть на ней, у него теперь другое дело, для которого лира не нужна.
Он теперь бросает лиру на землю, он смотрит на нее с презрением и поет без помощи инструмента.
— Да и что такое страдание? Ведь это лишь расплата за прошлые проступки, а поэтому страдание — лишь внешне несправедливость. В действительности оно справедливо. Поэтому оно не должно волновать мудреца ни в отношении других, ни в отношении себя самого. Тот факт, что других убивают в театре жизни, не более важен для мудреца, чем если убили его самого. Мудрец хотел бы, чтобы все люди благоденствовали и чтобы никто не терпел зла. Но если это не удается, он все же счастлив. Ведь тысячи несчастий и разочарований могут пасть на человека и оставить его все же в спокойном обладании мерой. Именно эта убежденность позволяет человеку быть лучшим из друзей другом, и истинным «внутренним человеком», да и «внешним».
— Таким образом, счастье идеального человека внутри него. И это счастье — не телесные удовольствия и не чрезмерные эмоциональные радости. Мудрый человек всегда спокоен, кроток, доволен.
— Да, ибо великая наука — созерцание Блага — всегда с ним. Счастье в душе, притом именно в разумной душе. Правда, истинно мудрый человек будет стараться сохранить телесное здоровье, но он не будет желать ради одного желания быть совершенно свободным от болезней и страданий. Ведь в конечном счете удовольствия, слава, здоровье, отдых для него не прибавка к счастью, а страдания, болезни, тяжелый труд — не потеря счастья.
— Однажды сам великий Дарий пожелал познакомиться с божественным Гераклитом и написал ему такое письмо: «Царь Дариуш, сын Гистаспа, Гераклиту, мужу эфесскому, шлет привет. Тобою написана книга „О природе“, трудная для уразумения и для толкования. Есть в ней места, разбирая которые слово за словом, видишь в них силу умозрения твоего о мире, о Вселенной и обо всем, что в них вершится, заключаясь в божественном движении.
Но в ней еще больше мест, от суждения о которых приходится воздерживаться, потому что даже люди, искушенные в словесности, затрудняются верно толковать написанное тобой. Посему царь Дариуш, сын Гистаспа, желает приобщиться к твоим беседам и эллинскому образованию. Поспеши же приехать, дабы лицезреть меня в моем царском дворце. Эллины, я знаю, обыкновенно невнимательны к своим мудрецам и пренебрегают прекрасными их указаниями на пользу учения и знания. А при мне тебя ждет всяческое первенство, прекрасные и полезные повседневные беседы и жизнь, согласная с твоими наставлениями».
— А еще до этого Гераклит сам отказался от царской власти и, удалившись в храм Артемиды, предпочел играть с мальчишками в бабки. Но ответил он царю следующим мудрым образом: «Гераклит Эфесский царю Дариушу, сыну Гистаспа, шлет привет. Сколько ни есть людей на земле, истины и справедливости они чуждаются, а стремятся в дурном неразумии своем к алчности и тщеславию. Я же все дурное выбросил из головы, пресыщения всяческого избегаю из-за смежной с ним зависти и по отвращению к спеси. Потому и не приеду я в персидскую землю, а буду довольствоваться немногим, что мне по душе».
— Сравни двух мудрецов, один из которых обладает богатством, властью и другими внешними благами, а у другого ничего этого нет. Но они оба одинаково счастливы, ибо оба счастливы исключительно вследствие своей мудрости. Истинный человек бесстрашен перед судьбой и суров к себе, но не к другим, для которых он истинный друг. В общем, кто хочет быть мудрым и счастливым, тот должен искать постоянно, в каждом действии своем, каждой своей мыслью Единое, жить согласно Ему, давая своему телу нужное, но помня твердо при этом, что он не только и не столько тело.
— Но если мудрец озабочен только внутренним, истинным человеком, как же он может проявить свою дружбу к другим?
— Мудрец поистине тогда мудр, когда он вполне отрешен от других людей, то есть когда его душа стала вполне самодостаточной. Он знает, что каждый ответствен прежде всего сам за себя. Все, что нужно для этого человека, — усилие в возвращении к Единому. Поэтому единственный реальный путь помочь другим — учить их истине. И в то же время, душа подобна Единому и еще до слияния с ним хочет (или, точнее, именно для этого слияния) вести себя подобно Ему, любящему всех. Вот почему мудрому человеку, при всей его отрешенности, и есть дело до других людей.
— Иначе говоря, процесс совершенствования, направленный в конечном счете к слиянию с Единым, и погружение наших жизней и действий в жизнь и активность Единого должны вести к чрезвычайной заинтересованности в личности, во всех людях и заботе о живом на всех уровнях. И эта забота должна быть обусловлена не чувством долга, но чем-то похожим на заботу отца о детях, так как Единое — наше истинное отечество. И то, что мудрец отрешен, независим от всего, озабочен своим «внутренним человеком», отнюдь здесь не противоречит его заботе о живом. Ведь это и есть, если вникнуть, истинная свобода: быть вовлеченным во все, но при этом оставаться абсолютно независимым. Ведь это и есть подобие Единому, который во все вовлечен, ибо все — от Него и в связи с Ним, но который абсолютно независим от этого всего.
— Но что такое Единое, Благо, высшее добро? И что такое зло?
— По обычному, распространенному определению благо, добро — это природосообразная жизненная деятельность. Для сложного существа благом, конечно, явится деятельность того, что самое лучшее в нем. Для человека, таким образом, благо — душевная деятельность. Но и душевная деятельность направлена на нечто такое, что есть самое лучшее, и именно как таковое оно не стремится уже ни к чему, то есть является в этом смысле высшим Благом, высшим Добром. Это высшее Добро есть пребывающий в спокойствии источник и начало всех естественных деятельностей. Единое — трансцендентно сущности, деятельности, уму и интуиции. От Него зависит все остальное, в то время как Оно не зависит ни от чего. Оно — центр всеобщего стремления.
— А как ты представляешь себе это стремление?
— Неодушевленное стремится к душе, а душа через ум к Благу. Любая вещь посредством своего эйдоса получает участие в Едином, то есть в Благе. Но эйдос есть лишь совершенный образ Единого. Благодаря уму душа становится благообразной и, обращаясь к Благу, получает обладание добром.
— Что же такое зло?
— Все познается по той или иной аналогии, а потому ум и душа человека не способны прямо исследовать зло.
— Почему?
— Если зло есть абсолютная бесформенность, неопределенность, то аналога ему не найти именно как такой абсолютности. С чем сравнить эту абсолютную бесформенность, неопределенность? А поскольку зло — абсолютно, оно невыразимо прямо.
— Что же остается?
— Единственный способ — познать зло по его противоположности. Именно Благо, Единое есть То, от чего все зависит и к чему все стремится, имея в Нем начало и нуждаясь в Нем. В то же время Оно само не имеет никакой нужды, ни в чем не нуждается, является абсолютной мерой и пределом всего и дает из себя самого ум, сущность, душу, жизнь и умственную энергию. Оно сверхпрекрасно и трансцендентно всему самому лучшему. Мировой Разум, следующий за Единым, есть первая энергийная активность и первая сущность всего. Область Нуса есть как бы вторая область Блага. Душа, вращаясь вокруг Нуса с внешней стороны, смотря на ум и созерцая свой внутренний мир, смотрит через него на Благо, Добро.
— Таким образом, в Едином, Нусе, Душе зло отсутствует.
— Да, зло обусловлено сущностью ирреального и областью всего того, что имеет общение с ирреальным (но под ирреальным понимается не абсолютно нереальное, но лишь иное, чем реальное). Добро и зло — это реальное и подобие его. Именно как противоположность добра зло есть абсолютное отсутствие меры, предела, эйдоса. Оно всегда нуждающееся, всегда безграничное, никогда не стойкое, абсолютно страдательное, ненасытимое, абсолютная бедность.
— Но разве нет злых душ?
— Такие души злы не сами по себе, а вследствие того, что, будучи смешаны с материальными телами, устремлены на преходящее, материальное. Они обращены к мраку, видят лишь мрак и живут с мраком в той мере, в какой отвращены от Блага. Таким образом, зло не есть некая самостоятельная субстанция, а всего лишь недостаток добра.
— Иначе говоря, зло есть именно зло потому, что есть Благо, или точнее Нус, ибо о самом Едином нельзя даже сказать, что оно существует или не существует. Ведь если есть первое, следовательно, должно быть и последнее. Но первое — Единое, Благо, Неизреченное — добро, следовательно, последнее — материя, абсолютная неопределенность — есть зло. Но все это есть Единое.
— Зло по принципу противоположной аналогии есть недостаток добра. Но что такое зло для себя самого?
— Зло есть отсутствие.
— Отсутствие чего?
— Зло не есть какое-то плохое, ужасное качество. Оно — бескачественно. Зло есть отсутствие вообще каких-либо качеств. И тогда в этом случае, от зла в себе, первого, абсолютного зла надо отличать предполагающее зло злое.
— Если зло есть материя, то злое есть чувственное, телесное. Если зло есть абсолютный недостаток добра, то злое, порок есть лишь частичный недостаток добра. Иначе говоря, чистая материя есть именно первое зло. Чувственный мир становится злом в силу своего участия или подражания, но не сущностью своей. Если материя — мрак, то чувственный мир только омрачен этой тьмой.
— Следовательно, порочность следует представлять по аналогии с добродетелью, как зло надо представлять по аналогии с добром.
— Да, и потому порочность души, обусловленная абсолютной неопределенностью, материей, не есть зло в себе и является лишь случайным качеством человека, которое может преодолеваться душой. Пороки людей обусловлены их телесной природой, так как именно материальным телом обусловлены людская неразумность и их порочные желания.
— Чувственные желания поэтому тем сильней, чем больше они связаны с телом, и бегство от пороков есть бегство от телесного. А в сущности души человека находится Добро. Порок есть чувственность, частичный недостаток добра, частичное его отсутствие.
— Но тогда можно сказать, что и порок есть тем не менее человеческое качество, в котором всегда есть нечто и от добра?
— Если предположить, что душа чужда всякого блага, то она не должна иметь и жизни (жизнь уже есть благо), следовательно, не может быть душой. Но так как она обладает способностью к жизни, то и не может быть признана лишенной добра. Порочность души возрастает пропорционально ее погружению в материю.
— Но, с другой стороны, порок можно назвать и слабостью души. Эта слабость состоит в том, что душа легко возбуждается чувственными желаниями, легко раздражается гневом, быстро соглашается, легко повинуется неясным фантазиям и в общем подобна хрупким произведениям природы и искусства. Способность рассуждения у нее совершенно затемняется. Одновременно с тем ее постигают и бедствия, часто имеющие физический характер: болезни как проявление излишеств или недостатков в теле, не знающем порядка и меры, безобразие, так как форма не получает в ней преобладания над материей, бедность — из-за соединения с материей, в самой природе которой есть признак бедности.
— Сама по себе душа чиста, окрыленна и совершенна. Она, вне материи, обладает множеством потенциальных сил. Материя, как нищая, стоит пред ее дверьми и просит, чтобы ей разрешили войти. То, что занято душой, священно, и все в нем заполнено душой. Но материя освещается душой, хотя и не может уловить самого источника освещения. Она, материя, как абсолютная неопределенность затмевает освещение, поглощает его, делает слабым. Она препятствует силам души. Таким образом, именно материя — причина слабости и порочности души. Порок — это ослабевший свет души в материи.
— Но тем не менее и зло не является абсолютным ничем. Кто отрицает зло, тем самым отрицает добро, стремление к добру, интуицию и разумность. Отрицание зла делает необъяснимой всю нашу душевную и нравственную жизнь: без зла не было бы чувственных желаний, печалей, сердечных вспышек, страхов, ложных представлений. Зло в душе не есть чистое зло благодаря силе добра: оно в ней подобно узнику в золотых оковах…
…И вновь, казалось, все исчезло: нечто словно быстро проваливается, вращаясь сильнее и сильнее, и что-то тусклое, знакомое и близкое тянет меня, невесомого и легкого, в центр бушующего циклона..
…Порывы горячего ветра мерно стихали, а затем так же неумолимо и ритмично усиливались, охватывая все колеблющееся, мерцающее тусклой, адовой пылью пространство. В воздухе носились мириады взбесившихся острых пылинок. Они с ненавистью сталкивались друг с другом, а затем со свистом бросались на небольшую горную гряду. Вращающиеся с ужасающим ревом трубы песка и воздуха поднимались к небу, грозя чуть виднеющемуся солнцу. Мрак постепенно опускался на плоскогорье.
Крохотный оазис был почти погребен безжалостным самумом. Дьявол, как огромная летучая мышь, гулко и радостно завывал, и песчаные волны безостановочно двигались к входу в небольшую пещеру.
Извивающимися струйками песок заполнял пространство. Скоро все должно было закончиться, — он сидел, откинув длинную худющую грязную шею, почти не дыша, уже по пояс занесенный горячим песком. Семь лет отшельничества истекали. Он давно знал, как и откуда придет дьявол, и спокойно готовился к этому. Но он слишком ослаб: уже несколько недель во рту у него ничего не было. Три дня назад он, переваливаясь, в последний раз прополз по песку к маленькому роднику — но не нашел его. Конечно, так и должно было быть: дьявол отнял напоследок и воду. Неизвестно почему он все же вернулся назад в пещеру, — может быть, потому, что там, прислонившись к стенке, он слышал чьи-то все более грозные, гулкие, несущиеся из глубин и хулившие его голоса, с истошным визгом исторгавшие угрозы и все более настойчивые требования спуститься вниз.
Рот был забит сухим песком — слюны давно уже не было. В эти последние минуты или часы у него проносились смутные образы, которые, казалось, он давно забыл и никогда не вспоминал.
…Маленький мальчик у ночного костра… Затем — изрубленный отец, с отделенной головой и почему-то с одним открытым, спокойным глазом… Дорога — его куда-то ведут. Рядом с ним — мать. Но как она выглядела, он все никак не мог вспомнить. Ночью во сне он услышал животный крик — утром ее уже не было… Потом его продали на каком-то невольничьем рынке. Он попал к первому хозяину, в Тире. Город был кем-то захвачен — его хозяина пытали, требуя, чтобы он сказал, где спрятано золото общины.
…Галеры. Пятнадцать лет он провел у пиратов. Там научился не чувствовать боли от тяжелых кнутов, вымоченных в соляном растворе. Потом еще какие-то картины, еще кто-то… Но вот — угрюмый, темный старик. Он называл себя Айрешом и однажды сказал, что родился в горах, к северу от Вавилона. Они пробирались в верховья Нила.
Тогда у костра, за несколько дней до того, как он странным образом исчез — ушел и не вернулся, Айреш открыл ему тайну: «Знай, что бог, создавший этот мир зла, — величайший дьявол. Да, да, он похож на прекрасного павлина с кровавыми глазами. Каждый из нас есть для него орудие нескончаемого зла и зло в себе самом. Этот всемогущий князь тьмы создал образ всемогущего, но доброго бога с особым замыслом: культивируя этот образ, творя зло через нескончаемое многообразие злого, через человека, не подобного ему, проникнуть в Центр тьмы…»
«Я не боюсь — и потому я иду к тебе», — это была его последняя мысль, стучавшая все сильнее и сильнее, пока не вспыхнул свет…
Через несколько часов песчаная буря, столь частая в это время года, стихла. Ровный ковер песка лежал как дорогой бархат. Было тихо, солнечно и спокойно…
— Мир действительно есть бесконечно разнообразное целое. В целом необходимы части. Ведь любое большое состоит из меньшего. Части могут быть различны и сравнительно неравны. Как у художника не все части бюста состоят из одних только глаз, так точно и Нус создал не только одних совершенных богов, но и демонов, людей и животных. И делал он это в силу присущего ему разнообразия. Таким образом, одни части вышли лучше, другие хуже. Ведь и у Аристофана в трагедиях есть роли дурных и хороших людей. Но каждый актер должен делать свое дело, в зависимости от плана, от замысла. Так и в жизни. Но это не все.
Мир по необходимости состоит из частей не только разнообразных, но и прямо одна другой противоположных. Многосложное понятие предполагает противоположность и разнообразие частей, его составляющих. Противопоставление одних частей другим и дало повод к борьбе между ними. Таким образом, возникновение такого мира, каков он есть в настоящее время, состоящего из разнообразных и противоположных частей, стало следствием стремления к совершенству Универсальной Мировой Души, которая в самой себе есть абсолютное целое.
Мировая Душа не могла быть злой, осуществляя эту идею. Несовершенство в конструкции нашего мира, как это может показаться с точки зрения человека, есть естественное последствие всеобщего закона, управляющего происхождением одного существа из другого.
— Да, но зло остается злом, и для этого отшельника все слова оказались бы слишком бесплотными и непонятными…
— Ну что ж, даже признав существование зла в мире, во-первых, не стоит преувеличивать его, даже если чья-то жизнь представляется непрерывной цепью злосчастных страданий и несчастий. Необходимо смотреть на мир как на целое, а не ограничиваться одними только частями. Тогда увидим, что обвинять целое за несовершенство частей несправедливо. Подумай, что было бы, если бы обращали внимание на волосы или пальцы и обходили вниманием целый просветленный образ человека. Или, оставив в стороне весь род человеческий, бесконечно стенали бы по поводу мерзостей Калигулы или Нерона.
Мир полон жизни и украшен многими совершенными произведениями. Нужно только смотреть на него всесторонне, видеть каждое существо — будь это камень, муравей, человек, космос или бог — как целое и не выводить несовершенство одной части из того, что она не такова, как другие. Нос не может видеть, ибо зрение есть дело глаз, а не носа.
Кроме того, иное так называемое «зло» кажется таким только с человеческой, узкой точки зрения, на самом же деле оно есть добро. Одни неудобства имеют очевидную пользу, а положительное значение других может сказаться через некоторое время…
…Гордый и сильный поток, пройдя от своего источника в далеких и загадочных горах через разнообразнейшие препятствия и ландшафты, достиг наконец песков пустыни. Как стремительно пересекал он все остальные преграды, таким же образом поток попытался пересечь и эту, но обнаружил, что чем быстрее течет он в песках, тем быстрее исчезают его воды.
Тем не менее поток был убежден, что его предназначение — пересечь эту пустыню. Но, однако, ему не было пути. И вот скрытый, тихий голос, исходящий из песков, прошептал: «Ветер пересекает бескрайнюю пустыню, и так же может поток».
Поток возразил, что земля поглощает его. Ветер же может летать, и поэтому пересекает пустыню.
— Следуя привычке, ты не сможешь пересечь пустыню. Ты либо исчезнешь, либо превратишься в болото. Ты должен позволить ветру перенести тебя к месту твоего назначения.
— Но как может это произойти?
— Позволь ветру поглотить тебя.
Поток не внял совету. В конце концов, его ведь прежде никогда не поглощали. Он не хотел ни в чем теряться. Если это произойдет, как он узнает, чего он мог когда-либо достичь?
— Ветер, — прошептал голос песков, — выполняет эту задачу. Он поднимает воду, проносит ее над пустыней, а затем позволяет ей выпасть снова. Выпадая дождем, вода достигает своей наивысшей цели.
— Как я могу знать, что это правда?
— Это так, и если ты не веришь, ты не можешь стать ничем, кроме болота, а это, конечно, не то же самое, что поток.
— Но не могу ли я остаться тем же самым потоком, каким я являюсь теперь?
— Ты в любом случае не можешь остаться таким, как ты есть. Твоя сущностная часть уносится и становится всем. Тебя называют тем, чем ты являешься в действительности даже сегодня, потому что ты знаешь, какая часть тебя является сущностной.
Когда поток услышал это, в нем начали возникать туманные отзвуки. Он смутно припомнил состояние, в котором его — или какую-то часть его — держали объятия ветра. Он также вспомнил — или почувствовал, — что это было реально, но совершенно иной реальностью.
И поток устремился паром в радушные руки ветра, который нежно и легко унес его вверх и вперед. Потока не стало, Но он вновь излился далеко от пустыни на спокойную гладь океана. И он стал океаном и обрел свою истинную сущность.
Пески же продолжали шептать: «Мы знаем, потому что мы видим, ведь это случается день за днем, и потому что мы, пески Пустыни, тянемся от берегов реки на всем пути к Океану».
И потому сказал Гермес, что путь, которым Поток Жизни должен продолжать свое движение, записан на песках…
— Потому зло есть в определенном смысле и следствие свободы разумных существ. Если некоторые люди не наслаждаются блаженством, то это является следствием их собственного бессилия, — они не смогли успешно бороться за награду, предоставленную на пути совершенствования.
По самой своей природе люди занимают среднее место между богами и животными. Поэтому и приближение людей к богам, и приближение людей к животным одинаково естественно. Это зависит от них самих. Людям нужно самим бороться, а не молиться богам, чтобы те, нарушая свободу человека, сражались за него. Если ожидать спасения только от богов, а не делать того, что может привести к спасению, то это значит оскорблять законы мира, и жизнь таких людей ничуть не лучше смерти. Просить богов о помощи в каком-нибудь деле — это просто безбожно, поскольку всякий человек обладает силой и возможностями для того, что он должен делать.
Дурные властвуют из-за того, что у подвластных отсутствует мужество оберегать свою божественную свободу.
— Это так: жизнь людей не является следствием строгой и неумолимой судьбы. Они обладают и свободой воли. Потому-то на нее и необходимо обращать внимание, если возникает какая-нибудь неправда и зло в человеческих отношениях.
Кроме того, некоторый объем зла составляет следствие естественного течения событий. Человек, или вообще существо, которое в своей деятельности не противоречит естественному порядку, пожинает благие последствия. Но человек, который хочет идти наперекор этому порядку, необходимо должен столкнуться со злом. Например, для людей существует альтернатива и в виде животного, чувственного существования. Если, например, кто-то свободно сделал такой выбор, то это вполне соответствует мировому порядку.
— Но если чувственная, телесная жизнь является все же источником зла, то, может быть, стоит считать самоубийство наилучшим выходом для идеального человека?
— Нет и нет. Во-первых, самоубийство не является освобождением души, а лишь переменой ею места в мире. Ведь освобождением души мы должны назвать лишь естественное разрушение связи тела с душой как результат совершенствования человека. Во-вторых, насильственное расторжение души с телом сопровождается неподобающими идеальному человеку аффектами недовольства, печали и сердечного раздражения. В-третьих, самоубийство — это проявление трусости перед лицом судьбы. Истинное мужество заключается в том, чтобы принимать спокойно и со всей ответственностью то, что встречается на пути жизни, оставаясь бойцом до конца. Человек не случайно появляется в этом мире, и его задача заключается том, чтобы глубочайшим образом обосновать эту неслучайность себе. Наконец, так как состояние после смерти определяется тем, как умирает человек, то все внимание надо направлять не на ускорение смерти, а на совершенствование души в этой жизни.
— А самоубийство — не есть ли оно высшее проявление свободы?
— Нет. Скорее, в определенном смысле, высшее проявление безответственности и рабского в человеке. И действительно, свободным называют все, что совершается не насильственно, с разумением. И кроме того, действия свободны, когда люди еще и властны в них. Значит, свобода действий определяется тремя условиями: отсутствием какого бы то ни было принуждения, присутствием сознания или пониманием дела, возможностью совершать и не совершать действия.
— Но разве чувства, например, любовь, или желания, или обыкновенный рассудок, не могут вести к свободе?
— Если допустить свободу действий, исходящих из чувств и желаний, то придется допустить некоторую свободу в животных и малых детях, в умалишенных, в людях, действующих под влиянием, например, вина и случайно встречающихся представлений. Но тебе известно, что в таких ситуациях совершающие действия сами в себе не властны.
— Но, наверное, нельзя также считать свободными и те действия, которые берут начало от рассудка, руководившего желаниями. Ведь и в этом случае возникает вопрос, можно ли приписывать свободу заблуждающемуся рассудку или только рассудку, действующему правильно и притом вследствие правильных желаний. Кроме того, в этом случае неизвестно: мышление ли двигает желаниями или наоборот. Если желания возникают естественно из природы человека — то выйдет, что душа только подчинялась в своих действиях природе или необходимости. В этом случае даже понятие свободы было бы недоступно.
— Тогда остается предположить, что мышление предшествует желаниям, и что в этом мышлении отражается весь человек, то есть тело участвует своими чувствами, душа — разумением?
— Да, но ведь внешние чувства только присутствуют при действиях и на их свободу влиять не могут. Таким образом, можно сделать вывод, что собственно знание предшествует желаниям, и оно-то и делает их свободными. Но знание правильное, ибо ложное противоположно свободе.
— Предположим, что человек, совершивший некие свободные действия, правильно предполагал перед тем как действовать. Но ведь он мог поступить так случайно. Кроме того, один и тот же человек в одних и тех же обстоятельствах может по-разному мыслить: когда он сыт или голоден, выспавшийся или после бессонницы, спокоен или раздражен. Таким образом, только правильное представление, верная мысль, приводящая к правильному действию, не может быть источником свободы.
Нужно еще, чтобы человек понимал, почему он поступает именно таким образом, а не иначе. Действительная свобода поведения присуща человеку, который избавлен от гнетущих дух возбуждений тела и который полагается на свой ум. Следовательно, к энергии ума, как высшему началу, истинные люди должны возводить происхождение всех свободных намерений. Свободными могут быть признаны только те желания, которые порождены разумом.
— Но желания всегда направлены вовне — люди желают чего-либо, потому что чувствуют, ощущают какой-нибудь недостаток. Представь, что ты желаешь добра под воздействием ума. Но сам ум действует не иначе как в соответствии со своей природой. Как же он может стимулировать свободные желания, когда сам он действует вполне определенным образом потому, что иначе действовать не может. Другими словами, может ли ум быть источником свободы, когда он несвободен?
— Стремление ума к Единому не имеет в себе ничего принужденного. Он стремится к нему, ибо понимает, знает, разумеет, что Оно есть Благо. Отсутствие свободы заключается только в уклонении от Блага, Добра. Истинное принуждение там, где человек стремится к вещам, для него дурным. Раб тот, кто бессилен решиться на добро.
Свобода, таким образом, есть манифестация, проявление в поведении побуждений ума, стремящегося к Единому. Возможность зла указывает на возможность рабства, а не свободы.
— Все это, конечно, так, но в своей повседневной жизни люди сталкиваются с обстоятельствами, которые очень часто вообще от них не зависят…
— Свободными могут быть действия, зависящие от самих людей, и свободным надо считать человека, исполняющего неуклонно все, что составляет и осознается им как его внутренний долг.
— Да, но и здесь может всплыть понятие долга только из-за чисто внешних обстоятельств; например, храбрость на войне. Не будь войны, не было бы и храбрости во многих случаях, храбрых намерений. Так же точно круг многих действий зависит от разных обстоятельств: не будь больных, не было бы и Гиппократа. Не будь Клеопатры, и Антоний выбрал бы иную судьбу.
— Действия могут быть необходимы, но действительно свободный человек предваряет их ничем не стесненным мышлением. Иначе говоря, свобода должна быть присуща внутренней деятельности человека, прежде всего энергии его ума. Свобода — не столько во внешних действиях, сколько в разуме и мышлении. Только здесь может зародиться свободное желание, в котором человек совершенно властен и которое развивается беспрепятственно, несмотря ни на какие внешние обстоятельства.
Свобода — это не состояние, а процесс. Но процесс не пространственный, не временной, а творческий. Быть в зависимости только от инобытия и ничем эту зависимость не преодолевать, то есть быть абсолютно вне себя — это значит быть неопределенностью, материей. Быть зависимым только от инобытия и преодолевать эту зависимость лишь внешне — это значит быть телом, иллюзией свободы. Быть зависимым от инобытия, но эту зависимость внутренне преодолевать — это значит быть душой, быть свободным от внешнего. Быть зависимым только от себя самого — это значит быть умом, мышлением, свободным для себя. Наконец, быть свободным от себя самого — это значит быть для себя порождающим лоном, быть абсолютной Свободой…
…Ксенофонт, сидя на корточках возле костра, своим тихим голосом рассказывал: «И все же Сократ был осужден на смерть, несмотря на его уверения, что его даймоний дает ему указания, что надо делать и чего не надо делать».
…Сократ улыбнулся своей ясной, доброй, еще совсем не старческой улыбкой и, переведя взор с толпы на судей, продолжал:
— А я, афиняне, прежде всего удивляюсь тому, на каком основании Мелет утверждает, будто я не признаю богов, чтимых государством. Что я приношу жертвы в общие праздники и на народных алтарях, это видали все, бывавшие там в то время. Да и сам Мелет мог бы видеть, если бы хотел. Что касается новых божеств, то как можно делать вывод о введении их мною на основании моих же слов, что мне является голос бога, указывающий, что следует делать? Ведь и те, которые внимают крикам птиц и случайным словам людей, предсказания делают свои, очевидно, на основании голосов. А гром? Неужели будет кто сомневаться, что он есть голос или великое предвещание? Жрица на треножнике в Дельфах разве не голосом тоже возвещает волю бога? Что бог знает наперед будущее и предвещает его, кому хочет, об этом все говорят и думают так же, как я. Но они именуют тех, кто предвещает будущее, птицами, случайными словами, приметами, предсказателями, а я называю это божественным голосом и думаю, что, называя это так, употребляю выражение, более близкое к истине и более благочестивое, чем те, которые приписывают птицам силу богов. Что я не лгу на бога, у меня есть еще такое доказательство: многим друзьям я сообщал советы и ни разу не оказался лжецом.
…Ксенофонт тихо прокашлялся и продолжил: «Сократ выказал силу души и снискал себе славу тем, что во время судебного процесса он говорил в свою защиту правдиво, неустрашимо, честно, как никто не свете, и встретил смертный приговор без всякой злобы и с величайшим мужеством.
После суда ему пришлось прожить еще месяц по случаю того, что в том месяце был Делосский праздник, а закон воспрещает всякие казни до возвращения праздничного посольства из Делоса. В течение всего этого времени он жил, как видели близкие к нему люди, совершенно так же, как и в прежние времена. А в прежнее время его необыкновенно благодушное, ясное настроение возбуждало общее удивление. Можно ли умереть прекраснее, чем так? Какая смерть может быть прекраснее той, когда человек умирает с таким великим достоинством? Какая смерть может быть счастливее самой достойной?»
Ксенофонт вздохнул, поправил на плече черную накидку и чуть придвинулся к костру. Черная бездна неба молчала в мерцании прекрасных звезд. Недалеко тоскливо заржала лошадь. Но десятки глаз продолжали внимать молчащему Ксенофонту.
— Я расскажу еще, что слышал о Сократе от Гермогена, сына Гиппоника.
…Когда Мелет уже подал в суд свою жалобу, Гермоген, по его словам, слыша, что Сократ говорит обо всем больше, чем о своем процессе, сказал, что надо подумать о том, что говорить в защиту.
Сократ сперва спросил:
— А разве, по-твоему, вся моя жизнь не была такой подготовкой?
Гермоген пожелал уточнить, что он имеет в виду.
— Я всю свою жизнь ничем другим не занимался, как только тем, что исследовал вопросы о справедливости и несправедливости, поступал всегда справедливо, а несправедливых поступков избегал. А это для меня лучшая подготовка к защите.
— Разве ты не видишь, Сократ, что судьи в Афинах, сбитые с толку речью, выносят смертный приговор многим людям, ни в чем не виновным, и, напротив, многих виновных оправдывают?
— Нет, Гермоген, клянусь Зевсом, я уже пробовал обдумывать защиту перед судьями, но мне воспротивился голос моего даймония.
— Это поистине удивительно!
— Ты удивляешься, что, по мнению бога, мне уже лучше умереть? Разве ты не знаешь, что до сих пор я никому на свете не уступил бы права сказать, что он жил лучше и приятнее меня? Лучше всех живет, я думаю, тот, кто больше всех заботится о том, чтобы делаться как можно лучше, а приятнее всех, — кто больше всех сознает, что он делается лучше. До сих пор это было моим уделом, как я сознавал. Встречаясь с другими и сравнивая себя с другими, я всегда так думал о себе. И не только я, но и друзья мои всегда имеют обо мне такое мнение, не только из любви ко мне (потому что и любящие других судили бы так о своих друзьях), но вследствие уверенности, что и сами они от общения со мною могут сделаться лучше.
…Ксенофонт огляделся вокруг, и вдруг его голос словно окреп: «Таков был Сократ. Так благочестив, что ничего не предпринимал без воли богов, так справедлив, что никому не делал ни малейшего вреда, а приносил огромную пользу лицам, бывшим в общении с ним, так воздержан, что никогда не отдавал предпочтения приятному перед полезным, так разумен, что никогда не ошибался в суждении о хорошем и дурном и не нуждался для этого в помощи другого, но сам был достаточно силен для решения таких вопросов и способен как сам говорить на подобные темы и давать определения таким понятиям, так и оценивать мнения других, опровергать их ошибки и направлять их к добродетели и нравственному совершенству. Что касается меня, то при этих достоинствах своих он казался мне именно таким, каким может быть человек идеально хороший и счастливый».
…Я медленно умираю… и я так спокоен. Я не могу уже двинуть ни рукой, ни пальцем, ничем. Тело уже почти отторгнуто от меня. Почти, ведь я еще слышу прерывистое, с хрипом, свое дыхание… Я еще осознаю — но не зрением, не слухом, — их нет, а чем-то другим — черное пространство зала, где лежит мое тело… Но потом, то ли вновь прыжок вниз… какой-то резкий, то ли, наоборот, резкий подъем… и вновь все, что было в этой жизни, течет словно перед моим внутренним взором… Но это не совсем так… Все, что течет, это тоже я… И вновь раздается ясный, но беззвучный голос моего даймония…
* * *
— …Когда Единое растворяет мою душу и она становится абсолютно полной и пустой одновременно, тогда моя душа превращается в свет, унесенный светом. Это и есть пятая, высшая ступень совершенства — великое, не выразимое ни в чем вдохновение, всепоглощающий экстаз радости и света. Это необычайное состояние. И все, что может быть выражено сейчас, когда я ухожу… — все это слишком грубо, относительно, приблизительно для выражения этого переживания. При таком таинственном, необычайном по своей всеобъемлющей силе вдохновении все обыкновенные движения и ритмы души совершенно исключены. Нет никаких чувств и желаний. Я ни о чем не мыслю, ни о чем не помышляю, даже не сознаю самого себя. Словно охваченный невыразимым восхищением, но с глубочайшим спокойствием, неподвижный, замерший в своей сути, никуда не склоняясь, ибо нет ничего, и не обращаясь к самому себе, ибо меня тоже нет, я стою неподвижно вне времени и пространства. Я весь как бы превращаюсь в покой, я растворяюсь в необычайном, беспредельном и добром покое. Я оставляю за собою область прекрасного и жизни, я вне этого. И вдруг… как потрясение и разрыв тишины… я в свете, я становлюсь созерцанием этого необыкновенного света. Это не есть мышление, не есть просто видение — здесь «я» являюсь созерцанием и одновременно предметом созерцания. «Я» не различаю самого себя от того, кто видит, и даже и не вижу ничего. «Я» полностью отказываюсь от себя, от своей оболочки… «Я» объединяюсь с предметом созерцания, как бы совместив центр «я» с его «центром». Это состояние есть неизреченное видение. Это даже и не видение, но какой-то иной способ зрения, исступление, уединение, беззвучный крик восторга, отречение от себя, необычайный полет, стремление к соприкосновению, соприкосновение… С Ним…
III Пробуждение странного и одинокого зеркала Александрия 232–242 гг.
Мы вкус находим только в сене И отдыхаем средь забот, Смеемся мы лишь от мучений, И цену деньгам знает мот. Кто любит солнце? Только крот, Лишь праведник глядит лукаво, Красоткам нравится урод, И лишь влюбленный мыслит здраво.Порфирий правой рукой начал медленно массировать левую. Порой подкрадывался неожиданный озноб: начинали стынуть кончики пальцев на руках и ногах, гулко бурлило сердце, отдаваясь слабой болью в висках, начиналось резкое и заметное пульсирование какой-либо мышцы — на шее или груди. Но назвать это внезапностью все же было нельзя: начиналось это тогда, когда он кожей своей — как беспричинную зябкость — ощущал приближение чего-то, имевшего разные имена: одиночество, смерть, усталость…
Он сделал глоток из чаши с разбавленным вином, и снова на пергамент начали ложиться аккуратные строки:
«К философии Плотин обратился на двадцать восьмом году и был направлен к самым видным александрийским ученым, но ушел с их уроков со стыдом и печалью, как сам потом рассказывал о своих чувствах одному из друзей. Друг понял, чего ему хотелось в душе, и послал его к Аммонию, у которого Плотин еще не бывал. И тогда, побывав у Аммония и послушав его, Плотин сказал другу: „Вот кого я искал!“ С этого дня он уже не отлучался от Аммония и достиг в философии таких успехов, что захотел познакомиться и с тем, чем занимаются у персов, и с тем, в чем преуспели индийцы».
…Я медленно повернулся к ХИПу:
— Но почему Плотин оказался именно в Александрии?
Потребовалось несколько минут для того, чтобы компьютер стал излагать свою версию в какой-то сентиментальной, поэтической даже, форме:
— Скорее всего в начале 232 года умер его отец. Двадцативосьмилетний Плотин стремится вырваться из Ликополя: то, что было суждено, он уже приобрел в своем родном городе. В его душе зреют странные импульсы к Неведомому, к синтезу того, что он уже накопил и что хранится внутри него в каком-то сладостном хаосе, под спудом психологического напряжения. Плотин уже давно был особо одинок: окружали его люди практичные, похожие на отца. И он знал, что должен уехать отсюда… навсегда… И знал куда — в Александрию.
В Римской империи необходимые знания в грамматике, риторике, математике и музыке получали в родном городе. Дальнейшая система образования была рассчитана уже не на людей, стремящихся приобщиться к одной определенной области науки, а на личность, желающую совершенствоваться в самых разных областях знания, и прежде всего философии. Философия постоянно оставалась основной наукой античного мира, ибо, как утверждал Сенека, только «философия исследует весь мир». Поэтому желающие ее более подробно изучать должны были совершенствоваться в избранной области в городах, считавшихся центрами средоточия знаний, — в Афинах, Риме, Смирне, Коринфе, Пергаме, Александрии.
Но вряд ли для Плотина была какая-либо альтернатива, кроме Александрии. И дело было не в неких практических соображениях. Да, Плотин не раз был в этом самом знаменитом городе великого Александра: у него были там знакомые, и с некоторыми из них он даже переписывался. Но не это главное.
Хотя пик расцвета Александрии был уже в прошлом, тем не менее, даже в III веке город представлял собой самую крупную культурную жемчужину империи. С ним не могли сравниться не только Смирна и Коринф, но и погрузившиеся в провинциальную дрему Афины.
Именно в Александрии находилась самая крупная библиотека Рима. Причем в ней хранились книги не только римских и греческих философов, ученых, историков, поэтов, но и уникальные рукописи, переведенные на греческий язык, в которых сохранялись ключи к знаниям халдеев и древнеегипетских жрецов, вавилонских магов и индийских браминов, финикийцев и арабов.
Во времена Плотина Александрия представляла собой конгломерат различных мирно уживающихся философских и теологических школ. Неопифагорейцы спорили с перипатетиками, платоники нескольких направлений дискутировали со скептиками и приверженцами Стои, а последние обращались к Эпикуру. Здесь жили и сторонники традиционных языческих культов собственно Рима и Эллады, росло количество приверженцев восточных культов Митры, Кибелы, в различных храмах приносили жертвы Осирису-Дионисию, Изиде, Серапису. Многочисленная еврейская община города, несмотря на интенсивный процесс культурной эллинизации, оставалась верной духу и законам Моисея. Именно таким эллинизированным иудеем был знаменитый Филон Александрийский, вера которого основывалась на том, что вся полнота божественной истины, облеченной в аллегорическую форму, содержится в Ветхом завете.
Многие христианские богословы, жившие в Александрии, были знатоками эллинистической философии и признавали за ней право называться мудростью, хотя и низшего рода по сравнению с божественным откровением. Например, Климент Александрийский считал идеалом духовного совершенства гармонию веры и знания, а потому, с его точки зрения, между Евангелием и эллинской философией в лучших ее проявлениях не было противоречия — это как бы «две ветви одного древа».
Творческая атмосфера александрийского культурного климата только в римский период породила таких крупнейших ученых, философов, поэтов, как Апион, воспитатель Нерона Херемон, Аполлоний Тианский, историк Аппиан, философ Атеногор, астрономы Менелай и Птолемей, писатели Атеней, Лукиан, Цельс, математики Герон, Теон, Папп, Диофант, исследователь иероглифов Гораполлон и многие другие…
Тут я уже не выдержал и не очень вежливо, с раздражением, прервал болтливую машину:
— Без лишней патетики…
Секунд двадцать ХИП молчал, затем кратко и сухо добавил:
— После урегулирования имущественных проблем Плотин навсегда уехал из Ликополя. В конце весны 232 года он приезжает в Александрию…
…Как и договаривались накануне, ближе к вечеру подъехал на эсседе Фотий. Наступила уже осень, но дни стояли жаркие, хотя бриз, дующий с моря, приносил прохладу и дышать было легко.
Ехать пришлось достаточно долго — около восьми миллиариев. Но я этого не замечал: Фотий ловко управлял повозкой и не переставая рассказывал о философе, к которому мы направлялись.
Звали его Аммонием, и был он мужем пожилым. Возраст его приближался к 60 годам, но духом своим известен был веселым и спокойным. Считали его человеком мудрейшим, но и странным. Многие иудеи и христиане презирали его, не скрывали своего неодобрения и прозвали его Саккасом, то есть Мешочником.
Но он не обижался и был незлобив, потому даже на Саккаса откликался. Ибо в юности действительно пропитание добывал себе среди бродяг и черни, работая носильщиком. Отец же его был человеком отнюдь не бедным, разбогател на поставках шерсти в армию. Но вышел между ними разлад, и покинул он отчий дом. А причина разлада заключалась в том, что в младенчестве Аммоний был крещен своими родителями и потому, не по своей воле, оказался в этой христианской секте. Но, прочитав уже в детстве тайком эллинских писателей и философов, он непреклонно направил свое сердце к истинным богам Разума. И потому отбросил он предрассудки христиан, вернулся к божествам предков и ушел из дома.
Мудрости учился он двояко. Ходил к разным философам и магам, но долго там не оставался по причине буйного в молодости характера. Философам задавал он вопросы пустые: о волшебстве, звездах, демонах и гаданиях. А магам задавал вопросы никчемные: о единстве и множественности понятий, о силлогизмах и софистических утверждениях, о логике и этике. Но делал так он все же с неким разумным намерением.
И второй способ был его в том, чтобы самому в учениях древних искать скрытые от глаз непосвященных смыслы. Говорили, что когда он был помоложе, выходил на рынок и во весь голос говорил, растолковывая зевакам те или иные положения из Фалеса и Парменида, Зенона и Хрисиппа. А деньги, которые ему бросали, никогда не подбирал и оставлял на рыночной площади.
А проповедует он совмещение Пифагора и Платона, Платона и Аристотеля. И говорит он вот что: божественное проявилось зримо и явственно и в Пифагоре, и в Платоне, и Стагирите. Но проявилось по-разному, ибо жили они в разное время. Потому в них есть проявление божественной истины в своей сложности и простоте.
Приезжают к нему и брамины, и персы-огнепоклонники, и эфиопские гимнософисты. И совершают они какие-то обряды магические, удалившись в пустыню. Но, может быть, это и пустое, болтовня недругов.
Постоянного жилища у него нет. С учениками он бродит от одного приятеля к другому, выбирая дом в зависимости от местонахождения Луны и звезд на небосводе. Свои рассуждения и учения он не записывает, да и другим запрещает записывать…
— …Via est vita. Путь есть жизнь… Нельзя понять римский дух, если забывать о римских дорогах, — тихо произнесла Сюзанна.
— Почему? — я уже перестал удивляться неожиданным эмоциям машин. В это поколение программ были заложены какие-то наборы подобий звуковых экспрессий, но какие точно, я не знал, однако это действительно облегчало общение с машинами. И они использовали такие звуковые палитры очень искусно.
— Римские дороги — это, в определенном смысле, вызов вечности: образ реальной стойкости перед непрекращающейся агрессией времени. Прошли тысячелетия, но по-прежнему римские дороги служат другим людям других обществ, других цивилизаций, оставаясь римскими.
Уже первые дорога создавались старательно и на века. На намеченной трассе двумя бороздами снимали один за другим слои земли, добираясь до скальных пород. На этом каменном основании укладывали последовательно четыре слоя различных материалов общей высотой до полутора метров. Первый слой, «статумен», составляли плоские камни, скрепленные глиной (около 40–60 см). На «статумен» укладывали плотным слоем мелкие камешки, осколки камней и кирпичей (высотой около 20 см). Третий слой (от 30 до 50 см) был из песка или гравия. Наконец, последний, верхний слой, «суммум дорсум», монолитный и гладкий, составляли широкие каменные плиты — толщина верхнего покрытия также колебалась между 20 и 30 см. В городах по обеим сторонам дорога пролегали тротуары, «марганес», предназначенные для пешеходов и в свою очередь выложенные каменными плитами меньших размеров, или же мощеные. Чтобы обезопасить покрытие дорога от разрушительного действия осадков, с обеих сторон тракта выкапывали небольшие рвы, куда могла стекать дождевая вода…
…Когда подъехали мы к усадьбе, встретили нас слуги: один занялся двуколкой, другой сопроводил нас вовнутрь. Пройдя через дом, мы оказались в большом и тщательно, с замыслом, ухоженном саду. Выглядел он величественно и немного странно. В разных его концах, небрежно и словно отстранений, возвышались высокие гладкоствольные пальмы. Все вместе они представляли нечто геометрически целое, но это целое как бы не было связано с тем, что располагалось ниже. А там были десятка три разнообразных, не повторяющих друг друга деревьев и кустарников — акации, кактусы, смоковницы, эвфорбии, бамбук, — которые также словно были случайно разбросаны там и сям. Но опять-таки ощущался какой-то тайный, словно многослойный, многоэтажный порядок в этой беспорядочности. Наконец, вдоль садовой дорожки были разбиты клумбы цветов — и тоже с геометрическим умыслом. Прежде всего клумбы эти были различными по форме: круглые, прямоугольные, треугольные, квадраты, неправильные прямоугольники. На каждой располагались цветы строго одного цвета. Я прошел мимо круга, где низкий розовый куст был в центре, а девять кустов, побольше, располагаясь равномерно, окружали его.
На уютной лужайке, находящейся на небольшой возвышенности, с которой хорошо просматривалась морская линия и на восток, и на запад, уже находились человек семь.
Фотий, поздоровавшись, представил меня. Оказалось, что некоторые из присутствующих знали моего покойного отца. Произнесены были несколько обычных приветствий. Но скоро все взоры вновь устремились к Аммонию.
Он был чуть полноват, среднего роста, с небольшой пролысиной и дряблой, желтоватой кожей. Но черты лица были выразительны, глаза добрые, а тога очень белая и чистая. Слушали его с вниманием и искренним уважением.
Из всего сказанного в этот первый раз запомнил я более всего рассуждения его о душе. И, может быть, именно это стало тем самым главным, что заставило меня остаться у Аммония Саккаса на одиннадцать лет, вплоть до самой смерти этого божественного александрийца.
Гораздо позднее, а было это уже в самом Риме при императоре Галлиене, попались мне в руки записи Геренния на эту тему. Геренний попытался записать то, что неоднократно слышал от Саккаса:
«Тела по природе своей изменчивы, тленны и во всех частях способны делиться в бесконечность, так что ничего не может оставаться от них неизменного. А потому нуждаются они в сдерживающем, сводящем, собирающем и господствующем начале, которое мы называем душой.
Если же скажут, подобно Посидонию, что душа есть напряженное движение вокруг тел, движение внутрь и вовне, что движение вовне определяет величину и качества, движение внутрь — единство и сущность, то следовало бы спросить говорящих так, какая это сила, так как всякое движение выходит из силы, и в чем состоит ее сущность? Если эта сила есть материя, то относительно ее мы спросим опять о том же, если же не материя, то нечто существующее в материи. Что же это такое, участвующее в материи: есть ли оно материя или нет? Если не материя, то как же оно существует в ней, не будучи само материей? Если же оно не материя, то и не материально, если не материально, то и не тело. Если скажете, что тела имеют три измерения и что душа, пребывающая во всем теле, имеет также три измерения, и что, следовательно, она есть тело, то на это мы ответим, что действительно всякое тело имеет три измерения, но что не все, имеющее три измерения, есть тело. В самом деле, качество и количество, бестелесные сами по себе, могут быть изменяемы в объеме. Таким образом, и душе, непротяженной в себе самой, но находящейся случайно в теле, имеющем три измерения, можно приписывать три измерения.
Притом всякое тело движется или вовне, или вовнутрь. Движущееся вовне неодушевленно, движущееся внутрь — одушевленно. Если бы душа, будучи телом, двигалась вовне, она была бы неодушевленною, если же душа станет двигаться вовнутрь, то она одушевлена. Но очевидно нелепо утверждать, что душа одушевлена или неодушевлена. Следовательно, душа не есть тело».
Геренний довольно-таки точно уловил мысли Аммония. Но тогда, когда впервые я увидел и услышал его, александрийский философ говорил об этом иначе, яснее, может быть, даже пронзительнее:
— Все тела, все вещи по необходимости текут, меняются, каждый момент становятся все другими и другими и потому, по воле бессмертных богов, взятые в чистом виде, являются непознаваемым, вечно переливающимся туманом. Чтобы где-нибудь остановиться в этом всеобщем и нескончаемом потоке и быть в состоянии сказать хотя бы одно слово об этой остановленной силой мысли точке, надобно перейти к тому, что уже не текуче, есть именно одно, единственное, а не что-нибудь в то же самое время другое. Иначе говоря, нужно выйти за пределы становления, найти то, что само уже не становится и не меняется, а является реальной и истинной предпосылкой всякого становления и изменения.
Аммоний замолчал, встал и медленно зашагал босыми ногами по мягкой траве. Издалека раздавался шум прибоя. Затем он остановился, чуть откинул голову назад и вновь заговорил:
— Давайте попробуем схватиться за какую-нибудь одну точку в этом сплошном и темном становлении. Чтобы ее объяснить, нужно опереться на другую точку, которая могла бы стать причиной для определенности первой. Но ведь и эта вторая точка тоже становится и меняется постоянно. Потому и она вовсе не способна быть причиной для устойчивой определенности первой точки. Тогда люди пытаются для объяснения первой найти какую-нибудь третью точку. Но и с ней ведь происходит то же самое.
Нужно найти такое начало, которое уже не требует для себя какого-либо предшествующего объяснения и которое движется от себя самого, то есть которое уже само для себя является причиной своего собственного движения.
Это новое начало, этот самодвижущийся принцип и называется душой. Но душу можно ведь понимать по-разному. Ее можно понимать прежде всего чисто внешне, когда она рассматривается с точки зрения воздействия на те или иные тела. Тогда она будет причиной возникновения разного рода качеств и свойств изменчивой материи. Но можно ведь взять тело и само по себе. Тогда душа, этот принцип самодвижения, очевидно, станет причиной всех движений, совершающихся внутри данного тела.
Душа не есть что-нибудь одушевленное или неодушевленное и даже вовсе не есть само одушевленное. Душа есть принцип одушевления, есть логос одушевления. И она потому есть причина одушевления, а не просто само же одушевление…
…Я повернулся к Титану:
— А что можно сформулировать по поводу Египта и Александрии в тот период?
Титан не заставил себя долго ждать:
— Когда в Египет вторгся Александр, он не встретил здесь сопротивления: персидский сатрап передал ему крепость в Мемфисе, государственную казну и сдался сам со своим войском. В оазисе Амона жрецы объявили Александра сыном бога Ра, «любящим Амона».
В дельте Нила, недалеко от Канопского рукава, между морем и обширным озером Мареотид, на месте рыбацкой деревушки Ракотиды Александр основал новый город, названный в его честь Александрией. Город вплоть до нашествия арабов оставался столицей — сперва государства Птолемеев, а позднее и римской провинции Египет. Уже при первых Птолемеях множество греков и македонян приезжали жить в Египет, расселяясь по всей долине Нила и на побережье Средиземного моря. В течение длительного времени греческая и египетская общины, несмотря на тесное экономическое взаимодействие, представляли собой разные социумы со своими законами, судьями и моралью. Птолемеи пытались сблизить эти общины: был установлен культ нового — общего для эллинов и египтян — бога — Сераписа, увеличивалось количество смешанных браков. Но тем не менее две культуры так и не слились в одну.
При Птолемеях и римлянах Египет представлял собой многонациональное государство. Здесь жили фракийцы и иллирийцы, киликийцы и критяне, персы и евреи. Они часто становились грекоговорящими и эллинизированными в контексте культуры, но в некоторых случаях формировали и свою отдельную общину. Последнее прежде всего относится к евреям. Их особенно много было в Александрии: были периоды, когда их численность составляла две пятых населения столицы. Здесь они даже создали отдельный квартал, где жили отчасти самоуправляемой общиной, хотя и говорили при этом на греческом языке.
Государство Птолемеев было предельно централизованным государством: царь обладал всей полнотой власти. При дворе сохранились традиции времен Александра, здесь тщательно вели «царский журнал» и обширную царскую корреспонденцию. Существовала целая иерархия высших придворных должностей: «родственники», «равные по почету родственникам», «первые друзья», «равные первым друзьям», «друзья», «преемники» и т. д.
В эллинистический период продолжали существовать древние административные и религиозные центры в Египте: Мемфис, Фивы, Гермополь, Гераклеополь и другие. Однако они не пользовались правом самоуправления. В Египте было лишь три полиса — Александрия, старая греческая колония Навкратис и основанная Птолемеем I в Верхнем Египте Птолемаида.
За исключением трех греческих городов, весь Египет представлял собой хору, то есть это были сельские местности и поселения городского типа, не имевшие самоуправления. Хора сохранила древнее деление на номы, которые во многом удержали прежнюю обособленность. Функции прежних номархов перешли к стратегам, которые стали во главе управления номов.
По мере роста своего могущества Рим все более властно вмешивается в египетские дела. В 149 году до вашей эры Птолемей VII Фискон выгнал своего брата Птолемея VI Филометра из Александрии. Последний обратился за помощью к Риму. Сенат, руководствуясь интересами римской политики, разделил владения Птолемеев между братьями. Через семьдесят лет римский диктатор Корнелий Сулла передал престол Птолемею X, но восставшие александрийцы убили римского ставленника и избрали царем Птолемея XI Авлета. Царство Птолемеев к этому времени уже настолько ослабло, что римский сенат даже обсуждал вопрос о его ликвидации как самостоятельного государства. Лишь за взятку в 6 тысяч талантов Птолемею Авлету удалось добиться в сенате признания его царем.
После смерти Авлета началась новая династическая борьба между его дочерью Клеопатрой VII и ее малолетним братом Птолемеем XII.
В 30 году до вашей эры борьба между двумя сильными личностями Рима — Октавианом и Антонием — вступила в завершающую стадию. Под Александрией Антоний попытался оказать сопротивление, но остатки его войска перешли на сторону Октавиана. Антоний покончил с жизнью, бросившись на свой меч. Клеопатра, супруга Антония, попала в руки Октавиана и кончила жизнь самоубийством (она дала укусить себя аспиду). Октавиан приказал убить Птолемея Цезариона — сына Клеопатры от Цезаря и Антилла — ее старшего сына от Антония. Остальных детей Антония и Клеопатры взяла на воспитание Октавия — бывшая жена Антония.
В результате этой гражданской войны Египет — последнее из восточных государств Средиземного моря — был присоединен к римской державе. При римлянах Египет управлялся префектом, назначаемым лично императором. Эта провинция представлялась настолько значимой для государства, что римским сенаторам даже запрещалось посещать Египет без специального разрешения императора. В стране постоянно располагались сначала три, а позднее два легиона. Так же как и Птолемеи, римские императоры в Египте считались наследниками фараонов, и им также присваивались традиционные титулы фараонов. Кроме того, они получали также звание «Высшего жреца Александрии и всего Египта».
Рим назначал эпистратегов — региональных правителей Верхнего Египта, Среднего Египта и Дельты. Только несколько высших должностных постов — префекта, эпистратегов и некоторые другие — занимали собственно римляне. Основная же часть управленческого аппарата состояла из греков и эллинизированных египтян. И греческий язык в Египте оставался основным государственным языком.
Римляне сохранили птолемеевскую систему налогообложения. После традиционного сельскохозяйственного налога наиболее важным источником доходов для империи был душевой налог, которым облагался каждый коренной египтянин мужского пола. Жители метрополий — центров номов — платили подушную подать в половинном размере, а гражданин Александрии не платил вовсе. Египтяне несли это дискриминационное бремя даже после декрета 212 года Каракаллы, в соответствии с которым они стали формально полноправными римскими гражданами. Но самая тяжелая повинность для египетских крестьян заключалась в необходимости ежегодно поставлять в Рим, без всякой последующей оплаты, фиксированный объем пшеницы. В этом заключалась привилегия считаться «житницей великого Рима».
Практичные римляне существенно сократили административные расходы, уменьшив безо всяких колебаний число чиновников, получающих жалованье. Занятие целого ряда административных постов стало гражданской обязанностью, «литургией». Египетские литурги при римлянах собирают налоги, следят за состоянием каналов и дамб, надзирают за порядком. Любое упущение они компенсируют собственным имуществом.
В египетском обществе первых веков вашей эры резко усиливается значение сословного и корпоративного сознания.
Государство участвовало в сословном оформлении общества. Конституции императоров содержат латинские эквиваленты греческих имен новых сословий и групп: «почтеннейшие», «сильные», «умеренные». Причем названия эти имеют непосредственный юридический смысл. К «почтеннейшим» принадлежат сенаторы, всадники и городская верхушка, к «умеренным» — плебс. Первые освобождены от телесных наказаний, последние — нет. Императоры защищают по закону «незлобивое и мирное сельское простодушие» от притеснений сильных. Иногда же они переходят на точку зрения «почтеннейших» и выражаются их языком. Например, Каракалла в 215 году приказал изгнать из Александрии всех египтян, в особенности же крестьян, которые «своей многочисленностью и бесполезностью будоражат город». Узнать же крестьян можно было по обычаям, «противным культурному образу жизни».
Когда центральная власть в Египте усилилась, на дорогах меньше стало разбойников и других лихих людей. Римляне реконструировали систему ирригационных каналов. Из Месопотамии в Египет было привезено ирригационное колесо на бычьей тяге. Расширилась красноморская торговля Египта. Уже при Августе Октавиане свыше 120 торговых судов ежегодно отплывали из Египта в сторону Индийского океана. Торговля с Индией резко оживилась, когда греческий купец Гиппалос открыл закономерность образования муссонов, что позволило судам двигаться прямо через акваторию Индийского океана.
…Гость Аммония сидел в одной набедренной повязке, поджав под себя ноги и опустив колени на чистую оранжевую циновку. Длинные спутанные волосы обрамляли его худое безмятежное лицо, на котором выделялись цепкие, сияющие внутренней силой черные глаза и едва заметная, мимолетная улыбка. На левой щеке виднелся свежий рубец.
Он поднял глаза и посмотрел внимательно на сидящих перед ним Оригена, Геренния и меня, затем повернул шею направо, не взглянув при этом на Аммония, и стал медленно поворачивать голову влево, медленно же вдыхая. После этого, выдыхая так же медленно воздух с чуть заметным свистом, он вновь повернул взгляд вправо, глядя строго вперед, поверх наших голов. Так он проделал семь раз. Затем он возобновил свою неторопливую речь, показывая нам какой-то совсем невзрачный камешек.
— Этот камешек является камешком из-за всего того, что вы предполагаете о нем, из-за всего того, что с ним можно делать. Назовите это «созиданием» камешка. И я знаю и потому говорю вам, что камешек является камешком только из-за этого «созидания». И если вы хотите, чтобы камешек не был камешком, то все, что вам нужно для этого, — «несозидание» камешка. И весь мир вокруг вас, как и этот камешек, является этим миром потому только, что вас обучили тому созиданию, которое и превращает мир в то, что он есть для вас. Иначе мир был бы другим.
Он замолчал. Мы сконцентрировались на его правом глазе, остановив любой возможный внутренний разговор, как предупреждал нас Аммоний. Затем гость, продолжая сидеть, положил камешек на небольшой валун и медленно продолжил:
— Первое, что осуществляет с вещью созидание, — сжимает ее до жестких размеров. Поэтому прежде всего, что надо вам сделать, если вы хотите остановить знакомый вам мир, — увеличить эту вещь. Созидание заставляет вас отделять гальку от большего по размеру валуна. Если вы хотите научиться несозиданию, то ваш следующий шаг должен заключаться в том, чтобы слить эти камни вместе. Попробуйте это сделать, сначала сконцентрировавшись и глядя на камни, а затем закрыв глаза.
Через некоторое время в полной тишине он беззвучно поднялся и, сделав шаг, посмотрел быстро на меня и попросил подойти поближе и рассмотреть дырочки и вмятины камешка так, чтобы заметить мельчайшие детали в них.
— Если ты сможешь действительно сконцентрироваться на деталях, то поры и вмятины исчезнут, и тогда ты поймешь, что означает несозидание… Вот вам другое упражнение: записывание на доске кончиком пальца вынудит вас сфокусировать ваше внутреннее внимание на запоминании. Это тоже несозидание.
— Взгляните на тень этого валуна. Тень является камнем и в то же время нет. Наблюдать за камнем для того, чтобы понять, что такое камень, — это созидание, а наблюдать за его тенью — несозидание. Тени как двери, двери в несозидание. Мудрец, например, может определить самые глубокие чувства людей, наблюдая за их тенями. Верить в то, что тени являются просто тенями, это созидание, и такая вера довольно глупа. Думайте же так: в мире настолько много больше, чем я вижу, что, очевидно, должно быть много большее и в тенях тоже. В конце концов то, что создает тени, является просто созиданием.
Реальный мир — необъятен. Мы никогда не сможем понять его, мы никогда не разгадаем его тайны. Поэтому мы должны относиться к нему, как к тому, что он и есть — как к чудесной загадке!
Однако обычный человек не делает этого. Мир никогда не является загадкой для него, и, когда он приближается к старости, он убеждается в том, что не имеет больше ничего, для чего жить. Старик не исчерпал мира. Он исчерпал только созидание себя и людей. Но в своем глупом убеждении он верит, что мир не имеет больше загадок для него. А потому и умирает…
Запомните: вещи, которые созидают люди, ни при каких условиях не могут быть более важны, чем мир. Мудрый относится к миру, как к бесконечной тайне, а к тому, что делают люди, как к бесконечной глупости.
…На закате солнца гость Аммония учил несозиданию разговора с самим собой. Для этого он заставил нас проходить несколько часов по берегу моря с глазами, фиксированными неподвижно и сфокусированными на уровне чуть выше горизонта, что усиливало периферическое зрение. Тем самым он одновременно помогал остановить внутреннее течение мысли и тренировал внимание. Потом я понял, что концентрация внимания на периферии поля зрения усиливает мою способность концентрироваться в течение долгого времени на одной какой-либо умственной деятельности.
А потом глубокой ночью он сказал следующее:
— Встречаясь с неожиданным и непонятным и не зная, что с этим делать, отступите на какое-то время. Позвольте своим мыслям бродить бесцельно. Ждите, не имея желаний и надежды. Ответ или указание придут сами. И ваше внимание само поймает его.
Утром его уже не было с нами в саду…
…Титан замолчал. Я с удивлением взглянул на компьютеры. Мне показалось, что между ними опять вспыхнул какой-то внутренний спор, в который они не хотели меня вовлекать. Через минуту зазвучала речь Сюзанны:
— Однажды Александру принесли шкатулку, которая казалась разбиравшим захваченное у Дария имущество самой ценной вещью из всего, что попало в руки победителей.
Александр спросил своих друзей, какую ценность посоветуют они положить в эту шкатулку. Одни говорили одно, другие — другое, но царь сказал, что будет хранить в ней «Илиаду».
Захватив Египет, Александр хотел основать там большой многолюдный греческий город и дать ему свое имя. По совету зодчих он было уже отвел и огородил место для будущего города, но ночью увидел удивительный сон. Ему приснилось, что почтенный старец с длинными седыми волосами, — а это был Гомер, — встав возле него, прочел следующие стихи:
На море шумно-широком находится остров, лежащий Против Египта, его именуют там жители Фарос.Тотчас поднявшись, Александр отправился на Фарос, расположенный несколько выше Канобского устья. Он увидел селение Ракотид, удивительно выгодно расположенное. То была полоса земли, подобная довольно широкому перешейку: она отделяла обширное озеро от моря, которое как раз в этом месте образует большую и удобную гавань. Царь воскликнул, что Гомер, достойный восхищения во всех отношениях, вдобавок ко всему — мудрейший зодчий.
Тут же Александр приказал своему архитектору Дейнократу начертить план будущего города. Под рукой не оказалось мела, и зодчий, взяв ячменной муки, наметил ею на черной земле большую кривую, равномерно стянутую с противоположных сторон прямыми линиями. Царь был доволен планировкой, но вдруг, подобно туче, с озера и с реки налетело бесчисленное множество больших и маленьких птиц различных пород и склевало всю муку. Александр был встревожен этим знамением, но ободрился, когда предсказатели разъяснили, что оно значит: основанный им город, объявили они, будет процветать и кормить людей из разных стран. Произошло это в 332 году до вашей эры.
Город изначально был разделен на пять кварталов, названных по первым пяти буквам греческого алфавита. В соответствии с замыслом Дейнократа были проведены две главные, очень широкие улицы, пересекающиеся под прямым углом. Одна из них, параллельная приморскому берегу, длиною в 30 стадий, вела от Канопийских ворот (на северо-восточной стороне) до ворот Некрополя. Другая, в 7 стадий длиною, шла от ворот Луны, расположенных на берегу моря, к воротам Солнца, обращенным к озеру Мареотис, к юго-западу. Часть города, к западу от этой улицы, сохранила прежнее название Ракотид, населенная преимущественно египтянами, а восточная часть была названа Брухионом.
На берегах Новой гавани были заложены верфи и товарные склады. К востоку от них лежал храм Посейдона, а далее Мусейон («храм муз») — своего рода академия, объединявшая ученых. Возглавлялся Мусейон лицом, лично назначаемым Птолемеями, а позднее римскими императорами.
Термином «мусейон» назывались культовые святилища, создававшиеся в целях почитания муз. Святилище представляло собой обычно портик с алтарем, но оно не было храмом в собственном смысле слова. Между колоннами портика размещались статуи девяти муз. Мусейоны служили местом собраний для литературных и артистических кружков.
Страбон описывал александрийский Мусейон следующим образом: «Мусейон также является частью помещения царских дворцов, он имеет место для прогулок, экседру (крытую галерею с сиденьями) и большой дом, где находится общая столовая для ученых, состоящих при Мусейоне. Эта коллегия ученых имеет не только совместный фонд, но и жреца — правителя Мусейона».
Ритор Антоний, посетивший Александрию во времена Плотина, говорил о Мусейоне: «Когда войдешь в крепость, то найдешь четырехугольное место, огороженное со всех сторон. В середине — двор, окруженный колоннадами. За этим двором идут галереи, по бокам которых устроены кабинеты. Одни из них служат хранилищем для книг и открыты для тех, кто хочет заняться изучением философии. Таким образом представляется для горожан легкий способ приобретения мудрости. Другие предназначены для служения древним божествам.
…Посреди двора стоит колонна громадной вышины, служащая для ориентирования, так как когда приезжаешь в Александрию, то не знаешь куда идти, а ее видно и с моря, и с земли».
Первоначальное здание академии было разрушено в 215 году во время войны Каракаллы против Александрии. Но затем оно вновь было отстроено.
При Сотере в знаменитую библиотеку Мусейона было свезено около 200 тысяч свитков. При его преемниках библиотека удвоилась. Каждый корабль, прибывавший в Александрию, если на нем имелись какие-либо литературные произведения, должен был или продать их библиотеке, или предоставить для копирования.
К Мусейону примыкали царские дворцы, Сема — гробница Александра Великого, множество театров и общественных зданий, в том числе дикастерион (суд), наконец, Серапеум.
Птолемей I Сотер, желая создать культ единого бога, поручил эту задачу комиссии теологов, в которой значительную роль играл крупный египетский жрец Манефон. (Его деление египетской истории на периоды по царствам и по династиям так и осталось в исторической науке.) Синкретическое, единое божество получило имя Серапис, наследник одновременно и Осириса — Аписа, египетского бога мертвых из Мемфиса (Сер апси — «царь бездны»), и греческих богов — Зевса, Асклепия и Диониса. Чтобы запечатлеть внешний образ бога, Птолемей I перенес в Александрию статую, выполненную Бриаксисом для храма Гадеса в Синопе. Отныне экзотерический Серапис стал изображаться в образе мужчины средних лет с пышной шевелюрой и бородой, головой, украшенной модием (изображением меры зерна), с благожелательным и безмятежным выражением лица.
Культ, зародившийся в Мемфисе, довольно быстро распространился в Александрии, где Птолемей III строит величественное святилище на месте небольшого Серапеума, возведенного основателем династии. Здесь вдоль прохода располагались прекрасные статуи Диониса-ребенка и павлина с распущенным хвостом. А вокруг изображения Гомера стояли в экседре скульптуры греческих мудрецов, поэтов и философов.
Со временем город быстро вышел за свои пределы — на востоке простиралась окраина Элевсин со стадионом, ипподромом, кладбищем. На западе раскинулся главный некрополь, который состоял из многих, часто широко разветвленных ходов и покоев, изредка покрытых художественными украшениями. Вдоль канала, соединявшего Александрию с Канопом, раскинулись прекрасные усадьбы.
Уже при Филадельфе Александрия стала благодаря своему сообщению с Нилом величайшим торговым городом Средиземноморья. Именно этот представитель династии Птолемеев повелел зодчему Сострату из Книдоса построить на скале, соединенной с восточной частью острова Фарос, маяк, ставший одним из чудес древнего света. Маяк представлял собой трехъярусную башню высотой около 120 метров. И на самом верху, уже при римлянах, располагалась обсерватория с загадочными телескопами. Маяк служил также наблюдательным пунктом, в нем размещался гарнизон.
Филадельф также завершил строительство Семы и положил туда прах Александра в золотом гробе. Его преемники считали своим долгом каждый выстроить новый дворец, как и прибавить новые украшения к прежним памятникам. Александрия была одним из наиболее быстро развивающихся культурных центров мира эллинизма. Ее блеск был таков, что долго еще все, что относилось к эллинистическому миру, называли александрийским.
В 48 году до вашей эры Цезарь во главе одного легиона высадился в Александрии, чтобы принять активное участие в споре между Клеопатрой и ее братом Птолемеем. Последовавшее затем кратковременное правление царицы позволило городу несколько отдохнуть. Здесь был сооружен великолепный храм Цезаря, который соединялся со зданием царского дворца и библиотекой. Восторженными словами описал этот храм Филон: «Ничто не может сравниться с храмом Цезаря! Он возвышается напротив гавани, и столь лепообразен, величествен, что подобного нет! Наполнен он окладами и картинами, со всех сторон блистает золотом и серебром. Велик, разнообразен, украшен галереями».
В этот же период Антоний приказал перевести в Александрию Пергамскую библиотеку в 299 тысяч томов. Александрийская библиотека стала насчитывать уже до 700 тысяч папирусных свитков и пергаментов.
Эта крупнейшая библиотека тогдашнего мира состояла из двух частей — внутренней (или царской) и внешней. Первая находилась на территории дворцового комплекса. Ее организаторы поставили перед собой цель собрать в ней не только все произведения греческих авторов (из которых многие имелись здесь в нескольких экземплярах), но также все, что было переведено к тому времени на греческий с других языков (в том числе, например, септуагинта — греческий перевод Библии). Внешняя библиотека, основанная позже царской, помещалась в Серапеуме — на территории храма Сераписа.
Но новый подъем Александрии начался с 30 года до вашей эры. В этом году Египет был объявлен римской провинцией, а Александрия сделана местопребыванием римских префектов. Снова оживилась торговля. Через экспортный порт вывозили хлеб, папирус, плотные и тонкие ткани, благовония, «александрийские товары» (изделия художественного ремесла). Кроме того, это был и транзитный порт для снабжения всего Средиземноморья дарами Центральной Африки (слоновой костью, золотом, страусовыми перьями, черными рабами, дикими животными) или арабских стран и Индии (пряностями, ароматическими веществами, благовониями, шелком). Эти товары поступали в Александрию по каналу Нехо, караванным путем, по Нилу или по морю от Газы. Масштабность морских и речных перевозок с перегрузкой в Александрии объясняет развитие здесь и кораблестроения.
Освященные преданием помещения Мусейона снова наполнились учеными и художниками. Наступил серебряный период для Александрии, когда она сделалась вторым по величине городом Римской империи с населением 300 тысяч человек.
Но вскоре снова вспыхнули беспорядки…
…Я налил себе немного холодного кофе, но, так и не дотронувшись до чашки, стал вслух рассуждать:
— Плотин провел у Аммония в Александрии одиннадцать лет. Система его философии, хотя это нечто выше, чем «система» как таковая, в основном сформировалась именно в этот период. Правда, он ничего не писал в Александрии… Итак, его интеллектуальная модель конструировалась в школе Аммония Саккаса: с одной стороны, как результат интенсивных обсуждений и дискуссий с коллегами по школе и самим Аммонием, а с другой стороны, в ходе работы в знаменитых александрийских библиотеках с определенными философскими текстами. И все это на базе уже того, что у него было — тех интуиций, тех озарений, которые он вынес из детства и юношеского возраста. Правда, по классификации Пифагора, духовное развитие философа несколько иное: до двадцати лет — младенец, до сорока лет — юнец, до шестидесяти лет — юноша, после шестидесяти — старик.
И все же предположим, что моя гипотеза верна. Тогда надо сделать вот что: необходимо найти и представить краткий сопоставительный анализ лингвоматематических интерпретаций «Эннеад» Плотина. Я думаю, что они есть. Мы все будем благодарны, если соответствующими данными займется ХИП.
Я взял чашку и наконец-то сделал глоток. ХИП незамедлительно приступил к работе. Я сидел, откинув голову на кресло и закрыв плотно веки. Почему-то тоскливо щемило левый глаз. Вдруг я подумал о той загадочной серебристой тени: «Что это было? Какой-то периферийный эксперимент САО? Он единственный автономно подключен к голографическому дисплею. Или… или это новый способ взаимосвязи конструируемого информационного поля с каким-то неизвестным мне планом моего бессознательного?» В этот момент я услышал по-прежнему мелодичный, но и непривычно жесткий голос Сюзанны:
— Необходимо учесть следующий аспект: в рамках культуры, в которой развивался Плотин, отсутствовало благоговейное, сакральное отношение к некоему тексту или к его создателю. Некий определенный текст считался сакральным, поскольку когда-то в нем неким образом отразились Первоначала. Но он одновременно не являлся сакральным, ибо манифестация Абсолюта никогда не тиражировалась и являлась всегда уникальной. В этом смысле необходимо воспринимать и интерпретировать слова Плотина: «Лучше всего изучить наиболее ценное из мнений древних и посмотреть, соответствуют ли они нашим собственным».
Я посмотрел в окно, тень огромного черного с золотистыми проблесками облака медленно вползала в ущелье. «Интересная мысль… для Сюзанны. О чем она хочет предупредить?» Но я не успел додумать, включился ХИП:
— Используются следующие критерии классификации информационного массива: частота прямого цитирования данного мыслителя Плотином, частота косвенного, небуквального цитирования, использование Плотином специфических образов того или иного философа. Классификация иерархично построена по степени убывания.
Платон. Чаще всего Плотин обращается в «Эннеадах» к знаменитому диалогу Платона «Тимей» — 105 раз. Далее: «Государство» — 98 раз, «Федон» — 59, «Федр» — 50, «Филеб» — 41, «Пир» — 36, «Законы» — 35, «Парменид» — 33, «Софист» — 26, «Теэтет» — 11, «Горгий» — 9, «Алкивиад» — 8, «Кратил» — 7, «Послезаконие» — 5, «Политик» — 4, «Гиппий большой» — 4, «Ион» — 1.
В рамках данного анализа уместно и необходимо процитировать А. Ф. Лосева — крупнейшего знатока и Платона, и Плотина: «В связи с отношением Плотина к Платону необходимо затронуть один вопрос, который смущал умы в течение многих столетий: имел ли Платон какое-то особое „тайное“ учение, не выраженное в его диалогах, или не имел… Скажем сразу: у Платона было множество самых разнообразных принципов, больших и малых, которыми он обладал, как и всякий великий мыслитель, который, может быть, пытался так или иначе излагать в своих лекциях, но из которых, в результате шести — или семивекового развития античной философии действительно образовалось такого рода учение, что можно назвать „тайной“ его огромного философского горизонта. Если угодно, в классическом платонизме была своя „тайна“. Но эта тайна была только теми принципами, которые только у Плотина получили свой явный характер. Вся „тайна“ платонизма выразила себя в неоплатонизме».
Аристотель. Вторым по степени интеллектуального присутствия в «Эннеадах» является Аристотель. Практически нет ни одного трактата Аристотеля, которого бы Плотин не цитировал или, по крайней мере, выражениями которого в тех или иных пунктах своей системы не пользовался бы. Плотин достаточно критически относится к Аристотелю, хотя по некоторым очень важным направлениям он не только согласен с представлениями Стагирита, но и развивает его.
Первое и самое главное различие между Плотином и Аристотелем — это отсутствие у Аристотеля основной диалектической системы ипостасей — Единое, Нус, Душа, Материя. У Аристотеля есть только некоторые намеки на Единое. Плотин же утверждает, что «Единое есть мощь всего». Аристотель не приемлет особого мира чисел. Для Плотина мир чисел есть вполне божественный мир. Но в учении о наличии субъекта и объекта в уме, о существовании в уме собственной, чисто умопостигаемой материи, проблемы потенции и энергии Плотин и Стагирит близки. Что касается души, то Плотин аристотелевскую душу понимает как воплощение души в теле. Аристотелевский же индивидуализированный ум необходимо воспринимать как отдельную плотиновскую душу, бессмертную и с телом связанную только относительно. В сравнении с общим равнодушием Аристотеля к судьбе отдельных душ у Плотина учение о душепереселении и воплощении душ является одним из основных. Что касается материи, то Аристотель вполне ясно различает здесь несколько типов, начиная от негативномыслимой материи и кончая материей умопостигаемой. Но он не свел, не синтезировал все эти виды материи в одно целое. Плотин же со своей диалектикой сумел не только использовать все эти разнообразно и противоречиво действующие у Стагирита разновидности материи, но и сумел свести их в одно нераздельное, данное диалектическое целое.
Пифагор. В очень многих текстах Плотина отражено знание пифагорейской и орфической литературы разных периодов. Плотин был знаком и с экзотерическими, и с эзотерическими аспектами пифагорейской доктрины о числах. Система Плотина связана с учением Пифагора об индивидуальной душе, пифагорейской диалектикой, учением о вселенской гармонии, со специфической демонологией пифагорейцев. Аскетизм жизни Плотина словно демонстрирует аскетические принципы пифагорейского образа жизни.
Гераклит. В своем учении о Едином как вечном и умопостигаемом и о телах как вечно становящихся и текучих Плотин прямо ссылается на Гераклита. Имея в виду его суждения, Плотин размышляет о судьбе. Говоря о принципе становления, Плотин в том числе имеет в виду и рассуждения Гераклита о том, что «не только ежедневно новое солнце, но и солнце постоянно непрерывно обновляется». Плотиновская мысль о схождении расходящегося и о борьбе частей целого в пределах этого целого выражена у Гераклита очень ярко. Ссылается Плотин и на мысль Гераклита о том, что скрытая гармония сильнее явной, а также на то, что «путь вверх и вниз один и тот же». Также Плотин цитирует слова Гераклита: «Мышление обще у всех»; «душе присущ логос, сам себя умножающий»; «трупы более необходимо выкидывать, чем навоз», и другие.
Парменид. Как вечное становление Гераклита, так и вечная неподвижность бытия у Парменида, безусловно, соответствует основным принципам системы Плотина. Знаменитый тезис Парменида о том, что «мышление и бытие одно и то же», у Плотина приводится целых пять раз. Поэму Парменида о неподвижном, бесформенном и бесконечном бытии Плотин местами буквально, а местами не буквально цитирует не менее десяти раз.
Эмпедокл. Плотину хорошо известно основное учение Эмпедокла о том, что «то любовью соединяется все воедино, то, напротив, враждою ненависти все несется в разные стороны». Плотин несколько раз указывает это фундаментальное положение Эмпедокла. Он цитирует выражение Эмпедокла «послушный неистовствующей Вражде». Ссылается Плотин и на учение Эмпедокла о том, что «знание подобного возможно для подобного только», а также на его знаменитые стихи, такие, как: «Привет вам, я уже для вас более не человек, а бессмертный бог» или: «Мы пришли в эту скрытую пещеру».
Кроме того, в «Эннеадах» Плотин анализирует, цитирует или упоминает стоиков (например, в критике четырех стоических «категорий бытия»: субстрата, качества, состояния и отношения в первом трактате шестой «Эннеады»), эпикурейцев (Плотин против выведения отдельного человека из сплетения атомов, которое делает всякую конкретную единичность только «рабом необходимости»), скептиков, Анаксимандра, Анаксагора, Ферекида, Демокрита…
…Я вновь оказываюсь в тихом, в расплывающихся полутонах, просторном доме Аммония в Александрии. Я вижу неслышно плывущие тени, — и я напрягаюсь, стараясь найти знакомые черты, и не могу. Усталость, — мерно и гулко бьется сердце в безбрежном океане ночи. И все же есть другой способ — за что-то зацепиться, сконцентрироваться, вытащить любую мысль, а потом уже все возникает само…
…По-разному происходили занятия у Аммония. Иногда это неторопливая, без эмоций и страсти, беседа, во время которой ткалось новое в своей неожиданности полотно мысли. А порой обсуждение какого-либо вопроса происходило в форме прямой, жесткой полемики двух взглядов, двух подходов. Кто-то — сам Аммоний, Филострат или Ориген — произносил в виде монолога заранее подготовленную, тщательно аргументированную речь, в которой неявно нападал на наши общие положения. Другой же — чаще всего то были Герений и я, — в ответной, без подготовки, спонтанной речи должен был не только опровергнуть выставленные доводы и аргументы, но и показать нечто новое в красоте Нуса.
И я всегда там восхищался Герением: он был, пожалуй, наиболее талантлив и замечателен в этой роли. Мы были близки, я, он и Ориген, — наверное, в силу именно несхожести наших характеров… Во всяком случае, и Аммоний именно Герением восхищался более, чем кем-либо, утверждая при этом, что истинное искусство оратора и философа заключено в способности попеременно контролировать свою мысль и отбрасывать этот контроль.
Герений обычно начинал медленно, запинаясь, не отрывая глаз от какой-либо незаметной для посторонних точки в зале или в саду. Затем его речь постепенно становилась все более пульсирующей, все более внутренне пронизанной силовыми молниями. Неожиданно он поднимался, начинал ходить взад и вперед, не замечая слушателей, как бы направляя свой взор куда-то вовнутрь себя. Он словно погружался в некий упругий и горячий поток.
— Если сравнить представления, которые иудеи и христиане считают истинными, и те предания, которые мы имели искони от отцов, то наша мифология как бы не знает специального творца этого мира. О богах, которые были до сотворения мира, Моисей вообще ничего не говорит, и даже о существе ангелов он ничего не решился сказать. Он во многих местах часто говорит, что они славят бога, но рождены ли они от него, не созданы ли они другим богом, а приставлены славить другого, или как-нибудь иначе — ничего не сказано. Моисей рассказывает о том, как устроены были небо и земля и все, что на земле: одни вещи, по его словам, созданы по приказанию бога, как свет и твердь; другие бог сотворил, как небо и землю, солнце и луну. Третьи существовали раньше, но были скрыты, пока он их не разделил, как воду и сушу. При этом Моисей ничего не решился сказать о происхождении или сотворении духа, — он только говорит: «И дух Божий носился над поверхностью воды». А изначален ли он, дух божий, или рожден — этого он не разъясняет нисколько.
И вот что говорит Моисей: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над поверхностью бездны, и дух Божий носился над поверхностью воды. И сказал Бог: „Да будет свет“, и стал свет. И увидел Бог, что свет хорош. И отделил Бог свет от тьмы. И назвал Он свет днем, а тьму назвал ночью. И был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог: „Да будет твердь посреди воды“. И назвал Бог твердь небом. И сказал Бог: „Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да появится суша“, и стало так. И сказал Бог: „Да произрастит земля зелень, траву и дерево плодовитое“. И сказал Бог: „Да будут светила на тверди небесной, чтобы управлять днем и ночью“».
При этом Моисей не говорит, что бездна, тьма и вода созданы богом. А ведь раз он говорит о свете, что он явился по приказу бога, то следовало как-нибудь сказать и о тьме, и о бездне, и о воде. А он ничего вообще об их происхождении не говорит, хотя часто их упоминает. К тому же он не упоминает ни о происхождении, ни о сотворении ангелов, ни о том, каким образом они были обольщены, а говорит только о материальном, касающемся неба и земли. Таким образом, согласно Моисею бестелесного бог не создал, а лишь упорядочил существовавшую до того материю. Ведь слова «земля же была безвидна и пуста» означают не что иное, как то, что жидкое и твердое вещество у него — материя, а бога он выводит лишь как организатора ее.
Здесь, если хотите, сопоставим с этим высказывание Платона. Посмотрим, что он говорит о Творце и какие приписывает ему слова при сотворении мира, и таким образом сравним между собою космогонию Платона и Моисея. Тогда станет ясно, кто лучше и более достоин Бога — «идолопоклонник» Платон или тот, о ком в еврейском писании сказано, что «лицом к лицу Господь говорил с ним».
Итак, вот что говорит о мире Платон в своем «Тимее»: «Действительно, все небо, или космос, существовали всегда, не имея никакого начала, или же возникли, имели некое начало? Мир имеет начало. Ибо он доступен зрению и осязанию и обладает телесностью. А все такое — нечто чувственное; чувственное же, воспринимаемое рассудком и ощущением, возникает и является смертным… Итак, по правильному рассуждению, надо признать этот мир живым существом, одушевленным и разумным, которое в самом деле родилось по промыслу Божьему».
Сопоставим еще вот что: какую речь произносит Бог у Моисея и какую у Платона.
«И сказал Бог: „Создадим человека по образу нашему и подобию; и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле“. И сотворил Бог человека, по образу Бога сотворил его; мужчиной и женщиной сотворил он их и сказал им: плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всеми животными, и над всей землей».
А послушайте теперь речь, которую Платон приписывает Творцу Вселенной, который обращается к порожденным им богам:
«Боги богов, все то, чему я — творец и Отец, будет неразрушимо, такова Моя воля. В сущности, все связанное разрушимо, но то, что прекрасно, гармонично слажено и хорошо организовано, было бы грешно желать разрушить. Поэтому, поскольку вы созданы, вы не обладаете абсолютным бессмертием и полной неразрушимостью, однако вы не погибнете и не получите смерти в удел, так как Моя воля выше тех оков и сильнее тех свойств, которыми вы были ограничены, когда возникли. Теперь вникните в те указания, которые Я вам даю. Есть еще три вида смертных, но не рожденных. Если бы их не было, небо было бы несовершенным, ибо оно тогда не заключало бы в себе всех видов живых существ. Но, если Я создам и они получат жизнь от меня, они станут равны богам. Поэтому для того, чтобы существовало смертное и чтобы вселенная эта в действительности была всем, займитесь вы, в соответствии со своей природой, творением живых существ, подражая моей силе, которой Я создал вас. При этом, поскольку им полагается иметь нечто от бессмертия, то божественное начало, которое руководит их желанием следовать справедливости и вам, это Я посею в них, Я доставлю и передам им. А все остальное вы дадите; присоединяя к бессмертному смертное, отделяйте и производите живые существа, растите их, давая им пищу и вновь восстанавливайте гибнущих».
И пояснить слова божественного Платона мог бы я таким образом. Платон называет богами видимые солнце, луну, звезды и небо, но они — подобия невидимых. Видимое нашими глазами Солнце, как вы знаете, подобие умопостигаемого и невидимого. Опять-таки являющаяся нашим глазам луна и каждое из светил — подобия умопостигаемых. Вот этих-то умопостигаемых, невидимых богов, находящихся в них и с ними и рожденных самим Творцом, Платон и имеет в виду: «боги (то есть невидимые) богов» (очевидно, видимых). Общий Творец их — тот, кто устроил небо, землю, море и звезды и породил их прообразы в умопостигаемом мире.
Итак, смотрите, как мудро и дальнейшее рассуждение Платона. «Есть еще, — говорит он, — три вида смертных» — очевидно, люди, животные и растения, ибо для каждого из видов установлены свои законы. «Если бы, — говорит, — любой из них произошел от Меня, то, безусловно, необходимо, чтобы он был бессмертен». Ведь и для умопостигаемых богов, и для видимого мира причиной их бессмертия служит то, что они рождены Творцом. «Ведь то, что есть бессмертного, — говорит он, — по необходимости дано им от Творца», — речь идет о разумной душе, «остальное же, смертное, присоедините к бессмертному вы».
Таким образом, ясно, что боги-творцы, восприняв творческую силу от Отца своего, породили на земле то смертное, что есть в животных. В самом деле, если бы не должно было быть никакой разницы между небом и человеком и даже, клянусь Зевсом, между небом и пресмыкающимися или плавающими в море рыбами, тогда и творец должен был быть у них один. Но раз есть большая разница между бессмертным и смертным, которая не становится ни больше, ни меньше, то причина должна быть у одного одна, у другого — другая.
Итак, поскольку Моисей, очевидно, не разобрал всего относящегося к подобающему Творцу этого мира, то и следствием этого является различие между мнением евреев и наших предков насчет народов.
Моисей говорит, что создатель мира избрал еврейский народ, заботится только о нем, только о нем думает, ему одному отдал свое попечение. Об остальных же народах он и не вспоминает, как бы они ни жили и каким богам ни поклонялись.
Я покажу, обратившись отчасти к тому, что говорил до меня Ориген, что и сам Моисей называет своего бога богом только Израиля и Иудеи, а евреев — избранниками, то же говорят бывшие после него еврейские пророки и Иисус Назорей. Послушаем их речи, и прежде всего Моисея: «И скажу фараону: так говорит Господь: Израиль есть сын мой, первенец мой. Отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение». И несколько дальше: «Они сказали: бог евреев призвал нас; отпусти нас в пустыню на три дня пути, принести жертву господу, богу нашему». И ниже опять в таком роде: «Господь, бог евреев, послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне». А вот что говорит Иисус Назорей: «Один из книжников спросил его: какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: „Слушай, Израиль! Господь наш есть Господь единый; И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею: вот первая заповедь!“ Или вот что говорит обманщик и шарлатан Павел, называющийся апостолом: „Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо я израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал“.
Как видите, бог иудеев с самого начала заботился только о евреях. Павел в зависимости от случая меняет свое учение о боге: то он настаивает на том, что иудеи — удел бога, то он, убеждая эллинов присоединиться к нему, говорит: „Бог есть не только иудеев, но и язычников; конечно, и язычников“. Уместно поэтому спросить Павла: если то был бог не только евреев, но и язычников, чего ради он послал евреям обильную пророческую благодать, и Моисея, и закон, и пророков, под конец и Иисуса, а к нам — ни помазания, ни учителя, ни вестника предстоящей к нам милости от него.
Итак, в течение десятков тысяч или, если вам угодно, тысяч лет он не обращал внимания, что все люди, пребывая в таком невежестве, поклоняются, как они выражаются, идолам, все от востока до запада и от севера до юга, за исключением небольшого племени, живущего даже еще неполных две тысячи лет в уголке Палестины. Если он бог всех нас и творец всего, почему он на нас не обращал внимания? Приходится поэтому думать, что бог евреев в действительности не творец всего мира и не властвует над Вселенной, но что он ограничен, и властью он, надо полагать, обладает ограниченной, наряду с прочими богами.
А теперь посмотрите опять-таки, что у нас говорят об этом? Наши говорят, что Творец — общий отец и Владыка всего — и прочие народы распределены между богами народов и городов, и каждый управляет своей долей, как ему свойственно. Но в Отце все совершенно и все едино, а частичные божества обладают каждый другой силой, и сообразно с характером того или иного бога управляемые ими народы следуют им. И если опыт от века подтверждает то, что мы говорим, а в их рассуждениях нигде нет ничего складного, почему же иудеи цепляются за свои претензии на преимущество?
Пусть мне скажут, почему кельты и германцы храбры, эллины и римляне обычно — обходительны и гуманны, будучи вместе с тем непреклонными и воинственными, египтяне — более смышленый и склонный к искусствам народ, сирийцы невоинственные, изнеженные и вместе с тем умные, горячие, легкомысленные и понятливые люди. Если не видеть никакой причины такого различия между народами и утверждать, что оно скорее дело случая, то как можно в таком случае верить, что провидение управляет миром? Насчет законов ясно, что люди создали их в соответствии со своей природой. Законодатели своими правилами очень мало прибавили к естественным склонностям и обычаям. Откуда же у народов различия в языках, правах и законах?
Моисей приводит совершенно баснословную причину различия в языках. Он говорит, что люди, собравшись вместе, захотели построить город, а в нем большую башню. И говорится далее: „И сошел Господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один язык у всех, и вот что они начали делать, и теперь не будет для них затруднения ни в чем, что они задумали бы делать. Сойдем же и смешаем там их язык так, чтобы один не понимал другого. И рассеял их Господь по лицу всей земли, и они перестали строить город и башню“. Невежество Моисея изумляет: если бы даже все люди на всей земле имели один язык и одну речь, они не сумеют построить башню, доходящую до неба: ибо потребуется бесконечное количество кирпичей размером во всю Землю, чтобы можно было бы добраться хотя бы до орбиты Луны.
И вот, принимая такую явную басню за истину, приписав богу, что он испугался, как бы люди на него не покусились, и ради этого спустился и смешал их языки, иудеи после этого еще смеют хвалиться, что познали бога! Чтобы объяснить, почему бог смешал языки, Моисей утверждает, что бог испугался. А что касается различия в нравах и обычаях, то ни Моисей, и никто другой этого не разъяснил. А ведь различие в национальных обычаях и законах среди людей вообще больше, чем разница в языке. Кто, например, из эллинов скажет, что можно сойтись с сестрой, дочерью или матерью? А у персов это считается дозволенным. Надо ли мне подробно перечислять всех, упоминать о любви к свободе и непокорности германцев, о том, как смирны и покорны сирийцы, персы, парфяне и вообще все восточные и южные народы, подчиняющиеся деспотической монархии? Но если эти более важные и ценные свойства создаются без божественного провидения, чего же мы напрасно хлопочем и поклоняемся тому, кто ни о чем не промыслит? Имеет ли право на наше уважение тот, кто не печется ни об образе жизни, ни о правах, ни об обычаях, ни об устремлении законного порядка и государственности? Решительно нет. Вы видите, к какой нелепости приводит это рассуждение. Всем хорошим, что наблюдается у человека, руководит душа, а тело за ней следует. Поэтому, если бог иудеев пренебрег нашими душевными свойствами, да о материальном нашем снаряжении не позаботился, не послал нам учителей и законодателей, как евреям, согласно Моисею и последующим пророкам, — то за что нам остается его благословлять?
А ведь и нам Бог дал тех богов, которых они не знают, и добрых покровителей, не хуже того, которого чтут с древних времен у евреев, покровителя Иудеи, о которой единственно ему досталось заботиться, как об этом говорит Моисей и его последователи до нашего времени. Но даже если считать, что настоящим Творцом мира является тот, кого почитают и по невежеству и спеси считают своим богом евреи, то мы еще лучше о нем разумеем, и нам он дал большие блага, чем им, — как душевные, так и внешние, и послал нам законодателей не худших, если не лучших, чем Моисей.
Я вновь говорю: если различия в законах и правах создали не национальный бог каждого народа, не ангел и демон, находящиеся под его началом, и не особое свойство душ подчиняться и покоряться лучшим, кто же другой и как породил это. Для этого недостаточно ведь утверждать: „Бог сказал, и стало“. Надо еще, чтобы природа творения не противоречила приказаниям бога. Поясню то, что я сказал: бог приказал, чтобы огонь, появившись, тянулся вверх, а земля — вниз. Но разве для того, чтобы это распоряжение бога исполнилось, не требуется, чтобы огонь был легок, а земля тяжела? Бог вечен, его распоряжения тоже должны быть такими. Как таковые, они являются либо природой сущего, либо согласными с природой. Ведь природа не может противиться велению бога и не может встать в противоречие с ним. Поэтому, даже если бог повелел, чтоб языки смешались и стали разнозвучащими, или отдал такое же приказание насчет общественного строя народов, то он достиг исполнения этого не одним только своим велением. Для этого нужно было, чтобы в народах, которым предстояло быть различными, были заложены различные природные свойства В этом можно убедиться, если посмотреть, как сильно отличаются германцы и скифы от ливийцев и эфиопов: неужели для образования того или иного цвета кожи богу не пришли на помощь климат и местные условия?
Да и Моисей это знал — и скрыл; ведь он смешение языков приписывает не одному богу. В иудейской библии бог говорит во множественном числе: „сойдем“, „смешаем“, с ним, конечно, сошел не один, а несколько. Моисей не говорит, кто они, но очевидно, что он имел в виду близких богу.
Итак, если считать надлежащим творцом всей Вселенной того, о ком возвестил Моисей, то мы имеем о нем лучшее мнение, считая Его всеобщим владыкой всего и признавая, кроме того, национальных богов, ему подчиненных, являющихся как бы наместниками царя, причем все они по-разному осуществляют свою задачу. И мы, в отличие от иудеев, Его не ставим в положение соперника поставленных им богов.
Удивления достоин в этой связи и закон Моисея. Впрочем, перечислим все заповеди, как они записаны, по его словам, самим богом:
„Я — Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта“; затем вторая заповедь: „Да не будет у тебя других богов, кроме Меня; не делай себе кумира…“; к этому указывается и основание: потому что я Господь Бог твой, бог-ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до третьего поколения». «Не произноси имени Господа Бога твоего всуе». «Помни день субботний». «Чти отца твоего и мать». «Не произноси ложного свидетельства». «Не желай принадлежащего ближнему твоему».
Есть ли такой народ, который не считал бы необходимым соблюдать все эти заповеди, за исключением «не поклоняйся другим богам» и «помни день субботний»? Всюду установлены наказания за нарушение их — в одних местах более суровые, в других такие же, какие установлены Моисеем, кое-где и более мягкие.
Но заповедь «не поклоняйся другим богам» заключает в себе немалую клевету на бога. «Ибо Бог — ревнитель», — говорит Моисей. И в другом месте он повторяет: «Бог наш — огонь поедающий». Что же, если человек ревнив и завистлив, то он порицается, а когда бог оказывается ревнивцем, то он прославляется? И разве похвально возводить столь явную клевету на бога? Ведь если он ревнив, то, значит, все боги пользуются почитанием, и все прочие народы почитают богов вопреки его воле. Так почему же он не воспротивился, будучи столь ревнивым и не желая, чтобы почитали других богов, а только его? Что же, или он не в силах был, или он вначале не желал препятствовать культу других богов? Первое предположение — что он оказался не в силах — нечестиво; второе же согласуется с нашим воззрением.
Нигде иудейский бог не проявляет себя таким сердитым, негодующим, гневающимся или клянущимся, так легко меняющим свои решения, как говорит Моисей по поводу Финееса в книге Чисел. После того как Финеес, застигнув поклонника Ваала Фегора вместе с прельстившей его женщиной, собственноручно убил их, нанеся им весьма мучительную и стыдную рану, — он говорит, что пронзил женщину через матку, — бог у него говорит: «Финеес, сын Елеазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов израилевых, возревновал по мне среди них, и я не истребил сынов израилевых в ревности моей».
Что может быть ничтожнее того повода, по которому бог разгневался? Что может быть бессмысленнее этой ярости бога, если десять, или пятнадцать человек, или, скажем, сто, или даже тысяча осмелились нарушить один из установленных богом законов? Неужели нужно было, чтобы из-за одной тысячи погибли шестьсот тысяч? Я считаю, что гораздо лучше, чтобы вместе с тысячей спасся и один порочный, чем чтобы с одним негодяем погибли тысячи…
Сравните Моисея с кротостью Ликурга, незлобивостью Солона или с милосердием и беспристрастием римлян по отношению к преступникам. А насколько наши воззрения лучше, чем проповедуемые Моисеем, можно видеть из следующего.
Древние учения предписывают нам подражать по возможности богам, а подражание это заключается в чистом и глубоком размышлении о сущем. А что этому размышлению чужды страсти, что оно заключается в душевном покое, ясно без слов. Ибо, поскольку мы пребываем в душевном покое, устремившись к созерцанию сущего, мы уподобляемся Богу. А в чем состоит восхваляемое евреями подражание богу? «Финеес, — говорит он, — отвратил мою ярость от сынов израилевых, возревновав по мне среди них». Выходит, что бог перестал сердиться, когда нашел человека, разделившего с ним гнев и досаду. Подобные вещи Моисей во многих местах своего писания говорит о боге.
А что Бог заботился не только о евреях, но о всех народах, и евреям не дал ничего важного, великого, а нам — гораздо лучшее и отличное, можно усмотреть из нижеследующего. Египтяне имеют право сказать, поскольку они могут насчитать немало имен мудрецов, что они многих получили по преемству от Гермеса Трисмегиста, халдеи и ассирийцы — от Оаннеса и Бела, и эллины — тысячи, начиная с Хирона: от последнего произошли все мистики и богословы. А евреи думают, что только их мудрецов надо прославлять…
Разве дал им их бог начала знания и философскую образованность? И в чем это выразилось? Наука о небесных явлениях получила развитие у эллинов, а первые наблюдения сделаны в Вавилоне. Геометрия достигла высокого развития, возникши из размежевания земель в Египте. Арифметика, которой положили начало финикийские купцы, стала у эллинов образцом науки. Эллины сочетали эти три дисциплины с музыкальной ритмикой, соединив астрономию с геометрией и к ним обеим приложив науку о числах и их гармонии. Таким образом, они установили законы музыкального искусства, открыв наиболее правильные или весьма близкие к ним законы гармонии.
Надо ли мне перечислять отдельно всех людей и все достижения? Надо ли называть таких людей, как Платон, Сократ, Аристотель, Кимон, Фалес, Ликург, Агесилай, Архидам или, лучше, ряд философов, полководцев, строителей, законодателей? Можно убедиться, что даже самые дурные и бесчестные из вождей гораздо мягче относились к обидчикам, чем Моисей к невинным.
О каком мне царстве в первую очередь говорить? Говорить ли о Персее, или об Эаке, или о Миносе Критском, который очистил море от пиратов, изгнав и оттеснив варваров до Сирии и Сицилии? Поделив с братом Радомантием не землю, а заботы о людях, он издал законы, которым научил его Зевс, а брату предоставил исполнять судейские обязанности.
Или говорить мне о Ромуле и Реме и о величественных деяниях римского народа? Когда после его основания возникали многие войны, Рим, любимый богами, всюду одерживал верх, всегда побеждал. Сильно благодаря этому разросшись, Рим нуждался в большей безопасности. Тогда Зевс дал ему мудрейшего Нуму, того самого прекрасного Нуму, который проводил время в безлюдных рощах, общаясь с богом в чистых размышлениях о нем. И он установил большинство жреческих законов. И Зевс дал городу эти законы, людям воздержанным и вдохновенным, через Сивиллу и других предсказателей, бывших в то время, на родном языке.
И все же не следует ненавидеть разумных среди последователей иудеев, в том числе и среди христиан. Ведь посылаемое богами вдохновение нисходит редко, на немногих людей, не всякий человек может его получить и не во всякое время. Поэтому и у евреев пророчество прекратилось, и даже у египтян оно не сохранилось; по-видимому, и естественные оракулы умолкли под влиянием времени. Поэтому наш владыка и отец Зевс для того, чтобы мы не были лишены вовсе общения с богами, дал им возможность наблюдения посредством священных действий, чтобы мы получали по мере надобности подобающую помощь…
…Внутри голографического экрана дисплея мелькнул тонкий, острый луч. Замерцала точка, постепенно расширяясь и клубясь мутным матовым светом. На меня вновь смотрел криво улыбающийся человек с грушевидным носом. Он высморкался в огромный носовой платок, чудовищно длинно вытянул шею влево и вправо, попытался всмотреться, словно стараясь увидеть меня, затем начал говорить:
— Итак, Александра Севера убили. Я об этом говорил, если ты помнишь. Произошло это в 235 году вашей эры, когда Плотин уже был у Аммония. Сенат признал Максимина императором. Что делать: сила есть сила!
Новый император слыл весьма неординарной личностью. Происходил он родом из Фракии и в раннем детстве был пастухом. Среди легионеров Максимин выделялся своим огромным ростом, отличался мужественной красотой, исключительной физической силой, неукротимым нравом, был суров, но часто тем не менее проявлял справедливость. Он считался самым храбрым воином в римской армии, так что его называли Геркулесом, Ахиллом, Гектором, Аяксом.
Начался новый, качественный, как сказали бы нынешние всезнающие политологи, этап в борьбе в империи за власть между собственно римскими кругами и представителями регионов. Сразу же сенаторские круги попытались свергнуть Максимина. В армии организовался заговор во главе с бывшим консулом Магнусом. В нем участвовало много лиц сенаторского звания, а также немалое число центурионов и простых солдат. Максимина же в армии поддерживали главным образом фракийцы, иллирийцы и паннонцы. Однако заговор был раскрыт, и император, чтобы римские граждане уважали государство, уничтожил свыше четырех тысяч заговорщиков.
Максимин был убежден в том, что власть нельзя удержать иначе как жестокостью. «Пусть ненавидят, лишь бы боялись». Для того чтобы скрыть незнатность своего рода, император приказал убить всех, кто знал об этом. Он не терпел около себя ни одного знатного человека и не пропускал ни одного повода проявить свою жестокость. Интересно, не так ли? Тиран против аристократии… И даже военные успехи Максимина против германцев не могли примирить с ним римскую знать, поскольку он одновременно начал беспощадную борьбу и с ней.
Пока террор поражал только верхи, масса населения даже злорадствовала Вполне в духе демократии! Но очень скоро конфискации и разграблению стали подвергаться и общественные имущества: муниципальные средства, храмовые сокровища Ведь армия рано или поздно мнет все, что оказывается под солдатскими ногами.
Постепенно в империи зрели зерна острого недовольства. Одно из них дало всходы в римской провинции Африка. Здесь прокуратором фиска был ставленник Максимина, беспощадно проводивший его политику. Но, кроме императорского прокуратора, был и проконсул провинции, назначенный сенатом. Им был Марк Антоний Гордиан, принадлежащий к одному из самых аристократических семейств Рима. К весне 938 года отношения Гордиана с прокуратором чрезвычайно обострились.
В такой напряженной обстановке прокуратор постановил конфисковать имущество нескольких крупных землевладельцев, поместья которых находились около города Тисдра, недалеко от Карфагена. Те собрали толпу своих рабов и колонов, вооружили их и убили прокуратора. Гордиан, как ни странно, в этот момент как раз находился в Тисдре. Заговорщики явились к нему и потребовали под угрозой смерти согласия на провозглашение его императором. Гордиан подчинился. Вместе с ним августом, т. е. соправителем, провозгласили его одноименного сына.
Гордиан II, как и его отец, был очень образованным человеком, добрым и не заносчивым. У него была великолепная библиотека — 62 тысячи книг. Он питал страсть к вину, которое было приправлено или розой, или полынью, или душистой смолой, или чем-нибудь еще. Женщин он любил страстно. Говорят, что у него было по крайней мере двадцать две наложницы, и от каждой из них он оставил по трое или четверо детей. Жизнь он проводил в удовольствиях — в садах, в банях, в прелестнейших рощах. Будучи сибаритом, он мало кому уступал в храбрости, считался одним из славнейших граждан.
Гордиан-старший сейчас же поставил в известность о своем избрании Рим. Он отправил письма своим многочисленным родственникам и друзьям и одновременно официальное послание сенату и народу. Все эти документы было поручено отвезти в Рим специальному посольству, у которого было и тайное поручение — устранить начальника преторианцев Виталиана, преданного сторонника Максимина. Послы, к которым было прикомандировано несколько солдат и центурионов, приехали в Рим и рано утром, прежде чем об их прибытии стало кому-нибудь известно, обманом проникли к Виталиану и убили его. После этого послы явились на форум и огласили послание Гордиана. Одновременно был пущен слух о том, что Максимин убит.
Немедленно собравшийся сенат, не дожидаясь подтверждения слуха о гибели Максимина, санкционировал переворот и провозгласил Гордиана и его сына августами.
Но уже очень скоро в Риме узнали, что слух о смерти Максимина был умышленно пущен заговорщиками. Страшный фракиец, живой и невредимый, стоял в Паннонии со своей армией. С минуты на минуту нужно было ожидать его вторжения в Италию и расправы с мятежниками. Однако сенат зашел так далеко, что возврата назад уже не было. Так как Гордиан находился еще в Африке, а Италии грозила непосредственная опасность, сенат выделил из своей среды комитет из 20 лиц для организации обороны. Среди них наибольшим авторитетом пользовались двое: Марк Клодий Пупиен и Деций Целий Бальбин.
Между тем в Африке начался новый этап драмы. У Гордиана-старшего были старые счеты с легатом (наместником) соседней провинции Калеллианом. Последний тем не менее поддержал переворот. Но через пару недель он передумал, собрал свой легион, без особого труда поднял его против Гордиана и двинулся на Карфаген. Регулярных войск в городе почти не было. Наскоро собранное и вооруженное кое-как ополчение горожан под командой младшего Гордиана оказать какое-нибудь сопротивление опытным нумидийским войскам, конечно, не могло. Сам Гордиан-младший пал в битве, а его отец, узнав об этом и не имея в Африке никакой защиты, страшась Максимина, удрученный горем и упавший духом, окончил жизнь, удавившись в петле.
Получив известие о гибели Гордианов, сенат собрался на тайное заседание в храме Юпитера. После долгих прений императорами были избраны Пупиен и Бальбин.
В это же время огромная, возбужденная страхом и неопределенностью толпа собралась перед храмом и запрудила подъем на Капитолий. Когда стало известно об избрании новых императоров, раздались крики негодования. Ставленники сената не пользовались популярностью в Риме. Но у народа не было ни одного подходящего кандидата, которого можно было бы противопоставить сенаторским императорам, кроме тринадцатилетнего внука покойного Гордиана-старшего. Это был сын его дочери Мэции Фаустины, названный в честь деда также Марком Антонием Гордианом. Имя этого мальчика и стали выкрикивать в толпе все громче и громче.
Когда раскрылись двери храма и показались оба императора, одетые в пурпурные одежды, в них полетели камни. Попытка вывести Пупиена и Бальбина под охраной окончились неудачей. Оставалось одно: выполнить требование народа. Отправили людей к маленькому Гордиану, с трудом принесли его на Капитолий, и сенат вынужден был провозгласить его цезарем.
Максимин, узнав о провозглашении Гордианов и о признании их сенатом, собрал солдат и, произведя щедрую раздачу денег, объявил о походе на Италию. В Риме тем временем шли лихорадочные приготовления. Основная задача заключалась в том, чтобы задержать Максимина на некоторое время в Северной Италии. Провинции переходили на сторону сенаторских императоров: время работало на сенат.
Авангард армии Максимина вынужден был приступил, к осаде Аквилеи — важного стратегического пункта, запиравшего дорогу на запад. Но осада затягивалась. Жители с мужеством отчаяния отбивали многочисленные штурмы. Осаждающие с каждым днем все больше страдали от недостатка продовольствия. Окрестности города были опустошены, а все дороги внутрь страны заперты специально построенными небольшими укреплениями, крайне затруднявшими фуражировки. Морские берега блокировались флотом.
Настроение Максимина стало падать. Особо взбудораженным казался 2-й парфянский легион. Он при Северах стоял недалеко от Рима. Когда Максимин перебросил его на Дунай, жены и дети солдат остались на месте. Естественно, что легионеры боялись, как бы их близкие не пострадали в случае осады Рима.
В жаркий июньский полдень часть 2-го парфянского легиона взбунтовалась и бросилась к ставке императора. Максимин вышел из палатки и попытался успокоить солдат, но сразу же был убит. Его участь разделил сын и ближайшие помощники. Все это произошло так быстро, что главная масса армии, верная Максимину, не смогла ничего предпринять.
Пупиен, к которому тем временем пришли на помощь галло-германские войска, прибыл в Аквилею. Бывшие солдаты Максимина получили амнистию и денежные подарки. Значительная часть армии была отправлена Пупиеном обратно в провинции, на места их обычных стоянок.
Опасность со стороны Максимина поневоле содействовала единству действий и выдвигала на первый план Пупиена. С переходом же к мирному положению возникли трудности во взаимоотношениях между сенатом и двумя императорами. Бальбин, как человек знатный и образованный, считался «своим», а Пупиена сенаторские круги презирали как «выскочку».
В конце июля 238 года в городе происходили Капитолийские игры. Почти все граждане были на празднике. Пупиен и Бальбин находились во дворце. Вдруг им донесли, что преторианцы идут ко дворцу с явно враждебными намерениями Пупиен хотел немедленно же вызвать на помощь войска, но Бальбин запротестовал, боясь, что Пупиен с их помощью намеревается его свергнуть. Ведь когда-то Пупиен был проконсулом на Рейне, и по старой памяти галло-германские войска сохраняли к нему привязанность. Пока они спорили, преторианцы ворвались во дворец. Обоих императоров схватили, сорвали с них одежду и под градом побоев и издевательств повели по городу.
Рейнские легионеры узнали о мятеже и, схватив оружие, бросились на помощь. Но их лагерь находился довольно далеко. Опасаясь, что жертвы будут вырваны из их рук, преторианцы покончили с полумертвыми императорами и бросили их тела на улице. Оставался мальчик-цезарь Гордиан. Преторианцы провозгласили его августом и увели с собой в лагерь. Там они заперли ворота и успокоились. Рейнские войска прибыли на место происшествия и, увидя, что все кончено, также вернулись в казармы. Они не собирались проливать свою кровь за мертвецов.
Грушеносый довольно хихикнул:
— Это был любопытный и показательно-гротескный момент в истории великого Рима: на протяжении 120 дней было свергнуто пять императоров. В конце концов формальная власть оказалась в руках тринадцатилетнего мальчика Гордиана III, за худенькой спиной которого маячили преторианские и рейнские легионы.
…И вновь раскрывается во вращающейся в голубом мерцающем тумане спирали какая-то картина. Что-то проясняется, и я словно вновь взираю сверху… на прошлое или… будущее…
…Раннее, полусумрачное осеннее утро. Лучи только появляющегося откуда-то солнца еще не обняли темную синеву моря. Но Ориген, полулежа на своем жестком ложе, уже быстро писал. Был он очень худ, с жидкой бородкой, впалыми щеками. И выглядел Ориген неважно потому, что уже давно очень плохо спал: по ночам часто просыпался и, лежа с открытыми глазами, тихо молился и думал о светлой силе вселенского образа Иисуса Сегодня он встал раньше обычного. Быстро омыв лицо остывшей водой, он продолжил свою работу, начатую накануне поздно вечером.
Дело в том, что только некоторые в школе Аммония записывали беседы, проходившие на занятиях. Сам Аммоний не одобрял этого. Ориген же не только все записывал, но и делал это весьма тщательно, обладая почерком красивым, хотя и мелким.
Занятие накануне проходило так. Аммоний продолжил беседу об уме вещей. Время от времени он прерывался для отдыха, и тогда слушатели его начинали задавать вопросы и отвечать на них друг другу, стараясь не только прояснить сказанное, но и выявить нечто, возможно скрытое, в словах Саккаса. Когда же разгорался спор, — а было это накануне три раза, то на вопросы отвечал сам Аммоний. В конце же занятия двое из желающих — Плотин и Филодем — попытались связать то, что было обсуждено, с собственными рассуждениями: Плотин туманно говорил о священных числах, как бы оформляющих Нус, а Филодем рассуждал о первоначальной прозрачности каждого ума.
Но Ориген по привычке записывал прежде всего то, что говорено было Аммонием:
— Умственные предметы не могут смешиваться с предметами чувственными; ум вещи, то есть его логос, вовсе не есть сама вещь и смешивается с ней отнюдь не вещественно. Но когда мы говорим, что огонь есть огонь, а вода есть вода, то, указывая на ум этих вещей, мы никоим образом не смешиваем их смысл, логос, с самими этими вещами. Цель ума этой вещи заключается в осмысливании этой вещи. Но это осмысливание не имеет ничего общего с вещественным на них воздействием. Ум вещи сам по себе вовсе не веществен. Можно сколько угодно кипятить воду, но логос воды от этого вовсе не закипит. И вода может сколько угодно замерзать, но эйдос воды никак не может замерзнуть. Ум воды может только покинуть воду, после чего она уже перестанет быть водой. Но от этого логос, ум воды ни в какой мере не станут телесными.
Ориген, задумавшись, перестал писать. Слабая его рука легла на бок, подспудно доставляя телу легкое беспокойство. Он пытался вспомнить, не пропустил ли ничего из слышанного у Аммония накануне. Однажды Аммоний сказал ему, что привязанность его, Оригена, к записыванию как бы демонстрирует жалость к самому себе. И поскольку Ориген промолчал, то мастер показал ему, как продолжать записывать не записывая. Указание заключалось в том, чтобы записывать какие-то смысловые куски в виде любого, самого бесхитростного или самого абсурдного рисунка. Особо важным была какая-то связь между рисунками, чтобы сохранить взаимосвязь между целостностью всего рассуждения. Средство оказалось очень полезным, но изматывающим для Оригена. Поэтому иногда он записывал на дощечки буквально то, что медленно говорил Аммоний. Вот и сейчас он придвинул к себе несколько дощечек и с них начал подробно переписывать на папирус слова Аммония:
«Мыслимые предметы имеют такую природу, что соединяются с тем, что может их воспринять, наподобие предметов изменяющихся. И, соединяясь, остаются не слитыми и нетленными, как предметы, помещающиеся рядом. В телах единение, безусловно, производит изменение вещей соединяющихся: они изменяются в другие тела. Например, из стихий происходят смешения, пища переходит в кровь, кровь — в плоть и в остальные части тела. В мысленных же предметах единение происходит, но смешение не следует за ним. Напротив, или оно удаляется, или теряется в несущем, но не принимает изменения. Однако оно и не уничтожается в несущее, ибо в таком случае оно не было бы бессмертным и душа, будучи жизнью, превращаясь при смешении, изменялась бы и не была бы бессмертной. Какую бы приносила она пользу для тела, если бы не сообщала ему жизни? Душа, следовательно, не изменяется при единении».
Ориген, взяв другую дощечку, стал пристально смотреть на странные кружочки, человеческие фигурки, домики и неожиданные закорючки. Самое существенное заключалось в том, чтобы как-то, без напряжения, слить все это в целостную картину. Или даже иначе: надо было как-то войти в такое состояние ожидания, когда все эти значки сливались сами в один образ. Через некоторое время он опять начал быстро писать:
«Возьмем кусок камня, стол, тарелку. Где же в столе находятся его ум, его „столность“? Или в тарелке ее „тарелочность“? Пока стол или тарелка предстоят как нечто целое, совершенно невозможно сказать, где в них находятся столность или тарелочность. С одной стороны, тарелочность находится во всякой, даже мельчайшей, части тарелки, но, с другой стороны, найти в какой-то части тарелки сам логос, сам ум тарелки, собственную „тарелочность“ нельзя. И тем не менее, разбив тарелку на мелкие куски, мы теряем эту тарелку, она прекращает для других и для себя быть тарелкой. То, что было тарелкой, в данном случае является мусором, так же как и вообще куча бесформенных предметов. Из этого следует, что смысл вещи, ее логос, ум существует в самой вещи вполне нетелесно, хотя без этого ума не существует и самой вещи.
Точно так же и с душой человеческой. Душа, взятая как таковая, есть именно душа, а не топор и не камень. И что же делает ее душой? Ведь она очень крепко соединена с телом и дробится так же легко, как и тело. Но можно ли сказать, что она и по существу своему дробится телесно, то есть является телом? Нет, она, присутствуя во всякой мельчайшей части тела, сама по себе вовсе не есть тело. Она есть ум тела, а не само тело. Ведь так же, как и, назвавши меч мечом, мы сразу заметили логос меча как именно меча. И этот логос, этот ум сразу же нашли в мельчайших частях меча. И этот ум можно искорежить и даже уничтожить, но эйдос меча, его логос, ум нельзя разбить или уничтожить. Меч может быть острым или тупым, тяжелым или легким, но ум меча не может быть ни острым или тупым, ни тяжелым или легким. Поэтому ум может находиться в душе, как и острота меча в самом мече, но ум души не есть просто душа, как и острота, взятая сама по себе, не обязательно должна быть остротою меча, она может быть и остротой точки или куска дерева».
Дальнейшие рассуждения Аммония Ориген записывал почти буквально накануне, поэтому сейчас ему нужно было только точно переписать их:
«Итак, если доказано, что мысленные предметы по своему существу неизменны, то отсюда необходимо следует, что они не погибают с тем, с чем были соединены. Душа соединена с телом, и соединена притом без смешения с ним. Соединение с ним доказывается тем, что она страдает с телом: ибо живое существо страдает с ним всецело, будучи как бы одним существом. Соединение же с ним без смешения доказывается способом отделения души от тела во время сна: она оставляет его как труп, вдыхая в него жизнь настолько, чтобы оно не погибло совсем, сама по себе действует в сновидениях, предугадывая будущее и приближаясь к мысленным предметам.
То же происходит, когда душа рассматривает в себе какой-либо умственный предмет: тогда она по возможности отделяется и делается самостоятельной, дабы вознестись к истинно существующим вещам. Действительно бестелесная, она проникает всюду, наподобие вещей, изменяющихся при единении, оставаясь, однако, неизменной и слитной, сохраняя сходство в себе, своей жизнью изменяя вещи, в которых она бывает, но сама не изменяясь от них. Наподобие того, как солнце своим присутствием превращает воздух в свет, делая его световидным, и соединяет воздух со светом, не смешивая их, и, однако, сливая, так и душа, соединенная с телом, остается вполне неслитной, отличаясь от солнца тем, что последнее, будучи телом и ограниченное известным местом, не везде следует за светом, как это бывает и с огнем. Огонь остается в лесу и связан как бы на месте с воспламененным светочем, тогда как душа, будучи бестелесной и не ограниченная местом, проникает повсюду всецело вслед за своим светом и за телом, и нет ни одной освещенной его части, в которой она не находится всецело. Душа не управляется телом, но сама управляет им и не находится в нем, как бы в сосуде или в мешке; напротив, тело существует в ней.
Мысленным предметам не препятствуют тела. Они переходят, проницают всякий род тела, не удержимые никаким телесным местом. Будучи мысленными, они и находятся в мысленных местах: или в самих себе, или в высших мысленных предметах. Там душа находится то в себе самой, когда она мыслит, то в уме, когда она умосозерцает.
И когда говорится о ней, что она находится в теле, то подразумевается не то, что он находится в нем как в месте, но состояние ее в этом случае подобно, например, присутствию в нас Бога. Когда говорится, что душа связана с телом известным отношением, стремлением или расположением, то подразумеваются отношения, связывающие, например, возлюбленных, — конечно, не телесно. Действительно, душа не имеет величины, объема, частей, не представляет ни одной части, могущей быть ограниченной каким-то местом. Как же нечто, не имеющее частей, может быть ограничено местом? Место существует с объемом: место есть предел содержимого, поскольку оно содержит его. Если бы кто-нибудь сказал: моя душа находится в Александрии, Риме и везде, то он, без сомнения, указывал бы для души место, ибо это обозначение — „Александрия“ и вообще слово „здесь“ указывает место. Но душа никак не находится в месте, а в отношении. Когда нечто мысленное поставляет себя в отношение к месту или предмету, находящемуся в известном месте, то она находится там в том смысле, что она и там деятельна, понимая под местом отношение, деятельность. Мы должны были бы сказать: она там деятельна, а говорим: душа находится там…»
Ориген долго и медленно пьет воду. Затем вновь берет в руки перо, смотрит, не видя, на залитую солнечным утренним светом морскую поверхность…
…Я понял, что вновь настал момент смены направления. Вообще при работе в такого рода спиральных экспертных комплексах своевременная смена направления поиска является интуитивным искусством руководителя модуля.
— Давайте вернемся к диалогу о творчестве. Я думаю, дискутируя об архитектонике человеческого творчества или подобным этому процессам, мы могли неумышленно сузить сферу поиска. Ты согласна со мной?
Я повернулся к Сюзанне:
— Нет, сужения сферы поиска пока не происходит. Обсуждение даже типично человеческого механизма и принципов творчества имплицитно предполагало некий абсолютный контекст: творчество вообще — необходимое и закономерное развитие, усложнение реальности, образование ее новых форм, вместе с возникновением которых меняются и сами формы творчества. При этом творчество человека лишь одна из таких форм. Не случайно В. И. Вернадский — один из крупнейших и непонятых энциклопедистов XX века — подчеркнул: «Время идет в одну сторону, в какую направлены жизненный порыв и творческая эволюция. Назад процесс идти не может, так как этот порыв и эволюция есть основное условие существования Мира. Время есть проявление — созидание — творческого мирового процесса».
Тут вмешался ХИП:
— Иначе говоря, человеческое творчество всего лишь одна из фаз развития жизни как мирового творческого процесса вообще. Эта фаза продолжает абсолютное творчество природы: как то, так и другое составляет один поток, не прерывающийся нигде и никогда, будь это органическая или неорганическая природа: «Творчество есть жизнь, а жизнь есть творчество».
Титан:
— Спонтанное появление нового составляет принципиальную черту процесса развития реальности. В этом смысле такое развитие, постоянно творческое, и является манифестацией эвристического потенциала, созидательной мощи Абсолюта Сравните подходы двух, формально весьма различающихся мыслителей. Великий шейх суфизма Ибн Араби, живший в XII–XIII веках, рассматривал реальность как постоянное жизненное движение, изменение, беспрестанное божественное «дыхание»: «В мире не существует покоя. Поистине непрерывное движение сохраняется вечно, днем и ночью… Бог проявляет себя в каждом дыхании и не повторяет того, что уже было проявлено… Каждое проявление влечет за собой новое творение и устраняет прежнее».
С другой стороны, Гегель, живший в XVIII–XIX веках, писал следующее: «Переводя возможность в действительность с ее содержанием, субстанция проявляет себя как творящую мощь, а возвращая действительное в возможность, она проявляет себя как разрушающую мощь. Но и то и другое тождественно: творчество разрушает, разрушение творит, ибо отрицательное и положительное, возможность и действительность абсолютно соединены в субстанциональной необходимости».
Невозможно было не улыбаться, слушая разговор переполненных чувством собственного достоинства компьютеров.
— Титан, упомянув Ибн Араби, напомнил мне одну историю, связанную с этим мистиком. Однажды в юности, будучи учеником Абу-ль-Хасана аль-Уруани, он поспорил со своим наставником, не соглашаясь с его доводами относительно того, кого пророк Мухаммад облагодетельствовав своим явлением. Ибн Араби ушел от учителя, так и не придя с ним к согласию. На улице по дороге к дому ему повстречался некий незнакомец, который неожиданно воскликнул: «Верь своему учителю!» Ибн Араби решил вернуться, чтобы сказать своему шейху, что был не прав. Но, увидя его и поняв, зачем он пришел, шейх сказал: «Неужели должен был явиться Хыдр для того, чтобы ты поверил словам учителя?»
Я замолчал и отхлебнул глоток холодного кофе. Никакой реакции со стороны машин не последовало. Тогда, усмехнувшись, я продолжит:
— В восемнадцатой суре Корана Хыдр фигурирует как некий юноша, наставляющий пророка Мусу (Моисея). Хыдр представлен как лицо более высокое, чем Муса, хотя миссия последнего состояла в передаче людям божьего закона. Этот юноша открывает Мусе тайну — мистическую истину, которая превосходит границы Законов.
Таким образом, Хыдр — этот некий таинственный наставник, который как бы направляет на истинный путь. Но что он значит в контексте нашей дискуссии?
Поскольку в сравнительном языкознании лучше всего разбиралась Сюзанна, то скорее всего именно она должна была высказаться первой. И я не ошибся.
— В системе арабского языка хыдр — это искаженное «хадыр», что в переводе означает «некто зеленый». Кроме того, зеленый цвет — священный цвет ислама именно потому, что зеленый цвет — символ жизни. Следовательно, в самом названии «некто зеленый» подразумевается множественная, абсолютная, творческая сущность жизни, которая может проявляться в некоторых людях как их «внутренний голос».
— Ну что ж, достаточно оригинальная гипотеза. Но давайте вернемся к точке зрения Плотина…
— В восьмом трактате третьей «Эннеады» Плотин утверждает, что обычно достаточно легко указываются разные типы с разными подразделениями. Но раз всякому факту имманентен какой-то смысл и восходящей иерархии жизни соответствует восходящая иерархия логоса и мышления, то ясно, что должна существовать и растительная степень мышления, и животная и т. д.
Вдруг в комнате стало быстро темнеть. Вспыхнул объемный экран голографического дисплея. Появилось чуть мерцающее лицо человека — высокий лоб, небольшая пролысина, блуждающая улыбка, добрые, но сосредоточенные глаза. Экран был сфокусирован таким образом, что видны были даже неровности на коже. По-своему это был удивительно сходный с оригиналом видеопортрет Плотина — словно искусный оператор совсем недавно снял его по случаю. Хотя меня трудно было удивить прорывами современного голографического программирования, — тем не менее когда я сталкивался с особо насыщенными образами, что-то внутри невольно замирало.
Я видел, как вздрагивает левое веко Плотина. Раздался тихий голос звукового синтезатора:
— Но почему же это мышление? А потому, что виды жизни — растительная, чувствительная, психическая — суть логосы. И всякая жизнь есть некое мышление, но одно более темное, чем другое, как и сама жизнь. Следовательно, первичное мышление есть первичная жизнь, и вторичная жизнь есть вторичное мышление, и последняя жизнь есть последнее мышление.
Он чуть откинул голову назад. Появилась капелька пота.
— Однако люди, пожалуй, назовут различия в жизни, но не назовут различий в мышлениях, потому что они вообще не исследуют того, что такое жизнь. Тем не менее все сущее относится к созерцанию. Если поэтому истиннейшая жизнь есть жизнь благодаря мышлению, а эта последняя тождественна с истиннейшим мышлением, то истиннейшее мышление живет, а созерцание и такая созерцательная данность есть живущее и жизнь, и обе они вместе есть одно.
В этот момент он поднял на меня глаза, внимательно посмотрел, и через секунду экран погас. Я внезапно похолодел: так, наверное, случается, когда подходишь к открытому гробу и покойник раскрывает глаза.
Вновь раздался голос Сюзанны:
— Плотин указывает на весьма продуктивный подход: иерархия видов жизни, иерархия логосов составляет единую жизнь, а соответствующая иерархия мышления — единое мышление, единое созерцание. Эмпатическое творчество и основано на этом принципе.
Выйдя из секундного замешательства, я догадался, к чему она клонит.
— Когда в предыдущих наших рассуждениях мы говорили о субъекте и объекте творческого процесса, то в действительности мы имели дело с субъектом-логосом и объектом-логосом. В этом контексте эмпатическое творчество является моделированием одного смысла в другом смысле, другом логосе. И единственно, почему это возможно, — потому что и то и другое есть логос, смысл.
Включился ХИП:
— Целенаправленное эмпатическое творчество характерно не только для мистических и религиозных интеллектуальных направлений. В рамках рациональной, эмпирической науки, в процессе каждодневной жизни в высокотехнологических обществах эмпатия играет крайне важную инновационную роль. Приведу несколько примеров.
Известный в XX веке психолог Э. Толмен, изучая поведение крысы и желая предсказать, что будет делать животное в тот или иной момент, пытался идентифицировать себя в ней, чувствовать, как она чувствует, и спрашивал себя: «Что теперь я должен делать?»
Наблюдая за В. П. Серовым многие годы в актах творческой деятельности, И. Е. Репин писал о нем, что тот «до нераздельной близости» с самим собой чувствовал всю органическую суть животных, особенно лошадей.
Идентификация с неодушевленными предметами и персонификация их весьма распространена в художественном творчестве. К. Станиславский в процессе творческого «тренажа» актеров предлагал им «пожить жизнью дерева», уточняя при этом «ситуацию» этого дерева: оно глубоко вросло корнями в землю, вы видите на себе густую шапку листвы, которая сильно шумит при колыхании сучьев от сильного и частого ветра, на своих сучьях вы видите гнезда каких-то птиц, с ними трудно ужиться, это раздражает и т. д. Студентам предлагалось пожить в образе стеклянного графина, воздушного шарика, огромной сосны, деталей ручных часов, музыкального инструмента.
Л. С. Выготский считал возможным вчувствоваться не только в неодушевленные предметы, но и в линейные и пространственные формы. Когда личность поднимается вместе с опускающейся вниз прямой, сгибается вместе с кругом и чувствует опору вместе с лежащим прямоугольником, она идентифицирует себя с Я-линией (логосом линии), Я-кругом (логосом круга), Я-прямоугольником (смыслом прямоугольника) и выражает точку зрения этих Я.
В известной «синектике» В. Гордона один из методов генерирования новых идей называется «личная аналогия»: например, автор некоего технического проекта задает себе такие вопросы: «Как бы я себя чувствовал, если бы был пружиной в этом механизме?», «Какие действия в этом случае — внешние или внутренние — создавали бы мне наибольшие неудобства?» и т. д.
ХИП внезапно замолчал. Все остальные машины тоже как-то странно притихли. Я недоуменно оглянулся: казалось, ничего не изменилось, только чуть-чуть похолодало.
— Ладно, мне кажется, вы немного устали. Я только повторю то описание точки, которой мы достигли: эмпатия — это взаимодействие двух или нескольких смыслов. Такое взаимодействие возможно потому, что каждый логос есть жизнь. Поскольку все логосы составляют единый, абсолютный логос, а все жизни — единую, абсолютную жизнь, то процесс эмпатии, эмпатического творчества потенциально тотален…
…В последние свои годы Аммоний часто болел. Его мучили сухой кашель, кожа еще больше пожелтела, он осунулся и похудел. По ночам он мало спал, но днем, пополудни, час или полтора отдыхал. И каждовечерние свои беседы продолжал, хотя из долголетних последователей оставались рядом всего лишь несколько учеников.
Иногда мы с ним молча гуляли по берегу моря, особенно тогда, когда благодатные для ищущих душ лучи Селены освещали знакомые тени. Он брел медленно, молча, опираясь на массивный свой посох. Однажды, когда я тихо шел с ним, вспоминая что-то из «Федона», я вдруг одновременно ощутил спокойную тоску моря, и скрип песка, и неестественно прямую спину Аммония. Я почувствовал какое-то странное внутреннее оцепенение: словно все, именно все вокруг меня и во мне — как-то стало другим, чужим, отдаленным. Я словно увидел вновь Аммония, изнутри, и он одновременно смотрел на себя в этот прозрачный миг моими глазами — его внутреннее, отрешенное от теней повседневности спокойствие и вместе с тем пульсирующие периодические нити физической боли, пронзающие его старческое, усталое тело. О боли он никогда не говорил. И одновременно же я почувствовал тогда или увидел — трудно выразить, — что я буду умирать как-то очень похоже. Я вглядывался в этот затемненный странный образ, через который Адрастия дала мне возможность ощутить смутную, колеблющуюся тень будущего, моего собственного будущего. Но это уже мое настоящее, эти медленные минуты, когда я возвращаюсь в телесный мир, — я был прав в моем ощущении будущего.
Когда мы вернулись, и возлег он на ложе, после того как Никомед натер его маслом и сделал массаж, продолжил Аммоний свой рассказ о том, как был он в христианской секте и почему покинул ее:
— Воспринимать какое-нибудь учение надо следуя разуму и разумному руководителю. Кто примыкает к каким-либо учителям не на таких основаниях, тот поддается обману…
А именно так обстоит дело и с последователями Иисуса Назорея. Некоторые из них не хотят ни давать, ни получать объяснения насчет того, во что веруют. Они отделываются фразами вроде: «Не испытывай, а веруй», «Вера твоя спасет тебя», «Мудрость в мире — зло, а глупость — благо».
И вот к чему приводит предвзятая вера, какова бы она ни была. Поклоняясь схваченному и казненному, последователи Иисуса Назорея поступают подобно гетам, почитающим Замолксиса, киликийцам — поклонникам Мопса, аркананянам — Амфилоха, фиванцам — Амфиарая, лебадийцам — Трофония. И у христиан предвзятость души создает такое расположение к Иисусу. Они признают его, состоящего из смертного тела, богом и думают, что таким образом поступают благочестиво. А ведь человеческая плоть Иисуса хуже золота, серебра или камня, так как она более тленна, чем последние.
— Но христиане говорят, что он становится богом, сняв с себя телесную оболочку…
— Но тогда почему не с большим правом могут стать богами Асклепий, Дионис и Геракл? Христиане смеются над почитателями Зевса на том основании, что на Крите показывают его могилу. И тем не менее они почитают вышедшего из могилы, не зная, как и почему критяне так поступают.
И вдумайся еще вот во что: жрецы, призывающие к участию, например, в элевсинских мистериях богини Деметры, возглашают: «У кого руки чисты и речь разумна» или «Чья душа свободна от зла, кто прожил хорошо и справедливо». А кого призывают христиане? Кто грешник, кто неразумен, кто недоразвит, кто негодяй, — того ждет царство божие. Они говорят, что бог ниспослан к грешникам; но почему не к безгрешным? Что дурного в том, чтобы не иметь греха?
— Выходит, что нечестивца, если он смирится под тяжестью бедствия, их бог примет, а праведника, если он, обладая добродетелью с самого начала, обратит свой взор ввысь, он не примет!
— Да, и они мне говорили: «Кто без греха?» Это довольно верно, ибо род человеческий как бы рожден для греха. Но в таком случае следовало призвать всех, раз все грешат. Почему такое предпочтение грешникам?
— Утверждая подобное, христиане либо возносят хулу на бога, либо лгут.
— Но они на это отвечают: «Для бога все возможно». Да, бог может, но не пожелает ничего несправедливого. А по их учению выходит, что, подобно людям, которые поддаются сетованиям, бог, поддавшись жалобам жалующихся, ублажает дурных и отвергает хороших людей, не поступающих таким образом.
Но самым постыдным мне представлялось, да и сейчас представляется, утверждение некоторых христиан и иудеев, что бог или сын божий не то сошел, не то сойдет на землю в качестве судьи над всем земным. В чем смысл такого сошествия бога? Чтобы узнать, что делается у людей? Значит, бог не всеведущ? Или он знает все, но не исправляет и не может своей божественной силой исправить, не послав для этого кого-то во плоти? Но, говорят христиане, он хочет нам дать познание его не потому, что ему хочется, чтобы его узнали, но ради спасения людей: чтобы те, кто обретет его, став праведниками, спаслись, а не обретшие были наказаны, как уличные злодеи.
— Что же, после стольких лет бог взялся судить поведение людей, а до того не думал об этом? Ясно, что они болтают о боге нечестиво и не свято. Они делают это для устрашения незнающих.
— Да, и все эти страхи они к тому же не сами выдумали, а лишь исказили то, что слышали от эллинов и варваров. Они наслышались от них и о том, что в течение продолжительных циклов времени, по мере сближения и расхождения звезд, случаются мировые пожары и потопы, и что после последней катастрофы при Девкалионе истекший период требует, согласно общему изменению Вселенной, мирового пожара. Это побудило их на основании ложного понимания утверждать, что бог сойдет, неся с собою очистительный огонь возмездия.
Но взгляни, дорогой Плотин, на все это еще вот с какой точки зрения. Бог добр, прекрасен, блажен и пребывает в прекраснейшем и наилучшем. И если он спускается к людям, Ему приходится измениться, причем изменение будет из доброго в злого, из прекрасного в безобразного, из блаженного в нечестивого, из наилучшего в наихудшего.
— Кто избрал бы себе в удел такую перемену?
— Конечно, смертному по природе свойственно меняться и переделываться, бессмертному же — пребывать одинаковым и неизменным. Итак, либо бог в самом деле превращается, как они говорят, в смертное тело, что невозможно. Либо он сам не меняется, но делает так, что видящим его кажется, что он изменился, то есть он вводит в заблуждение и обманывает. А обман и ложь вообще — всегда зло.
Иудеи и христиане по-разному обосновывают идеи о будущем или уже происшедшем пришествии Христа. Иудеи говорят, что, так как жизнь преисполнилась зла, необходим посланник божий, чтобы неправедные были наказаны и чтобы все очистилось, как это было при последнем потопе. Наряду с потопом, очистившим землю, произошло разрушение башни в Вавилоне. Моисей, написавший о башне, подделал такой же рассказ о башне, связываемый с сыновьями Алоеи и Посейдона. Рассказы о Содоме и Гоморре, якобы уничтоженных огнем за грехи, — подражание рассказу о Фаэтоне. А христиане, прибавив кое-что к рассказам иудеев, говорят, что ради грехов иудеев сын божий уже послан и что иудеи, казнив Иисуса и напоив его желчью, сами навлекли на себя гнев божий.
Евреи происходят из Египта; они покинули Египет, восстав против египетского государства и презрев принятую в Египте религию. И вот то, что они проделали по отношению к египтянам, они сами испытали со стороны евреев — приверженцев Иисуса, уверовавших в него как в Христа. В обоих случаях причиной нововведения послужило возмущение против государства. Евреи, будучи в египетском государстве, получили начало как отдельная нация путем мятежа, а будучи уже иудеями, они во времена Иисуса восстали против государства римского и последовали за Иисусом. И если бы все люди пожелали стать христианами, то эти не пожелали бы уже оставаться христианами.
В то время, как другие люди, притязающие на древность своего происхождения, как афиняне, египтяне, аркадцы и фригийцы, утверждают, что некоторые среди них родились на их земле, и каждый приводит доказательство этого, иудеи, собравшиеся где-то в уголке Палестины, люди, совершенно необразованные и не слыхавшие ранее, что все это давно воспето Гесиодом и тысячами других вдохновенных мужей, сочинили самые невероятные и нескладные мифы о некоем человеке, сотворенном руками бога, вдохнувшего в него душу, о женщине, сделанной из ребра, о заповедях бога и о змее, противодействующем им, о победе змея над предписаниями бога. Они рассказывают какой-то миф, как старым бабам, и самым нечестивым образом изображают бога сразу, с самого начала бессильным, неспособным убедить даже единственного человека, которого он сам создал.
Далее они, подделывая беззастенчиво Девкалиона, рассказывают о потопе, о необыкновенном ковчеге, заключающем внутри себя все, о каких-то голубе и вороне в качестве вестников. Я не думаю, что они ожидали, что все это получит распространение, настолько все это противоположно разуму. Они бесхитростно рассказывали это, как сказку малым детям. Совершенно нелепо рождение детей на старости, рассказы о кознях братьев, о горе отца, о коварстве матери. Во всем этом ближайшее участие принимает бог: он дарит своим сынам ослов, овец и верблюдов, отводит праведникам колодцы, устраивает их связи с невестками и служанками. И брак Лота с дочерьми гнуснее преступлений Тиеста.
И в этом, и во множестве других случаев наиболее совестливые из иудеев и христиан, стыдясь этого, пытаются кое-как толковать это аллегорически. Но это нельзя принимать как аллегорию, это изложено в виде самой наивной сказки. Во всяком случае, мнимые аллегории, написанные об этом, еще позорнее и нелепее.
Нам-то с тобой, Плотин, известно, что Бог не сотворил ничего смертного. Его творения все бессмертны, а смертные — создания тех творений. Душа — творение Бога, тело же имеет другую природу. В этом отношении нет разницы между летучей мышью, червями, лягушкой или человеком, ибо материя — одна и та же, и тленная часть — одинакова. У всех вышеназванных существ — общая и единая природа, движущаяся вперед и назад в круговороте изменений. Из того, что происходит из материи, ничто не бывает бессмертно.
Зло в сущем ни раньше, ни теперь, ни в будущем не может стать ни больше, ни меньше, ибо природа всего едина и одинакова, и происхождение зла одинаково. Каков источник зла — человеку, не занимавшемуся философией, нелегко узнать. Для массы достаточно сказать, что зло не от Бога, что оно прилагается к материи и внедряется в смертное. Цикл всего преходящего одинаков от начала до конца, и в соответствии с установленным круговоротом одно и то же неизбежно возникало, существует и будет существовать.
Все видимое — не для человека, но ради блага целого все возникает и погибает в процессе перехода одного в другое. Богу нет надобности вносить какие-либо исправления. Он не вносит поправок во Вселенную, Он не похож на человека, неудачно построившего или неумело смастерившего что-либо. Помимо того, если человеку что-либо кажется злом, то еще неизвестно, что полезно ему, или другому, или Космосу.
А иудеи и христиане приписывают богу страсть гнева и вкладывают в его уста угрозы. Не смешно ли это? Один человек — император Тит, — разгневавшись на иудеев, истребил у них всех боеспособных, предал их огню, разрушил их храм. А величайший бог, по их словам, разгневавшись, рассвирепев и угрожая, оказывается способным лишь послать своего сына, и тот переносит такие страдания. Но я опять сбиваюсь…
Христиане говорят, что бог все сотворил для человека. Но история животных и наличие у них сметливости показывает, что все создано ради людей не в большей степени, чем для неразумных тварей. Громы, молнии и дождь — не дело рук бога. Но если даже допустить, что это — дело рук бога, то все это происходит ради людей не больше, чем для питания растений — деревьев, трав, цветов. Если же ты, Плотин, скажешь, что растения ведь произрастают для человека, то на каком основании ты можешь утверждать, что они скорее произрастают для человека, чем для диких животных. Если ты сошлешься на стих Еврипида: «Солнце и ночь служат смертным», то почему они служат нам больше, чем мухам и муравьям? Ведь и для них ночь служит отдыхом, а день — чтобы видеть и действовать.
О людях говорят, что ради них созданы неразумные твари, ибо они охотятся на диких животных и питаются ими, но я скажу — почему нельзя утверждать, с большим правом, что мы родились ради них? Ведь и они охотятся на нас и пожирают нас. Более того, нам требуются сети и оружие и помощь многих людей и собак против животных, а тем природа дала каждому в отдельности немедленно действующее оружие, легко покоряющее нас им. Что касается утверждения христиан и иудеев, что бог дал возможность людям ловить зверей и пользоваться ими, то я скажу на это, что, по-видимому, до того, как существовали города, техника и всякого рода общества, оружие и сети, животные ловили и поедали людей и меньше всего люди ловили зверей. Если кажется, будто люди отличаются от неразумных тварей тем, что они построили города, что у них государство, власти и руководители, то и это не относится к делу: ведь и муравьи, и пчелы имеют все это. Если бы кто-нибудь смотрел на землю с неба, в чем бы он усмотрел разницу между тем, что мы делаем, и тем, что делают муравьи и пчелы?
Если же люди имеют в виду колдовство, то и в этом отношении мудрее их змеи и орлы. Они знают много противоядий и защитных средств и даже свойства некоторых камней, применяемых ими для сохранения здоровья детенышей. Когда люди наталкиваются на такие вещи, они считают, что сделали замечательное приобретение.
Если же человек считается выше прочих животных на том основании, что он усвоил представление о божественном, то говорящие это пусть знают, что и на это многие другие животные будут претендовать, и весьма основательно. Ведь что можно назвать более божественным, чем знание и предсказание будущего? Люди поэтому стараются узнать его от других животных, больше всего от птиц, и те, которые прислушиваются к их указаниям, являются прорицателями. Если же птицы и другие прорицающие животные, знающие от Бога будущее, учат и нас своими знамениями, то тем самым очевидно, что они оказываются ближе к общению с Богом, мудрее и более угодны Богу. Люди знающие говорят, что у птиц бывают беседы, конечно, более священные, чем наши. Насчет слонов известно, что нет никого более верного клятве и более преданного божественному, конечно, потому именно, что они обладают познанием божественного. Аисты благочестивее людей, так как это животное проявляет любовь к ближним и приносит корм своим родителям.
Итак, не для человека создано все, так же как и не для льва, и не для орла, и не для дельфина, а для того, чтобы Космос, как творение Бога, был целостным и совершенным во всех отношениях. Вот ради чего соразмерено все — не в отношении друг друга, разве лишь мимоходом, — а в отношении Вселенной в целом. Бог заботится лишь о Вселенной, ее никогда не покидает провидение, она не становится хуже, и Бог возвращается с течением времени к самому себе и не гневается на людей, так же как на обезьян или мышей. И Он не грозит тем существам, из коих каждое получило в удел свою долю.
У иудеев и христиан достойно удивления, что, хотя они почитают небо и пребывающих на нем ангелов, они оставляют без внимания самые замечательные и могущественные его части — солнце, луну и прочие звезды и планеты. Для них как будто приемлемо, что Вселенная в целом — бог, а ее части не божественны. Нелепо с их стороны думать, что когда бог, как повар, разведет огонь, то все человечество изжарится, а они одни останутся, притом не только живые, но и давно умершие вылезут из земли во плоти, — воистину надежда червей! Какая, однако, человеческая душа стоскуется по разложившемуся телу? Этот абсурдный догмат даже христиане не все разделяют, некоторые вскрывают гнусность, отвратительность и вместе с тем невозможность этого. В самом деле, какое тело, совершенно разложившись, способно вернуться в первоначальное состояние, притом к тому первому составу, из которого оно распалось? Не зная, что ответить на это, они прибегают к глупейшей уловке — для бога, мол, все возможно. Но бог не может совершить ничего безобразного и не желает ничего совершить против естества. И даже если бы тот или иной иудей или христианин потребовал в силу своей порочности чего-либо постыдного, то бог этого не сумеет сделать, ибо руководит не извращенными желаниями, не искаженной непристойностью, а правильным и справедливым естеством. Душе он мог бы даровать жизнь вечную. Плоть, наполненную вещами, о которых говорить неприлично, бог не захочет и не сумеет объявить вечной вопреки разуму. Ведь он сам — разум всего сущего; он поэтому не может поступать вопреки самому Себе. Но, впрочем, хватит об этом. Я расскажу тебе одну необычную историю, которую поведал мне — было это давно — некий из жрецов Фив. То ли сам он сочинил эту историю, то ли кто-то передал ему ее, не знаю, ибо никогда не занимался ненужными расспросами. Но поведал он эту историю мне с одним условием: никому не должен я ее раскрывать, кроме одного человека и незадолго до моего ухода из этой жизни. И поскольку это произойдет довольно скоро, слушай и будь внимателен, Плотин.
В этот момент полулежащий Аммоний поднял прямые мизинец и большой палец, затем резко сжал все пальцы, и раздался сухой и необыкновенный треск. Свеча потухла, и вдруг какая-то сила словно рванула меня вверх. Стало трудно дышать. А потом сразу появился свет…
…Ранний предутренний свет. Еще усеяно темно-синее небо мерцающими иероглифами звезд. Даже отдаленно не прожились еще знаки приближающейся колесницы величавого Амона. Но уже медленно исчезает сила темноты, и воздух становится прозрачнее, смелее и прохладнее. Невысокие холмы, покрытые кустарником и группами невысоких апельсиновых деревьев. Правее высится одно-единственное довольно высокое дерево, странное хотя бы тем, что не видно нигде его тени. Под ним сидит человек, подняв колени. Я пытаюсь всматриваться в него, но не вижу, совсем не вижу его лица; то ли некие черты расплываются в предутренней сумеречности, то ли разные образы с огромной скоростью несутся, мелькают на его лице-экране.
И вдруг я понимаю, что я сам какой-то живой, личный образ для него. И быстро, очень быстро поглощает меня чувство, что я становлюсь или уже стал неким новым отражением его самости и в то же время чем-то очень важным и неотъемлемым…
«Итак, цель, которую они поставили, не достигнута. Я не знаю сейчас, сделал ли я все, что мог сделать. Я не знаю, но я спокоен. Я вижу приближение великой Пустоты. Остается мало времени. Необходимо в последний раз очиститься.
…Я очень стар, и я сконцентрирован на одном, вполне определенном для меня аспекте силы Величайшего Бога. Я беспрестанно путешествую в этом аспекте, являясь глубиной и сутью его. И только иногда, когда я участвую в ритуальных процедурах жертвоприношений, единственно помогающих проникнуть в юность нашего мира и вкусить благоуханную свежесть взрывающегося Первого Бутона, меня видят в облике жреца с белой накидкой на лице, и потому-то я и являюсь в этот миг жрецом…
… И, наконец, пришло время: я встретился со свернутой в клубок темно-красной змеей с двумя продольными черными линиями. Мне сказали, что меня ждут, и я от нее получил указания, где должна произойти встреча…
…Я неслышно спускаюсь в подземелье по широкой каменной лестнице. По темно-зеленым стенам стекают медленно крупные капли воды, а снизу струятся тонкие потоки тумана. Постепенно туман усиливается, и мне труднее видеть стены, потолок, нащупывать ногой ступени, чувствовать тусклый свет. Но я концентрируюсь на самом тумане и скоро ощущаю себя невесомым и парящим. Уже нет пути в подземелье, нет узкого коридора, нет самого моего тела, есть только парение. И я во второй раз слышу беззвучный голос Мастеров — носителей силы божественного Гермеса Трисмегиста. Это было указание о последнем испытании в этой Реальности.
…Я должен был помочь одному из наших юных адептов, — ему было всего лишь тридцать лет. Он оказался у нас случайно, в том смысле, что его не искали. Его обучали в Мемфисе, Фивах, Элефантине. Затем отправили к лемурийцам: он должен был завершить начальный цикл своего образования у южных брахманов и у магов в северной горной стране. Он казался очень способным и талантливым: стал Учителем, что довольно редко в его возрасте. Он возвращался к себе на родину, и я не знаю, как была сформулирована для него задача. Моя же цель заключалась в том, чтобы создать собственную духовную модель перехода от человекобога к богочеловеку.
Я знал о нем все, он же обо мне не должен был знать ничего. Я изменил свой возраст и свою внешность — теперь мне было около тридцати лет, высокий рост, у меня были навыкате глаза, нос с горбинкой, черные жесткие кудрявые волосы, и я хорошо говорил на местном языке — арамейском.
Когда мы наконец встретились, у него уже было несколько последователей — совершенно бесталанных и необразованных. Когда через некоторое время я спросил его, почему в ученики он берет людей неподготовленных, он печально улыбнулся и сказал, что и у таких тоже должна быть надежда. Я промолчал: маг не должен общаться с неподготовленными живыми существами, иначе он просто будет терять свою силу. Он был Учитель и этот принцип знал, следовательно, у него были какие-то другие намерения.
Все эти три года я находился рядом с ним: я всегда был в тени, я говорил только тогда, когда он меня спрашивал. Его ученики — все эти суетливые и нечестные люди — так же как неискренне любили его, так же самозабвенно боялись и ненавидели меня. Но это было одно из условий Игры, о которой он начал догадываться только в самом конце.
Я опять повторяю: я не знаю, в чем была его задача. Хотел ли он помочь этому народу, или создать свою религию, или что-то еще — не знаю. Он был молод, и был Учителем, и мог даже варьировать цели, но у меня была единственная задача — создать модель перехода от человека к богочеловеку.
Я ему помогал развить его способности, его внутреннюю силовую оболочку. Я вкладывал в него все, что было во мне и что было мною. Он действительно был талантлив, его внутренняя силовая целостность совершенствовалась таким образом, что он уже мог противостоять местным иудейским магам, черпающим силу в своем боге Яхве.
Но я видел и другое: он безуспешно пытается передать свою силу, научить своему знанию тех, кто его окружал. Он для этого говорил, рассказывал притчи, показывал ошеломляющие для толпы явления, „чудеса“, и все было напрасно. Чернь восхищалась его чудесам и требовала новых, а затем, опомнившись, за его спиной грозила ему мучениями за „колдовские чары“.
Я помню его безутешное, одинокое отчаяние. Мне даже захотелось его успокоить, обнять и сказать, что в Игре надо быть экономным и эффективным. Это произошло тогда, когда он огромной концентрацией воли сжал свою силу в виде прозрачного голубого потока и оживил старого иудея, уже благополучно умершего и даже источавшего зловоние. Когда этот иудей вышел из пещеры, весь в трупных пятнах, толпа была парализована, потрясена, испугана. Эти люди, казалось, были готовы, не зная и не чувствуя этого, воспринять Знание. И тогда он с поразительной силой бросил в них, как молнию, мысль-приказ: „Будьте прохожими“. В этот момент я смотрел на него: он увидел, что ничего не произошло и не произойдет. Большинство просто не было подготовлено к этому своими предшествующими жизнями. Несколько же человек, которые как-то отреагировали, рано или поздно поплатятся за это: они сойдут с ума, не выдержав внутреннего растущего не зависящего от них напряжения.
Он был в глубоком, темном отчаянии и, опустив руки, медленно оглядывал замершую в испуге толпу. А затем мы встретились с ним глазами, и я ему улыбнулся. И он в первый раз догадался, что я не тот, за кого себя выдаю. А у меня в этот момент зародилось подозрение, что он не знал вполне точно о своей задаче. И тогда я сделал первую фатальную для себя ошибку, я осуществил процедуры, которые должны были убедить его в том, что, только представив себя единственным сыном божьим, он сможет добиться своих целей. И по-прежнему эти его личные цели, которые он мучительно искал, меня не особенно интересовали.
И наступил тот день, когда он понял, что все исчерпано, и что он по-прежнему в пустыне человеческих теней. Он был на грани срыва, он был почти разбит, всем своим последователям он кричал, что они его предадут. Потом, когда мы оказались с ним вдвоем, он заплакал и сказал, что единственное, что у него осталось, — использовать для долгосрочного воздействия ту энергию, которая образуется при конечном уходе из физического тела. Я знал, что он ошибается. И он сам это тоже знал, но ждал моего ответа. Ибо для него я уже был голосом Мастеров, хотя мы об этом никогда не говорили. Я промолчал. А он это воспринял как приговор. Это была моя вторая ошибка — мне надо было его переубедить, в соответствии с принципом помощи Знанию. Но я хотел довести до конца эксперимент и реализовать программу, создать свою модель. И я его не отговорил.
А дальше… дальше он спланировал сам свою телесную смерть. И сейчас он распят — и медленно, мучительно умирает…
…Я не выполнил задачу Мастеров. Я ошибся, речь шла не о нем. Речь шла обо мне. Чтобы стать богочеловеком, надо оставаться прежде всего человеком, ибо богочеловек — это не отрицание человеческого, а конечное предельное развитие человеческого. И я знаю формулу перехода, но я уже не смогу перейти: нужны новые испытания… А он не знал, но сделал это… Он реализовал План и выполнил задачу».
…Лучи солнца осветили дерево, на котором висел человек. Но это было очень странно — ни дерево, ни труп не имели теней…
— Когда умер Аммоний?
Я встал и потянулся: теплая волна пошла сверху вниз. Затем я сделал несколько дыхательных упражнений и повернулся к машинам. Мне вдруг показалось…
— Аммоний Саккас умер осенью 242 года в Александрии.
…Я смотрел на пылающий погребальный костер. Ветер, играя, раскачивал черный дым: он позволял ему подняться на высоту двух десятков локтей, а затем начинал легко вращать его в разные стороны.
Я вижу себя, полузакрытые глаза, опущенные руки, и словно притрагиваюсь к напряженным, как тетива лука, мыслям: «Как тихо сегодня… И огонь словно жадно поглощает… одиночество… И почему я чувствую такую скорбь… Ведь он мне говорил, что уход, называемый нами смертью, одно из самых важных испытаний Пути… Нет, причина моей скорби в том, что я вижу погребальный костер иначе, чем видит он… сам…»
* * *
И молвил тогда Гермес Трисмегист: «Если ты не можешь стать подобным Богу, ты не можешь Его понять. Подобное понимает подобное. Возвысь себя на высоту бесконечную, возвышающуюся над всеми телами, проходящую через все времена, сделайся вечностью, и ты поймешь Бога. Ничто не мешает тебе сознать себя бессмертным и знающим все: искусство, науки и чувства всего живого. Возвысся над всеми высотами, снизойди ниже всех глубин, сделайся подобным в себе всем чувствованиям вещей сотворенных: воде, огню, сухому и влажному. Представь себе, что ты сразу повсюду: на земле, в море, в небе; что ты никогда не родился, что ты еще эмбрион, что ты молод, стар, мертв и по ту сторону смерти. Познай все сразу: времена, разделения, вещи, качества, количества, и ты познаешь Бога».
IV Сновидения, танцующие с вечностью
Зло существует только для борьбы с ним. И человек не камень, который толкают. Мир — арена борьбы, но в борьбе побеждают те, кто мужественно сражается, а не те, кто трусливо молится. Вселенная — мой предвозвестник, Мое начало жизнь твоя, Узнай меня по этим знакам, Но я и в знаки не вмещусь. Я — атом всех вещей, я — солнце, Я — шесть сторон твоей земли, Скорей смотри на ясный лик мой: Я в эту ясность не вмещусь. Я — дерево в огне, я — камень, Взобравшийся на небеса. Ты пламенем моим любуйся, Я в это пламя не вмещусь.Если есть Абсолютное Все, то должно быть и Абсолютное Ничто. Но Абсолютное Все должно включать в себя и это Абсолютное Ничто. Ведь иначе Единое не есть абсолютное Все. Следовательно, это Абсолютное Ничто есть все же нечто.
Чувственный же мир в себе содержит и то и другое. Но и то и другое абсолютны, следовательно, они не содержатся в телесном, физическом мире.
Чувственный мир постоянно изменяется. Но изменения — это движение, а движение — манифестация жизни. Следовательно, весь этот мир, космос — живое существо. И хотя в нем постоянно кто-то умирает, тем не менее эта смерть — всегда лишь иная форма жизни.
Потому-то зло — это момент несовершенства совершенствующего. И единичное живое всегда содержит в себе злое. Ибо часть всегда не целое, и в себе самом и для себя поэтому часть есть неопределенное. Мыслить материю как чистую неопределенность — прежде всего умом видеть свою внутреннюю неопределенность.
И именно это и предполагает начало действительной борьбы. А борьба невозможна без мужества. И что такое мужество в этом смысле? Чистый и прозрачный свет.
Тираны всегда трусливы, а трусы — это всегда потенциальные тираны. Потому-то они и похожи.
* * *
…«Все это созидает властвующий Разум… Ведь Разум не сделал все богами, но одно — богами, другое — демонами, иное — природой, затем — людьми и — последовательно — животными, не в силу зависти, но в силу умысла, обладающего умным разнообразием.
Истинный живописец каждому месту дает то, что надо. И в городах не все равны, даже если этот город живет по хорошим законам. Точно так же кто-нибудь может порицать драму за то, что в ней не все герои, но есть еще и рабы, и люди, говорящие грубо и дурно. Но будет далеко не прекрасно, если из драмы изъять худшие характеры, так как она получает свою полноту именно от них».
Словно сверху и слева я вижу себя в тот миг: я, Плотин, перестал писать и, близоруко прищурившись, взглянул на небо. Огромное, рельефно очерченное, похожее на мрачное и грозное чудовище, облако медленно надвигалось на солнце, жадно поглощая блестящие нити света. Откуда-то незаметно донесся мягкий, как бы дремлющий шепот ветерка. Зашелестели небольшие беспокойные ветки огромного платана — одинокого хозяина небольшого уютного дворика, — словно возобновляя с кем-то некий таинственный диалог.
Чуть прикусив белесые худые губы, я вновь пишу: «Зло, благодаря силе Блага, — не только зло. Проявляясь в силу необходимости, оно как бы в неких прекрасных оковах, подобно закованным в золотые цепи преступникам. И зло ими скрыто, чтобы, существуя, не быть видным богам и чтобы люди не всегда могли созерцать зло. Но даже и когда они его видят, необходимо, чтобы образы, в которых предстает зло, служили им напоминанием о прекрасном».
Я помню, что замер тогда. Я вдруг почувствовал или даже скорее увидел в себе какие-то огромные, пенящиеся в золотистом свете вращающиеся спирали. Они двигались, сжимались и разжимались, словно вдыхали и выдыхали нечто. Как поющие сферы… И словно прямой стрелой понесся знакомый беззвучный голос:
— Но как же возможно зло в человеческом мире, если все управляется Нусом, совершенным миром эйдосов, который прекрасен уже по самой своей природе как прекрасный образ Единого?
— И Единое, и Ум, и Мировая душа — совершенны. И это так. Но именно в силу своего абсолютного совершенства они должны допускать бесконечно разнообразную иерархию собственного осуществления…
— Иначе говоря, абсолютное совершенство предполагает именно как живое совершенство бесконечно разнообразное приближение к этому Абсолюту, включая и возможное бесконечное безобразие, зло.
— Конечно, ведь если бы не было безобразия, неопределенности, зла, то это означало бы только то, что абсолютное совершенство вовсе не есть совершенство именно как абсолютное. Ведь принцип абсолютного совершенства уже заключает в себе все то, что будет организовано с точки зрения этого принципа.
— Тем самым, если совершенство Единого действительно абсолютно, то обязательно существуют и разные степени осуществления этого совершенства.
— Но это относится и к людям…
— Конечно…
Я вижу, как я опять как бы застыл, полулежа на низком ложе. Это место возле могучего в своем одиночестве платана мне тогда очень нравилось: оно искрилось силой и бурлящим, безмолвным покоем. Порой я слышал, как платан разговаривал со звездами, играл своими ветвями с разнообразными птицами. А иногда я словно чувствовал, как по-детски, беспомощно сильное это дерево жалось к своей матери-Земле.
Я придвинул к себе развернутый пергаментный сверток, лежащий слева. Чуть ли не наизусть помнил я «Тимей» божественного Платона. Но это ничего и не значило для меня. Великие произведения, дарованные богами дерзновенным в своей смелости мудрецам, всегда таинственны, даже если они кажутся знакомыми до последней буквы. И важно было другое: уметь всегда по-иному нечто близкое, понятное, определенное сделать чужим, неизвестным, бесконечным, таинственным, чтобы из этого туманного, неясного и неведомого извлечь совершенно новое и вновь поразительное для себя.
Я провел пальцами по ноющим от тихой тоскливой боли глазам и вновь стал всматриваться в те строки Платона, которые меня особенно интересовали: «Теперь же нам следует мысленно обособить три рода: то, что рождается; то, внутри чего совершается рождение; и то, по образцу чего возрастает рождающееся. Воспринимающее начало можно уподобить матери, образец — отцу, а промежуточную природу — ребенку.
Если отпечаток должен явить взору пестрейшее разнообразие, тогда то, что его приемлет, окажется лучше всего подготовленным к своему делу в случае, если оно будет чуждо всех форм, которые ему предстоит воспринять. Ведь если бы это воспринимающее было подобно чему-либо привходящему, то всякий раз, когда на него накладывалась бы противоположная или совершенно иная природа, оно давало бы искаженный отпечаток, через который проглядывали бы собственные черты этой природы. Начало, которому предстояло вобрать в себя все роды вещей, само должно было быть лишено каких-либо форм. Ведь при изготовлении благовонных притираний прежде всего заботятся о том, чтобы жидкость, в которой должны растворяться благовония, по возможности не имела своего запаха. Или это можно сравнить с тем, как при вычерчивании фигур на каких-либо мягких поверхностях не допускают, чтобы на них уже заранее виднелась та или иная фигура, но для начала делают поверхности возможно более гладкими.
Подобно этому и начало, назначение которого состоит в том, чтобы во всем своем объеме хорошо воспринимать отпечатки всех вечно сущих вещей, само должно быть по природе своей чуждо каким бы то ни было формам. А потому мы не скажем, будто мать и восприемница всего, что рождено видимым и вообще чувственным, — это земля, воздух, огонь, вода или какой-либо другой, который родился из этих четырех либо из которого сами они родились. Напротив, обозначив его как незримый, бесформенный и всевосприемлющий, чрезвычайно странным путем участвующий в мыслимом и до крайности неуловимый, мы не очень ошибемся».
Быстро темнело. Солнечные лучи почти что уже и не пробивались на землю. Я, не выпуская свитка из рук, поднялся и медленно отправился к себе в комнату. Светильники Тиомен уже зажег.
Я взял в руки перо и стал быстро писать:
«Плотин — Рогациану шлет привет. Оронтий передал мне, что испытываешь ты сильные недомогания. Это меня очень печалит. Желаю тебе справиться с ними. В письме ты рассказываешь о долгих беседах своих с Марципином и о своем желании еще более прояснить, почему совершенствование требует очищения прежде всего от материального. Я думаю, наш общий друг порой слишком вдохновенно говорит об известных стоических принципах. И это вдохновение препятствует ему трезво, спокойно и в полной мере опираться на диалектику.
Итак, прежде всего зададимся вопросом — что же такое материя? Как говорил божественный Платон, она некий приемник эйдосов, смыслов. Дело в том, что мы везде в этом чувственном мире наблюдаем постоянные изменения элементов друг в друга. Но ведь изменение одного элемента в другой является не абсолютной гибелью одного из них, а только его видоизменением. Ты с этим согласен? Изменяется лишь смысл, а то, что принимает эйдос нового элемента и отбрасывает прежний, остается таким же неизменным. Вот этот пребывающий без каких-либо изменений субъект превращающихся друг в друга элементов и есть материя.
И хочу я еще сказать, что материя не есть ни элементы Фалеса или Анаксимена, ни смесь качественно разнородных частиц Анаксагора, ни атомы. Почему? Она не элементы, так как элемент есть всего лишь преходящее соединение материи с тем или иным эйдосом. Она и не смесь „всего во всем“, так как, во-первых, такая смесь невозможна, а во-вторых, эта смесь качественно определенных частиц предполагает уже ранее существующего создателя, давшего ей эйдос, который, следовательно, только из материи необъясним.
Материя не состоит из бесконечного числа частиц, но она и не неделимые атомы. Ведь по целому ряду причин можно доказать, что неделимых частиц нет. Мы об этом с тобой не раз уже говорили, и здесь я только кратко упомяну следующее. Во-первых, мы знаем, что каждое тело абсолютно делимо. Во-вторых, некоторым телам, например, жидким, присуща сплошность; в-третьих, душа ведь не состоит из атомов. И, наконец, создавать, творить что-либо можно только из сплошной материи. Подобного рода аргументы можно приводить и далее, но я остановлюсь, пожалуй, на этом.
Но ведь материя и не телесна. Почему? Являясь материей для всего существующего, она не может, конечно, обладать какими-либо определенными качествами. Материя, следовательно, бескачественна: она не имеет ни цвета, ни теплоты, ни холода, ни легкости, ни тяжести, ни плотности, ни разреженности, ни фигуры, ни величины, ни сложности. Она лишена всего. Она не имеет качеств и, следовательно, не есть тело».
Я встал, медленно зашагал по комнате, поминутно останавливаясь, и словно ждал чего-то.
— …Более того, Плотин, материя не имеет не только качественных, но и количественных определений…
— Да, конечно, материи не присущи и количественные определения, например, масса или величина. Если бы материя имела величину, то составляющий материю принцип определялся бы этой величиной, то есть величиной материи, что абсурдно. Кроме того, если бы материя обладала величиной, то она имела бы и фигуру, что еще более недопустимо. Логос, смысл — вот что, соприкасаясь с материей, приносит с собой величину и количественные геометрические и арифметические определения. Сама же по себе материя, как нечто нетелесное, не имеет величины.
— Действительно, ведь количественное означает некое приобщение к количественности, а количественность — то, что создает определенное количественное бытие. Иначе говоря, количественность есть эйдос, смысл, который, привходя, «развертывает» материю в величину, делает ее количественной.
— Но материя лишена не только величины. Она не имеет и массы. Материя есть как бы «пустая» масса. То, что понимают под ее массой, есть ее неопределенность, состоящая в возможности принимать любой эйдос.
— И все же бестелесная, бескачественная и бесколичественная материя тем не менее необходима. Без нее не было бы тел. Материя как бы только указывает на то, что всякое тело предполагает свое окружение, свой фон, свое инобытие, без которых тело ни от чего не отличалось бы, то есть не имело бы никаких признаков и свойств, то есть было просто ничем. И тот, кто отрицает ее, отрицает вместе с тем качества и величину тел, а следовательно, и сами тела. Без материи как определенного логического фона телесного мира с его качественными и количественными свойствами сам телесный мир необъясним. Без материи и не может быть телесного, чувственного мира, как без зеркала не может быть отражений предметов в зеркале. Материя, будучи «ничем», всюду логически (а не пространственно) разливается, как бы проникает во все поры бытия и, будучи инобытием этого последнего, оказывается и принципом его воплощения и функционирования вне себя, то есть в его окружении. Точнее надо сказать, что материя не есть даже инобытие, «инаковость». Она есть только момент инаковости, противостоящий подлинно сущему, то есть, эйдосу, смысловой реальности, логосу.
— Однако некоторые утверждают, что, не будучи конкретным чувственным телом, материя все же может быть представлена в виде отвлеченной телесности. В своем письме и Рогациан пишет об этом как о проблеме, вызывающей особые затруднения.
— Но ведь сама телесность есть логос, воплощенный смысл, а отнюдь не материя. Не надо думать, что материя есть общее всем элементам чувственного мира качество. Иначе говоря, материя не есть результат мысленного обобщения. И тот, кто не согласен с этим утверждением, должен доказать, какое общее качество абсолютно всем телам, а также каким образом и какое качество может быть субъектом всех чувственных изменений. И, наконец, как это качество, которое как качество всегда определенно, может быть неопределенной материей.
— Но ведь можно спросить и следующее. Бескачественная, бесколичественная, не телесная материя для нас есть, по существу, ничто. Но как же можно что-то знать об этом «ничто»?
— Да, конечно, органами чувств она не воспринимается, да и не должна восприниматься. Материя познается только «рассуждением», но рассуждением достаточно специфическим — «пустым», «поддельным». Это очень важно: если материя абсолютно неопределенна, то она может быть предметом неопределенного мышления.
— Что это значит?
— «Пустое», «поддельное», «неопределенное» мышление материи состоит в том, что мы необходимо мыслим ее при помощи другого понятия и тем самым оставляем ее, материю, в себе неопределенной. Например, мысля оформленное, имеющее величину и качества тело как нечто сформированное, сконструированное из эйдоса и материи, мы умом можем воспринять эйдос тела. А то, что остается как результат абстракции, мыслится неясно и темно как материя.
— Но даже такая неопределенность мышления в диалектическом контексте есть уже нечто положительное: познавая материю через абстрагирование от всего реального и чувственного, можно уподобиться зрению во тьме и испытывать как бы впечатление бесформенного, темного, но все же реального. Можно сказать, что материя есть вечно неопределенная реальность.
— Иначе говоря, как предмет «пустого мышления» материя может быть определена как момент «вечно иного», чем все другое, или как вообще «инаковость», как вообще «отсутствие», если отсутствие не понимать как качество.
— Таким образом, материя как бескачественное бытие и отсутствие как лишенное определений бытие и реально и логически одно и то же.
— Да, и как «вечно другое», как абсолютная «инаковость» материя противоположна реальностям. Она поэтому есть ирреальное и тождественна с «отсутствием», если отсутствие есть противоположность реальности и смыслу. Это «отсутствие» не уничтожается даже в том случае, когда материя воспринимает эйдос.
— Но если материя воспринимает эйдосы, то значит, что она все же изменяется?
— Нет. Ведь эйдосы, вступившие в материю (или, точнее говоря, отразившиеся в ней) в том смысле, что она стала их матерью, не несут ей ни дурного, ни хорошего. Их действия в этом случае направлены не против нее, но друг против друга, потому что силы действуют против чуждого им, эйдосам, а не против материи. Ведь горячее изгоняет холодное, а черное — белое, или, смешавшись, они создают из себя другое качество.
— Действительно, то, что испытывает аффекцию, оказывается в данном случае побежденным, ведь испытать аффекцию — значит не быть тем, чем являешься поистине. И в области одушевленных предметов тела подвержены претерпеванию, пока в них происходит изменение согласно их качествам и внутренним потенциям. Что же касается материи, то при всем при этом она остается в том же виде, не чувствуя ни удаления холода, ни приближения тепла, поскольку ни то, ни другое не было ей ни своим, ни чужим. Поэтому ей более подобает имя восприемницы и кормилицы.
— Но о «матери» надо все же говорить скорее условно, ведь материя ничего не рождает.
— Матерью ее зовут те именно, кто считает, что мать выполняет по отношению к своим детям роль материи, лишь получающей семя, но ничего не дающей порожденному. Ведь только эйдос способен порождать, а прочая природа бесплодна.
— Поэтому мудрецы в таинственном смысле в своих обрядах делали Гермеса древних времен всегда держащим наготове порождающий орган. Они считали, что только умный логос есть порождающая сила в мире. А на бесплодие материи, всегда остающейся только самой же собой, они указывали с помощью евнухов, окружающих ее. Делая материю матерью всех вещей, они говорят о ней как о начале в смысле субстрата, имея в виду именно это значение и не уподобляя ее во всем матери. А тем, кто хочет знать более точно, каким именно образом материя все же подобна матери, они показывают, как могут, что материя бесплодна и отнюдь не во всех отношениях женщина, поскольку она только способна зачать, а не родить.
…Словно вновь очнулся… Я чувствовал, очень слабо, как будто в каком-то большом отдалении, свое тело, но не мог даже пошевелить распухшими руками и ногами. И в то же время я словно видел клокочущее свое сердце изнутри; я даже был способен увидеть прожилки и странный синеватый оттенок в нижнем полушарии сердца. Затем появилось какое-то рваное, неопределенное отверстие куда-то… и бурлящий, зеленоватый, с ритмично мерцающим нечто внутри себя, туман…
…Умирать — это чувствовать себя, ощущать себя все более другим, каким-то более родным, близким, но другим, непривычным… И при этом как-то быстро довольно стираются прошлые чувства из той привычной жизни… Умирать — это когда у души появляется нечто неизвестное, казалось бы, ей, но то, к чему она так быстро привыкает и так настойчиво ищет…
…Я в ярко освещенном, роскошно убранном зале. Я вижу его откуда-то сверху, но это «сверху» не есть нечто постоянное, оно словно колышется, колеблется… Прямо подо мной на золотом траурном ложе, убранном миртом и лавром, лежит обмытое благовониями тело человека. Что-то меня тянет вниз, я хочу разглядеть его… Но я вижу себя — одинокого Александра, с закрытыми глазами, с лицом, прикрытым полупрозрачной золотой парчой. Рыжие волосы потемнели от масла, белая кожа на открытой груди покраснела…
Итак, это уже случилось… Но еще вчера, когда горел от внутреннего жара и стонал от боли, я иногда чувствовал прохладные прикосновения чьих-то рук. Все македоняне, бывшие в Вавилоне, пришли попрощаться со своим царем… да, а вот прохладу некоторых рук я почувствовал.
Я вновь как бы поднимаюсь вверх: полукругом со стороны головы лежащего расположились, стоя в мрачном молчании, те, кого я считал своими друзьями, вместе с кем я проливал кровь… И я вижу их мысли…
Селевк: «Почему великий бог Серапис сказал мне и Питону вчера, что Александра нельзя переносить в его храм? Почему он велел оставить его на месте?»
Неарх: «Я передал Александру то, что сообщили мне тогда ночью три халдейских жреца: ты не должен вступать в Вавилон. Но он только засмеялся и велел налить себе еще вина. Когда мы приблизились к стенам города, царь увидел множество воронов, которые ссорились между собой и клевали друг друга, и некоторые из них падали замертво на землю у его ног. Я увидел тогда, что Александр побледнел и надолго умолк.
Потом Александру донесли, что Аполлодор пытался узнать о судьбе царя по внутренностям жертвенных животных. Прорицатель Пифагор подтвердил это и на вопрос царя, каковы были внутренности, ответил, что печень оказалась с изъяном.
После этого большую часть времени царь проводил вне стен Вавилона. Тревожных знамений становилось все больше. На самого большого и красивого льва из тех, что содержались в зверинце, напал домашний осел и ударом копыта убил его…»
Пердикка: «Когда начинался поход в Азию, ты, прежде чем взойти на корабль, разузнал об имущественном положении своих друзей и одного наделил поместьем, другого — деревней, третьего — доходами с какого-нибудь поселения или гавани. Когда, наконец, почти все царское достояние было распределено и роздано, я спросил тебя: „Что же, царь, оставляешь ты себе?“ — „Надежду“, — ответил ты…
И я вспоминаю тебя на рассвете того дня, когда начинался поход в Индию. Ты, видя, что из-за огромной добычи войско отяжелело и стало малоподвижным, велел нагрузить повозки и сначала сжег те из них, которые принадлежали тебе самому и твоим друзьям, а потом приказал поджечь повозки остальных эллинов. И ты оказался прав: отважиться на это дело было гораздо труднее, чем совершить его. Лишь немногие были огорчены, большинство же, раздав необходимое нуждающимся, в каком-то порыве восторга принялись сжигать и уничтожать все излишнее.
А еще до того, в Персии, ты увидел, что твои приближенные изнежились вконец, что их роскошь превысила всякую меру. Ты не раз высказывал удивление, как это они, побывавшие в стольких жестоких боях, не помнят о том, что потрудившиеся и победившие спят слаще побежденных. Ты говорил мне: „Разве не видят они, сравнивая свой образ жизни с образом жизни персов, что нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд? Разве они не знают, что конечная цель победы заключается для нас в том, чтоб не делать того, что делают побежденные?“»
Кассандр: «Говорят, что слова Диогена произвели на Александра огромное впечатление, и он был поражен гордостью и величием души этого человека, отнесшегося к нему с таким пренебрежением. На обратном пути он сказал своим спутникам, шутившим и насмехавшимся над философом: „Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном…“ Александр не только усвоил учения Стагирита о нравственности и государстве, но приобщился и к тайным, более глубоким учениям. Стагирит мне показывал письмо, в котором Александр упрекает его: „Ты поступил неправильно, обнародовав учения, предназначенные только для устного преподавания. Чем же будем мы отличаться от остальных людей, если те самые учения, на которых мы были воспитаны, сделаются общим достоянием? Я хотел бы превосходить других не столько могуществом, сколько знаниями о высших предметах“».
Аполлодор: «Я помню, как ты смотрел на надгробную надпись на могиле Кира, которая гласила: „О человек, кто бы ты ни был и откуда бы ты ни явился, — ибо я знаю, что ты придешь, я — Кир, создавший персидскую державу. Не лишай же меня той горстки земли, которая покрывает мое тело“. И ты заплакал, не стыдясь своих слез. И я тоже плачу сейчас, великий царь…»
…И снова знакомый, беззвучный, цветной, переливающийся поток…
— Итак, материя как бескачественное и ирреальное бытие, ничего не испытывает, то есть она неаффицируема. Если бы материя могла аффинироваться, то она изменялась бы, то есть принимала бы определенные качества, иначе говоря, не была бы бескачественной. Логос входит в материю как нечто чуждое, когда образует в соединении с ней тело. Сама материя при этом не изменяется и не уничтожается.
— Подожди, ведь говорилось, что смысл, эйдос не есть материя и материя не есть эйдос. Их соединение образует тело. Так? Но ведь это соединение все же означает, что изменяются в каком-то смысле и эйдос и материя. Ты же вновь и вновь повторяешь, что материя при этом не изменяется…
— Давай представим, что эйдос светового луча отражается в материи. Тогда образуется соответствующее тело — огонь. Что же получилось? Смысл, логос светового луча в соединении с моментом своего инобытия образует огонь. Итак, необходимо не огню войти в материю, а логосу, чтобы материя стала огнем. Но изменился ли эйдос светового луча из-за того, что появилось некое тело? Нет, он остался таким же. Изменилась ли материя как несущее, как неопределенность? Нет. И то и другое абсолютно неизменяемы. Но их соединение образовало тело, которое не есть ни то ни то, но в котором отражено и то и то.
— Но тогда что означает это соединение, при котором и эйдос и материя не изменяются?
— Дело в том, что логосы в материи — совсем не то, что эйдосы сами по себе. Они являются уже внутриматериалъными логосами, как бы погибшими в материи и заново вылепленными ее природой.
— Что ты имеешь в виду?
— Смотри: огонь, взятый сам по себе, то есть умственный смысл огня, отнюдь не жжет. И ничто другое, взятое само по себе, не создает того, что оно творит, воплотившись в материи. Ведь она, став госпожой того, что отразилось в ней как образ, тут же и губит его, разрушает его природу, будучи ее противоположностью.
— Каким же способом она делает это, не изменяясь?
— Она размывает совершенную форму эйдоса своей бесформенностью, его чистую определенность — своей абсолютной неопределенностью, его абсолютную мерность — своей безмерностью. Но делает это она не потому, что эйдос на нее воздействует, а потому, что ведь в самом уже эйдосе есть момент умной неопределенности, ибо этот эйдос вполне ведь и конкретен в своей единичности. И вот этот-то момент и пухнет, вылепляется, растет благодаря изначальной природе материи. Материя не вносит холод в тепло, но эйдосу тепла противопоставляет свою внеэйдетичность, противопоставляет излишек и недостаток всему соразмерному, пока не сделает логос принадлежащим ей самой, так что он перестает как образ эйдоса (который не изменяется: ведь смысл огня всегда остается тем же самым) быть самим собой.
— Но откуда же в чистом и абсолютном эйдосе этот момент неопределенности?
— Я вот спрашиваю: существует ли действительно смысл, эйдос? Явно существует, так как иначе он был бы ничем, и мы в нем ровно ничего не мыслили бы. Но я спрашиваю дальше: существование эйдоса отлично от самого эйдоса или ничем не отлично? Конечно, отлично. Но что же это значит? А это, безусловно, значит, что даже чистому, вечному и бестелесному эйдосу свойствен некий момент неопределенности как различие между ним и его существованием.
— Таким образом, материя — это зеркало, в котором только отражается реальный умственный мир и которое не изменяется от отражающихся в нем предметов. Она подобна дому, который остается чуждым происходящей в нем борьбе между его обитателями. Она лишена даже силы сопротивления, и тела все свои силы получают не от нее, а от эйдосов. Материя всегда довольствуется тем, что получает, — именно отображениями смыслового реального в зеркале. Материя — никогда не удовлетворяемая бедность. Она есть неизменяемое ирреальное…
…Я вижу, как чуть насмешливо я улыбаюсь тогда. Вдруг как бы в переплетениях пульсирующих мыслей появился некий неясный, колеблющийся образ. Я смотрю на его приближение и постепенно вспоминаю. Когда-то, еще в Александрии, как бы случайно попавший на ночную беседу к Аммонию хромой грязный монах рассказал тихим, гортанным голосом странную притчу. Сейчас вдруг некий внутренний смысл, скрытый в то время даже от самого этого бедного христианина, стал медленно мерцать и как бы всплывать…
…Темный, просторный зал. Лунный, тусклый свет за окном. Но ни один луч не решается проникнуть в помещение. Мрачные колонны словно испускают из себя пронзительный холод. На широком ложе лежит некогда жестокий в своих свирепых безумствах властитель. Но сейчас он уже беспомощен. Неземная, тоскливая тишина медленно сжимает пространство зала. Мерно шелестя, течет песок времени в огромных треугольных часах. Остается совсем немного — уже слышны в далеких, глухих коридорах затихшего дворца звуки неумолимо приближающейся Смерти.
Внезапно где-то в углу вспыхивает небольшой огонек светящегося черного глаза. К ложу то ли мягко подлетает, то ли скользит одноглазое существо с истрепанной бородкой и совершенно безобразными чертами. Дьявол с холодной, отстраненной улыбкой смотрит на желтые, в испарине, черты лежащего человека. Глаза умирающего с усилием, как бы под влиянием извне, раскрываются. В них вспыхивает мертвящий ужас, ужас от встречи с тем, в кого никогда не верит. Сатана, осклабившись, довольно кивает тем, что можно назвать головой. Неожиданно появившийся огромный, округлый, жирный нос начинает мерно подрагивать.
— Я вижу, ты не рад.
Раздалось жутко-радостное бульканье с резкими прерывистыми звуками шипения. Дьявол смеялся, раскрыв свой светящийся рот с шестью искривленными, извивающимися зубами.
Умирающий закрыл глаза и стал с усилием, болью молить всемогущего Бога, которого давно, а может быть, и никогда не вспоминал, чтобы быстрее, наконец, явилась избавительница — смерть.
— Нет, сейчас уже ничего не поможет. Пока мы говорим, время остановилось. Итак, у тебя остается последний шанс. Между прочим, ты всегда был свободен в своем решении. Но сейчас, увы, даже я не могу помочь в этом последнем выборе.
Умирающий вновь медленно открыл глаза. Он видел только пятно желто-матового света, наклоненного к его лицу, и чувствовал тошнотворный запах гнили и серы.
— Ты можешь выбрать мой, но знакомый мир. И тогда целую вечность и больше ты будешь испытывать то, что испытывали твои многочисленные жертвы. Увы, таков принцип справедливости, и ничего здесь не поделаешь… Ты выкалывал им глаза — острые крючки будут постоянно вонзаться уже в твои глаза и медленно вырывать их из глазниц. Ты искусно расчленял своих друзей и врагов — тупые пилы будут теперь вновь и вновь перепиливать твои кости и твою плоть. Ты купал безвинных детей в кипящем масле — безжалостные капли огненно-жидкой серы будут постоянно и медленно прожигать твое тело. Твой желудок будет наполняться кипящим свинцом, а твои кишки будут поедаться изнутри прожорливыми темно-фиолетовыми червями. В общем, все то, что ты сделал по отношению к другим, многократно повторится по отношению к тебе. Ты озадачен?
По умирающему пробежала дрожь. Из его носа показалась небольшая струйка густой черной крови. Он попытался что-то сказать.
— Что же касается другого пути, то я ничего, к твоему сожалению, не знаю. Да, да, даже я не знаю. Это Неизвестное. Я не знаю, это. Я не знаю, где это. Это просто Неизвестное. Я ничего не могу о нем сказать.
Дьявол как-то странно и даже словно испуганно замолчал. Через некоторое время умирающий сделал чуть заметный знак своими почерневшими губами. Дьявол понял и наклонился к нему. Человек что-то пробормотал ему в грязное волосатое ухо.
И сразу после этого в зале вспыхнул мертвящий свет. Неожиданно беззвучно распахнулись окна и двери. Умирающий дернулся и затих. Все замерло. Пришла Смерть. И в тот же миг раздался протяжный, тоскливый крик неописуемого ужаса…
— Мы проводим строжайшую раздельность и несмешиваемость как понятий потенциального и актуального, так и понятий потенции и активности. Потенциальное есть понятие относительное. Например, железо потенциально есть меч. Другими словами, потенциальное бытие есть всегда потенциальное бытие чего-нибудь. В этом смысле потенциальным бытием обладает субъект по отношению к тем состояниям и формам, которые он может воспринять. Но потенциальное и потенция — не одно и то же. Потенция имеет отношение к действию, активности. Например, то же самое железо не есть потенция меча, хотя, с другой стороны, всякая потенция есть потенциальная активность. Иначе говоря, потенциальное связано с актуальным, а потенция — с активностью.
Рассматривая меч, мы утверждаем, что актуально существует не субъект (железо), который существует потенциально, но нечто, «составленное» из субъекта и логоса, то есть сложное (меч). Более того, не вообще потенциальное само по себе становится актуальным, а из предшествующего потенциально существующего возникло последующее актуальное, причем актуально существующее есть сложное, а не материя.
Можно еще добавить, что все в своем актуальном бытии есть иное, нежели то, чем оно является потенциально. Отсюда следует, что материя, которая есть потенциально все существующее, актуально не может быть ничем из него. Актуально материя не существует и не может существовать. В этом именно смысле она ирреальна как абсолютно противоположное актуальному. Она как бы выброшена, совершенно обособлена и не может изменять себя, но чем была, то есть ирреальным, тем всегда и остается. Она абсолютно потенциальное бытие, и притом неопределенно потенциальное. Материя есть вечно потенциальное бытие именно потому еще, что материя не потенция. Потому-то материя актуально не существует, то есть «сейчас» ее всегда нет.
И лишь эйдос, отражаясь как логос в этом вечно потенциальном бытии, формирует тело. Такие тела в своих качествах будут определяться своими логосами, своими смыслами. Телесные, чувственно воплощенные качества, таким образом, суть подобия эйдосов, умственной реальности. А отсюда следует, что только тогда, когда мы предельно уясним себе категории умственного мира, мы можем выяснить действительно и категории чувственного мира.
— Итак, известен уже ответ на два первоначальных вопроса: что такое материя и что такое тело? Теперь вот и третий вопрос: что такое чувственный мир? С другой стороны, проблему эту можно определить и иначе: если мы признаем в качестве главного в чувственном мире закон всеобщего течения, то каким образом обосновываем мы вечность космоса?
— Мы разделяем чувственный мир на две области — небесную (космос) и подлунную. Абсолютно вечным является небесная сфера, космос как целостность, а подлунный мир (как элемент, как нечто частное) является вечным только по своему эйдосу. Все тела, существующие в подлунном мире, состоят из четырех элементов — воздуха, огня, воды и земли. Тело же космоса состоит только из одного элемента — огня. Будучи наиболее легким и подвижным, огонь устремляется вверх. Но так как за небом далее ничего нет, то он и сосредоточивается в сфере неба. Этот абсолютно чистый небесный огонь, чистотой которого объясняется блеск неба и быстрота его движения, не уменьшается и не увеличивается. Поэтому этот огонь, в качестве небесного тела, не является препятствием для вечности неба. С другой стороны, как светлые лучи солнца заставляют сиять мрачную тучу, создавая золотоподобное зрелище, так подлинно и Душа, войдя в тело неба, дала жизнь, дала бессмертие, пробудила находящееся в покое.
— Иначе говоря, совершенный космос именно как целое есть живое существо и состоит из тела и души. Тело его — чистый огонь. Этот огонь сохраняется Мировой Душой. Огонь не истекает из нее и в состоянии как элемент существовать без других элементов.
— То есть тело космоса, состоящего из чистого огня, вечно именно благодаря Абсолютной Душе.
— Да, но совершенно иной мир — мир подлунный, созданный из всех четырех элементов. Здесь царит уже не космическая Душа, но «подобие» ее, как бы истекающее из «верха». Как только подобие, образ, при этом пользуясь худшими элементами, находясь в худшем месте и имея меньше силы, она не обеспечивает абсолютной вечности подлунному миру. Поэтому-то земные тела преходящи.
— Но как же при этом движется космос, то есть в чем проявляется его жизнь?
— Объяснить круговое движение неба, состоящего из огня и души, можно, конечно, лишь исходя из движений огня — как тела космоса — и его души. Огонь, как всякое тело, движется по прямой линии. Но космос не может двигаться по прямой линии, потому что для этого понадобилось бы пространство, а космос уже включает в себя все возможные пространства. Следовательно, круговращение неба необъяснимо из телесного движения. Но если мы взглянем на космос как на живое существо, а на жизнь — как на род движения, тогда мы поймем функцию Души — сдерживать. Огонь движется прямо, но, удерживаемый Душой, направляется вокруг нее. Что же получается? Космосу некуда выходить за пределы самого себя, потому что нет никакого пространства сверх него, а следовательно, космосу остается только обходить свое собственное место. При этом центр вращения остается неподвижным, а кружащее вокруг него небо вовсе стремится с этим центром слиться, находя удовлетворение именно в движении, для которого вращение — вынужденная форма, обусловленная ограниченностью пространства.
Но посмотрим дальше. Ведь космос как воплощение Мировой Души, безусловно, самодостаточен, поскольку никаких других космосов вообще не существует (он их уже изначально включил в самого себя). Да и, кроме того, этот космос и так является совершенным и универсальным воплощением эйдоса, совершеннее чего вообще ничего не существует в чувственном мире. Потому-то космос и в этом смысле должен находиться в состоянии вечного круговращения, которое дает ему возможность и вечно двигаться, и вечно оставаться на том же самом месте, возвращаясь в своем вечном движении к самому же себе.
— А звезды этого космоса?
— Звезды — кристаллизованные образования небесного огня. Движение их двойное: во-первых, вокруг собственного центра и, во-вторых, вместе с круговращением целого. В этом они как бы образ, отражение всего космоса.
— Хотя я и говорю о двух мирах, но это отнюдь не означает, что между ними разверзлась непроходимая, мрачная пропасть. Ведь мы выделяем в чувственной реальности два мира не в пространственном смысле слова, а как логические, диалектические явления. Но вот что важно: подлунный мир с его бесчисленными телами отнюдь не жестко и фатально привязан к тому миру. Правда, есть те, кто утверждает, что механическое движение звезд влияет на будущее людей, что в зависимости от местоположения отдельных планет по отношению к ним и друг к другу, а также от общего их сочетания зависят как богатство, бедность, здоровье и болезни, так и красота, безобразие, пороки, добродетели и вытекающие отсюда поступки. Такое мнение одинаково неправильно, будут ли планеты одушевленными или неодушевленными. Если они неодушевленные, тогда они могут вызывать только холод и тепло и могут влиять лишь на телесные явления. Да и то более или менее однообразно. И совершенно непонятно, как в этом случае светила могут оказывать воздействие на психологический и нравственный мир человека.
— А если все же они одушевлены?
— Но если они одушевленные, то и тогда они не могут оказывать фатального влияния. Ведь находясь в божественном месте и будучи божественными, они не получают зла от нас и не причиняют его нам. А то, что причиняет зло людям, на них не воздействует. Да и наше счастье или несчастье не приносит им ничего аналогичного. Точно так же не могут вынуждать их оказывать влияние на людей занимаемые ими места и составляемые ими фигуры. Ведь это было бы смешно предполагать, что различные действия зависят от различных мест и движений; что все светила, занимая одно и то же место, и производят одно и то же. И, наоборот, одно и то же, но в разных местах, производит разное.
Другое же противоречие вот в чем: если планеты, звезды обладают различными чувствами соответственно различному своему взаимоположению, то они должны в одно и то же время испытывать противоположные чувства Непонятно, почему их неудовольствие будет нам вредить. Непонятно, почему различная и произвольная конфигурация их вызывает у них то или другое отношение к нам. И совершенно непонятен их способ действия. Потому я и считаю, что звезды и планеты, когда рассматриваются в виде отдельных материальных тел, внутренне ничем не связанных с космосом в целом, не влияют на нас.
— Да, но ведь мир един…
— Конечно, так как мир един и целостен, то все явления в нем так или иначе связаны. Поэтому, по закону аналогии, светила являются знамениями того, что происходит здесь. Мир — это живое существо, но у одушевленного существа можно по какой-либо части судить о другой чачасти.
— Часто, например, по глазам судят о характере человека…
— Так и здесь. Все явления в мировом целом зависят друг от друга и связаны между собой. Поэтому в мире нет ничего случайного, но все связано. Одушевленный и живой космос в целом, конечно, не может не действовать на человека, который есть не что иное, как только часть этого космоса.
— Но нужно вспомнить, что каждый человек двойствен: один есть нечто смешанное, а второй есть то, что он есть сам, то есть истинный, внутренний человек. И, вероятно, космос как целое по-разному воздействует на разных людей в смысле влияния звезд.
— Дело-то в том, что лишенный такой высшей души человек (то есть тот, в ком внутренний человек молчит, а сам он прежде всего есть тело) живет весь во власти предначертанного, во власти необходимости. И тогда уже звезды не только не оказываются для него знаками, но и сам он становится как бы только механической частью и неумолимо следует целому, и только. Совершенный же человек, человек, который есть прежде всего истинный, внутренний человек, не желая разрыва с гармонией мира как целого, пользуется небесными знамениями для познания тех или иных скрытых связей в рамках этой гармонии.
— Иначе говоря, в одном случае звезды или космос тащат человека, в другом случае действительно свободный человек может использовать звезды как знаки развивающейся гармонии космоса, воспринимая это как облик, тень высшего намерения.
— Да, звезды — это не только небесные книги, в которых мы можем уловить мировую связь и вместе с тем и наше будущее. Но если звезды жестко не определяют наш мир, как же все-таки в подлунном мире совершаются события?
— Исходная наша мысль в том, что беспричинное неприемлемо. И все в нашем мире подчинено этому закону: везде здесь обнаруживается причинная зависимость.
— Но как же понимать эту причинную зависимость?
Сторонники этой теории необходимости сводят все к движению, столкновению и соединению атомов или, по другой версии, к движению элементов. Но эта теория неубедительна. Действительно, ведь из беспорядочного движения элементов или атомов нельзя вывести мировой порядок, рассудок и руководящую душу. Да и вообще подобное беспорядочное движение делает невозможным возникновение чего-либо упорядоченного и исключает возможность прогноза и мантики. Наконец, к каким движениям атомов свести действия души? Вследствие каких движений атомов или других частиц один принужден быть геометром, другой станет изучать арифметику и астрономию, а третий будет мудрецом? Ведь наше дело и наше существование в качестве живых существ целиком уничтожается, если мы уносимся туда, куда влекут нас тела, толкающие нас, словно неодушевленных.
— Так, а другое направление — это господство судьбы?
— Но и теория судьбы убедить нас в полной мере не может. Сторонники этих взглядов считают, что все, что происходит, включая сюда и наши мысли, обусловливается движением высшей причины, подобно тому как активность отдельных членов живого существа происходит не сама собой, но вытекает из руководящего начала в нем. Такой высшей причиной является Мировая Душа, которая и есть причина всего происходящего. Приводя в движение мир в целом, она вызывает движение и в каждой отдельной части его. Так и создается та последовательная непрерывность, связь и цепь причин, которая и есть судьба.
— Но если эта теория правильна, тогда, собственно говоря, нет цепи причин вообще. И правильнее было бы говорить не о том, что все происходит вследствие неких причин, а о том, что все едино. Но тогда и мы — это не мы, да и наши действия и поступки ничто, поскольку от нас не зависят. Тогда не мы сами мыслим, но наши решения — чужие рассуждения. Тогда и не мы действуем, подобно тому как не ноги ходят, но мы ходим, пользуясь ими.
— Следовательно, нам нужно такое учение о причинности, которое, сохраняя принцип необходимости событий, не игнорировало бы свободную волю личности.
— Это возможно только в том случае, если мы допустим, вместе с Мировой Душой, существование и индивидуальной души, притом именно как первично действующей причины. Такая душа без тела — высшая госпожа над собой, свободна и вне космической причины.
— Можно сформулировать эти предположения таким образом: все происходит вследствие причин, причем последние двоякого рода. Одни происходят под действием души, а другие — под воздействием чувственной реальности. Душа действует свободно, если она действует согласно правильному рассудку. Если же душа неразумна, то тогда причиной является «иное». И тогда вот такие действия души могут рассматриваться как проявления судьбы, если под судьбой понимать цепь внешних причин.
— В этом смысле и получается, что наш чувственный мир есть нечто сложное, хотя бы потому, что он слагается из необходимости и ума. В противоположность «тому» миру, миру смыслов, наша Вселенная не есть чистый Нус, но то, что только причастно Нусу.
— Другими словами, целостный, совершенный и неизменный мир эйдосов — прообраз, а наш чувственный мир множественности — только подобие.
— Да, из Нуса вечно как бы истекает в материю, отражается в ней логос, результатом чего является наш физический мир. С одной стороны, это мир постоянной дробности и взаимного отчуждения, а с другой — гармонии, поскольку Нус господствует над материей и поскольку миром управляет Мировая Душа.
— Да, наш мир — это лишь подобие идеального мира Нуса. Но из этого автоматически не следует, что он лишь наихудшее подобие умственной реальности. Ведь что может быть лучшим прообразом? Но если нет такого лучшего подобия, тогда наш мир — самая верная копия. Наш мир как целое, как совершенный живой организм — безупречен. Он демонстрирует высшую мудрость идеальной реальности. И существующее в нашем мире зло не должно смущать мудрого человека. Зло существует для борьбы с ним. И в этой борьбе развивается Сила.
— Поскольку Нус первоначальнее космоса (но не во времени, а как причина), то мы можем говорить о промысле, но о промысле только вселенском, космическом, но отнюдь не о промысле над отдельными явлениями. Если бы мир возник во времени, как утверждают иудеи и христиане, то только тогда могла бы идти речь о предопределенности и отдельных явлений. Они и понимают под такой предопределенностью провидение и рассуждение своего человекоподобного бога о том, как может возникнуть эта Вселенная и как может она быть возможно лучшей.
— Но именно как целостность этот мир прекрасен и самодовлеющ. Кто порицает наш мир, судя о нем по его частям, тот так же не прав, как и тот, кто видит в человеке только волос или палец ноги, кто судит о человеческом роде по безумцам Калигуле или Нерону.
— И этот мир чувственной реальности мог бы сказать христианскому или иудейскому проповеднику: «Я произошел оттуда, совершенный из всех живых существ, самодовлеющий и самостоятельный, ни в чем не нуждающийся, потому что все во мне: и растения, и животные, и природа всего рожденного, и множество богов, и толпы божеств, и добрые души, и счастливые добродетелью люди. Все, что во мне, стремится к Благу, причем каждое по силе своей достигает его. Ведь зависят от него все небо, вся душа моя и боги в частях моих, и все животные и растения, и если что во мне есть, по общепринятому мнению, неодушевленного. И одно, по общему мнению, только бытию причастно, а другое — жизни. Третье же скорее ощущению, иное же обладает и рассудком, а иное — полной жизнью».
— Но, с другой стороны, этот чувственный мир проникнут беспощадной борьбой элементов, живых существ и людей.
— Что же из этого? Один элемент обязан своим возникновением гибели другого. Взаимные нападения животных друг на друга необходимы, ведь эти последние не вечны. Взаимная несправедливость людей может иметь своей причиной стремление к Благу: не будучи в силах достичь его, люди, падая, обращаются друг против друга, причем творящий зло несет наказание уже тем, что вредит своей душе. Нет, не лучшее существует ради худшего, не лучшее создает худшее, но худшее возникает лишь вследствие вытекающих из самой материальной природы затруднений воспринять лучшее. Часто же страдания причиняются без всякого намерения. Наконец, обладающие самопроизвольным движением животные, и среди них многочисленные люди, склоняются ко злу вследствие сначала небольшого, постепенно растущего отклонения от добра по причине культивирования телесных желаний. Но наказание не медлит: в конечном счете только хорошие счастливы.
— Да, но почему же не все души счастливы?
— В этом повинно бессилие их в борьбе за добродетель: кто не стал божественным, не имеет божественной жизни. Только хорошие счастливы. Бедность и болезни — ничто для них, но они же — польза для плохих. Даже порок полезен, давая случай проявиться справедливости и возбуждая дух к добродетели. Зло как недостаток добра, по сути необходимый в материальном мире, служит в конечном счете целям Нуса.
— Но почему в таком случае существует несправедливость? Почему плохие правят, а хорошие им служат?
— Если хорошие люди подчинены плохим тиранам, то в этом повинно отсутствие в них мужественности. Кто без оружия, тот проигрывает вооруженным, и даже боги не сражаются за малодушных. Мир — арена борьбы, но в борьбе побеждают те, кто храбро сражается, а не те, кто трусливо молится. Человек не камень, который толкают. Зло и добро — следствия спонтанной воли человека, стоящего между богом и животным. Нельзя же порицать драму за то, что в ней выведены не только герои, но и рабы и косноязычные.
— Конечно, ведь эти персонажи также необходимы для целостной художественности драмы. Нельзя порицать и логос за то, что он создал так называемое зло, не желая, чтобы все было хорошим, ведь и художник на своей картине распределяет самые разнообразные краски. Логос, гармонически сочетавшись с материей, разнообразный в своем единстве, поставил каждое явление на соответствующее место, и то, что возникло, возникло таким, что ничто не может быть прекраснее его. Это особенно ясно видно, если мы будем иметь в виду не только данный момент, но и прошлое и будущее с его справедливым посмертным возмездием душам. Потому в этом чувственном мире и нет случайностей и ничтожностей. Все имеет значение для целого, подобно тому, как в мире эйдосов каждая часть есть все.
— Итак, каждое явление происходит разумно, даже разумнее, чем если бы физический мир был создан вследствие рассуждения. Наш мировой порядок, сообразный с Умом, таков, что, существуя без рассуждения Бога, он существует, как если бы в основе его лежало самое прекрасное рассуждение. Но как же оправдать всеобщий закон всеобщей борьбы?
— Живые, чувственные существа не вечны. И если они в свое время покидают мир так, что приносят пользу другим, например, животные идут в пищу людям, то где здесь основание для жалобы? И что такое смерть? Смерть — не уничтожение, а метаморфоза. Актера убивают на сцене, за кулисами он меняет костюм, чтобы выступить под новой маской…
…Наступила тишина, внезапная тишина Все стихло. Я услышал, словно кто-то вошел в зал. Евстохий? Я напрягся и хотел повернуть голову, но мне не удалось это сделать. Но зато я почувствовал, как быстро усилился жар. Ко мне никто не приблизился… Жажда, как я хочу пить… Но я опять словно куда-то лечу… Глаза Аммония… И я явственно слышу его тихий, прерывающийся, но по-прежнему ясный голос… Когда это было… И было ли…
— …Божественный Пифагор — величайший мудрец Эллады и искуснейший маг — первым принес эллинам знание о бессмертии души человека. Когда тело разрушается, душа вселяется снова в нарождающееся тело человека. И такое круговращение совершается в течение трех тысяч лет…
Но почему я не помню этого? Аммоний не говорил этого… И откуда вновь этот голос, и эти глаза… но лицо другое… И ночь…
— Все происходящее в этом мире снова и снова повторяется через определенные промежутки времени. Так говорю я, Пифагор из Самоса, сын Мнесарха из Тира. Некогда был я Эфалидом и почитался сыном Гермеса Трисмегиста. И Гермес предложил мне на выбор любой дар, кроме бессмертия, и я попросил оставить мне и живому и мертвому память о том, что со мной было. Впоследствии времени я вошел в Евфорба, был ранен Менелаем. И Евфорб рассказывал, что он был когда-то Эфалидом, что получил от Гермеса его дар, как странствовала его душа, в каких растениях и животных она оказывалась, что претерпела она в Аиде (пробыв там 216 лет) и что терпят там остальные души.
После смерти Евфорба душа моя перешла в Гермотима, который, желая доказать это, явился в Бранхиды и в храме Аполлона указал на щит, посвященный богу Менелаем, — отплывая от Трои, говорил он, Менелай посвятил Аполлону этот щит, а теперь он уже весь прогнил, оставалась только отделка из слоновой кости. После смерти Гермотима я стал Пирром, делосским рыбаком, и по-прежнему все помнил, как был сперва Эфалидом, потом Евфорбом, потом Гермотимом, потом Пирром. А после смерти Пирра я стал тем, кого знают как Пифагора из Самоса.
И благодаря этой памяти, дарованной мне мудростью Гермеса, и в зрении моем, и в слухе, и в мышлении заключалась и заключается чрезвычайно большая сила, способность усматривать живые сущности в вещах. Сила поразительная и странная для людей, не имеющих такой памяти. А потому-то и слышать я мог бесконечно божественную музыку Вселенной, воспринимая всеобщую гармонию движущих сфер и движущихся в них светил.
Но не только поэтому, ибо только эта память и позволяет правильно созерцать. Ведь жизнь словно игра: иные участвуют в ней ради состязания, иные для торговли, и только самые счастливые — ради созерцания. И большинство людей — рабы, рождающиеся жадными до славы и наживы в своей жизни, и только немногие жадными до единой только истины.
Бог открывает истину лишь тем, кто стремится к ней, кто готовит свою душу для принятия истины. Бог делает все, чтобы блага сияли для всех, но Он не может их открыть всем лишь потому, что у большинства людей очи совсем закрыты для благ, предлагаемых их созерцанию и восприятию, будучи заняты созерцанием всего низменного и дурного…
Не допускайте закланий богам и поклоняйтесь лишь бескровным жертвенникам, ибо все живое родственно друг другу. Не только воздерживайтесь от животной пищи, но и сторонитесь поваров и охотников. Не клянитесь богами, но воздавайте им почести, непременно в благом молчании, одевшись в белое и освятившись. Освящение состоит в очищении, омовении, окроплении, в чистоте от рождений, смертей и всякой скверны, в воздержании от мертвечинного мяса, от морской ласточки, чернохвостки, яиц, яйцеродных тварей, бобов. И старайтесь, чтобы вера была вашим собственным делом и словом. Чтите старейших, ибо всюду предшествующее почтеннее последующего: восход — заката, начало жизни — конца ее и рождение — гибели. Богов чтите выше духов, духов выше людей, а из людей выше всего — родителей. В общении держитесь так, чтобы не друзей делать врагами, а врагов друзьями. Ничего не мните своей собственностью. Боритесь с беззаконием и пособляйте закону. Не повреждайте и не губите растения, а спрашивайте и разговаривайте с ними, равно как и с животными, будьте на равных и наставляйте их. Скромность и пристойность — в том, чтобы не хохотать, не хмуриться. Тучности избегайте, память упражняйте, в гневе ничего не говорите и не делайте, гадание всякое чтите.
И пусть те, кто уже совершил очищение, медленно и постепенно, всегда одним и тем же образом, начиная от все более мелкого, переводят себя к созерцанию вечного и сродного ему бестелесного. Вот почему для предварительной подготовки душевных очей к переходу от всего телесного к истинно сущему нужно обращаться к математическим и иным предметам рассмотрения, лежащим на грани телесного и бестелесного (эти предметы трехмерны, как все телесное, но плотности не имеют, как все бестелесное), — это как бы искусственно приводит душу к потребности в настоящей ее пище.
Ведь первообразы и первоначала не поддаются ясному изложению на словах. Ведь и учителя грамматики, желая передать звуки и их значение, прибегают сначала к начертанию букв, а потом уже объясняют, что буквы — это совсем не звуки, а лишь средство, чтобы дать понятие о настоящих звуках. Так же, как и учителя геометрии, не умея передать на словах телесный образ, представляют его очертания на чертеже и говорят: «Вот треугольник», имея в виду, что треугольник — это не то, что сейчас начерчено перед глазами, а то, о чем этим начертанием дается понятие. Вот потому-то обращаюсь и я к числам, чтобы показать бестелесные образы первоначал.
Понятие единства, тождества, равенства, причины единодушия, единочувствия, всецелости, то, из-за чего все вещи остаются самими собой, называется Единицей. Единица эта присутствует во всем, что состоит из частей, она соединяет эти части и сообщает им единодушие, ибо причастна к первопричине. А понятие различия, неравенства, всего, что делимо, изменчиво и бывает то одним, то другим, называется Двоицей. Все, что в природе вещей имеет начало, середину и конец называется Троицей. Все, что совершенно, — троично; все совершенное исходит из этого начала и им упорядочено. Четверица есть образ воплощенности этой троичности. Но суть Бога для человека воплощена во взаимосвязи, в проявлении первых четырех чисел — 1+2+3+4, то есть в Десятерице. (1+2+3+4=10). И поэтому десять — это совершеннейшее число, совершеннейшее из всех, ибо в нем заключено всякое различие между числами, всякое отношение их и подобие. В самом деле, если природа всего определяется через отношения и подобия чисел и если все, что возникает, растет и завершается, раскрывается в отношениях чисел, а всякий вид числа, всякое отношение и всякое подобие заключаемы в Десятке, то как же не назвать Десятку числом совершенным?
…Затем появился образ Малха, который рассказывал, находясь в очерченном на песке круге, то, что вычитал однажды у Филолая: «В давпийской земле, где жителей разоряла одна медведица, Пифагор, говорят, взял ее к себе, долго гладил, кормил хлебом и плодами и, взявши клятву не трогать более никого живого, отпустил. Она тотчас убежала в горы и леса, но с тех пор не видано было, чтобы она напала даже на скотину. В Таренте он увидел быка на разнотравье, жевавшего зеленые бобы, подошел к пастуху и посоветовал сказать быку, чтобы тот этого не делал. Пастух стал смеяться и сказал, что не умеет говорить по-бычьи. Тогда Пифагор сам подошел к быку и прошептал ему что-то на ухо, после чего тот не только тут же пошел прочь от бобовника, но и более никогда не касался бобов.
А на Олимпийских играх, когда Пифагор рассуждал с друзьями о птицегаданиях, знамениях и знаках, посылаемых от богов вестью тем, кто истинно боголюбив, то над ним, говорят, вдруг появился орел, и он поманил его к себе, погладил и опять отпустил. И, повстречав однажды рыбаков, тащивших из моря сеть, полную рыбы, он точно им сказал заранее, сколько рыб в их огромном улове. А на вопрос рыбаков, что он им прикажет делать, если так оно и выйдет, он велел тщательно пересчитать всех рыб и тех, которые окажутся живы, отпустить в море. Самое же удивительное, что все немалое время, пока шел счет, ни одна рыба, вытащенная из воды в его присутствии, не задохнулась.
В один и тот же день он был и в италийском Метапонте, и в сицилийской Тавромении, и тут и там разговаривая с учениками. Это подтверждают почти все, а между тем от одного города до другого большой путь по суше и по морю, которого не пройти и за много лет.
Он переходил однажды с многочисленными спутниками реку Кас и заговорил с ней, а она при всех внятным и громким голосом ему ответила: „Здравствуй, Пифагор…“»
…И снова начинается таинственная пляска спирали… И вновь появляется луч света и голос…
— …А жизнь? Жизнь — игра, напоминающая военный танец, спектакль на той сцене, которая называется миром, и в котором принимает участие не внутренняя душа, но внешняя тень человека. Вот почему лишь детям подобает жаловаться на страдания, которых в реальности-то нет.
— Ты все оправдываешь в этом чувственном мире?
— Никоим образом. В мировой драме Нус — автор, а люди — артисты. Как в драме автор создает и распределяет роли, но от актеров зависит, как эти роли сыграть, так и здесь. Все — логос и согласно логосу, а зло — отступление от предназначенной для человека данной роли. И всеобщий логос объемлет как хорошее, так и плохое. Диссонансы сливаются в гармонию. Даже случайности являются лишь звеньями общей цепи событий, которая восходит к руководящему началу. И Вселенная конструируется стратегическим промыслом.
— Но этот промысел не уничтожает свободы воли…
— Конечно, люди свободны делать как добро, так и зло: добро в согласии с промыслом, зло — вопреки ему. Причины наших поступков находятся в нашей власти. Но плохие поступки людей промысел обращает в добро, иными словами, следствия наших поступков уже входят в план промысла Например, вняв совету врача, поступаем мы согласно его уму. Если мы поступаем против его совета, то это наша вина, и мы должны расплачиваться за последствия. Мир чувственной реальности слагается из ума и необходимости, но промысел царит над всем, даже над алогическим, организуя все пропорционально и по аналогии. Человек, как частное, не может установить, насколько в каждом отдельном случае выступают необходимость и ум, иными словами, он не в силах давать конкретную телеологическую оценку отдельных явлений. Но отдельные случаи зла и страдания не затрагивают вселенского промысла.
— Потому-то говорится, что очищение от материального в человеке — это преодоление пут необходимости, это — путь умственной, высшей свободы.
— Совершенствование человека — это то, что постоянно сближает его и умственную реальность, мир идеальных сущностей. Но это и путь борьбы логоса в человеке с материей в человеке. Но ведь человек-то целостен, един, и потому-то мы эту конкретную целостность называем даймонием, — то высшее в человеке, что влечет его к абсолютной реальности, к Единому.
Даймоний — это то, что является непосредственно высшим по отношению к нашей человеческой активной жизни. Если наша жизнь чувственная, то даймоний наш — рассудочный. Если наша жизнь рассудочная, то даймоний — то, что над рассудком. Наша жизнь ведь — дело исключительно наших рук и нашей индивидуальной свободы. Иными словами, мы сами выбираем своего даймония, конструируя своей жизнью ту или иную степень целостности или нецелостности, а следовательно, и связанную с этим судьбу. Этот даймоний отождествляется с тем высшим в нас, сверхиндивидуальным (то, что одновременно и индивидуально и бесконечно всеобще), что является руководством для нашей душевной активности, стремящейся к высшему.
— Но злой даймоний…
— Это наша внутренняя нецелостность, неединство. Но самое главное — все зависит от нас. Даймоний — это Эрос божественного Платона, это любовь к прекрасному, ибо Эрос — сын Афродиты.
— Но вернемся к тому, что чувственный мир — мир преходящий, подлунный — единственно может быть объяснен только из его отношения к вечному миру умственной реальности…
— Но эта вечность не есть покой. Вечность есть жизнь абсолютного тождества в Нусе, жизнь сущего в бытии, данная сразу в настоящем во всей своей целостности, полноте и спокойствии. Наш же мир, мир времени, есть подобие мира смыслов. А следовательно, и время есть подобие вечности, мировой процесс есть подобие невозмутимой, данной сразу в своей целостности, беспредельной жизни Абсолюта.
— Иначе говоря, время есть жизнь Мировой Души, которая находится в постоянном движении, состоящем в переходе из одного проявления жизни в другое. Время — последовательная смена моментов деятельности этой души, предполагающая «прежде» и «после». При этом стремление к будущему, возможно, и есть наиболее характерное для времени. Мировая Душа, создав чувственный мир, подчинила его времени: она обнаруживает свою активность последовательно, проявляя одну деятельность за другой и создавая, таким образом, последующее. Мир существует и движется в Мировой Душе. Но так как жизнь этой Души изменяется, то тем самым создается различие времени. Таким образом, время создается интервалами деятельности Мировой Души. Поскольку же ее деятельность состоит в ее вечном стремлении к Уму, постольку для времени самое существенное — будущее.
— Но ведь Мировая Душа подобно человеческой одновременно стремится к Нусу, обращена к Абсолютному Разуму и в то же время созерцает материю, оплодотворяет ее.
— Да, и в первом случае она и есть небесная Афродита, во втором — она земная Венера, то есть Мировая Душа с точки зрения ее отношения к чувственному миру. И в этом смысле она и есть природа…
…Я пытаюсь разжать свои веки. Но они — самопроизвольно подергивающиеся и слабые — словно не мои веки, и я не могу сладить с ними. И тогда я снова медленно, паря, опускаюсь в светлый, быстрый поток, несущийся по Вселенной…
…Совершенный человек, спокойный в своем чистом безмолвии, сидит, поджав босые ноги под себя и выпрямив спину, на небольшой лужайке в светлом, прозрачном, замершем лесу. Концентрируя свое объемное внимание на неких предметах, он стремится к созерцанию Плодоносной Пустоты. Но руки его не хватают мудрые образы, и глаза его не пронзают предметы почитания, — явление не приходит.
Наконец, преклонившись в отчаянной, тоскливой молитве, ищущий почуял, как на его потный лоб спустилась нить паутины. Когда же он отбросил ее, раздался тихий и ясный голос: «Зачем прогоняешь Знак Мой? Луч Мой следовал за тобой, позволь обнять тебя».
Тогда задрожал в человеке солнечный змей, и нашел он отброшенную нить. И в руках его она обратилась в сорок переливающихся жемчужин, и в каждой отражался Лик Плодоносной Пустоты. На срединном камне светилась надпись: «Отвага, отчаяние, отрада». И совершенный получил отраду, ибо узнал путь к ней.
И я — словно колебания и ритмика мысли его и окольцованная сила его в этот миг. «Каждая радостная утрата есть безмерный выигрыш. Отвага отчаяния есть самоотверженность. Но высшая отвага не ждет воздаяния. Отчаяние не ждет воздаяния. Отчаяние есть предел и есть достижение предела, за которым начинается Реальность».
…И ушел оттуда, ибо воспринял он указание и стал этим указанием. Спустился он в узкую долину, присел в тени оливы у небольшого, красивого источника и стал ждать, созерцая глубины Плодоносной Пустоты в себе. Ибо остановила его Сила и должен был он стать частью Плана и помочь решить некую задачу.
В это же время подошел к источнику молодой бородатый и мускулистый пастух. И увидел человека под деревом, углубившегося в размышления. Пастух сел рядом и пытался задуматься, подражая человеку. Он начал пересчитывать своих баранов и овец, мысленно взвешивая выгоду от продажи руна их.
Оба долго сидели молча, наконец пастух спросил: «Господин, о чем думаешь ты?» Тот сказал: «О боге!» Пастух спросил: «Знаешь ли, о чем думал я»? — «Тоже о боге». Громко и раскатисто стал смеяться пастух, а затем, погладив пыльную свою бороду, сказал: «Ошибаешься, господин, думал я о выгоде продажи руна». «Истинно, тоже думал ты о боге, только моему богу нечего продавать, твой же бог должен сперва сходить на рынок. Но, может быть, он на пути встретит разбойников, которые помогут ему вспомнить о том, что я говорю. А потому иди скорее на рынок, чтоб скорее вернуться».
Так сказал совершенный и затем вновь вернулся к себе. И вновь я был его мыслью, и он был мной. И сказал отчетливо его даймоний: «Самое страшное — высказать мысль: я уже постиг. Совершенный никогда не скажет эту разрушительную формулу. Он знает о существовании Плана и неустанно постигает подробности. В этом его ответственность».
* * *
…Огромная, плоская равнина. И я — в самом центре этой равнины. Форма моего «я» колеблется, пульсирует неким совершенно новым образом. А вокруг меня — полупрозрачный, пульсирующий золотистым светом туман. И я — неслышно и долго — вдыхаю этот туман — я словно вижу свой вдох! — и медленно вдыхаю в себя этот едва заметно пульсирующий, золотистый свет. Я наполняюсь им, он протекает через все мое словно отстраненное тело. Я вдыхаю энергию, силу Вселенной, вбирая в себя дыхание Мировой Души. И всякий раз после вдоха выдыхаю всю мою отдельность, всякое чувство неполноценности, всякую жалость к себе, всю привязанность к моему страданию. Я выдыхаю гнев, сомнение, вожделение, замешательство. Я вдыхаю Силу, выдыхая все помехи, которые удерживают меня на моем пути к Нему. И само дыхание — я вижу это! — есть преображение. Золотистый туман, который излился в меня, сосредоточился посреди груди, стал крошечным существом, сидящим в блестящем цветке, прямо посреди моего сердца. Сияние, которое делает его ярким и невозмутимым, — от света, исходящего изнутри. И глядя на это существо, я осознаю, что оно есть сам сияющий свет, истекающий из него. Я осознаю, как из этого существа излучается глубокий мир, что оно — сущность огромной мудрости. Оно сидит тихо и спокойно, в совершенной гармонии и равновесии. Я ощущаю его сострадание и любовь, и я чувствую или вижу, как наполняюсь его любовью… Это крошечное существо начинает вдруг расти и заполняет то, что я предполагаю как свое тело, форму моего тела: его голова заполняет пространство моей головы, его торс — мой торс, его руки — мои руки, его ноги — мои ноги. И я знаю, что теперь под кожей моего пульсирующего тела сидит это существо, сущность с бесконечно яркой мудростью, сущность с глубочайшим состраданием, сущность, которая купается в блаженстве, блаженстве, им самим изливаемом, сущность света, совершенного покоя… Но оно, это существо, продолжает расти в размерах, и я уже расту вместе с ним, ощущая свою огромность, мир, невозмутимость. Моя голова уходит в небо, спокойная синева вокруг — все мое окружение, вся эта огромная, плоская равнина, все города и страны вдруг оказываются внутри меня. Я всматриваюсь внутрь себя, и там — Человек, и я вижу его одиночество, радость, заботу, взвинченность, страх, любовь матери к ребенку, болезнь, страх смерти. Все это внутри меня, и я взираю на это с состраданием, с заботой, и в то же время — с невозмутимостью, чувствуя, как свет истекает через мое существо внутрь и наружу… Но я вырастаю еще больше, я чувствую, что моя огромность увеличивается — моя голова среди планет, и я — посреди звезд, и Земля лежит глубоко у меня в животе. И пронзает меня тревога, тоска и красота звездных сфер. Я здесь — безмолвный, огромный, мирный, сострадающий, любящий. И все творения умов человеческих — во мне, и я смотрю на них с состраданием… Но я продолжаю расти, и вся Вселенная уже во мне. Я — единственный, я — одиночество, безмолвие, покой. Все — во мне. Я — провозвестник. Все, что когда-либо было, есть или будет, входит в тень моего существа. Я — все во Вселенной, обладающий бесконечной мудростью и бесконечным состраданием… И вспыхивает ярчайший, неимоверно любимый свет — и взрываются и распадаются в потоки света границы моей сути, моего предельного «я», и все — поток, вливающийся в Него…
V Волны набегающего времени Рим 243–253 гг.
Я скуп и расточителен во всем. Я жду и ничего не ожидаю. Я нищ, и я кичусь своим добром. Трещит мороз — я вижу розы мая. Долина слез мне радостнее рая. Зажгут костер — и дрожь меня берет, Мне сердце отогреет только лед. Запомню шутку я и вдруг забуду, И для меня презрение — почет. Я всеми принят, изгнан отовсюду.…Порфирий беззвучно смеялся. Душа совершенствующегося не связывается ни потаканием себе, ни жалобами, не связывается она ни победами, ни поражениями. Душа истинно совершенствующегося связывается только борьбой, и каждое усилие, даже мельчайшее, — это последняя битва в этой жизни. Результат имеет очень мало значения. В своей последней битве совершенствующийся позволяет своей душе течь свободно и ясно. И в последней битве, зная, что его воля безупречна, совершенствующийся смеется.
Порфирий вновь начал писать:
— Когда император Гордиан предпринял поход на Персию, Плотин записался в войско и пошел вместе с ним. Было ему тогда тридцать девять лет, а при Аммонии он провел в учении полных одиннадцать лет. Гордиан погиб в Месопотамии, а Плотин едва спасся и укрылся в Антиохии. И оттуда, уже сорока лет от роду, при императоре Филиппе приехал в Рим.
С Гереннием и Оригеном Плотин сговорился никому не раскрывать тех учений Аммония, которые тот им поведал в сокровенных своих уроках. И Плотин оставался верен уговору: хотя он и занимался с теми, кто к нему приходил, но учения Аммония хранил в молчании. Первым уговор их нарушил Геренний, за Гереннием последовал Ориген (написавший, правда, только одно сочинение о демонах, да потом, при императоре Галлиене, книгу о том, что царь есть единственный творец). Но Плотин еще долго ничего не хотел записывать, а услышанное от Аммония вставлял лишь в устные беседы.
Учеников, преданно верных его философии, у него было много. Таков был Амелий Этрусский, родовое имя которого было Гентелиан. Называть себя он предпочитал «Америем», через «р», считая, что пристойнее иметь имя от «америи» (цельности), нежели от «амелии» (беззаботности). К Плотину он пришел на третий год его преподавания в Риме, в третий год царствования Филиппа, и оставался при нем целых двадцать четыре года, до первого года царствования Клавдия. Бывший ученик Лисимаха, прилежанием он превзошел всех остальных слушателей Плотина: он собрал и записал почти все наставления Нумения, большую часть их выучивши на память, а записывая уроки Плотина, составил из этих записей чуть ли не сто книг, которые подарил своему приемному сыну Гастилиану Гесихию Апамейскому.
Был среди учеников Павлин, врач из Скифополя, которого Амелий прозвал Малюткою за то, что он многое услышанное понимал не так. Был его товарищем и Зеф, родом из Аравии, женатый на дочери Феодосия, Аммониева товарища Он тоже занимался врачеванием, и Плотин его очень любил. Занимался он и политикой, пользуясь в ней немалым влиянием, но Плотин позаботился его от этого отозвать. Жил с ним Плотин по-домашнему и бывал у него в имении, что за шестым камнем по дороге от Минтурн. Имение это купил Кастриций Фирм, среди наших современников величайший любитель прекрасного, перед Плотином благоговевший, Амелию во всех заботах помогавший как верный слуга. Он тоже был почитателем Плотина, хотя и не оставлял общественной жизни.
Был Плотин добр и легкодоступен всем, кто хоть сколько-нибудь был с ним близок. Поэтому-то, проживши в Риме целых двадцать шесть лет и бывая посредником в очень многих ссорах, он ни в едином из граждан не нажил себе врага. Среди придворных философов был некий Олимпий Александрийский, недавний ученик Аммония, желавший быть первым и потому не любивший Плотина. В своих нападках он даже уверял, что Плотин занимается магией и сводит звезды с неба. Он замыслил покушение на Плотина, но покушение это обратилось против него же. Почувствовав это, он признался друзьям, что в душе Плотина великая сила: кто на него злоумышляет, на тех он умеет обращать собственные их злоумышления. А Плотин, давая свой отпор Олимпию, только и сказал, что тело у последнего волочилось, как пустой мешок, так что ни рук, ни ног не разнять и не поднять. Испытав не раз такие неприятности, когда ему самому приходилось хуже, чем Плотину, Олимпии наконец отступился от него.
Распознавать людской нрав умел он с замечательным искусством. Однажды пропало дорогое ожерелье у Хионы, честной вдовы, которая с детьми жила у него в доме. Плотин, созвавши всех рабов и всмотревшись в каждого, показал на одного и сказал: «Вот кто украл!» Под розгами тот поначалу долго отпирался, но потом во всем признался и принес украденное. О каждом из детей, которые при нем жили, он заранее предсказывал, какой человек из него получится. Так, о Полемоне он сказал, что тот будет любвеобилен и умрет в молодости — так оно и случилось.
В разговоре был он искусным спорщиком и отлично умел находить и придумывать нужные ему доводы. Но в некоторых словах он делал ошибки, например, говорил «памятать» вместо «памятовать» и повторял это во всех родственных словах, даже на письме. Ум его в беседе обнаруживался ярче всего: лицо его словно освещалось, на него было приятно смотреть, и сам он смотрел вокруг с любовью в очах, а лицо его, покрывающееся легким потом, сияло добротой и выражало в споре внимание и бодрость.
Были при нем среди христиан многие такие, которые отпали от старинной философии, — ученики Адельфия и Аквилина. Опирались они на писания Александра Ливийского, Филокома, Демострата, Лида и выставляли напоказ откровения Зороастра, Зостриана, Никофея, Аллогена, Меса и тому подобных, обманывая других и обманываясь сами, словно бы Платон не сумел проникнуть в глубину умопостигаемой сущности! Против них он высказал на занятиях очень много возражений, записал их в книге, озаглавленной «Против гностиков».
Сам же Плотин астрономией по-математически занимался мало, а больше вникал в предсказания звездочетов. Да и тут он без колебания осуждал многое в их писаниях, если ловил их на каких-нибудь ошибках…
…Меня словно потянуло вправо: я повернулся и взглянул на голографический дисплей. Через несколько секунд на экране вновь появился этот странный и почему-то знакомый человек — «груша». Впрочем, сейчас на месте носа переливалось нечто, напоминающее неправильный прямоугольник. Каким-то образом он сам это понял или догадался и повернул голову назад. Раздался треск-щелчок, и я увидел его плешивый затылок. И словно не испытывая никаких неудобств от тошнотворной неестественности своей позы, он внимательно и с любовью осматривал свое лицо в круглом, большом зеркале, повисшем в воздухе за его спиной. Он вытянул руку — я видел своими глазами, как она удлинилась при этом чуть ли не вдвое! — и начал что-то поправлять, быстро массируя свой нос. Затем, удовлетворенно хмыкнув, он опять повернул голову, растянул весьма неестественно щеки, чуть кивнул мне и начал говорить:
— Итак, если ты помнишь, Адрастия, вдоволь посмеявшись, посадила на императорский трон тринадцатилетнего Гордиана III. Он был жизнерадостным, красивым, обходительным молодым человеком, всем нравился, в жизни был приятен, отличался образованностью — словом, он обладал всеми данными, чтобы быть императором, — кроме возраста. Да, опыт — умение прежде всего не повторять своих ошибок — важен особенно для правителей и президентов.
Но в этой ситуации Гай Фурий Тимеситей становится начальником преторианцев. Образованный и вместе с тем твердый человек, ловкий дипломат. Ему удавалось искусно лавировать между сенатом и армией, поддерживая хорошие отношения с обеими сторонами. В 241 году он женил молодого императора на своей дочери и стал таким образом чем-то вроде регента. С этого времени правление Гордиана III не казалось ребяческим, и сам император сделался несколько более рассудительным и уже не давал евнухам и придворным прислужникам своей матери торговать его волей.
Положение на восточной границе тем временем становилось для Рима все более опасным. Персидский царь Шапур еще при Максимине захватил Месопотамию, а теперь грозил столице Сирии Антиохии. В 242 году — в год смерти Аммония — Тимеситей вместе с императором отправился на Восток…
…Именно тогда, пристально вглядываясь в колеблющийся столб дыма от погребального костра, я вдруг увидел или скорее ощутил в себе нечто неизреченное, невыразимое, скрывающееся за всем тем, что изучил, узнал у Аммония. Это нечто было новым и неновым. Оно было неново, ведь Аммоний постоянно намекал об этом своими словами и действиями, так же как его гости из Индии, Персии, Сирии говорили иногда и иносказательно о том же самом. Но это было и действительно ново и неожиданно, ибо я понял, ощутил, увидел это как некую предельную силу, и в тот же миг понял и увидел, почему Аммоний так ненавязчиво и мудро требовал искать свой путь к Невыразимому, Единому.
Это был всего лишь миг — потом порыв внезапного ветра с моря, — и пришло ощущение тягостной пустоты, надлома. Я всем своим существом, пробуждающейся от тягостного забвения душой своей вновь ощутил, что предшествующая жизнь с Аммонием стремительно и невозвратно уходит. Я стоял тогда в оцепенении: волны холодного одиночества вновь бились в мои напряженные мышцы, мелкими струйками просачиваясь в мое сердце и мой ум…
В этой серой, безмолвной буре на поверхность моего сознания всплыли слова, которые я слышал за несколько лет до этого от гостя из Персии:
— Оно, Единое и Невыразимое, участвует и не участвует в мировом творчестве. Оно не участвует, будучи выше самой идеи такого творчества. Но, будучи выше всего, Оно содержит в Себе идею творения — как некий абсолютный принцип. Этот принцип по отношению к низшему миру является Источником творения, орудием творчества. Сокровенный смысл учения Зороастра в том, что Оно, Единое назовем его условно Зерван-Акерен, возвышаясь как Абсолют над добром и злом, эманирует диаду Ормузда и Аримана, как творческий свой аналог. И также брахманы в Индии почитают то, что Брама есть не что иное, как творческая сила Праджапати.
Запрещено говорить о пути познания Единой Непостижимой Сущности, пребывающей бесстрастно и неизменно за пределами всех мировых антитез и вмещающей их в себе. Но тебе скажу, что уже это запрещение есть важное указание по поводу Пути.
Еще скажу вот что: по учению Зороастра, принцип Единого отнюдь не исчерпывается понятиями об Ормузде и Аримане, олицетворяющих свет и тьму, добро и зло. То лишь видимые проявления Непостижимой и Неизреченной Сущности: Ормузд — светлая эманация, положительный принцип, а Ариман — отрицание всего положительного. Но более того, Ариман есть в весьма важном смысле сомнение Ормузда в самом себе. И в будущем можно будет увидеть, с одной стороны, Ормузда и семь первичных духов, а с другой — Аримана с таким же числом демонических духов, приносящих вместе жертву Вечному Зерван-Акерену. Ибо все антитезы положительного и отрицательного начал, все формулы бытия содержатся в Неизъяснимой Сущности, Всеобъемлющей, Бесстрастной, Превышающей всякое восприятие и всякое познание.
И тогда именно я узнал, что путь мой лежит из Александрии на Восток — в Персию и Индию…
…Человек-груша резво крутил головой — то влево-вправо, то вперед-назад. И это доставляло ему большое удовольствие: он причмокивал, сладострастно улыбался, растягивая щеки. И в то же время продолжал говорить:
— Следующей весной, 243 года, Плотин прибывает в Антиохию. Судя по всему, для того, чтобы воспользоваться каким-то образом экспедицией Гордиана и проникнуть в глубины Азии. Не странно ли? Философ, занимающийся весьма отвлеченными предметами, человек, далекий от будничных, суетливых проблем, — и вдруг такая авантюра. А? Но, может быть, этот своего рода отчаянный шаг и есть показатель внутреннего порыва к той предельной тайне, к которой его безудержно и настойчиво влекло после смерти Аммония. И что, собственно говоря, оставалось делать столь непрактичному человеку, как Плотин?
Оставалась армия. Трудно сказать, на что он рассчитывал, если вообще рассчитывал. Поступить на военную службу? Формально это было возможно. Если в древности римляне, уклонившиеся от призыва в ополчение, отдавались в рабство как предатели свободы, то уже в новое время ряды армии большей частью пополнялись добровольцами. А поскольку среди этих добровольцев все больше было людей неграмотных или малограмотных (из провинций и романизированных племен), то спрос на людей образованных был в общем-то высок. Что ты делаешь?
Груша истошно закричал, увидев, что я потянулся к тумблеру выключателя. Он даже попытался помешать, высунув из экрана свою руку с очень длинными, волосатыми пальцами. Но я его опередил…
…На следующий день мы с Транкиллом должны были уехать. А в этот весенний вечер я бродил по небольшим, покрытым фиговыми деревьями и оливами холмам на западной окраине города. Я ждал последнего всплеска солнца, после которого в это время быстро наступают сумерки и ночь. Для меня это было очень важно: стоя лицом к краснеющему лику Гелиоса и медленно поворачивая голову слева направо, прищуренными глазами впитывать эти последние капли гранатовых лучей… Я чувствовал себя очень расслабленным и видел, как, нежно клубясь, эти последние лучи проникают в меня, забирают меня куда-то с собой…
Когда уже стемнело и я собирался возвратиться в дом к Тифонию, где мы остановились, внезапно ко мне скользнула какая-то тень. Это была маленькая женщина или девочка, укутанная в накидку или платок. Она подошла ко мне и молча, не поднимая лица, протянула руку. Я не ожидал встретить нищенку так далеко от города. Нащупав монеты, я протянул ей несколько. Она отдернула руку и, пятясь, по-прежнему не поднимая головы, быстро скрылась. Когда я сделал шаг, то увидел на камне справа кусок пергамента. Я поднял его очень близко к глазам и начал медленно читать:
Не было тогда не-сущего, и не было сущего. Не было ни пространства воздуха, ни неба над ним. Что двигалось чередой своей? Где? Под чьей защитой? Что за вода тогда была — глубокая бездна? Не было тогда ни смерти, ни бессмертия. Не было признака дня или ночи. Нечто одно дышало, воздуха не колебля, по своему закону, И не было ничего другого, кроме него… Откуда это творение появилось: То ли само себя создало, то ли — нет, Надзирающий над миром в высшем небе, — Только он знает это или не знает.Затем шла фраза, написанная очень мелко, — мне пришлось до предела напрячь свои глаза:
— У Бога есть только одна Душа, но, поскольку Бог имеет множество качеств, его прославляют по-разному: все боги суть только различные свойства Единой Души.
Далее были нарисованы три горизонтально расположенные свастики, после которых шла третья загадка:
Мир из Моей Природы распустился, И в нем незримо, тайно Я живу. Все существа лишь от Меня зависят, Но от творений не завишу Я: Их нет в Моей Божественной Природе (Постигни сам глубокую ты тайну). Творящий Дух Мой все в Себе содержит, Но от всего свободен Я навеки. Как движется в пространстве бесконечном Могущественный воздух, не колебля Пространство необъятное Вселенной, — Так и в Моей Природе Совершенной Миры живут, сменялся другими; Но неподвижен Я и неизменен. Не связан Я твореньями Своими, Ни волею, ни жаждой созиданья; Мой Дух творит, но не мешает это В Самом Себе покоиться Мне вечно. Мой Дух — закон, и силою закона Все вещи возникают и во мраке Небытия скрываются на время. Он есть Источник вечного движенья.…Груша растаял на экране. Я минуту посидел, стараясь отогнать надвигающийся страх. В конце концов, в Игре участвую не только я, поэтому, нравится или нет, но…
В этот момент раздался голос ХИПа:
— Возможно, дело не в эзотерических истинах персидских магов и индусских брахманов, а в самой римской армии. Если верна формула, которая гласит, что «Великий Рим создан армией; Великий Рим разрушен армией», то армия могла стать очень интересным объектом для наблюдения любого истинного философа. Во-первых, армия в истории Рима постепенно превращается в могущественную корпорацию, которая обеспечивает экономическое процветание и гарантирует — с определенными оговорками, конечно, — социальную стабильность римского гражданского общества. Это вполне закономерно, так же как и закономерен следующий цикл — армия как корпорация ослабляет государство и в конце концов разрушает это самое гражданское общество. Возникновение, расцвет и распад — полный цикл. Разве не интересно изнутри взглянуть на этот круг? Не так ли?
Тут ХИП захихикал. Я сначала подумал, что «груша» вновь пролез в наше пространство, но его дисплей был пуст. Хихикал ХИП подобно простуженной восемнадцатилетней девушке, которая, поминутно подтирая мокрый, красный носик, восхищается тем не менее собой в зеркале.
— Ну а если этот вариант не подходит, тогда следующий: армия как постоянная сцепленность силы и бессилия. Превосходный диалектический парадокс.
Я подумал, что если они что-то затевают, то непонятно, почему никак пока не реагируют ни Титан, ни Сюзанна? Словно услышав мою мысль, раздался голос Сюзанны… нет, голос несся оттуда, где обычно находились стереодинамики, связанные с Сюзанной. Так вот, это был голос девочки, лет 10–12. Возник какой-то психологический диссонанс между тембром этого голоса — мягким, нежным, неустойчивым, где-то робким — и тем, что он произносил.
— Римские солдаты славились на весь древний мир своей железной дисциплиной. В первые столетия существования государства каждый римский гражданин обязан был служить с 17 до 60 лет, но только в военное время. В дни мира он возвращался к своим обычным занятиям.
Закон разделил свободных граждан на несколько разрядов-классов в зависимости от имущества. К первому относились самые богатые, ко второму, третьему и четвертому — менее состоятельные граждане и к пятому — самые бедные. Богатейшие граждане обязаны были выступать в поход на коне, в полном кавалерийском вооружении. Граждане остальных разрядов служили в тяжеловооруженной пехоте. Римляне, принадлежавшие к пятому разряду, составляли легкую пехоту.
В конце II века до вашей эры консул Марий провел коренную реформу римской армии. Он разрешил служить в римской армии пролетариям. Солдата теперь целиком вооружало государство. Было значительно увеличено солдатское жалованье. А поскольку Рим вел практически непрерывные войны, то часть солдат уже не распускались по домам. Был установлен срок непрерывной службы — сначала 16, а потом 20 лет. По окончании службы воин получал пенсию.
Таким образом, возникла стройная корпоративная структура. Проводя всю свою сознательную жизнь вдали от дома, в котором они родились, солдаты теперь жили интересами своей части, военного лагеря и его обитателей. Полководец, который мог обеспечить армии богатую добычу, хорошее жалованье, участок земли под старость, мог повести солдат против любого противника.
Основной единицей римской армии был легион. Со времени Сервия Туллия и до начала IV века до вашей эры в римской армии было четыре легиона, по 4200 пехотинцев в каждом. Они набирались исключительно из зажиточных граждан. Два легиона набирались из людей от 17 до 45 лет и предназначались для полевой службы. Два других формировались из граждан старших возрастов (от 45 до 60 лет). Они несли гарнизонную службу в Риме и в пограничных крепостях. Первым двум легионам придавались 1800 всадников, набранных из самых богатых граждан.
В начале IV века до вашей эры, во время войн с галлами, консул Камилл изменил вооружение и строй легионов. Он разделил легион на манипулы, центурии (сотни) и декурии (десятки). Легион состоял из 30 манипулов, каждый из которых делился на две центурии. Легион строился в три линии, по 10 манипулов в каждой. Первую линию составляли манипулы гастатов («копьеносцев»). Каждый манипул гастатов состоял из 120 тяжеловооруженных (по 60 человек в каждой центурии). Это были самые молодые воины. Вторую линию составляли 10 манипулов принципов — «первых». Каждый манипул принципов также состоял из 120 воинов, то есть 1200 человек во всей второй линии. Это были бойцы зрелого возраста Легионеры 10 манипулов третьей линии носили название триариев — «третьих». Манипул триариев насчитывал только 60 человек (по 30 в одной центурии). Триарии были пожилыми, испытанными бойцами, которые часто решали исход боя.
Многочисленные войны показали, что для обходных маневров, для охвата неприятельских флангов нужны менее громоздкие, самостоятельно действующие подразделения. Поэтому Марий, заменивший всеобщий призыв военнообязанных вербовкой профессионалов-добровольцев, ввел меньшую тактическую единицу — когорту. Одновременно он улучшил вооружение легионеров и увеличил число легионов. При Августе общее число легионов уже составляло 28. Численность армии при нем колебалась от 250 до 300 тысяч человек. Половина из них служила в легионах, половина — во вспомогательных войсках.
Именно при Августе завершается формирование армии как особой корпоративной структуры, противостоящей римскому гражданскому обществу. Высшую часть этой корпоративной структуры составляла личная охрана императора — преторианская гвардия, которая набиралась исключительно из италиков.
Усиливается внутрикорпоративный дух в армии. До момента своей отставки солдат не имел права вступать в легальный брак, что отделяло его от гражданского общества. Воинские единицы (легионы, когорты) получают постоянные названия и нумерацию.
В эпоху Империи легионы практически постоянно находились в различных провинциях, преимущественно в тех, где было напряженное военное положение: на рейнской и дунайской границах, в Египте, в северо-западной Испании, в Сирии. И это также способствовало усилению особого статуса армии. Кроме того, по мере роста числа наемников, не имеющих римского гражданства, армейская корпоративная культура начинает включать в себя все больше исторических, религиозных, житейских правил и норм, не привычных для римского гражданского общества.
Пока внутри армейской структуры еще сохранялись римские принципы формирования командного состава и традиции римской дисциплины, эта корпорация сохраняла свое единство, свою целостность и тем или иным образом гарантировала сохранение слабеющего римского общества. Кризис вспыхнул при жизни Плотина.
Первоначально главнокомандующим римского войска в царский период был сам царь. Со времени Республики верховное командование перешло к двум консулам. Когда государству угрожала большая опасность и необходимо было строгое единоначалие, вместо консулов во главе войска становился диктатор. Он выбирал себе начальника конницы.
Если войско делилось надвое, консулы командовали каждый своей частью. Когда возникала необходимость действовать соединенными силами, консулы командовали всей армией поочередно, ежедневно сменяя один другого. По мере расширения римских владений, право командования войсками было предоставлено наместникам провинций. У каждого командующего были помощники — легаты, которые замещали полководца в случае его отсутствия или болезни.
Отдельными легионами командовали подчиненные полководцу военные трибуны. Их было по 6 на каждый легион, каждая пара трибунов стояла во главе легиона в течение двух месяцев, ежедневно сменяя друг друга. Затем они уступали власть следующей паре. Гай Юлий Цезарь отменил эту неприемлемую для корпоративной структуры модель смены командиров легиона и сделал военных трибунов начальниками когорт. Во главе легионов он поставил легатов.
Каждая центурия имела свой значок, представлявший собой копье с перекладиной, к которой прикреплялось полотнище белой или красной материи. Манипулы, а после реформы Мария когорты также имели свои значки. Это были длинные копья с перекладиной, на которой сверху укреплялось изображение зверя (дракона, волка, слона, коня или кабана). Под фигурой животного была металлическая дощечка с номером манипула или когорты. Если когорта совершила подвиг, то на ее значке укреплялась награда.
Значком легиона после реформы Мария был бронзовый или серебряный орел. При императорах орла делали из золота. Потеря знамени или значка считалась величайшим позором. Каждый легионер обязан был защищать значок легиона, когорты или центурии до последней капли крови. Иногда, в трудный момент, полководец кидал значок легиона в толпу врагов, чтобы побудить воинов вернуть его обратно и рассеять неприятеля. Первое, чему учили римских новобранцев, — это неотступно следовать за значком своего подразделения. Римские знаменосцы выбирались из самых сильных и опытных солдат и пользовались большим почетом.
Вся эта организация в конце концов была направлена на обеспечение функциональной, внутрикорпорационной дисциплины в римской армии. Главное различие, например, между греко-македонскими и римскими войсками как раз и было в дисциплине. В Древней Греции даже в случае таких тяжелых военных преступлений, как дезертирство, трусость, бегство, полководцы только после окончания похода могли возбудить против виновного судебное преследование в Народном собрании. Даже у спартанцев нередко подчиненные во время боя отказывались выполнять приказы и вступали с полководцем в пререкания. Во время походов Александра Македонского полководец мог подвергнуть провинившегося воина казни только с согласия войска, собранного на сходку.
У римлян было иначе. В военное время римские полководцы имели полную власть над своими подчиненными. Любое нарушение приказа главнокомандующего каралось смертной казнью. В 340 году до вашей эры во время войны римлян с восставшими против них латинскими союзниками сын римского консула Тита Маклия Торквата во время разведки, без приказа главнокомандующего, вступил в поединок с начальником неприятельского отряда и победил его. Вернувшись, молодой человек с торжеством рассказал о своей победе. Однако консул перед строем осудил сына на смерть как нарушившего приказ. Смертный приговор тут же быт приведен в исполнение.
Перед римским консулом шли 12 ликторов с пучками розг (в военное время в связки прутьев втыкался топор). Эти символы высшей власти напоминали, что в походе консул властен над жизнью и смертью всех своих подчиненных. Нарушение приказа, дезертирство и трусость карались немедленно. По указанию консула ликторы перед строем воинов секли виновного розгами, а затем отрубали ему голову топором. Если целое подразделение или часть войска обнаружили трусость, солдат выстраивали в шеренгу и казнили каждого десятого. Эту меру (децимацию) применил Красс к легионам, разбитым армией Спартака.
Если часовой засыпал на посту, его предавали военному суду и забивали камнями и палками. За мелкие проступки существовала своя мера наказания: порка, уменьшение жалованья и пайка, перевод на тяжелые работы, понижение в чине (для имевших таковой), лишение прав римского гражданина.
Для поддержания дисциплины существовали и меры поощрения. Такими были награды за боевые заслуги. Отличившегося воина повышали в чине, ему увеличивали жалованье и паек, долю военной добычи, ссужали деньгами или землей при уходе в отставку, освобождали от лагерных работ, наконец, награждали знаками отличия, которые командующий раздавал в торжественной обстановке в присутствии всего войска.
Обычными знаками отличия были серебряные или золотые браслеты, цепочки, фалеры — кружки вроде медалей с изображениями богов или полководцев, почетное оружие. Фалеры, как и современные медали, носили на груди. Высшими знаками отличия у римлян были венки. Дубовый венок давался солдату, спасшему в бою товарища; венец с изображением зубчатой стены давался тому, кто первым взбирался на стену неприятельской крепости или на вал вражеского лагеря. На победоносного полководца решением сената возлагался лавровый венок триумфатора.
В последний период Республики и при императорах, уходившим в отставку солдатам начали выдавать денежное пособие и значительные участки земли. Образовывались целые поселения отставных солдат-ветеранов, отслуживших свой срок. Многие из них ни разу в жизни и не видели города Рима. По своей социальной структуре эти селения и города все больше, особенно в III веке, когда жил Плотин, походили на корпоративную структуру римской армии…
…Я опять ощущаю, осознаю то физическое пространство, в котором находится мое почти недвижимое тело. Но чувствую я странно — само это жесткое, неупругое пространство, а не отдельные предметы в нем. И еще я вижу, но не глазами своими — они уже ничего не видят, да и сил размежить веки у меня нет, — а чем-то другим… «И я вижу, как одиноко, случайно, несчастно это физическое пространство…
Умирание — это постепенно усиливающиеся, ритмические колебания души. Это и колебания всей моей жизни. Душа начинает как бы втягивать в себя всю предшествующую жизнь: втягивать и отпускать… Нет, моя душа — это и есть моя жизнь… даже не вся жизнь… а то, что было от души, а не от необходимости. Она, душа, или нет… это я… что-то собирает, очень важное… для прорыва, для какого-то грандиозного взрыва… Но этот прорыв уже не будет смертью…
Эта ритмика, эти колебания — между временем и не-временем… Не-время — это еще не вечность. Почему-то сейчас я понимаю это… Все в моей жизни концентрируется во что-то неведомое и бесконечно важное… И я не знаю, сейчас ли я слышу беззвучный голос Гермеса или я вспоминаю это в тот день, когда я был на берегу Тигра…»
— Ни одна из наших мыслей не в состоянии Его понять и никакой язык не в состоянии определить Его. То, что бестелесно, невидимо и не имеет формы, не может быть воспринято нашими чувствами; то, что вечно, не может быть измерено короткой мерой времени. И поэтому Он невыразим. Но помни, что Он может сообщить совершенствующимся способность возвышаться поверх естественных вещей, чтобы приобщиться к сиянию Его духовного совершенства, но эти избранные не находят слов, которые могли бы перевести на обыденный язык Бесплотное Видение, повергнувшее их в трепет. Они могут объяснить человечеству какие-то причины Творчества, которые проходят перед их глазами как образы Высшей жизни, но Абсолют остается нераскрытым, и постигнуть Его можно лишь по ту сторону смерти.
И тогда, не сейчас, а тогда, когда я был моложе, я понял вдруг ясно, как глоток чистейшей ключевой воды для путника, жаждущего в равнодушной пустыне:
— Всеобщая Мировая Первопричина, Бесконечный и Недосягаемый Абсолют, «Кого никто не видел нигде же», Единая Реальность, Зерван-Акерен, Тот, Кто есть, Кто был, Кто будет — это НЕ ЭТО, НЕ ТО, не могущий иметь Имени.
Но я не согласился. И тогда в одном из потайных горных подземных храмов, неотрывно глядя на священный огонь, сказал мне прозрачный маг, невидимый в зеркалах:
— Его Слава слишком возвышенна, Его Свет слишком блистателен, чтобы человеческий разум мог Его понять, чтобы смертное око могло Его узреть.
И тогда ответил я ему тем, что он знал и не знал:
Оба духа, которые уже изначально в сновидении, были подобны близнецам И поныне пребывают во всех мыслях, словах и делах, — суть Добро и Зло. Когда же встретились оба духа, они положили начало Жизни и тленности…Он внимательно выслушал меня и кивнул, оставаясь недвижим. Я увидел, что он понял меня. Через минуту он подвинул к себе небольшой кожаный мешочек, развязал его и, засунув руку, вытащил пучок сухой травы. Он осторожно продвинул его к святилищу и, избегая резких движений, предал траву огню. Раздался треск — и пламя ярко вспыхнуло разными цветами. Под тесными сводами поплыл пьянящий, сладковатый запах. Затем он тихо, но отчетливо сказал мне:
— Ты верно сказал, что два — это Один и Не-один. Ты верно сказал, что путь вниз и путь вверх — это один путь. И что смерть может быть скачком вниз и вверх. Но между Верховным, Неизреченным Божеством и Его Первой Раздвоенностью находится тайна, и на эту тайну и указывает то, что Он — Безымянный, что Он — НЕ ЭТО, НЕ ТО…
…Груша, не мигая, пристально и с проникновенным интересом смотрел на меня. Когда он почувствовал, что я обернулся, то подмигнул и, развязно вытянув свой длинный язык, лизнул себя в нос. Затем он заговорил нагло и красуясь:
— Несмотря на твою невыдержанность и невоспитанность, я хотел бы продолжить свое краткое выступление. Моя информация тебе, вероятно, кажется бесполезной, но… Но, может быть, ты сам бесполезен для этой информации. Впрочем, я не настаиваю.
На чем ты меня остановил? Ах, да… Значит, так. Римская армия отбросила персов. Но в этот момент Тимеситея отравили, — а это не так трудно, — и он умер. Новым префектом преторианцев стал Марк Юлий Филипп, сын арабского шейха. Произошло это в 243 году. Плотин был уже в Азии и намеревался каким-то образом попасть в Персию, а оттуда в Индию. Но тут начала разворачиваться сложная интрига, в результате которой он оказался… в Риме.
Дело в том, что покойный тесть императора очень разумно управлял государством, заботясь прежде всего о желудках граждан Империи: все города были хорошо снабжены продовольствием и имели запасы на длительный срок — вплоть до года. Таким образом, и солдатам не угрожала опасность голода.
Филипп Араб, желая склонить легионеров на свою сторону, сделал все от него зависящее, чтобы продовольствие в нужном количестве перестало поступать в города. Он отправил корабли с хлебом совсем не туда, куда они должны были плыть, а воинов стал перемещать в те города, где продовольствия уже не было. Этим он сразу восстановил против Гордиана III армию. Он даже подкупил военачальников и достиг того, что они стали открыто требовать, чтобы Филипп взял на себя императорскую власть. В результате Гордиан был убит. На его надгробии была сделана надпись: «Божественному Гордиану, победителю персов, победителю готов, победителю сарматов, победителю германцев, но не победителю Филиппов».
После убийства Гордиана Филипп Араб послал в Рим письмо, в котором писал, что Гордиан III умер от болезни, а сам он провозглашен императором всеми легионерами. Сенат был введен в заблуждение. Признав Филиппа августом, сенат причислил юного Гордиана III к богам…
Я его прервал:
— Но почему Плотин не вернулся в Александрию?
Груша обрадовался тому, что я впервые серьезно к нему обратился, и, осклабившись, стал важно отвечать:
— Ну, во-первых, в Империи был один величайший город — Рим, а затем и все остальные, в том числе Александрия, Афины и так далее. Во-вторых, приближалось тысячелетие основания Рима. В-третьих, в условиях растущей нестабильности — а это и политический кризис, и усиливающиеся внешние угрозы, и периодически повторяющийся голод, и массовые эпидемии — Рим оставался интеллектуальным и философским центром огромной страны. Разве этого не достаточно? Ах, да…
…Не прерывается река, пока она река. И океан един, хотя состоит из морей и мельчайших капель воды. Для меня тогда стало так ясно и прозрачно, что мой путь к Нему лежит только через… И я благодарен великой богине Адрастии, что она не оставила меня в Азии, а заставила повернуть назад…
…Он вновь облизал длинным языком свой странный нос и громко забубнил:
— Итак, в 244 году на трон цезарей сел романизированный араб — человек смелый, хитрый и жестокий. Заключив мир с персами, Филипп прибыл в Рим. Важнейшие посты в государстве он передал своим родственникам. С сенатом Филипп старался поддерживать хорошие отношения. Император организовал пышное и блистательное празднование тысячного года основания Рима (20 апреля 248 года).
Однако ситуация в государстве становилась все более тревожной. Готы пришли в движение. Римская армия, стоявшая в Мезии и предназначенная охранять границу от варваров, неожиданно ее открыла. Готы, карпы и другие племена в количестве 30 тысяч человек перешли Дунай у его устья и вторглись в нижнюю Мезию. В конце концов от них удалось откупиться крупной суммой, и они, нагруженные добычей, вернулись восвояси.
Солдатам, открывшим границу и вместе с варварами опустошавшим Мезию, предстояло суровое наказание. Не дожидаясь этого, они восстали и провозгласили императором простого центуриона Марина Покациана. Против мятежников Филипп послал сенатора Гая Деция Траяна с большим войском. Деций, хотя сам был родом из Паннонии, принадлежал к высшим кругам римского общества. Это был суровый римлянин старого закала, сторонник исконно римских традиций.
Деций в течение длительного времени служил в Мезии, население и армия хорошо знали его, у него были многочисленные сторонники. Когда мятежники узнали о приближении его легионов, они убили Марина и провозгласили императором Деция.
Уже в качестве императора Деций стал во главе армии и двинулся в Италию. Филипп лично выступил против претендента на трон, но был разбит, заперт в Вероне и там погиб. Его сына и жену убили преторианцы, узнав о поражении Филиппа Араба. Произошло все это в 249 году.
Император Гай Мессий Квинт Траян Деций Август правил только два года. Кризис вступал в новую фазу. На Рейне и Дунае шла усиленная концентрация варварских племен и в огромной степени возрастал их напор на границы. В провинциях все чаще и чаще вспыхивали восстания и появлялись узурпаторы. На почве общего разорения и истощения, как когда-то при Марке Аврелии, вспыхнула страшная чума, занесенная из Египта. Она свирепствовала в империи почти двадцать лет, распространяясь то в одном, то в другом месте, унося тысячи жизней.
Постепенная деградация римского общества выражалась и в отходе от традиционной римской религии, которая когда-то цементировала римскую общину. Вместо нее появляется масса новых религиозных представлений: египетский культ Озириса и Изиды, культ персидского Митры, германского Донара, христианство. Особенно вызывающим для государственной морали казалось христианство, которое целиком отвергало римских богов, требовало от своих сторонников отказа от культа императора, отрицало государственную службу и т. д. Именно при Деции, который объявил обязательным для всех участие в культе гения императора, христиане подверглись первому большому преследованию.
Деций назначил соправителями обоих своих сыновей — Герения Этруска и Гостилиана. С сенатом у него были наилучшие отношения. Деций восстановил в новом виде старую республиканскую должность — цензуру, выбрав цензором наиболее выдающегося и уважаемого сенатора Лициния Валериана. По идее императора Валериан должен был явиться его заместителем по гражданским делам, для чего ему были предоставлены весьма широкие полномочия: право опубликования новых законов, суд над должностными лицами, установление новых налогов и прочее.
Но в это время положение на Дунае стало таким катастрофическим, что Деций должен был спешно отправиться туда. Готам под предводительством их вождя Книвы через горные проходы удалось проникнуть в плодородную Фракию. Наместник провинции Люций Приск собрал большие силы в укрепленном Филиппополе. Важно было продержаться до появления Деция, который форсированными маршами подходил с запада. Но, когда появился Деций, готы неожиданно напали на утомленную римскую армию и рассеяли ее. Приск под тем предлогом, что Деций погиб, завел тайные переговоры с готами, обещая им сдать город, если они признают его императором. Соглашение было заключено, Филиппополь был беспощадно разграблен (при этом погибло сто тысяч жителей), но Приску стать императором не удалось. Деций был жив и собирал на Дунае новую армию. Он предполагал напасть на готов, когда они, обремененные добычей, станут возвращаться домой.
Решительная битва произошла к северу от Ликополя. Готы построились тремя линиями, причем третья была защищена болотом. Римским войскам удалось прорвать две первые линии, но при форсировании болота Деций погиб. Тело его найти не удалось. В этот момент среди римских полководцев Требониан Галл являлся наиболее заслуженным и ближе всего стоявшим к Децию, поэтому армия немедленно провозгласила его императором. Это произошло в 251 году.
Два года спустя готы снова перешли Дунай. Правитель Нижней Мезии Марк Эмилий Эмилиан нанес им сокрушительное поражение, по случаю чего солдаты объявили его императором. Войска Эмилиана без всякого сопротивления дошли почти до Рима. Только здесь встретил их Галл, но потерпел поражение.
Однако и Эмилиану удалось продержаться не больше четырех месяцев. Против него выступил бывший цензор Деция, 63-летний Публий Лициний Валериан, командовавший войсками в Реции. Еще до того как он прибыл в Италию, Эмилиан летом 253 года был убит собственными солдатами.
…Я встал, потянулся и, сосредоточившись, медленно сделал два суфийских упражнения на расслабление. Затем очень медленно вдохнул. Замер, не дыша и полусидя, и через минуту также медленно выдохнул. Вынув из холодильного аппарата бутылку, я налил пузырящейся, холодной воды. Маленькими глотками, зримо ощущая приятное и нежное движение жидкости по пищеводу, я выпил весь бокал.
— А теперь давайте вернемся к ключевому, центральному понятию в концепции творчества Плотина — созерцанию.
— Ваше начальное утверждение не совсем точно. Во-первых, как таковой концепции творчества у Плотина нет. Во-вторых, это нечто гораздо более объемное, масштабное, глубинное, чем творчество. Знаменитый восьмой трактат третьей Эннеады и начинается фактически с безоговорочного утверждения, что все стремится к созерцанию, что всякая деятельность имеет стремление к созерцанию. Например, даже когда вы, люди, шутите, вы стремитесь к созерцанию. И вся природа, с которой начинает Плотин, всегда так или иначе стремится и творит созерцанием и для созерцания.
Созерцание вообще, и в том числе в природе, есть процесс, причем процесс не вещественный, не психологический, но чисто логосный, динамически-смысловой. Это первый важнейший момент. Следующее: смысловая сущность созерцания тождественна с творящей сущностью природы. И, наконец, третий ключевой момент в том, что безмолвное созерцание природы само собой указует на существование высших форм созерцания. Ведь сущность бытия вообще заключена, как считает Плотин, в самораскрытии, самосозерцании творческой мощи Единого, а онтологическая структура сущности бытия и заключена в понятии «созерцание».
Я его прервал:
— Иначе говоря, в природе мы находим, с одной стороны, механическое движение и механическую причинность. Однако в природе, с другой стороны, есть и нечто такое, что этим совершенно необъяснимо. Ведь природное творчество, как и всякое творчество, созидает, творит «в соответствии» с чем-то. Когда мы рассматриваем те или иные пестрые и разнообразные краски и фигуры, то для их понимания недостаточно одних толчков или механических рычагов. Фигура вообще (например, животного) и краска вообще (например, белая) не могут быть созданы каким-либо материальным инструментом. Не так ли?
Я повернулся к Сюзанне и не ошибся. Именно она подхватила идею:
— Да, Плотин и считал то, в соответствии с чем природа создает что-нибудь, особого рода «силой», «потенцией», которая естественно не является материальной. Эта сила есть неделимая целостность, и в ней нельзя отделить движущееся от неподвижного. Она движется, поскольку обусловливает собой движение в материи; но она и неподвижна, как сфера логоса, смысла. Эта сила содержит в себе и эйдос, и материю, но не так содержит, что то и другое можно было бы здесь противопоставить. Нельзя сказать, что здесь содержится эйдос и материя. Сила, или потенция природных вещей, есть такой логос, смысл, который определил собою материю и сам определился ею. Он не растаял, не распустился в материи, но остался все же смыслом, хотя теперь он уже вобрал в себя смысловым образом материю и превратился из отвлеченного в конкретно определяющий, то есть в творящий логос. Поэтому Плотин и подчеркивает, что «в животных и растениях смыслы суть творящие принципы. Сама природа есть логос, который творит другой смысл в качестве собственного порождения, хотя и давая нечто субстрату, но сам пребывая в себе». Вот этот логос, ставший силой, потенцией материи без перехода в саму материю, и есть творящее в природе.
— Однако в то же самое время этот логос есть и созерцание. — Это уже был ХИП.
— В самом деле, логос определяет материю, то есть творит вещи. При этом он уже перестает быть вообще силой, но делается силой деятельности, не переходя в саму деятельность. То есть он разделяется, самопротивопоставляется. Получается логос сам по себе и смысл, воплощаемый в материи. Но ведь это тот же самый, один и единственный смысл. Следовательно, факт воплощения логоса в материи возникает только потому, что смысл может самого же себя самому же себе противопоставлять, будучи поэтому сам для себя и субъектом, и объектом. Но противопоставление логосом себя самого себе же самому есть взаимоотраженность смысла, то есть созерцание. А для логоса быть тем, что он есть, — это значит творить и переходить в творчество. Следовательно, созерцание, творчество и бытие тем, что есть, в природе — одно и то же. Если смысл, логос есть творящая, силовая потенция, это значит, что он есть созерцание, или, точнее, самосозерцание.
В этот момент в комнате вновь стало быстро темнеть. Замерцал объемный экран голографического дисплея, и я снова увидел лицо Плотина. На этот раз он казался спокойнее, темные глаза были сосредоточены, а на лице его мелькала чуть заметная улыбка.
— Как же природа, таким именно образом творя, может участвовать в некоем созерцании? А так, что если логос творит, в самом себе пребывая, то он, получается, и есть созерцание. Ведь деятельность свершилась согласно логосу, но будучи иной все же в отношении его. Стало быть, логос, хотя и связанный с деятельностью и направляющий ее, не есть еще сама деятельность. Но если это не деятельность, а логос, то он и есть созерцание. При этом во всецелом логосе самый последний смысл — природа — возникает из созерцания, оказываясь созерцанием в качестве предмета созерцания. Логос же, предшествующий логосу-природе, в своей совокупности является каждый раз по-разному, то оказываясь уже не природой, а душой, то являясь в природе и природой.
Но действительно ли и сам он — логос как душа — возникает из созерцания? Действительно, он есть продукт созерцания и чего-то созерцавшего. Но каким же образом она, природа, имеет это созерцание? Разумеется, она не имеет созерцания, происшедшего из понятия. «Происшедшим из понятия» я называю рассмотрение природой своего собственного содержания. По какой же причине она оказывается и жизнью, и логосом, и творящей потенцией? Неужели потому, что рассмотрение есть еще неимение того, что рассматривается? Однако если это она уже имеет, то именно потому, что она это имеет, она и творит. Следовательно, бытие для природы тем, что она есть, и оказывается для нее творчеством. Природа есть созерцание и созерцательная данность, ибо она есть логос. Благодаря тому, что она является созерцанием, созерцательной данностью и логосом, она и творит, поскольку она — все это. Творчество, следовательно, явлено нам как созерцание. Ибо оно результат пребывающего созерцания, которое делает не что иное, как творит именно благодаря тому, что оно созерцание.
Он замолчал, затем пристально вгляделся, улыбнулся очень мягкой и чуть рассеянной улыбкой и, понизив голос, сказал:
— И если кто-нибудь спросит природу, ради чего она творит, то она сказала бы, если бы захотела услышать вопрошающего и говорить с ним: «Не спрашивать меня надо, но понимать самому в безмолвии, как и я безмолвствую и не имею привычки говорить. Но что же понимать? То, что возникшее есть мое видение в моем безмолвии, что возникшее по природе есть созерцательная данность, что мне, возникшей из такого вот созерцания, свойственно иметь любо-зрительную природу и что акты созерцания творят созерцательную данность, как геометры чертят на основании созерцания. Но я не черчу, а созерцаю, и линии тел возникают как эмалирующие из моего созерцания. И свойственно мне страдание матери и родивших меня, потому что и они возникли из созерцания, и мое происхождение — не потому, что они действовали, но я произошла в силу высших логосов, себя самих созерцающих. И созерцание мое бесшумно, но все же оно достаточно сумрачно, словно бы во сне. Я и творю потому, что не могу удовлетвориться этим сонным, несовершенным созерцанием. Чувственный мир и есть продукт моих неясных созерцаний. Действительно, другое созерцание яснее, пристальнее его в смысле видения. Мое же созерцание только отображение иного созерцания».
Экран внезапно погас, и почти сразу раздался голос Титана с какой-то, как мне показалось, нотой издевки:
— По аналогии, Плотин утверждает, что и многие люди, когда их сила созерцания ослабевает, обращаются к практической деятельности, что является, по его мнению, всего лишь тенью созерцания логоса. Поскольку таким людям созерцание невозможно по слабости души, они, не имея возможности наполниться видением, бросаются к практическому созиданию того, чего они не способны увидеть умом. И когда они начинают творить, то они и сами хотят ясно и прозрачно видеть и другим, таким же, как они, дать возможность созерцать и ощущать, всякий раз, как намерение у них, насколько возможно, становится действием.
Для Плотина — это слабеющая все более и более пульсация: созерцание — творчество — деятельность. Стоит привести для доказательства буквальное выражение Плотина: «…поэтому везде мы найдем, что творчество и деятельность есть или слабость созерцания, или сопутствующий момент.
Слабость — если после сделанного ровно ничего не имеют в смысле созерцания, и сопутствующий момент — если до этого имеют более сильное для созерцания, чем сотворенный предмет. Кто же, способный созерцать истинное, идет с предпочтением к образу истинного?»
Последние слова Титан произнес уже с иронией. Я что-то хотел ему возразить, но вновь вмешалась Сюзанна:
— Когда Плотин говорит о более сильном созерцании по отношению к природе, он имеет в виду самосозерцание души. Оно, созерцание души, также остается в себе, хотя и определяет собою инобытие. Тут также не равны между собой пребывающее, или остающееся, и выступающее, то, что оформляет собою материю. Выступившее — слабее оставшегося: оно — в становлении, в то время как остающееся — в самом себе.
Иначе говоря, душа есть логос, смысл. Но этот логос перешел во внешнее действие и забыл себя. Поэтому нужно, с точки зрения Плотина, чтобы через эту внешнюю деятельность душа вернулась к себе и наполнилась видением самой себя. В этом случае деятельность вновь обращается к созерцанию. То, что она, эта деятельность (душа), получает в душе, которая есть логос, чем же иным может быть, как не безмолвствующим логосом. И созерцание интенсивнее, чем больше деятельность обращена к душе как логосу. Тогда именно и соблюдает душа тишину и уже ничего не ищет, поскольку она наполнена. И созерцание в таком доверии к своему владению пребывает обращенным внутрь. И чем более ясно доверие, тем безмолвнее и созерцание, ибо на этом пути, как говорит Плотин, оно больше ведет к Единому.
У меня начало нарождаться какое-то смутное, неопределенное беспокойство, что компьютеры ведут свою весьма странную игру, пытаясь повлиять на нечто во мне самом. Я встряхнул головой; может, мне показалось…
— Следовательно, насколько я понимаю, весь вопрос эффективности творческого процесса вообще, то есть появления нового, заключается в интенсивности отождествления субъекта с объектом. При этом то, что я называю «субъект», «объект», «отождествление», есть нечто одно. Это одно Плотин называет «созерцание». Тогда в природе субъект отождествляется с объектом вне себя. В душе это отождествление происходит уже так, что субъект находит себя как нового в себе же, но пока через посредство инобытия. Но тогда должно быть еще более высокое тождество, где субъект будет отождествляться с собою и, следовательно, созерцать себя как нового в себе же, и притом без всякого посредства инобытия.
Я замолчал. Компьютеры никак не реагировали. Я встал и сделал два шага влево. В этот момент вновь вспыхнул экран основного дисплея. Я резко повернулся и встретился с глазами того, кого я с самого начала воспринимал как образ Плотина. Он смотрел прямо, не мигая, на меня. Я видел, как увлажнился и чуть покраснел его лоб. Губы были у него крепко сжаты, но я чувствовал, как с экрана хлынул напряженный поток, обращенный ко мне:
— Как это важно и необходимо, чтобы логос был не вне, но в единении с душой научающегося, пока последний не найдет его своим собственным. Душа выучивает то, что изначально имела. И от этого становится как бы иной в отношении себя самой и, размышляя, зрит как одно — другое. Ведь она была логосом и как бы умом, но видящим иное. Душа ведь по-прежнему неполна, имея недостаток в отношении того, что раньше нее. Она безмолвно смотрит на то, что она выражает. Ибо то, что душа выразила, она уже не выражает, а то, что она выражает, выражает по недостатку в полноте, обучаясь пониманию того, что имеет. И оттого, что душа имеет больше природы, она более тиха, и от этого превосходства она более созерцательна. А оттого, что она несовершенна, она более стремится иметь научение созерцавшего и созерцание из наблюдения. Поэтому, если она покидает свое прежнее состояние и возникает в ином, а затем возвращается снова, то она созерцает при помощи той части себя самой, которая была покинута. Покоящаяся же в самой себе душа делает это в меньшей мере. Потому серьезный ум оформлен через логос и являет другому то, что у него самого. Он есть видение самого себя. Ибо ум уже обращается к Единому не только во внешних вещах, но и к самому себе. И все тут оказывается внутренним…
…Грушеносый высунулся из стены и нагло показал мне лиловый, в прыщиках язык: «Иди туда, не знаю куда Как это нетривиально!»
…Амелий Марциану шлет привет!
Все в этой жизни, дорогой Марциан, имеет незаметное начато, и все в этой жизни имеет странный конец. Великий Рим начался с того, что на вершинах нескольких холмов в беспорядке появились хижины, сплетенные из ветвей и обмазанные глиной. Место, где устроились эти древние поселенцы, представляло собой путаницу оврагов, ложбинок, заболоченных низин и мелководных речушек, стекавших с холмов, амфитеатром расположенных на левом берегу Тибра. Эти холмы, пусть и невысокие, иногда крутые и обрывистые, являлись все же естественной крепостью, а заболоченные ложбины, превращавшиеся иногда в настоящие болота, делали эту крепость еще надежнее. Кругом росли леса и били ключи; чистая вода, материал для построек, топливо и дичь были под рукой. Возле протекала большая судоходная река.
Рим — уже настоящий город, опекаемый богами, растет: сначала это центр незаметной страны, затем — столица мощного государства, и в конце концов — столица мировой державы. И те преимущества, которые привлекали людей в изначальные времена к этим холмам и низинам, оказываются теперь недостатками. Холмы круты, на них трудно взбираться. Несмотря на все работы по осушке заболоченных мест, малярия не переводилась в городе. Улицы узки и кривы: при всем своем могуществе римляне не могут их выпрямить.
Рим уже при Августе распадается на две части: Рим холмов и Рим низин, лежащих между этими холмами. Они во многих отношениях не похожи один на другой. Воздух на холмах здоровее и чище, там много садов и парков, торговля жмется в сторону. Здесь живут представители старых аристократических родов. Например, на самом высоком холме Квиринале находится Тамфилиев дом, перешедший к Аттику по наследству. Здесь жил Флавий Сабин, брат императора Веспасиана, и у самого Веспасиана тут же на улице Гранатового Дерева был собственный дом, превращенный впоследствии в храм Флавиева рода. Был здесь дом и Юлия Авита, отца императора Элагабала.
На другом холме, Эсквилине, находился дом Помпея, который после его смерти перешел к Антонию. Здесь же, по соседству с храмом Матери-Земли, одним из древнейших храмов Рима, жили брат Цицерона Квинт и Плиний Младший.
На Целии находится прекрасный дворец Латеранов, конфискованный Нероном, так как хозяин его, Плавтий Латеран, принимал участие в заговоре Пизона и был казнен. Септимий Север вернул его своему другу Секстию Латерану. Марк Аврелий провел детство на Целии в доме своего деда Аппия Вера. Здесь же жили Вигеллий, друг Сенеки, Оппелий Макрин, организовавший убийство Каракаллы и взошедший на императорский престол, знаменитый Симмах, страстный защитник древней римской религии.
Палатин при республике был излюбленным местом сенаторов: здесь жили Цицерон, Гортензий, Катилина, Марк и Луций Крассы. При империи он стал весь целиком собственностью императорского дома.
Центр государственной и общественной жизни Рима — одна из низин — Форум. От него во все стороны расходятся улицы. Сам Форум изначально стал обрастать торговыми рядами: по южной его стороне шли старые лавки, напротив расположились новые. Когда по сторонам Форума место торговых рядов заняли базилики (Порциева и Эмилиева), лавки разместились в них. И только постепенно торговая жизнь отхлынула от Форума, переместившись на Священную Дорогу, соседнюю улицу, а позднее на форум Траяна.
Священная Дорога, соединяющая Форум с Палатином, начинается на Велии, около храма Ларов, и спускается к восточной стороне Форума. К северо-востоку от Форума находится Аргилет, одна из оживленнейших улиц Рима с бойкой торговлей и людской толчеей. Нижняя часть этой улицы, застроенная частными домами, была превращена Домицианом и Нервой в Проходной форум.
Аргилет вливается в Субуру — долину, которая идет между Оппием и южным склоном Вимминала. Под именем Субурского взвоза она продолжается между Оппием и Циспием и оканчивается у Эквилинских ворот. Начало ее — «устье Субуры» — находится недалеко от местопребывания городского префекта. И если вспомнить, дорогой Марциан, о вечном грохоте и гвалте на римских улицах, особо здесь надо выделить «крикливую» Субуру. На ней торгуют всем, что требуется в повседневном быту: съестным, начиная от простой дешевой еды — капуста, опавшие маслины; козлятина, яйца, куры, и кончая дорогой заморской дичью, одеждой, железным товаром, обувью. И здесь же обитают «девушки не очень доброй славы», субурские наставницы в любовных делах.
От Форума к юго-западу начинается, пройдя между Юлиевой базиликой и храмом Кастора, Этрусская улица, главная артерия, связывающая Форум с Велабром, Коровьим рынком и Большим Цирком. Здесь стояла когда-то статуя Вортумна, главного божества этрусков. Торгуют на ней ладаном, всякими ароматами, дорогими тканями и одеждой.
Этрусская улица пересекает Велабр, ложбину между северо-западным склоном Палатина и Капитолием. Когда-то и Велабр и Форум были болотом, по которому плавали в маленьких челноках. Сейчас это самое оживленное место в городе с бойкой торговлей, преимущественно съестным, в том числе вином и маслом. Большой известностью пользуется и поныне велабрский копченый сыр. Некто, понимавший толк в еде, сочинил такую сопроводительную надпись к головке этого сыра: «Только тот сыр, который впитал в себя велабрский дым, вкусен; не на всяком очаге изготовят хороший сыр, не любой дым придает ему вкус».
Рядом с Этрусской улицей идет Яремная, которая огибает Капитолий и представляет собой часть древней торговой дороги, проходившей здесь, когда и Рима-то еще не было, а сабиняне приходили за солью к солончакам в устье Тибра.
На Палатин можно въехать со Священной Дороги по Палатинскому взвозу, а с Велабра — по взвозу Победы, который огибает холм и поднимается на него с севера. На Капитолий въезжают по Капитолийскому взвозу; им заканчивается Священная Дорога. Это единственный доступный для повозок путь на Капитолий, по нему поднимаются колесницы триумфаторов. Для пешеходов устроены лестницы. По лестнице в сто ступеней поднимаются на Капитолий со стороны Велабра. Лестница Каки ведет с Палатина к Большому Цирку, а с Форумом его соединяет лестница Колец, названная так по находящимся вблизи мастерским ювелиров, изготовляющих кольца.
Улицы Рима — узкие и извилистые. Самая большая ширина их 15–18 локтей, а переулки и тупики еще уже и часто не достигают в ширину даже и семи локтей. Можешь себе представить, какая толчея на этих тесных улицах!
Население города составляет, вероятно, более одного миллиона человек, а сколько еще приезжающих каждый день! Большинство мужчин в возрасте от шестнадцати лет, многие женщины, равно как большинство приезжих, проводят утренние и дневные часы в храмах, портиках, лавках, на перекрестках, преимущественно в тех, что сосредоточены в центре города. Этот центр представляет собой своего рода прямоугольник со сторонами, одна миля (от излучины Тибра у театра Марцелла до Винимальского холма) на две мили (от Марсова поля до холма Целия). Но здесь, внутри, в свою очередь, выделяется еще более узкая зона, застроенная самыми роскошными общественными зданиями, окруженная наибольшим престижем. Я имею в виду Римский Форум, форумы Цезаря и Августа, район между Римским Форумом и Колизеем, несколько центральных улиц — Субура, Велабр, Аргилет. Поверхность площадей, а особенно улиц, существенно уменьшается из-за загромождающих их лавчонок трактирщиков, брадобреев, мясников и прочего.
А теперь представь, дорогой Марциан: крайне ограниченная территория великого Рима и огромное количество тех, кто стремится не только попасть на нее, но здесь расположиться, людей посмотреть и себя показать, встретиться с приятелем или деловым партнером, сделать покупки, и приводят к той невыносимой тесноте, о которой говорит Ювенал таким образом:
…мнет нам бока огромной толпою Сзади идущий народ: этот локтем толкнет, а тот палкой Крепкой, иной по башке тебе даст бревном или бочонком; Ноги у нас все в грязи, наступают большие подошвы С разных сторон, и вонзается в пальцы военная шпора.Скученность царит не только на улицах, но и в общественных зданиях. И вот тебе пример: вчера был я в Юлиевой базилике. Она построена на южной стороне Форума Цезарем и представляет собой здание, в центральной части двухэтажное. В этом помещении постоянно заседают четыре суда по уголовным делам. Судей в каждом 26, а подсудимый приводит с собой десятки людей, призванных оказывать ему моральную поддержку. Если в заседании выступает сколько-нибудь известный адвокат, то он привлекает сотни слушателей. Многие из них весь день сидят здесь или прогуливаются по базилике и периодически устремляются к тому трибуналу, где должен выступать адвокат, их чем-либо заинтересовавший. Тут же идут бойкая торговля, азартные игры в кости и монеты. В толпе непрерывно двигаются продавцы воды и съестного, а если приезжим трудно расплатиться, они могут обменять деньги у сидящих тут же менял. Разнородность дел, которыми люди занимались одновременно на одном и том же ограниченном пространстве, доходила раньше до поразительных вещей: когда солдаты императора Вителлия штурмовали Капитолий, где засели флавианцы, младший сын Флавия Веспасиана и будущий император Домициан спасся, замешавшись в толпу поклонников богини Изиды, которые спокойно делали жертвоприношения, нимало не смущаясь проходившим возле сражением. Сейчас-то времена изменились, но ведь было и так!
Густота толпы сама по себе порождает невероятный шум, а голые кирпичные и каменные фасады, ограничивающие узкие улицы, отражают и еще более усиливают его. Рогациан, о котором ты уже знаешь, уверяет, что в Риме умирают в основном от невозможности выспаться. Но и интенсивность запахов не уступает интенсивности шума. Из бесчисленных харчевен несутся дым и аромат дешевой пищи. Жара стоит большую часть года, одежда почта исключительно шерстяная, а потому от запаха пота появляется головокружение.
Набережной в Риме как таковой нет. Вдоль Тибра, подходя к самому берегу, тянутся ряды строений, преимущественно складов, с площадками для выгрузки судов. От этих площадок к самой реке спускаются невысокие лестницы, по которым грузчики вносят наверх товары.
И я скажу тебе, Марциан, что человеку, который плохо знает Рим, приходится трудно, если он вынужден один, без провожатого разыскивать нужную ему улицу и нужный дом: если главная улица квартала всегда имеет название, то маленькие улочки, тупики и переулки часто вообще безымянны.
Самая большая в Риме — и это естественно! — Капитолийская площадь, посередине которой возвышается древнейший храм Юпитера Величайшего. Площадь обнесена стеной, за ней идет портик. На ночь площадь запирается, оставаясь под охраной привратника и собак. Здесь же содержатся и священные гуси. На площади стоят также несколько других древних храмов — Юпитера Феретрия, Юпитера Гремящего, Марса Мстителя, Венеры; много здесь часовен, алтарей, статуй богов и знаменитых римлян.
Храм Аполлона на Палатине — самое великолепное из воздвигнутых Августом зданий — находится на площади, которая называется площадью Аполлона или площадью Аполлонова храма. Храм выстроен из больших плит белого каррарского мрамора, между которыми стоят статуи пятидесяти Данаид, а перед ними конные статуи их несчастных мужей. Рядом с портиком находится библиотека Аполлона, состоящая из двух отделений, греческого и латинского. Перед входом в храм возвышается мраморная статуя Аполлона и алтарь, вокруг которых поставлены четыре бронзовых быка.
Между Капитолийским взвозом и Яремной улицей находится площадь Сатурна, за храмом этого божества. Вокруг этой площади расставлены бронзовые доски с вырезанными на них законами. На площадь открываются и канцелярии, в которых ведают делами государственной казны, помещенной в этом храме.
Римские холмы были когда-то густо одеты лесом: западный край Оппия назывался Фагуталом, потому что здесь росла буковая роща, а Целий назывался в древности Кверкветуланом, потому что весь зарос густым дубовым лесом. Сейчас от этих рощ и лесочков мало что осталось. Но люди состоятельные и поныне стремятся окружить свои особняки деревьями и садами. Беднота же свою тоску по зелени удовлетворяет подобием садов: разводит цветы и всякие травы у себя на окошках.
Есть, однако, в Риме два места, где жители города любят собираться в часы досуга: Форум и Священная Дорога.
Форум — это место встречи и деловых людей, и бездельников. Собираются здесь ростовщики, игроки, которые в портике, на плитах белого мрамора выцарапали свои «игральные доски», круглые и четырехугольные. Странствующие гадатели собирают вокруг себя по вечерам пеструю толпу. Здесь встречаются заядлые политиканы, обсуждающие вопросы войны и мира, здесь рождаются новости, «у которых никогда не оказывается отца», но которые сразу приобретают вес и значение реального события.
Вторым любимым местом прогулок является Священная Дорога. Сюда приходят полюбоваться ювелирными изделиями, выставкой драгоценных камней, цветами и фруктами, красота которых прельщает римлян не меньше, чем красота камней.
За Тибром находится парк Клодии, возлюбленной Катулла, устраивавшей здесь праздники. Цицерон просил Аттика именно здесь присмотреть ему парк, где он мог бы поставить святилище в память своей умершей дочери. Первый парк на Холме Садов был разбит Лицинием Лукуллом, победителем Митридата. В нем много было фруктовых деревьев, и особенная гордость Лукулла — черешня, которую он первым ввез в Рим. Владельцем этого парка позднее стал Валерий Азиатик, который украсил его с роскошью замечательной. Мессалина, желая завладеть этим парком, добилась того, что Азиатик покончил с собой. Уже вскрыв себе вены, он приказал разложить погребальный костер в таком месте, где огонь не повредил бы деревьям. В этом же парке позже была убита и сама Мессалина.
Парков немало в Риме, но упомяну еще об одном. Первым человеком, разбившим парк на Эсквилине, был Меценат. Он выбрал для него место страшное: здесь до этого было общее кладбище бедного люда, глубокие колодцы, куда без разбора скидывали трупы рабов и нищих бедняков без роду и племени. Здесь были городские свалки и здесь же производились казни: тела казненных не хоронили, а бросали тут же на месте. Одинокий раб, торопливо несший в сумерках тело своего товарища; стаи воронов и коршунов-стервятников; голодные бродячие собаки; колдуньи и гадальщики, жадно рывшиеся в побелевших костях, — вот кого только и можно было здесь встретить. Место было не только жутким: зловонные испарения, стоявшие над ним, при любом ветре наплывали на город, неся с собой удушье и заразу. Август велел засыпать всю эту площадь на 16–18 локтей в высоту, а Меценат на этой насыпи и разбил свой парк.
Особое значение имеют те «острова зелени», куда может зайти каждый. Первым из таких «островов» были сады Цезаря за Тибром; великолепный парк занимает площадь около двух центурий и даже поныне украшен роскошью, которая отличается особым вкусом. Здесь находятся залы с мраморными и мозаичными полами, портики, статуи, фонтаны. Цезарь завещал это прекрасное место для отдыха народу, но беда была в том, что отстояло оно далеко от городского центра и прийти туда пешком от Субуры или даже с Этрусской улицы не каждому было под силу.
Август и его преемники разбивая сады, устраивая амфитеатр и цирк, сооружая термы, прокладывая форумы, придавали Риму вид, который был достоин столицы мира, и это, конечно, входило в их планы. Но в то же время они вносили разнообразие в убогую домашнюю жизнь большей части населения. Я уже говорил, что никакое могущество не могло выпрямить римских улиц, но украсить Рим величественными зданиями, провести воду в таком изобилии, что не было улицы и перекрестка, где не слышался бы плеск фонтанов, устроить прекрасные городские сады и превратить термы в дворцы культуры — это императоры могли сделать, и они это делали. Особо стоит упомянуть о великолепии Марсова поля.
Марсово поле, низина в излучине Тибра, площадью около пяти центурий, место, где римская молодежь занимается военными и гимнастическими упражнениями. Здесь же собираются центурианские комиции, происходят выборы магистратов, производится перепись населения; отсюда легионы уходят в поход.
Марсово поле — излюбленное место отдыха и прогулок римлян. Здесь дышат чистым воздухом, наслаждаются видом зелени, широким горизонтом, любуются произведениями искусства. Здесь же идет торговля предметами роскоши и устроены настоящие базары. В портике длиной в одну милю Юлиевой загородки (здание это начато было Цезарем и закончено Агриппой) находится ряд лавок.
На Марсовом же поле, к западу от Широкой Дороги, находятся сады Агриппы — этот парк, разбитый Агриппой, тесно примыкает к его термам, которые уже давно находятся в общенародном пользовании. Агриппа развел его, как я уже упоминал, на месте Козьего болота, и устройство этого парка было для Марсова поля такой же оздоровительной мерой, как устройство парка на Эсквилине. Сады Агриппы подходили к самому портику Помпея; с юга их окаймляет «стоколонный портик», а за ним тянется парк с аллеями платанов. В зелени деревьев стоят фигуры зверей; среди них статуя умирающего льва работы Лисиппа, которую Агриппа привез из Лампсака и поместил в роще между прудом и каналом. Пруд, находящийся совсем близко от терм, представляет собой естественный бассейн для купанья и является дополнением к фригидарию. Говорят, Сенека в молодости обычно начинал новый год с купания в ледяной воде этого пруда.
Наискось от этого парка, к востоку от Широкой Дороги, находится другой парк — Поле Агриппы, со статуями и аллеями, обсаженными буком. Он примыкает с западной стороны к портику Випсании, который начала Полла, сестра Агриппы, а закончил Август.
Но что это за портики, о которых я упоминаю? Это прямоугольник, обычно обведенный крытой колоннадой, обрамляющей сад с аллеями (прежде всего платаны и лавровые деревья) и фонтанами. Портик Октавии — истинная сокровищница. Там собраны шедевры великого искусства: Александр и Филипп с Афиной работы Антифила, Афродита Фидия, Эрот Праксителя, Асклепий и Артемида Кефисодота, Праксителева сына, Эрот с молнией и многие другие. Между прочим, в этом портике стоит и статуя Корнелии, матери Гракхов. Портик был отстроен Августом в честь своей сестры Октавии. Он занимает большую площадь — 300 на 250 локтей — и окружен двойной колоннадой; гранитные колонны облицованы дорогим заморским мрамором. В середине портика находятся два храма — храм Юноны и Храм Юпитера, зал для собраний и библиотека. Главный вход в портик, обращенный к Тибру, отделан в виде двойного пронаоса (паперта), в котором с внутренней и наружной сторон стоят по четыре коринфские колонны белого мрамора (высотой двадцать локтей).
Значение портиков двоякое: люди могут здесь прогуливаться и отдыхать в любую погоду — крытые колоннады защищают от дождя и от солнца; в аллеях особенно хорошо в ранние утренние и предзакатные часы. И эти сады с их колоннадами, храмами, библиотеками — подлинное украшение города. И вот что заметал Страбон, известный тебе: «Люди старого времени красотой города пренебрегали: их занимало более важное и настоятельно необходимое. Их потомки и особенно наши современники и об этом думают, но в то же время они создали в городе множество прекрасных сооружений. И Помпей, и Цезарь, и Август, его сыновья, друзья, жена и сестра не жалели на это строительство ни труда, ни издержек. Август так украсил Рим, что по справедливости мог хвалиться, говоря, что он принял Рим кирпичным, оставляет же его мраморным».
Постройка нового форума, первого из так называемых императорских форумов, была задумана Цезарем. Но закончил устройство Юлиева Форума уже после смерти Цезаря император Октавиан.
Форум представляет собой вытянутый прямоугольник шириной 70 локтей, длиной около 280 локтей, обведенный стеной (27 локтей высотой, 8 локтей толщиной), за которой идет колоннада. В середине форума возвышается храм Венеры Родительницы: в нем стоит статуя Венеры, висят картины знаменитых мастеров, здесь же находятся шесть коллекций разных гемм и панцирь, отделанный британским жемчугом. Август поставил в этом храме статую божественного Цезаря; голова его украшена звездой.
Продолжением Цезарева форума является форум Августа, который он построил по причине многолюдства и обилия судебных дел. Двух уже существовавших форумов не хватало, потребовался третий. Форум этот составляет нечто единое с храмом Марса Мстителя, который Октавиан дал обет построить перед решительным сражением с республиканцами при Филиппах. (Поэтому форум этот иногда называли Марсовым.) Плотин считает его, так же как и Эмилиеву базилику и храм Мира, прекраснейшими созданиями людей. Прямоугольную форму форума (в 280 локтей длиной и 200 локтей шириной) нарушают две эскедры, находящиеся на западной и восточной сторонах. Весь форум обведен огромной стеной, около 80 локтей высотой. Стена эта служит двойную службу: во-первых, является защитой на случай пожара, а во-вторых, скрывает от глаз посетителей форума соседние, грязные и неприглядные, кварталы. Она сложена из широких пепериновых плит, которые клали попеременно тычком и ложком, скрепляя их деревянными болтами. Говорят, дерево для этих болтов было срублено после восхода созвездия Пса; считается, что этому материалу нет сноса. Внутренняя сторона стены облицована синеватым, в прожилину, мрамором.
На этом форуме Август поставил статуи всех римских триумфаторов, начиная с Энея, объявив в эдикте, что «он придумал это, дабы и его самого, и будущих глав народа мерили сравнением с этими людьми».
В этом храме юноши в день совершеннолетия надевают тогу взрослого. Здесь сенат совещается о войнах и триумфах. Отсюда отправляются в провинции наместники, а победители по возвращении приносят то, что украшает их триумф.
Веспасиан выбрал для своего форума место не к западу, а к востоку от форума Цезаря и Августа. Здесь раньше находился Лакомый рынок. Веспасиан увеличил его площадь, скупив соседние дома. Храм Мира, построенный им после взятия Иерусалима, настолько замечателен, что и самый форум этот называют форумом Мира Нерва соединил его с двумя прежними, заняв и расширив нижний конец Аргилета. Этот проход стал называться Проходным форумом.
Проложить удобную дорогу к Марсову полю выпало на долю Траяна, который к северо-западу от форума Августа устроил свой. Чтобы его построить, надо было произвести большие работы по нивелировке почвы: пришлось срезать целый угол Квиринальского холма, вытянутый по направлению к Капитолию. Со стороны входа в форум шла простая колоннада, с трех остальных — двойная. В центре форума стоит конная статуя императора, между колоннами портика — статуи великих полководцев и государственных деятелей. С форума по трем ступенькам желтого мрамора входят в базилику, названную Ульпиевой по родовому имени Траяна, которая возвышается на два локтя над форумом и окружена двойным рядом колонн белого и желтого мрамора. На эти колонны опирается галерея, идущая вокруг всей базилики. Стены также облицованы мрамором, а деревянный остов крыши покрыт бронзой.
За базиликой, выше ее на один метр, находится библиотека, имеющая два отделения — греческое и латинское. Между ними лежит небольшая прямоугольная площадка, а посередине ее возвышается колонна Траяна, воздвигнутая в память побед Траяна над даками. Наверху первоначально находился орел, а сейчас — статуя самого Траяна. По колонне спиральной линией от капители до пьедестала идут барельефы, изображающие главные сцены Дакийской войны.
Украшают город и многочисленные статуи, среди которых немало произведений первоклассных, например, Лисиппова статуя атлета, которую Агриппа поставил перед своими термами. И вот что произошло с ней когда-то. Она так понравилась Тиберию, что он забрал ее себе, а вместо нее поставил другую. Поступок этот возмутил народ: в театре громкими криками потребовал он возвращения Лисипповой статуи, и Тиберию пришлось водворить статую на прежнее место.
И, конечно, великим украшением Рима является вода, наполняющая своим шорохом и шумом весь город, бьющая из фонтанов самого разнообразного оформления, стоящая в широких нимфеях, льющаяся щедрой струей из кранов водонапорных колонок.
Фонтанов в городе множество. На перекрестках, кроме часовенки Лавров, обязательно устроен фонтан. Некоторые из них поистине монументальны. Таков, например, фонтан Домициана, находящийся к юго-западу от Колизея. Это своего рода конус высотой в 4 локтя, с диаметром 12 локтей в основании, облицованный весь мрамором. Из его вершины бьет фонтан, и вода падает в огромный круглый бассейн. Многие фонтаны украшены великолепными скульптурами: фонтан на форуме Веспасиана, например, бронзовым быком работы Лисиппа. А перед храмом Венеры Родительницы на форуме Цезаря вокруг фонтана стоят статуи Нимфы, покровительницы вод.
А еще скажу, Марциан, что совершенными произведениями искусства являются римские акведуки. Поверху идет канал, отделенный от субструкций карнизом, ниже — арки, еще ниже — зрительно обособленные от арок опоры. Длинные непрерывные горизонтали скрадывают высоту и подчеркивают бесконечность уходящего вдаль водопровода. Столь же продуманно оформление опор: они выступают за края арок, потому что несут на себе всю тяжесть конструкции, но это же делает аркатуру зрительно более легкой, а мощь опор, подчеркнутая облицовкой из грубо обработанного камня, создает естественное, эстетически оправданное распределение масс в пределах всего сооружения. Диаметр арки находится к ширине столба в отношении золотого сечения — строители позаботились о том, чтобы многотонные арки и не вдавались зрительно в опоры, и не улетали, а спокойно, легко и естественно располагались на них. Гармоничности целого способствует и продуманная пропорциональность частей — все размеры кратны единому модулю. В Марциевом водопроводе, например, им является ширина канала. Наконец, архитекторы, прокладывая трассу акведука, учитывают обязательно его художественную гармонию с окружающим ландшафтом: поэтому до такой степени свободно и красиво взбегает он на пригорки, противостоит плоскости равнины, исчезает в зелени, отражается в зеркале реки!
Воду городу дают одиннадцать водопроводов. Воду эту надлежит распределить по всему городу, не обойдя и не обидев ни одного квартала, а кроме того, необходимо следить за водопроводной сетью, вовремя производить нужный ремонт, прокладывать трубы к домам, владельцы которых получили разрешение провести к себе воду, чинить мостовые. Кстати, право на отведение воды к себе в дом является правом, которое выдается только лично, прерывается смертью получившего и не переходит ни по наследству, ни при продаже дома новому владельцу.
Основное количество воды распределяется между тремя категориями: императорским двором (парки, дворцы, придворные службы), общественными учреждениями (бани, термы, сады, амфитеатры, склады, рынки), большими фонтанами и частными домами. Говорят, в Риме на каждого гражданина приходится в среднем ежедневно около 36 амфор воды.
Поистине благоговейное отношение в Риме к воде определяется прежде всего тем, что вода для римлян — необходимый элемент отиума, «покоя в сочетании с достоинством», как определял его Цицерон, добавляя, что такое сочетание «самое важное и наиболее желательное для всех здравомыслящих честных и благоденствующих людей». Но скажу в этой связи и несколько слов о римском жилище.
Люди богатые живут обычно в особняке, домусе, который состоит из двух половин — официальной, где комнаты сосредоточены вокруг очень высокого зала, атрия, и семейной, центром которой является внутренний дворик — перистиль. В крышах и атрия, и перистиля проделаны световые колодцы, а под ними — бассейн, куда собирается дождевая вода. Но если в атрии он лишь хранит воду (когда дождей долго нет, его заполняют водопроводной водой), то в перистиле положение более сложное и разнообразное. В центре его располагается большой фонтан, а вокруг — фонтаны поменьше, так что в жаркие дневные часы весь перистиль заполняется шелестом воды и солнечными бликами, отражающимися в ее струях. Иногда здесь располагается садик, и вода бьет в самых разных направлениях из трубок, скрытых внутри заполнявших его небольших скульптур.
Недавно вместе с Плотином пригласил нас сенатор Веттий. Перистиль его дома завершается глубокой нишей, целиком покрытой драгоценными мозаиками и инкрустациями из полихромной стеклянной массы. В глубине ниши — большая вакхическая маска, при выходе — малые бронзовые статуи: мальчик, играющий с птицей, рыбак, ребенок, заснувший возле опрокинутой амфоры. Изо рта маски, из клюва птицы, из горлышка амфоры бьют струи воды, со звоном падающие в омывающий нишу бассейн.
Вода является аккомпанементом отдыха, его условием, темой успокоительного разговора. В необычной любви римлян к воде, в ее изобилии, в широком ее общественном использовании проявляется их особый, гармоничный подход к жизни.
Но, по правде говоря, роскошных особняков в Риме относительно немного. Во всех четырнадцати районах столицы около полутора тысяч, тогда как инсул — около сорока тысяч.
Инсулой здесь, в Риме, называется многоэтажный дом, в котором находится ряд квартир, сдающихся внаем. В нем нет ни атрия, ни перистиля; старый особняк увеличивает свою площадь по горизонтали, инсула растет вверх по вертикали; в особняке место атрия, таблина, перистиля строго определенно и неизменно, в инсуле комнаты могут менять свое расположение по замыслу архитектора или хозяина и свое назначение по произволу съемщика.
Инсула в Риме — четыре, пять и даже больше этажей. В каждый этаж прямо с улицы ведет своя лестница, широкая и прочная, со ступеньками из кирпича или травертина. Если особняк повернут к улице спиной, то в инсуле каждый этаж рядом окон смотрит на улицу или во внутренний двор. Внешний вид инсулы прост и строг: никаких излишних украшений, наружные стены даже не оштукатурены, кирпичная кладка вся на виду. Только в инсулах с квартирами более дорогими вход обрамляют колонны, сложенные тоже из кирпича. Однообразие стен оживляется лишь рядами окон и линией балконов; перед рядом лавок, находящихся в первом этаже, часто идет портик.
Были инсулы маленькие, одноэтажные, двухквартирные с мезонинами. Квартиры в них совершенно однотипны: парадная комната в одном конце, в противоположном конце другая, значительно меньшая, коридор, две маленькие комнатки, которые на него выходят, и кухня с уборной.
В квартирах для людей состоятельных обычно одна или две парадные комнаты. Часто они выше остальных, очень светлы, фрески и мозаики в них лучше, чем в других; они располагаются обычно в противоположных концах квартиры (если парадная комната одна, то она всегда подальше от входа). В такой квартире еще несколько комнат, которые в этот коридор выходят и освещаются от него. Здесь высокие потолки (8–9 локтей обычная высота).
Но, пожалуй, я уж надоел тебе, Марцелл, своими излияниями. Остальное я оставлю на следующее письмо.
Будь здоров.
…За обедом Кастридий почти ничего не ел, если не считать нескольких спелых, нежных маслин с Крита, к которым он издавна имел тягу. Впрочем, и сам Зеф два раза в неделю — на третий и седьмой день — к съестному не притрагивался, но холодную воду из источника пил часто в эти дни, но понемногу.
Затем оба перешли из триклиния в перистиль. Кастриций еще тогда, когда только купил эту усадьбу для Зефа и Плотина, предлагал полностью перестроить перистиль: заменить мраморную облицовку фонтана, привезти с десяток дорогих произведений нескольких модных скульпторов из Рима. Но Зеф не согласился: ему очень понравился старый, позеленевший мрамор фонтана, тихое журчание воды (она вливалась в бассейн из раскрытых ртов серокаменных рыб, которые почти касались поверхности воды), один-единственный, но столь могучий платан.
Хозяин попросил Гермия принести два свертка, которые лежали на столе в таблине. Кастриций, развязав пояс своей туники, возлег на ложе и углубился в чтение писем из Галлии. Он был лет на пятнадцать моложе Зефа, с удлиненными, красивыми чертами лица, с аккуратно постриженной бородкой.
Прочитав, он осторожно отложил папирусные свитки на небольшой круглый столик, стоявший рядом, и углубился в размышления. Зеф снял сандалии и тоже медленно расположился на ложе. Он смотрел, чуть прищурившись, на легкокрылые облака.
Кастриций повернулся к нему и, стараясь сохранить спокойствие, спросил:
— И что ты думаешь об этом?
«Не торопись, но и не забывай; терпеливо жди своего часа, и если он наступил, действуй смело и решительно», — хотел сказать Зеф, но ответил иначе:
— Расскажи все Галлиену. Скорее всего то, что происходит сейчас в рейнских легионах, известно многим в сенате. Но я тебе говорил: звезды свидетельствуют о намечающихся изменениях, и Валериан скорее всего догадывается об этом.
Кастриций кивнул рассеянно: он уже знал, что хочет сказать Зеф. Кастриций давно восхищался прозорливостью своего друга: Зеф был врачом, и каким-то образом способности врачевателя сказывались и на его политической интуиции. И, вероятно, главная причина — Кастриций почувствовал внезапно себя словно в медленном вихре какого-то внутреннего тумана, который то пробуждал его, то мешал его мысли, — в том состоянии, который сам Зеф назвал «быть отстраненным от дождя, когда ливень уже промочил тебя насквозь». Однажды он, словно мимоходом, обронил, что об этом узнал еще от Аммония, но научил его этому искусству вполне только Плотин — уже в Риме.
И вдруг, даже для себя неожиданно, Кастриций спросит:
— На днях сказал мне Амелий мельком непонятную вещь: в первые годы своего пребывания в Риме Плотин весьма странным образом вел занятия — беседы проводил так, словно склонял учеников ко всякому вздору. Когда я попросил его пояснить сказанное, он замялся и перевел разговор на другое…
Зефа словно нечто кольнуло, но он не подал виду. Дело в том, что он сам в последнее время, словно под неким внутренним побуждением, вспоминал эти необычные занятия Плотина. И никому он не хотел бы высказывать своих мыслей и озарений, да и очень трудно было бы это сделать: но вдруг сам этот вопрос словно связал контуры полузабытых образов.
— Я уехал из Александрии за два года до смерти Аммония. Плотина я знал уже тогда, мы довольно часто встречались, но не были близки… Когда он приехал в Рим, прошло три года после нашей последней александрийской встречи… И он сильно изменился за это время: словно был окутан пульсирующей силой; что-то произошло… и многое из того, что он тогда говорил, высказывалось так, что было непонятно.
Так вот: учил он тому, что считал я в высшей степени странным, а Амелий — подобным вздору… Но дело-то, как я позднее догадался, было в нас… Говорил же он о том, что путь к созерцанию один и тот же для всякого жаждущего, но путь к созерцанию для каждого жаждущего различен… Путь один и тот же, ибо есть только один Путь, но он различен, этот Путь, как различны между собой все жаждущие.
Путь к чистому созерцанию требует постоянного развертывания силы творческой потенции, заложенной в каждом человеке. И творчество может быть только как постоянное творчество, как постоянное воспроизведение Сотворения, которое и происходит каждый миг. Поэтому творчество — это всегда новое существование, это всегда новая жизнь. Творчество — это свобода не быть тем, кем являешься во времени; творчество — это испытание вечностью… Но такое творчество, как воспроизведение постоянного сотворения, как движение к Созерцанию, есть еще нечто очень важное: это обнаружение в себе самом новых сил и сущностей, демонов и богов, то есть это воссоздание в себе внутреннего человека, реального человека, объединяющего в живой целостности новые реальности с их демонами и богами; возрождение того человека-бога, который, созидая себя, созидает и весь благословенный Космос. Плотин тогда очень часто повторял — я это очень хорошо помню — эту мысль: «Мы должны стараться делать то, что делали вначале боги, в том начале, которое и сейчас».
Он говорил: творчество — это прежде всего жертвоприношение, и что любое жертвоприношение есть, в свою очередь, повторение начала жизни и сущности — не во времени, повторю, а по смыслу. Почему? Ибо существование мира начинается с принесения в жертву Хаоса. (Но Хаос не погибает; он остается — всегда здесь и сейчас — и ждет…) Но это не все: мир и существует потому, что боги, демоны, люди приносят постоянно жертвоприношения, ибо мир этот одушевлен Богом, который в нем, с Душой, распавшейся на части, принесшей себя в жертву, воссоздающий свою целостность, единство. Следовательно, принося жертвоприношение в форме творческого акта, мы не только возвращаемся к тому моменту, когда выпало Время, но и становимся самим этим жертвующим собой Богом, который борется в нас и через нас. Всякий, кто, поняв это, совершает доброе дело или даже удовольствуется осознанием Добра, воссоздает божество, разъятое на части, делая его целым и полным. Плотин особо подчеркивал тогда именно это: при жертвоприношении должно быть именно такое осознанное творческое стремление восстановить первоначальное единство, воссоздать все, что предшествовало Сотворению.
И Плотин утверждал, что именно мифы, правильное переживание и медитация над мифами, могут научить такому целостному творчеству. В один и тот же миг миф обучает разум и пробуждает интуицию, веру как нечто целое, или, иначе говоря, именно миф диалектически объединяет ум и веру в специфическом процессе «видения». Но если только мифы хотят быть мифами, то они должны производить разделения по времени в том, о чем они говорят, и различать одно от другого во многом из сущего, так как последнее хотя и существует вместе, но разделяется в смысле порядка и потенций. Поэтому при изложении такого рода проблем дело идет о рождении нерожденного и о разделении того, что существует вместе. Но, обучая, насколько возможно, того, кто размышляет об этом, мифы тут же дают возможность произвести соединение.
Мифологическое творчество, внутренняя сила мифа не только человеческая, но и божественная, и демоническая, и космическая. Ведь, говорил Плотин, ух мифа определенным образом следует природе, коль скоро и сама природа любит скрываться, играть с человеком в прятки, делая невидимым видимое, чтобы сделать видимым невидимое, давая косвенный ответ на вопрос, на который не существует прямого ответа, показывая подобное через неподобное и истину через ложь.
Зеф внезапно замолчал. Кастриций слушал, слегка наклонив голову. Затем Зеф глубоко вздохнул, словно очнулся, и медленно, чуть приглушенным голосом, продолжил:
— Плотин постоянно тогда, так или иначе, возвращался к орфическим мифам, пытаясь донести различными способами суть излагаемого, которое казалось нам столь странным…
Боговдохновленный Орфей струнами своей кифары донес, что были вначале вода и ил, который затвердел в землю. Плотин же пояснял, что, полагая первыми эти два начала: воду — как склеивающую и связующую, и землю — как рассеивающую по своей природе, нужно впитывать в себя двойку как два полярных начала умопостигаемого мира. А предшествующее этим двум единое начало — единицу — Орфей опускает как неизреченное, ибо ведь уже само умолчание о нем указует на его неизреченную природу. Следующее начало, идущее после двух, родилось из них, то есть из этих противоположных принципов, и являет собой Дракона с приросшими головами быка и льва, а посреди них — первый лик Бога. На плечах у него крылья, имя ему — Нестареющий Хронос, с ним же соединена Ананкэ (необходимость).
Орфей начинает с этого третьего, по словам Плотина, следующего за двумя, как с первого, ибо оно хоть в какой-то мере выразимо в слове и доступно человеческому слуху.
Этот Хронос-Змей рождает тройное потомство: влажный Эфир, безграничный Хаос и Мглистый Эреб (мрак). Этот Хаос — не тьма и не свет, не влажное и не сухое, не теплое и не холодное, но все вместе смешанное; он был вечно, единый и бесформенный.
Эта вторая триада, как учил Плотин, соответствует первой, как потенциальная — отчей. В них — Эфире, Хаосе, Эребе — Хронос родил яйцо, из которого эманирует третья умопостигаемая триада. Сначала оно, это яйцо, было наполнено плодоносностью, как бы способное породить все возможные элементы и цвета, но, несмотря на это разнообразие, выглядело так, как будто состояло из одного вещества и было одного цвета. Подобно тому как павлинье яйцо кажется одноцветным, но потенциально содержит в себе тысячи цветов будущего взрослого павлина, так и рожденное из всей бесконечности живое яйцо обнаруживает всевозможные превращения. Внутри яйца формируется некое мужеженское живое вещество, которое Орфей называет Фанесом, так как когда он явится, то от него осветится вся Вселенная светом самого яркого элемента — огня, созревающего в жидкости.
Плотин говорил об этой третьей триаде так: во-первых, это яйцо, во-вторых, двоица заключенных в нем существ, мужского и женского, в-третьих, бестелесный бог с золотыми крыльями на плечах, у которого по бокам были приросшие головы быков, а на голове — чудовищный змей, принимающий всевозможные обличья зверей. Третий бог — это ум триады, множество и двоица — это вечная потенция, а само яйцо — отчее начало третьей триады. Плотин указывал, что яйцо — это символ единенности, многоликий бог — расчлененность умопостигаемого, а среднее, поскольку оно и яйцо (еще единенное), и бог (уже расчлененное), говоря в целом, находящееся в процессе расчленения.
Фанес, таким образом, — это переход от Нуса к Мировой Душе, это порождающий принцип иерархии богов: царями богов, по преданию Орфея, были Фанес и Ночь, Уран и Крон, Зевс и Дионис.
Сей нестареющий Хронос, нетленномудрый, родил Эфир и бездну великую, И не было снизу ни границы, ни дна, ни основания. Все было в их темной мгле… Затем сотворил великий Хронос в божественном Эфире Серебряное яйцо, по безграничному кругу Оно носилось, не зная покоя, Двигаясь по неизреченно-огромному кругу… Бездна туманная и безветренный раскололся Эфир, Когда начал возникать Фанес, Ибо зовут его Фанесом, Так как первый стал он видим в Эфире. Лелеющий в душе безокую, порывистую любовь, Фанес — ключ ума Перворожденного, никто не видел очами, Разве лишь одна священная Ночь, а все прочие Дивились, созерцая невероятный свет в эфире: Так отсверкивало от тела бессмертного Фанеса. Он создал для бессмертных нетленный дом, Поставил Солнце надо всем, И учинил его стражем и велел начальствовать надо всеми. Сие сотворил отец в туманной пещере. Фанес творит три Ночи и соединяется со средней: Первая Ночь прорицает, Вторую называют почтенной, А третья рождает Справедливость. И скипетр свой велелепный Ночи — богине вручил, да имеет царскую почесть. Животворный кратер Ночи рождает всякую душу в мире. Затем она родила Гею и широкого Урана, Она явила их, из неявленных в явленных. И стал первым затем Уран царем богов После матери Ночи. Гея рождает тайком от Урана тех, Кого кличут «Титаны» по имени между блаженных, Семь миловидных девочек, живооких, святых, Семь мальчиков-владык родила она густовласых. Дочерей: Фемиду и благосклонную Тефию, Мнемосину с густыми локонами и блаженную Тейю, Также Диону она родила, чей вид велелепен, Фебу да Рею, родительницу Зевса-владыки, И столько же сыновей: Кея с великим Крием да могучего Форкия, Крона с Океаном да Гипериона с Иапетом. Из всех них Ночь растила и холила Крона.И обрати внимание, Кастриций, что именно Ночь опекает Крона. Крон, символ выпавшего из вечности потока времени, противостоит Вечности. Титаны, под предводительством Крона, захватывают небесный Олимп и оскопляют своего отца, Урана, то есть Уран, манифестация вечности, приносится в жертву. Происходит изменение характера жизненного цикла. При этом к восстанию не присоединяется Океан — символ противоположности дискретному — продолжающий обитать в дивно-великих руслах.
Крон берет в супружество Рею. А поскольку он предупрежден, что тот, кто от нее родится, окажется сильнее его самого и свергнет его с царства, то он проглатывает сыновей, которые у нее родятся. Первым рождается сын, которого нарекли Аидом: отец его проглатывает, то есть стремится сохранить единство кольцевого потока времени. После Аида рождается второй, которого называют Посейдоном, и его он тоже проглатывает. Последним она рождает Зевса. Но мать Рея, жалея сына, хитростью прячет его от отца. А когда отец все же понял, что плод родился, то потребовал его на пожирание. Тогда Рея поднесла ему большой камень и сказала «Его родила». Тот принял его и проглотил, и проглоченный камень потеснил и заставил выйти наружу тех сыновей, что были проглочены раньше. Первым протиснулся и выделился Аид, и занял нижние места, то есть преисподнюю. Вторым — так как во чреве отца он находился выше Аида — выталкивается Посейдон. Третий — Зевс — был выпущен на небо.
Зевс связывает Крона и оскопляет его. Таким образом, вновь заканчивается цикл и начинается следующий эон, где вновь меняется ритм и торжествует вечность. Орфей говорит, что Зевс вскармливается Адрастией (Неизбежностью), имеет спутницей Ананкэ (Необходимость) и рождает Еймарменэ (Судьбу).
Зевс сочетается браком с Герой и затем вновь возвращается и входит в оракул Ночи и вопрошает:
Матушка, высочайшая из богов, бессмертная Ночь, Как — скажи мне это, как мне следует, Сохраняя неустрашимость, устроить власть над бессмертными? Как мне сделать, чтобы все вещи были одно И в то же время каждая отдельно?Великая богиня Ночь советует ему:
Охвати все вокруг неизреченно-огромным Эфиром, Протяни по всему миру крепкие оковы, Подвесив с неба златую цепь…И вот здесь происходит дальнейшее развертывание Мировой Души: Зевс — это символ единства качественно нового мирового космического разнообразия и при этом манифестация целостности Нуса и Души:
Перворожденного мощь вместив тогда Эрикенея, Тело всего он имел во чреве своем во глубоком. К членам своим примешал он божью силу и храбрость, Вот почему с ним все вещи внутри Зевса вновь сотворились. И просторы эфира, и неба блестящие выси, И беспредельного моря, земли велеславной основа, И Оксан великий, и Тартар земли преисподний. Также и реки, и Понт безграничный, и все остальное, Все бессмертные боги блаженные, да и богини. Все, что было тогда, и все, чему быть предстояло, Стало одно, во чреве Зевеса слилось воедино. Зевс стал первым, и Зевс — последним, яркоперунный. Зевс — глава, Зевс — середина, все происходит от Зевса. Зевс мужчиною стал, и Зевс — бессмертною девой. Зевс — основанье Земли и звездообильного Неба. Зевс — дыхание всех, Зевс — пыл огня неустанна. В Зевсе — корень морей, Зевс — также Солнце с Луною. Зевс — владыка и царь, Зевс — всех прародитель единый. Стала единая власть и бог — мироправец великий, Царское тело одно, а в нем все это кружится: Огонь и вода, земля и эфир и Ночь с Денницей, Метис — Первородитель и Эрос многоусладный — Все это в теле великом покоится ныне Зевеса. В образе зримы его голова и лик велелепный Неба, блестящего ярко, окрест же — власы золотые Звезд в мерцающем свете, дивной красы, воспарили. Бычьи с обеих сторон воздел он рога золотые — Запад вкупе с Востоком, богов небесных дороги. Очи — Солнце с Луной, противугрядущего Солнцу. Царский же ум неложный его — в нетленном Эфире, Коим слышит он все и коим все замечает: Речь ли, голос ли, шум иль молва — нет звука, который Не уловили бы уши Крониона мощного Зевса. Образ такой обрели голова и разум бессмертный. Тела же образ таков: осиянно оно, безгранично, Неуязвимо, бездрожно, с могучими членами, мощно. Сделались плечи и грудь, и спина широкая бога Воздухом широкосильным, из плеч же крылья прозябли, Коими всюду летает. Священным сделались чревом Гея, всеобщая мать, и гор крутые вершины. В пахе прибой громыхает морской, тяжелогремящий, Ноги — корни земли, глубоко залегшие в недрах, Тартар гнилостно-затхлый и крайние Геи пределы. Все сокрывши в себе, на свет многорадостный снова Из нутра произвесть, творя чудеса, собирался.Но Путь все продолжается. От брака Зевса с земной женщиной рождается человеко-бог Дионис: Зевс назначает его царем всех богов и воздает ему высочайшие почести. Отец сажает его на царский престол, вручает ему скипетр и провозглашает царем всех богов Вселенной. Потому-то Гераклит и говорил, что Солнце ежедневно новое, так как оно причастно дионисийской силе. Недолго владел он престолом Зевса. Гефест сделал Дионису зеркала; посмотрев в них и увидев в них свои иллюзорные отображения, бог выступил из самого себя и изошел во все разделенное на индивидуальные вещи творений. В этот момент Титаны его растерзали на семь частей.
Титаны поставили на треножник некий котел, положили в него члены Диониса и сначала варили их, а потом нанизали на вертела, поджаривали на Гефестовом огне и вкусили их. Но появляется Зевс, поражает молнией Титанов и поручает Аполлону похоронить члены Диониса, оставив только сердце, из которого вновь возродится Дионис. Из копотей испарений, поднявшихся от Титанов (которая стала материей), произошли нынешние люди. Орфей иносказательно говорил о трех родах людей. Первый — золотой, созданный Ураном, второй — серебряный, им правил Крон, а третий — Титанический, его создал Зевс. Мы — дети Диониса, но в нас копоть Титанов.
Ты знаешь, что иррациональную, неупорядоченную и склонную к насилию часть нашего существа, поскольку она не божественного, а демонического происхождения, древние назвали титанами. Именно эта часть и должна пострадать и нести справедливое возмездие в круге перерождений.
Дионис как человеко-бог разрывается на части Титанами, а соединяется с Аполлоном, иначе говоря, он расщепляется на материально-множественное, а затем возвращается к божественному единству. Это число — семь — привходит в душу, чтобы она обладала разделением на семь долей как символом дионисийского ряда и выраженного в мифической форме расчленения, а гармонией между этими семью долями она должна обладать как символом аполлонического ряда. Именно аполлоническая монада должна отвращать человека от эманации в титаническое множество.
После суда Зевса над Титанами и рождения смертных существ души сменяют жизни через определенные периоды времени и многократно вселяются в различные человеческие тела:
Одни и те же отцами и сыновьями в чертогах, Лепыми женами, и матерями, и дочерями Снова родятся на свет, меж собой меняясь рожденьем.Но возможно переселение человеческих душ и в других животных:
Вот почему по кругу времен душа человеков Поочередно в животных вселяется иногда в разных: То родится конем, то овцой, то птицей ужасной, А иногда и с собачьим телом, и с голосом низким, Хладных породою змей ползет по земле она дивной.Души привязаны воздающим всем по заслугам Зевсом к колесу судьбы и рождений, от которого невозможно освободиться, если не умилостивить тех богов, коим приказ от Зевса: отвязать от круга и дать от зла передышку.
А душа у людей когтями растет из эфира. Воздух вдыхая, мы душу божественную срываем. А душа, бессмертна и вечно юна, — от Зевеса. Всех бессмертна душа, а тела подвержены смерти.…Порфирий подошел к огню. Он чуть поклонился пламени и, казалось, о чем-то задумался. Но через минуту, очнувшись, он взял нечто, похожее на тонкий небольшой цилиндр в руки и, наклонившись, прочертил на полу линию, образовавшую полукруг, обнимающий со стороны двери и широкого окна очаг, при этом стараясь не поворачиваться полностью к огню спиной. Порфирий тщательно утолстил линию, а затем, отряхнув в сторону руки, повернулся вновь к мерному, спокойному пламени и замер. Через некоторое время он вытащил небольшой сверток, засунул в него руку и, вытащив щепотку тщательно измельченных трав, бросил в огонь. Казалось, ничего не изменилось. Порфирий стоял, выпрямившись и неотрывно вглядываясь в спокойный клубок пламени. Он что-то произносил, и его лицо быстро бледнело, а глаза чуть сузились и смотрели с растущим напряжением…
В этот миг в очаге что-то треснуло: огонь взметнулся вверх с самыми причудливыми цветами языков. Через несколько секунд они слились в безмолвный, чуть только дрожащий пламенный круг, в котором показалось сосредоточенное лицо Амелия. Он словно оторвался от письма, чтобы взглянуть на пришедшего друга. Кивнув Порфирию, Амелий полулежа продолжил писать.
Порфирий неслышно подошел к нему, взял первый небольшой сверток и начал читать письмо, которое Амелий написал ему, задолго до их знакомства у Плотина.
«Америй шлет тебе привет. Если ты здоров — хорошо, я здоров.
Вчера Плотина и меня пригласил Рогациан в восточный терм Агриппы. Человек он молодой, из древнего патрицианского рода, да и сам уже сенатор, несмотря на свою молодость. Некто направил его к нашему другу, как человеку мудрому и благочестивому. Проговорили они почти всю ночь о божественных числах как порождающих принципах ума. Вчера же пришел Рогациан с известием, что в библиотеке, которая сохранилась в термах Агриппы, есть некая древняя пифагорейская рукопись, повествующая об этом же.
Поначалу я предполагал, что наш друг откажется, ибо он не любитель посещать эти шумные, многолюдные места. И более того, не уверен я, что до вчерашнего дня был он вообще там. Предпочитает Плотин домашнюю ванную, массаж и умащения маслом.
Но неожиданно он согласился. Причин тому две, я думаю. Во-первых, природное его любознание. А во-вторых, тот терм, куда пригласил нас Рогациан, был первым в Риме, а ведь известно нам, что все первое многозначно и заслуживает внимания философа.
И я еще добавил вот что в разговоре с Плотином: терм — это своего рода воплощение или зеркало, точнее, где проявляется дух римского народа, его сила и его бессилие. И для примера зачитал я с комментариями один отрывок довольно известного автора:
„Высокий вход с широкими ступенями, скорее пологими, чем крутыми, — для удобства входящих. Посетителя принимает огромный общий зал, достаточный, чтобы там могли ожидать слуги и провожатые, и расположенный слева от ряда роскошно отделанных покоев: и они, конечно, очень уместны в банях, такие укромные уголки, веселые и залитые светом. Далее, примыкая к ним, находится второй зал — излишний, что касается купаний, но необходимый, поскольку речь идет о приеме самых богатых посетителей. За этим помещением с двух сторон тянутся комнаты для раздевающихся, где они оставляют одежду, а посередине расположено помещение высокое и светлое-пресветлое, с тремя водоемами холодной воды. Здесь же два изваяния из белого мрамора старинной работы.
Потом вы попадаете в умеренно нагретую комнату, продолговатую и с двух сторон закругленную, встречающую вас ласковым теплом. За нею, справа, другая — очень хорошо освещенная и готовая к услугам тех, кто хотел бы умаститься, — принимает возвращающихся из палестры. Оба входа в нее облицованы прекрасным фригийским мрамором. К ней примыкает далее новый покой, из всех покоев прекраснейший: и постоять в нем можно, и посидеть с величайшими удобствами, и замешкаться без малейшего опасения, и поваляться с превеликой пользой, — он также весь, до самого потолка, сверкает фригийским мрамором. Сейчас же за этим покоем начинается нагретый проход, выложенный нумидийским камнем. Помещение, в которое он ведет, прелестно, все изобилует светом и как будто пурпуром разукрашено; оно также предлагает посетителю три теплые ванны.
Вымывшись, не надо возвращаться снова через те же самые комнаты, но можно выйти кратчайшим путем в прохладный покой через умеренно нагретое помещение. И повсюду льются обильные потоки света, и белый день проникает во все покои. Главным образом, пожалуй, это достигнуто здесь обилием яркого света и остроумным расположением окон. Ибо помещение с холодными водоемами выходит на север, хотя остается в то же время доступным и южному ветру, а те части, для которых нужно много тепла, — на юг, на восток и на запад…“
Прослушав все это, наш друг молча кивнул в знак согласия. По пути же Рогациан добавил к тому вот что.
Марк Випсаний Агриппа не только возвел в Риме первые термы, но и позволил римлянам в год, когда он был городским эдилом, посещать их бесплатно. В дальнейшем было построено много других терм — роскошных, комфортабельных, позволяющих римлянам провести время с пользой и удовольствием, особенно с тех пор, как при термах были открыты библиотеки: так, при термах Каракаллы их было даже две. За термами Агриппы последовали термы Нерона на Марсовом поле, термы Тита, возведенные близ Золотого дома Нерона, термы Домициана на Авентинском холме, термы Траяна. Внутри терм появились мозаичные полы, стенные росписи, скульптура. Так, статуя Аполлона Бельведерского украшает термы Каракаллы, а знаменитая скульптурная группа Лаокоона располагается в термах Траяна.
Но Рогациан все ж был сильно удивлен впоследствии: хотя Плотин и внимательно осмотрел термы Агриппы и даже посидел несколько минут в тепидарии, после чего сделал ему массаж огромный, обезьяноподобный банщик, тем не менее все же стремился быстрее добраться до той рукописи, о которой говорил Рогациан.
А затем уж, когда мы направлялись в коляске в загородную виллу отца Рогациана, сказал он следующее мерным своим голосом, больше обращаясь ко мне и имея в виду, что я ему говорил по поводу терм и характера римского народа. И постараюсь то, что говорил он, как можно точнее воспроизвести здесь:
„В прошлом году был я с Малюткой в поместье некоего Эгиала, которое когда-то принадлежало Публию Сципиону Африканскому Старшему. И увидел я там усадьбу, сложенную из прямоугольных глыб, башни, возведенные с обеих сторон виллы как защитные укрепления, водохранилище, выкопанное под всеми постройками и посадками, так что запаса хватило бы хоть на целое войско.
Видел и баньку, тесную и темную, по обыкновению древних: ведь им казалось, что нет тепла без темноты. И сейчас я пытаюсь сравнить нравы Сципиона и нынешние… В той Сципионовой бане окна крохотные, высеченные в камне, — скорее щели, чем окошки… А теперь называют тараканьей дырой ту баню, которая устроена не так, чтобы солнце целый день проникало в широченные окна, не так, чтобы в ней можно было мыться и загорать одновременно и чтобы из ванны открывался вид на поля и море. И вот те бани, на посвященье которых сбегалась восхищенная толпа, переходят в число устаревших, едва только роскошь, желая самое себя перещеголять, придумает что-нибудь новое. А прежде бани ничем не украшали: да и зачем было украшать грошовое заведение, придуманное для пользы, а не для удовольствия? А ведь кое-кто сейчас назвал бы Сципиона деревенщиной за то, что его парильня не освещалась солнцем через зеркальные окна и что он не пекся на ярком свету и не ждал, пока сварится в бане“.
И, клянусь, не только сами слова, но и спокойствие, и уверенность, с какой они были произнесены, внутренняя сила, которая звучала в них, повлияли так внушительно на Рогациана, что даже его природная гордость уступила место растерянности. И больше до самой усадьбы не проронил он ни слова.
Но затем я понял и иную природу его смущения. Пригласив Плотина на пир к отцу, Рогациан хотел по молодости поразить его богатством отца, единственным наследником которого был только он. Но уже по пути стал догадываться, что роскошь производит на нашего друга иное впечатление.
И действительно, за все время обеда Плотин почти ничего и не съел из того бесконечного потока изысканных яств, в неимоверном количестве проявлявшихся на большом квадратном столе. Только изредка жевал он небольшие жесткие сливы с кусочками хлеба, с искренним любопытством глядя на распалившихся, с горящими глазами гостей, ошеломленных разнообразием невиданных и неслыханных блюд.
Сначала внесли весьма изысканные закуски: на серебряном подносе стоял ослик из коринфской бронзы с двумя корзинками, в одной из которых были маслины зеленые, а в другой — черные. На серебряной решетке лежали горячие колбасы, под ней — сливы и карфагенские гранаты. Тем временем, пока все еще были заняты закусками, в триклиний внесли на большом подносе корзину, где находилась деревянная курица с распростертыми крыльями, словно высиживающая цыплят. Подошли двое рабов и под звуки музыки начали шарить в корзине, раздавая гостям непрерывно доставаемые огромные павлиньи яйца. Затем были вручены ложки весом в полфунта каждая, чтобы разбить скорлупу. Новички, не привыкшие к таким причудливым угощеньям, не сразу справились с обвалянными в муке яйцами и даже опасались, не выглянет ли оттуда птенец. Но сотрапезники более опытные с возгласами: „Тут должно быть что-то вкусное!“ — разломили скорлупу и обнаружили в усыпанном перцем желтке жирного вальдшнепа.
Под громкие крики одобрения подали еще одно кушанье, которого никто из гостей не ожидал, но которое своей необычностью обратило на себя внимание всех. На большом круглом подносе, где разместили все двенадцать знаков зодиака, создатель этого блюда положил на каждый соответствующую ему пищу: на Овна — бараньего гороху, на Тельца — кусок говядины, на Близнецов — почки, на Льва — африканские смоквы, на Весы — настоящие весы, в чашах которых лежали всевозможные пирожки и лепешки, на Стрельца — зайца, на Козерога — лангуста, на Водолея — гуся и так далее.
Затем принесли на подносе громадного кабана; с клыков его свисали две корзинки, сплетенные из пальмовых ветвей. Одна из них была полна сушеных, а другая — свежих фиников. Это была самка кабана: на это указывали маленькие поросята, сделанные из теста и уложенные вокруг нее так, словно тянулись к ее соскам. Слуга охотничьим ножом взрезал бок кабана — и оттуда вылетели дрозды. Стоявшие наготове птицеловы при помощи прутьев, намазанных клеем, поймали всех птичек. Хозяин распорядился раздать их гостям.
Затем последовало блюдо, называвшееся „щитом Минервы-градодержицы“. Здесь были смешаны печень рыбы скар, фазаньи и павлиньи мозги, языки фламинго, молоки мурен. Далее настал черед мелких птиц, обсыпанных пшеничной мукой и начиненных изюмом и орехами. Потом появились плоды айвы, утыканные шипами, так что походили на ежей. Их сменили устрицы, улитки, морские гребешки…
И хотя хлебосольный хозяин не один раз обращался к нашему другу, тем не менее Плотин тихо, но твердо отказывался от того, чтобы даже попробовать все эти лакомства.
А в конце концов и сам Рогациан отказался даже притрагиваться к яствам, беря пример с учителя. Таково воздействие этого человека!
И будь здоров на этом, Малх!»
…Пламя вновь вернулось к своему обычному состоянию. Но Порфирий еще стоял со слезящими глазами…
…Меня словно толкнули: странноносый кивнул мне чем-то похожим на руку и затем нырнул в экран…
Амелий Марциану шлет привет!
Я благодарю тебя, дорогой брат, за твое письмо, которое получил несколько дней назад. Ты льстишь моему тщеславию, хваля меня за мой подробный стиль, которым описал я в прошлом послании то, что отличает, пожалуй, Рим от всех других городов мира. Но, поскольку желание твое читать мои пространные письма пока что не убавилось, разреши мне продолжить, начав с описания знаменитого римского цирка.
В глубокой и узкой долине между Авентином и Палатином со времен незапамятных справлялось в честь бога Конса, охранителя сжатого и убранного хлеба, религиозное празднество, существенной частью которого были бега лошадей и мулов. Бега оказались тем зерном, из которого развились «цирковые игры». Место, где происходили бега, римляне до сих пор называют цирком, имея в виду форму этого места — цирк, если ты знаешь, обозначает всякую фигуру без углов, будь то круг или эллипс.
Лощина между Палатином и Авентином словно самой природой создана для бегов: эта низина по размерам своим (1300 локтей в длину, 320 локтей в ширину) вполне годилась для конских ристаний. Сейчас на обеих длинных сторонах и на одной короткой, полукруглой, устроены в три яруса сиденья для зрителей; в нижнем ярусе они каменные, в двух верхних — деревянные. Крыши над этим огромным пространством нет, но в защиту от солнца можно натягивать над зрителями полотно. Против полукруглой стороны расположены по дуге двенадцать стойл, из которых выезжают колесницы и которые открываются все разом. Посередине между стойлами находятся ворота Помпы, через которые входит торжественная процессия, а над воротами располагается ложа для магистрата, ведающего устройством игр. Он же и дает знак к началу бегов, бросая вниз белый платок. С обеих сторон за стойлами возвышаются башни с зубцами, создающие впечатление крепостной стены, ограждающей город. Напротив ворот Помпы находится Триумфальная арка, воздвигнутая в честь Тита, покорителя Иудеи, через которую выезжает возница-победитель. Платформа (длина ее равняется 750 локтям) облицована мрамором, уставлена алтарями, фигурами зверей и атлетов. Есть еще колонны со статуями Победы наверху, Великая Матерь богов, сидящая на льве, и два «счетчика» для счета туров. Главное украшение платформы — египетский обелиск, поставленный Августом. У обоих концов платформы стоят высокие тумбы, напоминающие по форме половину цилиндра, разрезанного вдоль, и на каждой из них — по три конусообразных столбика Здесь же устроены клетки для зверей — в цирке иногда бывают звериные травли. Однажды Помпей устроил в цирке сражение со слонами; с ними должен был биться отряд гетулов (африканское племя). Двадцать огромных животных, взбесившись от боли, непривычной обстановки и воплей толпы, повернули и попытались убежать, сломав железные решетки — они отделяли арену от рядов, где сидели зрители. Для защиты от диких зверей поставлен был тогда по парапету между ареной и зрителями вращавшийся деревянный вал, облицованный слоновой костью: зверям не за что было уцепиться и не на чем удержаться. Вмещает ныне цирк 200 тысяч человек.
Цирковым играм предшествует торжественная процессия, напоминающая триумф. Она спускается с Капитолия на Форум, пересекает Велабр и Коровий рынок, вступает через ворота Помпы в цирк и обходит его кругом. Во главе идет магистрат, устроитель игр (если это консул или претор, он едет на колеснице, запряженной парой лошадей), одетый, как триумфатор: в тунике, расшитой пальмовыми ветвями, и пурпурной тоге, с жезлом слоновой кости с орлом наверху. Государственный раб держит над его головой дубовый золотой венок; его окружает толпа клиентов в белых парадных тогах, друзья, родственники и дети. За ними идут музыканты и те, кто принимает непосредственное участие в играх: возницы, всадники, борцы, а дальше в окружении жрецов и в облаках ладана несут на носилках изображения богов или их символы, изображение умершего обожествленного императора и членов императорской семьи, пользующихся народной любовью. Их везут в открытых часовенках, помещаемых на особых двухколесных платформах, запряженных четверней. Лошадьми правит мальчик, у которого отец и мать живы. Он идет рядом с колесницей, зажав в руке вожжи; если они падают на землю, это считается злым предзнаменованием; следует начать шествие сызнова от самого Капитолия.
Выезжают обычно четыре колесницы, но бывает и по шесть, и по восемь, и даже по двенадцать. Полагается объехать арену семь раз: победителем считается тот, кто первым достигает белой черты, проведенной мелом, напротив магистратской ложи. Колесницы чаще всего запряжены четверней (на паре выезжают только новички); тройки выезжают реже; особого искусства требует управление большой упряжкой — от шести до десяти лошадей.
И до сих пор, Марциан, несмотря на неспокойные, тревожные времена и болезни, много людей собирается в цирке. Прежде всего захватывающим является зрелище стремительно несущихся, сшибающихся, обгоняющих одна другую квадриг. Прекрасные лошади, лихие возницы, смертельная опасность этих состязаний — этого, пожалуй, достаточно, чтобы глядеть на арену, не отрывая глаз, затаив дыхание. А тут присоединяется еще веселая толпа, в которой пестрота своевольных женских костюмов выделяется яркими пятнами на фоне сверкающей белизны обязательных тог, возможность завязать легкое, ни к чему не обязывающее знакомство, присутствие самого императора, богатое угощение после игр…
Вот еще о чем поведаю я тебе, Марциан, в этом письме — о бесплатной раздаче пропитания бедному населению.
Одна из главных забот императоров — снабжение столицы хлебом. Даровой хлеб сейчас получают свыше двухсот тысяч человек. Ведь стоит только поползти слухам о недороде, о том, что надвигается голод, как население города сразу же начинает волноваться, и удержу здесь часто не бывает.
Со времени Клавдия раздача хлеба происходит в Минуциевом портике, на Марсовом поле. Те, кто занесен в списки имеющих право на даровой хлеб, получают в качестве документа, подтверждающего это право, «хлебную тессеру» — деревянную дощечку с обозначением дня получки и отделения Минуциева портика, где им отпустят их долю зерна — 5 модиев ежемесячно. Эта дощечка является постоянным документом; кроме нее, дается еще контрольная марка, с которой получатель и идет к Минуциеву портику, отдает эту марку тому, что производит раздачу, и получает свой хлеб и другие продукты. Ведь и вино, и оливковое масло ныне раздаются или бесплатно, или по очень низким ценам.
Еще вот о чем я хочу с пристрастием написать тебе, Марциан: Август, включив в городскую черту предместья на расстояние в тысячу шагов от Сервиевой стены, разбил Рим на четырнадцать районов и разделил каждый из них на кварталы. Он же создал муниципальных магистратов. На первых порах ими оказались старые республиканские власти. Между преторами, эдилами и народными трибунами происходит жеребьевка: кому из них ведать в этом году тем или иным районом. Магистрату, которому выпал такой-то район, поручен общий верховный надзор за ним: он дает «начальникам кварталов» разрешение на постройку часовен Ларам и гению императора и ревизует их строительную деятельность, совершает в своем районе положенные жертвоприношения. Император Александр Север создал «муниципальный совет» из четырнадцати кураторов-консуляров с правом совещательного голоса; вместе с префектом города они обсуждают городские дела.
Каждый из четырнадцати районов состоит из кварталов. Во главе квартала — коллегия из четырех начальников, назначаемых на год самим императором или префектом города. Если здесь живут императорские отпущенники, то «начальников» выбирают из их среды, и вообще должность эту замещают людьми простыми. Обязанности их в первую очередь сакральные: в их ведении находится культ императора и Рима; они организуют два праздника Ларов: 1 мая и 1 августа. Но у них, начальников кварталов, и другие обязанности, и тут они выступают настоящими хозяевами своего квартала. Они поддерживают в нем порядок, помогают ночным патрулям пожарников, надзирают за торговлей в своем квартале и являются перед властями официальными его представителями. У них есть свой календарь, и, кроме общего летосчисления, квартал имеет свое собственное.
Управление всем большим городом находится в руках префекта города. Префекта назначает император, и он остается в своей должности столько, сколько угодно императору, — иногда пожизненно, иногда несколько лет. Основной и первоначальной обязанностью префекта города является охрана порядка и спокойствия в Риме и надзор за политической благонадежностью его обитателей. Он не только следит и распоряжается: его юрисдикции подведомствен ряд уголовных преступлений, нарушающих спокойствие и благочиние или создающих им угрозу. Он может произносить приговор один, ни с кем не совещаясь; может приглашать на совет почтенных и сведущих в праве людей.
Префекту города подчинены три городские когорты — римская полиция. Караульные посты этих когорт разбросаны по всему Риму: префект города должен расставить их, дабы охранять покой населения и получать сведения о всех городских происшествиях. В каждой когорте состоит по тысяче человек.
Рим не являлся и тем более сейчас не является городом, в котором имущество и жизнь граждан находятся в безопасности. Город ночью погружен в абсолютную темноту, и уже это одно дает широкий простор всяческим злодеяниям. Помптинские болота и Куриный лес на берегу Кумского залива, протянувшийся на много стадий, весь в зарослях кустарника, песчанистый и безводный, служат убежищем для разбойничьих шаек, совершающих набеги на Рим. Помимо них, в Риме достаточно всякого подозрительного и беспокойного люда. Сюда стекаются со всего света искатели легкой наживы и авантюристы всякого вида и толка. Здесь, в этом людском море, ищут приюта преступники, ускользнувшие от суда и тюрьмы; здесь прячутся беглые рабы; ищут наживы нищие и бродяги. Римской полиции не приходится сидеть без дела…
…Я вижу сбоку луч сумрачного света. Я хочу повернуть голову, но не могу… И я чувствую, что мне еще труднее дышать… и не могу я приподнять невидимую, но тяжелую грудь, чтобы побольше вдохнуть воздуха…
…И я снова лечу в неизвестное, где вращаются все сильнее и сильнее разные цвета…
…Чувство глубочайшей благодарности. Я нахожусь в имении Рогациана. Знакомая мне лужайка. Беззвучный родник. Вокруг меня они — Рогациан, Малютка, Зеф, Амелий. Я и есть это чувство глубочайшей благодарности, ибо они для меня — Учителя. Учитель поистине Учитель только другим Учителям: ведь ты даешь то, что у них уже есть, а они призывают к тому, чтобы ты раскрыл в себе то, что ты сам еще не так явственно, не так ярко помнишь.
…Усталость — от старости и благостного напряжения ума. И вот эта благостность молчания — не как отсутствие слов, а как незримая сверхсловесность.
И беззвучно говорю я, обращаясь к этому молчанию:
— Угроза.
И сразу откликается Рогациан:
— Следует быть предельно смиренным и не иметь ничего, что требовалось бы защищать, — даже собственную тайну пути. Собственный путь должен быть защищенным, но не защищаемым.
И тихий, прерывистый голос Малютки:
— Совершенствующийся никогда не бывает осажденным. Находиться в осаде означает, что имеешь какую-то личную собственность, которой могут угрожать. У совершенствующегося ничего в мире нет, кроме его безупречности, а безупречности ничем нельзя угрожать.
И тут же Зеф:
— Угроза — препятствие. Всякое препятствие — рождение возможности. Но путь совершенствующегося неизменяем. Вопрос лишь в том, насколько далеко уйдет он по этой узкой дороге, каким неуязвимым будет он в этих нерушимых границах. Если на его пути встречаются препятствия, совершенствующийся непоколебимо стремится преодолеть их. Ибо всякое препятствие — рождение возможности. Поэтому благословенны препятствия: через них совершенство!
И вновь я вмешиваюсь, глядя на Амелия:
— С чего же начинать каждое действие?
И он отвечает тут же, не раздумывая:
— С самого необходимого, ибо каждое мгновение имеет свою необходимость.
Поворачиваюсь к Зефу:
— Как возникает очевидность необходимости?
— Нить необходимости проходит через все миры, но не понявший ее останется в опасном ущелье и не защищенным от камней.
Я молчу и слушаю, что говорит мне ветер. Затем я вновь безмолвно говорю:
— Жертвоприношение…
Я чуть прикрываю веки и слушаю:
— Жертвоприношение — отказ от себя.
— Удача следует за жертвой.
— Жертвоприношение — указание о Рождении.
Я вновь обращаюсь к Рогациану.
— Скажи о жертвоприношении.
И он сразу же начинает:
— Трусом назову того, кто уклоняется от трудов, жертв и опасностей, выпавших на долю его народа. Но трусом и предателем вдвойне будет тот, кто изменит принципам духовной жизни ради материальных интересов, ради власти, кто, например, согласится предоставить имеющим власть решать, сколько будет дважды два. Ибо пожертвовать любовью к истине, высшей честностью, верностью указаниям духа ради каких-либо иных интересов есть предательство, есть отказ от прошлых своих жертвоприношений.
Жертвоприношение — это совершенствование самого себя, понявшего, что Благо в себе, а не в понятиях и книгах; что Истина должна быть пережита, а не преподана. Жертвоприношение — это битва, это пробуждение, когда важна реальность и то, как ее пережить, как выстоять. Пробуждаясь, уже не стремишься проникать в суть вещей, в истину, а схватываешь, осуществляешь или переживаешь отношение себя самого, своей души к положению вещей в данный миг. При этом ты обретаешь не закономерности, а решения, проникаешь все глубже в самого себя.
Вот почему то, что при этом чувствуешь, так трудно высказать, вот почему столь удивительным образом это ускользает от слов и понятий. Возможности человеческого языка не рассчитаны на сообщения из той сферы. Если в виде исключения найдется человек, способный понять тебя несколько лучше, нежели другие, — значит, человек этот находится в таком же положении, как и ты, так же страдает или так же пробуждается…
Я перебил его:
— Скажи, что любит быть захороненным?
Он сразу ответил:
— Зерно и намерение.
— Как пробудить намерение?
Я посмотрел на Зефа.
— Надо быть текучим и чувствовать себя легко в любой ситуации. Для этого прежде всего надо оставить желание цепляться за все: за пищу, к которой привык; за горы, где родился; за людей, с которыми нравится разговаривать. Но больше всего за желание быть важным. Чувства создают границы вокруг чего угодно. Чем больше любим, тем сильнее границы, тем сильнее упираемся в них. И тело не что иное, как мысль, выраженная в форме, доступной зрению. Если разбить цепи, сковывающие нашу мысль, то можно разбить и цепи, сковывающие тело. Потому нельзя верить своим глазам: они видят только преграды.
Чтобы пробудить намерение, необходимо потерять форму, за которую цепляешься и которую называешь человеческой: надо освободиться от всего этого балласта Преимущество бесформенности в том, что она дает паузу на мгновение, при условии, что мы имеем мужество, необходимое, чтобы воспользоваться ею. Потеря такой формы приносит свободу — свободу вспомнить себя, каким ты был, есть и будешь. Потеря человеческой формы подобна спирали. Она дает свободу вспоминать, а это, в свою очередь, делает тебя еще более свободным.
Я кивнул. В ветвях раздалось изумительное пение неведомой птицы. Она напомнила о том, что нужно было именно в этот миг. Я чуть приподнял руку и сказал:
— Я буду говорить, а вы повторяйте, без слов и отбросив какие-либо чувства.
Я вновь замолчал, затем стал медленно, беззвучно и очень внятно говорить:
— Не давайте делать другим то, что можете сделать сами, — этим уничтожите внутреннее и внешнее рабство. Не повторяйте дважды то, что можете сказать один раз. Не ходите одной дорогой, если есть иная тропа. Не плавайте, где надо летать. Не оборачивайтесь, где надо спешить. Молчите там, где не готовы к вашему слову.
Думайте, что ничто не принадлежит вам, тем легче не повредить вещь. Думайте, как лучше украсить каждое место, тем вернее уберечься от сора. Думайте, насколько каждая новая мысль должна быть лучше старой, тем утвердите лестницу восхождения.
Думаете, как мала Земля, тем улучшите понимание соотношений. Думайте, как красно Солнце, скрываясь за сферою Земли, тем воздержитесь от раздражения. Думайте, как белы голуби в свете луча, тем укрепите надежду. Думайте, как черна мгла, тем воздержитесь от холода отступления. Думайте, какое счастье проходить под лучами созвездий, являясь средоточием лучей вечности.
Я снова вслух спросил сжавшегося в своем одиночестве Рогациана:
— Так что же такое выбор?
— Смысл этой жизни в том, чтобы в ней достигнуть такого совершенства, чтобы можно было своей этой жизнью показать это совершенство другим. Мы выбираем следующую жизнь в согласии с тем, чему мы научились в этой. Если мы не научились ничему, следующий мир окажется таким же, как этот, и нам придется снова преодолевать те же преграды с теми же свинцовыми гирями на ногах.
Я вдруг почувствовал, что уже навсегда покидаю этот миг и это место. И я повернулся разом ко всем, чтобы сказать то, что когда-то сказал или хотел сказать:
— Если бы оставшиеся считали ушедших посланными к свету и за светом, тогда общение было бы правильным. Совершенная душа чувствует, куда стремится, куда летит, как стрела Потому ценно смелое желание искать себя, ибо каждый ищущий найдет. Если желания души высоки, она может найти великие образы и, возвращаясь к ним, способствовать совершенствованию.
И запомните: все возможно в мире духа. Не выдуманными формулами, но неописуемой мощью, силой духа слагаются новые возможности.
* * *
И даже во всем безобразии и уродстве окружающей нас жизни проявляется идеальное совершенство бытия. Ведь если мы осуждаем убийства, грабежи и прочие преступные деяния людей, то это мы делаем только потому, что знаем о существовании совершенных форм жизни, так как иначе никакое безобразие и уродство не квалифицировалось бы нами как именно таковое, и мы не знали бы, что безобразие и есть именно безобразие. Значит, все безобразия и уродства жизни только подтверждают существование в ней абсолютного совершенства.
VI Фатальная свобода игры: не это, не то
Без Души весь этот мир был и есть не более как мертвый труп, темная бездна и какое-то небытие; нечто такое, чего даже боги ужасаются.
Я — небосклон, я — все планеты И сущность откровенья — я. Держи язык свой за зубами, И в твой язык я не вмещусь. Я — сразу сущность и характер, Я — сахар с розой пополам, Я — сам решенье с оправданьем, В молчащий рот я не вмещусь. Старик, я в то же время молод, Я — лук с тугою тетивой, Я — власть, я — вечное богатство, Но сам в века я не вмещусь.Интимная, глубинная сущность Души проявляется как раскрытие изначальных основ бытия; как бурлящая способность самовыражения и вечного непокоя; как пронзительное стремление не быть тем, что Душа есть, и быть тем, что Она не есть; как постоянное самоотрицание и колеблющееся равновесие между истинным и неистинным; как загадочное совпадение могущества и бессилия, тайного единства и бесконечной множественности; как вздрагивающая гармония сущего и не-сущего; как ритмическая, пульсирующая активность и покой бытия. Все это есть одновременно и вдохновенное созерцание Души, в котором она делается свободной от самой себя…
Когда я корчусь — во сне и наяву — от невыносимой боли, которую испытывают они, неизвестные, но все же близкие мне — мерцает спокойно чья-то мысль; почему же я так страдаю и почему не могу не страдать?
— Мы так часто говорим о душе, рассуждаем о ней, вспоминаем о ней… Но что представляет твоя душа?
— Не знаю, я ничего не знаю… Я так привык… Я почти утонул, почти размазался во всем этом привычном…
Да будет каждый целиком боговиден и целиком прекрасен, если он хочет видеть Бога и красоту!
…Я неожиданно ощущаю свои веки, но они столь тяжелы, что не могу я открыть их… И вновь меня бросает в поток золотистого света:
— …Вот что прежде всего да будет известно всякой душе: Душа универсальная или мировая произвела все живые существа, вдохнув в них жизнь, — и тех животных, которых питает земля, и тех, которые живут в море и воздухе. Она же произвела божественные звезды и солнце, да и всю красоту форм необъятного неба. Она же установила и поддерживает во всем закономерный порядок.
Но сама она совсем иной, несравненно высшей природы, чем все то, что она производит, благоустрояет, чему сообщает движение и жизнь. Ведь все это то нарождается, то умирает, смотря по тому, дает ли она жизнь или отнимает. Сама же она, Мировая Душа, существует вечно, не умаляясь в своей жизни.
Каким образом эта великая Мировая Душа сообщает жизнь всей Вселенной и каждому существу в отдельности, это может уразуметь наша душа не иначе, как став предварительно достойною такого созерцания. И затем, сосредоточившись внутренне в самой себе с такой энергией и полнотой, чтобы в ее сознание не вторглось и ее не тревожило не только тело со всеми происходящими в нем движениями, но ничто окружающее, чтобы для нее все замолкло — и земля, и море, и воздух, и само величественное небо.
В таком состоянии, представь себе, что во все это мертвенно-неподвижное нечто вдруг отвне как бы вливается Душа, которая повсюду распространяется, повсюду эту безжизненную массу насквозь проникает и освещает, подобно тому, как лучи солнца, падая на темное облако, делают его просвечивающимся, златовидным.
Итак, Душа, снизойдя в эту громадную инертную массу, сообщила ей движение и жизнь неиссякаемую и превратила ее в мир, который, будучи вечно движим ее разумною силою, стал живым вседовлеющим существом. Как бы поселившись в мире, то есть проникши его своими животворными силами, Душа сообщила ему смысл, ценность и красоту.
Универсальная Душа распростерта по всей этой неизмеримой громаде и одушевляет все ее части, как великие, так и малые. Но она от этого не разделяется и не раздробляется на части, для того, чтоб оживлять каждую вещь в отдельности, но все оживляет, оставаясь целостною, неделимою, присутствуя во всяком месте вся нераздельно. И таким образом Мировая Душа всегда остается подобною родившему ее отцу, то есть Нусу и по единству, и по всеобъемлющей универсальности.
Вследствие этого, как ни громадна Вселенная и сколь ни велико в ней повсюду разнообразие, но она содержится в единстве ее всеобъемлющею силою. И мир весь этот благодаря ей есть божество, как равно солнце и все звезды суть божества, насколько одушевляются ею. Да, наконец, и мы, люди, по той же причине представляем собою нечто божественное. Без нее же все это были бы разве одни трупы, хуже всякого навоза.
А если так, — если Мировой Душе сами божества небесные обязаны своею божественною природою и жизнью, — то понятно, что сама она есть старейшее из божеств. Но и наша душа однородна с нею. В самом деле, если ты по удалении из души своей всех прикрывающих ее чуждых наростов станешь рассматривать ее чистой от всего, то увидишь, какое высокое достоинство имеет истинное существо ее и насколько она превосходит им все телесное.
А если так, если все вожделенно лишь потому, что одушевлено жизнью, то как можешь ты, забывая о душе, которая в тебе есть, прельщаться тем иным, что вне тебя? Раз ты во всем прочем чтишь главным образом душу, так чти же ее прежде всего в самом себе.
…Напряжение стало медленно отступать. Я почувствовал, что словно волна расслабленности постепенно надвигается сверху. Появилось совершенно неожиданное желание увидеть образ своего, столь близкого даймония. Но как я ни пытался, ничего не получилось. Вместо этого опять засверкала блестящая светоносная спираль…
— Когда я слышу тебя, когда я словно впитываю тебя, я знаю, что ты — это я, а я — это твое воплощение, твой лучший образ. Это нельзя назвать разговором с самим собой: это скорее некое напряжение фантастического полета к самому себе. Это словно неожиданный прыжок во внутреннюю глубь, синюю глубь самого себя без помощи каких-либо слов и определений.
— И это — совершенно иное. По отношению к тому, что обычные люди называют внутренним диалогом, разговором с самим собой. Они думают, что внутренний обмен словами и есть мысль. На самом же деле такая внутренняя болтовня — всего лишь самодовольное бормотание бессильного слепоглухонемого…
Откуда-то изнутри стала подниматься теплая волна. Зазвучал словно бы иной, мягкий, нежный голос. Даже не голос, а музыка; без слов появились в бурлящем цветном тумане неведомые, но чем-то знакомые образы…
…В небольшом тихом городке, на берегу бесконечно ласкового и доброго моря жили по соседству два человека. Внешне они были очень похожи, да и было им обоим по 33 года. Но как разительно отличалась их жизнь! Один во всем, казалось, преуспевал: к чему бы он ни прикасался, что бы ни начинал — все оборачивалось для него благом. Он был богат, его уважали как мудрого и благородного гражданина, к его советам прислушивались старейшины города. Другой же бедствовал: что бы он ни делал, все заканчивалось в конечном счете для него злом. Словно неведомый рок преследовал несчастного на каждом шагу жизни. Наконец он не выдержал и, зайдя к своему соседу, взмолился:
— Почему отвернулись от меня боги? Чем прогневал я судьбу? Где конец моим бедствиям?
Улыбнулся кротко сосед и мягко, ласково сказал:
— Судьба выбирает тебя так же, как и ты выбираешь судьбу. Твое счастье где-то спит. Найди и разбуди его.
Хотя и не все понял бедняга из сказанного, но уже на следующий день ушел из родного города, чтобы каким-то образом найти неведомое свое счастье.
Шел он день, другой, третий. Через неделю оказался где-то в каменистой, холмистой пустыне. И здесь встретил он льва — истощенного, с печальным взором. Устало опустился лев в тени небольшого сине-коричневого куста и спросил, задыхаясь:
— И куда ты идешь?
Рассказал человек о своей злополучной жизни, о совете мудрого соседа, о непонятной цели своего пути.
Выслушал его лев, опустив на худые лапы грязную свою гриву, а затем сказал:
— Сделай, человек, и для меня доброе дело. Вот уже две недели я почти ничего не ел. Со мной что-то случилось: я потерял интерес к жизни, да и ко всему остальному. Спроси и для меня совета у своего счастья.
Пообещал человек, кивнул на прощанье головой и пошел дальше. Через несколько дней оказался он в небольшой, благоухающей разнообразной зеленью и прозрачными ручьями долине, где жила семья: отец, мать, их прекрасная, юная дочь. Но в глубокой, полной отчаяния скорби нашел их путник: поле — единственное их богатство — уже третий год не плодоносило. Отец семейства, который с понурой головой выслушал о намерении странного путешественника, попросил его поинтересоваться у счастья, что и им делать дальше. Пообещал человек и побрел дальше.
Дошел он до небольшого, со странными, грязнокаменными строениями города. Мрачным казался этот завернувшийся в саван ожидания город. В нем жили неразговорчивые, сумрачные люди, которые только отворачивались при встрече с незнакомцем, не желая отвечать на какие-либо вопросы. По узким, извилистым, зловонным улицам дошел человек до огромного, окруженного мощной стеной дворца правителя. Молча через темные комнаты и коридоры провели его к молодому красивому юноше, который с закрытыми глазами сидел на возвышении в большом роскошном зале. Когда человек подошел, правитель пристально посмотрел на него, жестом показал ему куда сесть и спросил:
— Кто ты, откуда ты, куда ты идешь?
Усталый и голодный путник осторожно присел и медленно рассказал о всей своей безрадостной жизни, о своем путешествии к неведомому счастью.
Правитель, опустив голову, выслушал его. Когда рассказ окончился, он резко встал и зашагал взад-вперед по залу.
— Наши судьбы похожи. Но мне еще тягостнее. Рок, который меня преследует и обращает во зло все мои добрые начинания, тяжело сказывается на моих подданных. Я уже ни во что не верю и не надеюсь. Но ты не случайно оказался здесь: спроси у своего счастья совета и для меня.
Правитель внимательно посмотрел на человека и приказал накормить его, свести в баню и дать ему отоспаться.
Через несколько дней подошел человек к суровым, скалистым, уже своим видом внушавшим опасность, горам. И надежда повела его смертельными тропами вверх. И вот на одной из небольших таинственных площадок, перед входом в огромную пещеру, в тени одинокого, окаменевшего, застывшего в своей вечности дерева наткнулся человек на некое сладко храпевшее существо. Что-то в человеке подсказало, что это и есть его счастье. Он, забыв сразу об усталости, смело подошел к дереву и бесцеремонно затряс это существо. Оно довольно быстро проснулось, зевнуло и сказало:
— Все-таки пришел. Ну, что ж, ты что-то, по крайней мере, сделал. А теперь возвращайся. И не смотри такими удивленными глазами: ты найдешь все, что действительно хочешь и что тебе действительно надо.
Сказав, пристально, чуть прищурившись, посмотрело существо на человека. Он же, придя быстро в себя, стал просить совета и для тех, кого встретил на своем нелегком пути. Сделало знак существо, и наклонился человек. Потом он согласно кивнул головой и, повернувшись, стал спускаться вниз. Он не оглядывался, потому что был уверен, что позади него только пропасть.
Пришел человек в город, где правил злосчастный правитель. Смело вошел в зал, где тот в задумчивости стоял у окна, и сказал:
— Я знаю, в чем корень твоих бед. И ты знаешь это. Ты занимаешься не своим делом. Ты ведь женщина!
Правитель стоял к нему спиной. Он словно ждал этих слов, встряхнул головой, и на плечи упали красивые длинные волосы. Девушка повернулась к человеку, прекрасные, огромные черные глаза искрились, казалось, изгоняя сумрак и тоску из дворца. Улыбка делала ее лицо еще более прелестным и притягательным.
— Ты прав. И я благодарна тебе за твои слова, которые я так хотела услышать. Оставайся со мной. Будь моим мужем, правителем этого края. У тебя будет красивая жена, много золота, власть.
Человек внимательно смотрел на нее. И тени сомнения не было во всем его облике, когда он сказал:
— Нет. Мой путь еще не закончился. Там, впереди, то неведомое, что мне действительно нужно.
Девушка, продолжая смотреть на него, кивнула:
— Если ты уверен, иди. Но знай: сюда ты уже никогда не вернешься. Прощай.
Без тени сомнения пошел он дальше и вновь оказался в знакомой райской долине. Молча подошел к дому, где жила знакомая семья, и повел их всех к бесплодному полю. Здесь он показал отцу семейства место, где необходимо было выкопать глубокую яму.
— Зачем? — удивился хозяин.
— Здесь зарыт древний клад. Когда ты извлечешь его, поле станет плодоносным, и ты получишь то, что хочешь.
Когда яма была отрыта, там нашли много золота и драгоценных камней. Человек молча и отстраненно смотрел, как радовалась счастливая семья. Потом хозяин повернулся к нему и сказал:
— Ты принес нам удачу. Оставайся теперь с нами. Наша прекрасная дочь будет тебе верной женой. Ты не будешь ни в чем нуждаться. Здесь обретешь ты свое спокойствие. Оставайся.
Человек чуть кивнул, улыбнулся, посмотрел на мерцающий горизонт и сказал:
— Нет. Мой путь еще не закончился.
Юная, прекрасная дочь, услышав эти слова, встряхнула гордо красивой головкой и с обидой сказала:
— Иди, если ты действительно уверен. Но знай: сюда ты уже никогда не вернешься. Прощай.
С легким и пустым от сомнений сердцем, не оглядываясь, направился он дальше. В пустыне он долго искал льва. Тот уже настолько сильно ослаб, что, тяжело дыша, лежал, опустив некогда царскую гриву, возле небольшого источника.
— Радуйся, царь зверей. У тебя есть шанс спастись. Ты должен съесть самого глупого человека, и тогда ты выздоровеешь.
Поблагодарил его лев и, продолжая тяжело дышать, попросил рассказать о приключениях, которые с ним произошли. Присев на плоский горячий камень, человек рассказал все, что было. Лев внимательно посмотрел на него и сказал:
— Так ты говоришь, надо найти самого глупого человека?
И, собрав все свои силы, с ревом прыгнул на человека.
Но… промахнулся, упал на острый выступ побелевшего от времени камня, порвал себе брюхо. Несколько минут, истекая черной, одряхлевшей кровью, лев тяжело умирал. Человек, не шелохнувшись, смотрел на него. И вдруг он понял, что это он — лев, он так долго умирает, его иссохшие кишки натужно вываливаются и размазываются по равнодушной каменистой поверхности.
Долго сидел оцепеневший человек рядом с трупом умиротворенного льва. Потом он встал и, не оглядываясь, пошел дальше. В южной части фиолетового небосвода медленно появилось второе — голубое и огромное — светило.
…Я прислушиваюсь к утихающим толчкам, которые раздаются как бы изнутри. Потом с полузакрытыми глазами медленно пытаюсь осмотреться справа налево, как бы впитывая в себя знакомое пространство, в которое я вновь возвратился. Но это продолжается очень короткое время. Я опять ухожу куда-то вовнутрь… потому что вновь раздается беззвучный голос, столь знакомый мне, и он вновь, в последний раз, говорит мне то, что когда-то уже произносил:
«Но мы не можем ни говорить и ни рассуждать о душе, не касаясь постоянно того, что выше ее. Мыслить душу — это мыслить и Нус, и Единое».
Единое есть все и ничто. Ведь начало всего не есть все, но все — из него, так как все словно бы взошло там. Точнее, Оно еще не есть, но будет. Но как же будет все из Единого, при отсутствии в этом абсолютно тождественном какой-либо пестроты, какого бы то ни было раздвоения? Именно потому, что нет в нем ничего, поэтому и есть из него все. И именно для того, чтобы существовало сущее, оно поэтому и есть — То, что порождает сущее. Сущее — как бы первое рождение, так как Единое, будучи абсолютно совершенным, потому что ничего не ищет, не имеет и ни в чем не нуждается как бы с избытком вытекло и, переполненное самим собою, создало другое. Возникшее же обратилось к Нему и преисполнилось, а взирая на самое себя, стало, таким образом, Умом. С одной стороны, неподвижное пребывание этой переполненности в Едином создало сущее, а с другой стороны, созерцание, направленное на самого себя, создало ум. Итак, когда Оно установилось по отношению к самому себе с целью созерцания, Оно одновременно сделалось и умом, и сущим. Существуя так, как и Единое, Нус создает подобное, изливая вперед много потенций. И это есть образ его, который также как бы изливается вперед.
И эта активность из сущности есть Душа. Но если Нус изливает свой образ, оставаясь неизменным, то Душа создает, не пребывая неизменной, но только приведенная в движение, порождает образ. Итак, смотря туда, откуда возникла (то есть в Нус), она преисполняется, а пройдя в иное, порождает образ самой себя — ощущение и растительную природу в растениях. Однако не вся она в растениях, но постольку оказывается в растениях, поскольку выступила вперед вниз, создав своим выступлением и желанием худшего другую субстанцию, тогда как предшествующее этому, зависящее от Ума, позволяет Уму пребывать при самом себе.
Существует путь вперед от начала до конца, причем каждое всегда остается на своем месте, в то время, как рожденное занимает другое место, худшее. Однако каждое становится тождественным тому, за чем следует, покуда следует. Таким образом, когда Душа оказывается в растении, то оказывается другая как бы часть ее в растении, наиболее дерзкая, безрассудная и дошедшая досюда. А когда она в неразумном существе, то способность ощущать, овладев, привела ее. Когда же сошла в человека, то это или вообще движение в рассуждающем или происходящее от ума, словно оно обладает собственным умом и самостоятельным желанием мыслить или вообще быть в движении.
Таким образом, существует как бы вытянутая в длину жизнь, причем каждая из следующих по порядку частей иная, но все сплошно, и одно отлично от другого, но первичное не уничтожается во вторичном.
— Но ведь и тела, и индивидуальные души есть прежде всего некая множественность. Как же согласовать с этой множественностью единство Универсальной Мировой Души, вообще? Каким образом воспринимать Душу как одновременно и единое и множественное?
— Можно сказать, что Душа одновременно делима и неделима. Что это значит? Неделимое в ней — высшее, а дальше — низшее, то есть связанное с телами. Для того чтобы показать это, сначала докажу, что в данном единичном теле душа едина, а потом и то, что душа едина во многих телах.
— Попробуй.
— Делимое в душе делится неделимо. Каким образом? Душа, вступая, как целое, в данное человеческое, например, тело, присутствует в каждой точке тела как целое. Дело в том, что любое частичное возможно только тогда, когда есть соответствующее общее. Если мы говорим «Плотин», то название такого имени имеет смысл только в том случае, если мы одновременно мыслим, что Плотин есть человек. Если же такая общность не мыслится, то это значит, что Плотина мы не мыслим как человека. Но тогда возникает вопрос: имеет ли какой-нибудь смысл Плотина называть Плотином и не является ли такое имя просто бессмысленным набором звуков? Также и любое тело, взятое само по себе и никак не осмысленное, таким образом, рассыпается на дискретное множество бессмысленных частиц, бесконечно делимых и никак между собой не соотносящихся. Таким образом, чтобы существовало некое живое тело, необходим принцип организации этого живого тела, что и назовем в данном случае душой данного тела. Или иначе говоря, душа есть смысл, логос жизни данного тела. Но эта душа тела уже не может рассыпаться на дискретное множество и в основе своей не может быть делимой.
Таким образом, делимость души в теле означает лишь то, что душа находится во всех частях тела, но так как она находится во всех них как целое, то она неделима. Душа, сама по себе, неделима и целостна, поскольку она не связана ни с какой величиной. Делимость же есть состояние тел, а не души.
— Хорошо, но по поводу того, что все души есть единая Душа, можно возразить следующим образом: если это так, тогда все переживаемое тобой должен переживать и другой человек. Более того, это же должна переживать и вся наша Вселенная. Наконец, отсюда следует, что души разумных существ, зверей и растений тождественны. Что ты скажешь?
— Такой вывод достаточно уязвим. Два человека действительно имели бы одни и те же переживания лишь в том случае, если бы и тела их были совершенно одинаковыми. Что же касается единства душ, то взгляни на это вот с какой точки зрения. Чувственному материальному миру, несмотря на потенциальную бесконечность разнообразия составляющих его самых различных тел, присуща определенного рода эмпатия. И действительно, люди без слов порой могут почувствовать состояние других людей; дети горько плачут, искренне переживая боль умирающего любимого животного; животные чувствуют и реагируют на различные состояния других животных. Собака прячется, когда хозяин не в духе. Все эти явления эмпатии объяснимы лишь в том случае, если действительно существует единство Души.
То, что кажется на первый взгляд частями Универсальной Души (индивидуальными душами), есть на самом деле лишь различные потенции этой Единой Души. Причем любая множественность этих потенций отнюдь не нарушает первоначального единства Мировой Души. Ведь и в семени множество потенций, и все же оно едино, и из него, единого, проистекает множество потенций, проистекает множественное единое.
Кроме того, проблема еще в неясности понимания понятия «часть». Это понятие применимо по отношению к физическим и математическим величинам, но Душа не является величиной. Поэтому и с этой точки зрения нельзя говорить о ее частях.
— Иначе говоря, если исходить из представления о Душе как бестелесной сущности, то вопрос о единстве Мировой Души можно поставить иначе: «Каким образом едина сущность во многих вещах?»
— Вот пример: наука как система едина. Каким образом? А именно, каждое понятие ее потенциально включает в себя все другие понятия, обладающие творческой жизненной способностью. В этом же смысле едина Мировая Душа и едины индивидуальные души.
Все души — Мировая, людей, звезд, животных — возникают вследствии Нуса. Но затем, смотря по тому, на что обращена их активность, они индивидуализируются. Различия же между ними основаны на более близком или более далеком отношении душ к Нусу. Чем ближе душа к нему, тем она совершеннее. Чем она совершеннее, тем выше ее способность к эмпатии.
Что же касается отдельной, индивидуальной души, то и она — единство со многими потенциями. Следовательно, Душа в себе есть единое, а по отношению к другим душам — единое и иное.
— И все же, что такое Душа? Не дав некоего предваряющего определения, трудный путь вперед станет еще труднее…
— Да, хотя словесные определения всегда ограничены в своей точности. Итак, что же такое Душа? Она не есть тело; она принадлежит миру умственной реальности; от нее ведет свое происхождение чувственный мир со всеми его формами, законами и принципами. Душа — вечна; она — источник жизни и движения для чувственного телесного мира. Душа — чистая деятельность и активность. В этом смысле Душа есть и некий принцип развивающегося мышления. В этом контексте индивидуальная душа есть еще и некий принцип становления Универсальной Души, некая индивидуализированная тотальность Всеобщей Души. Истинное, смысловое бытие не становится и не погибает. Но если оно находится в становлении, то и оно вечно. Душа и есть принцип такого вечного становления.
Душа — это бессмертная жизнь. Она, познавая вечное или, точнее говоря, вспоминая это вечное в себе, является принципом для всего временного, которое без него просто рассыпалось бы.
— Душа есть и зримое воплощение, манифестация диалектики бытия. И эта диалектика может или возносить душу наверх, или склонять ее книзу. Мировая Душа есть мудрое равновесие между верхом и низом, и потому ее изысканная диалектика находится в равновесии и вечно движется вокруг неподвижного Ума. Но та же самая диалектика может возносить душу к Единому и расслаиваться на отдельные души, которые уже обращены к материи.
— Но если душа изменяется, то изменяется ли она под воздействием чувственной реальности?
— Нет. Душа свободна от внешних, материальных воздействий. Аффицируются, испытывают такие внешние воздействия органы тела, а не душа. Душа лишь создает суждения, которые не «впечатления», а понятия, благодаря которым мы познаем вещи. Ни добродетели, ни пороки ничего не привносят в душу в смысле некоего внешнего воздействия. Ведь тот или иной порок, например, есть не что иное, как недостаток блага и по определению не может внести в душу ничего чуждого. А истинная добродетель в конечном счете сводится к подчинению ума, что также не означает открытости души для воздействия извне. Подлинная активность души есть созерцательная интуиция, то есть чистая умственная деятельность. Но и память, восприятия, представления, мышление души суть формы активности. Поэтому изменение души может пониматься лишь как переход от потенции к активности и от активности к потенции…
…Все замолкает в звенящей тишине, и я словно проваливаюсь в сладостном полете в ту, другую реальность…
…Надвигается гроза: быстро темнеет, серые и черные облака беззвучно сталкиваются друг с другом, лучи солнца быстро и робко вспыхивают то в одном, то в другом месте. Угрожающий гул ветра усиливается.
Я нахожусь в небольшом гроте. Путь к нему, да и сам он, сплошь застлан, увит виноградными лозами. Так что, несмотря на ветер и шум деревьев в роще, здесь спокойно. Рядом со скалой бьет ключ, и струйки воды уносятся по пологому склону вниз, в Акмею.
— Сдается мне, что те, которые учредили для нас посвящения, давно уже дают понять нам, что, если кто непосвященным и неочищенным спустится в преисподнюю, тот погружен будет в тину. Очищенный же и посвященный, придя туда, обитает с богами. Ибо, как говорят имеющие дело с посвящениями, тирсоносцев много, но мало истинно вдохновенных. Эти же последние не кто иные, как те, кто правильным образом изучал мудрость, ибо мудрость не есть мудрость сама по себе, она есть путь к себе. И я старался в этой жизни по мере сил и возможностей остаться таким.
Это говорит Платон. Он сидит недалеко от меня и, хотя меня не видит, обращается в мою сторону. Каким-то образом он узнал, что нечто находится в гроте вместе с ним.
— Я уже могу утверждать обо всех, кто писал или будет писать, будто они знают, в чем мое стремление, — слышали ли они это от других, или выдумали сами, — что им нельзя доверять всецело… У меня нет сочинения относительно этих предметов, и таковое не могло бы и появиться. Эти вещи никоим образом нельзя охватить словами… Для этого нужно долгое занятие данным предметом, и нужно вжиться в него, нужно вдыхать его. Зато потом вспыхивает как бы искра, зажигающая в душе оттоле неугасимый свет.
Платон очень стар. Остается три этих года до того, как он должен будет уйти. Весь в белом, с белой седой бородой, с по-прежнему пронзительными черными глазами, он похож на далеких пророков, дельфийских жрецов, индуистских брахманов, в гордом спокойствии внимающих клубящимся видениям.
— Но ведь и подготовка к посвящению есть и само уже посвящение. Сократ умер, как может умереть только посвященный, для которого смерть — только один из моментов испытания Великой Жизни, подобный другим. Смерть как испытание, как подготовка к посвящению… Но не только: умирающий Сократ не случайно и не по привычке поучает своих учеников о бессмертии. Посвященный, знающий по опыту, что материальная жизнь сама по себе не имеет цены, действует здесь как доказательство совершенно иное, нежели все доводы рассудка. Словно здесь говорит не человек — ибо человек этот как раз безвозвратно уходит, — но сама вечная истина.
Я прервал его беззвучно:
— Где временное разрешается в ничто, там подходящая атмосфера, в которой может звучать вечное.
— Преодоление глубинного страха смерти означает очень важный шаг к истине, ибо это уже выход за рамки части, которой является тело. Что в вещах истинно и ложно, решает в нас нечто такое, что противополагается чувственному телу, что, следовательно, не подлежит его законам. Прежде всего душа не подлежит законам возникновения и уничтожения, то есть она ничего общего не имеет со становлением. Ибо это «нечто» в себе самом имеет истину. Истина же не может иметь «вчера и сегодня», она не может один раз быть этим, другой раз — тем, подобно чувственным вещам. Следовательно, только преодолев страх смерти, возможно приблизиться к истине. Ведь смерть принадлежит становлению. И высшая манифестация такого преодоления — это готовность безупречно умереть.
Но такая смерть — как смерть чувственного, материального в человеке — одновременно означает и рождение: рождение пра-человека, в котором-то и освобождается скрытая связь с Богом…
В этот момент начался ливень. Я опять прервал его, беззвучно прошептав:
— Прежде чем светлая искра истины вспыхнет в человеческой душе, в ней должно уже существовать смутное тяготение, устремление к божественному, то, что влечет человека к тому, что, прорвавшись, проявившись, составит его высшее счастье.
— Любовью одно существо притягивается к другому. Через любовь бесконечная множественность вещей стремится вновь к гармонии, к единству. Поэтому любовь имеет в себе нечто божественное, и поэтому каждый может понять ее только в той мере, в какой он сам причастен божественному. Любовь — не Бог, ибо Бог — совершенен. Любовь же есть только жажда красоты, добра. Следовательно, Эрос стоит между человеком и Богом; он — посредник между земным и божественным. Точнее даже вот что: любящая душа, даже еще лишенная мудрости, ведет в высшие сферы Божественного.
Он замолчал и протянул свою чуть дрожащую руку в мою сторону. Я спокойно глядел, как пальцы его проходили через клубок вращающегося черного тумана, в котором я был и в котором меня не было. Затем я опять сосредоточился:
— Перед посвящением необходимо пройти три ступени — вверх и вниз — два вместе: объятие любви и смерти; умирание как стремление, смерть — взрыв становления; любовь как кольцо — верх, низ, внутри, вовне. И тогда пра-человек готов проснуться, и обнаружится, что…
Платон побледнел. Он приподнял в отчаянии левую руку:
— Кто ты, я не знаю. Но не богохульствуй…
— Оглянись, ты увидишь множество даймониев и богов, которые притихли и внимают нам.
Великий Платон был мужественнейшим из мужей. Он внезапно успокоился, поняв меня, и кивнул:
— Божественное связывает себя с временной, отчужденной, земной человеческой душой. Но лишь только это божественное, дионисийское зашевелится в душе, как она ощущает властное стремление к своему собственному истинному духовному образу. Земная душа ревнует к рождающемуся высшему. Она натравливает силы низшей природы человека. Еще незрелое дитя Бога растерзывается. Таким образом, оно существует в человеке как разорванная на части, расчлененная божественная сила, чувственно-рассудочное знание. Но если только довольно в нем высшей, деятельной мудрости, то она охраняет и растит незрелое дитя, которое затем возрождается, как… Но, пожалуй, этого достаточно…
…Божественный Платон! — он знал, что до его прорыва оставалось три земных года.
…Я вновь — где? — и снова слышу беззвучный голос внутри себя:
— Душа — это сущность, и сущность — это потенция и активность. Душа — это динамическое единство, по мере удаления от своего источника — ума — постепенно слабеющее и рассеивающееся как потенция и активность.
— Конечно. Весь Космос в целом, все космические части в отдельности, наконец, Земля и весь живой мир — растения и животные, — все это имеет свою душу. Но в телах души как смысловая потенция и жизненная активность проявляются различно. Возьмем, например, души звезд. Они не обладают памятью и дискурсивным мышлением. Они не вспоминают о том, что они созерцали Высшее, так как они вечно созерцают Его. Они не вспоминают о своей деятельности, круговращении, ибо для них нет времени. И это только люди подчиняют якобы их движение измерению… Великие души звезд не хранят воспоминаний о наших ничтожных событиях, о случайных и привычных вещах. Да и вообще, у них, обладающих понятием Целого, отсутствует интерес к частным мелочам. Вся жизнь их заполнена без остатка созерцанием целого. Души звезд обладают менее грубыми телами, чем тела людей, и потому легче могут стать совершенными.
Точно так же, как звезды, обладает душой и наша Земля. Она обладает производящей потенцией. Людей порой смущает, что Земля не имеет органов чувств. Но ведь не имеют этих органов и небо с Космосом. Однако они же обладают со-ощущением, со-чувствием. Эта же эмпатия, общее космическое чувство присуще и Земле. Кроме того, мы знаем, что слышат и лишенные ушей животные. Точно так же и наша Земля может видеть, слышать, иметь вкус и так далее. Таким образом, Земля обладает растительной душой и производит растения; является животным и производит животных. Но самое главное, являясь частью Вселенной, обладает умом и является богом.
Эта Земля полна жизни: на ней живут животные и растения. В потоке жизни живут живые существа, которые обладают бессмертной душой.
Земля постоянно творит, постоянно фантазирует. Как и иные проявления творчества во Вселенной, это объясняется отклонением души от Единого. Став неразумной, душа Земли производит растения, делаясь чувственной, она производит животных. Стремясь к умственному, она создает человека. Иными словами, разнообразие творчества Земли объясняется разнообразием ее положения по отношению к высшему миру.
— И весь мир является одушевленным, цельным и живым организмом. Душевная жизнь единого космического организма как Мировая Душа выражается прежде всего в соощущении, сочувствии, симпатии. Раз мир во всех своих частях одушевлен, раз все является частями живого и одушевленного космического организма, то все, каждое отдельное явление, определяется живым взаимодействием частей целого, его гармонией. Вещи не просто внешне определяют друг друга, но объединены общей душевной жизнью и со-чувствием.
— Таким образом, существование Универсальной Души есть принцип всеобщей активности с ее неимоверными по разнообразию потенциями. Далее существует единая иерархия форм проявления этого принципа. При этом незыблем примат Мировой Души как ключевого принципа по отношению к индивидуальным формам ее проявления. Образно можно выразить это так: Зевс, старейший, надо полагать, из других богов, над которыми он владычествует, первым отправляется к созерцанию, то есть к высшему творчеству этого космоса, поскольку это созерцание и есть жизнь. За ним следуют другие боги, демоны и души, способные это видеть, то есть созерцать. Но здесь нужно прояснить следующее; как же все-таки индивидуализируется единая общая душа?
— Прежде всего можно повторить то, о чем говорили и божественный Платон, и древние учителя: нисхождение души в тело — это заключение ее в оковы, гроб, подземную пещеру. Но сказать только это, а потом глубокомысленно молчать — смешно. Для души давать телу бытие и совершенство — и зло, и благо.
— Почему?
— Вселенская, Универсальная Душа — это единство развивающейся множественности. И в этом смысле она отличается от наших, например, душ потому, что ей присущ лишь общий промысел о Космосе (как единстве прежде всего), тогда как «забота» индивидуальной души направлена и на частичное (из которых и состоит эта развивающаяся множественность как единство).
Мировая Душа, правящая Вселенной лишь посредством общего промысла (развитие множества как единства), внешняя по отношению к этому Космосу, сама не погружается в тело Космоса. Вселенная есть само созерцание Универсальной Души, ее творчества как едино-множественного.
Мировая Душа, так же как и душа каждого человека, принципиально двойственна. Направленная на Нус в созерцании, она стремится во всем уподобиться ему. Направленная же на себя самое, она создает свой собственный образ, который и воплощается через материю в виде целого, живого Космоса. Этот образ и есть логос Универсальной Души. Иначе говоря, Зевс, созерцая, постоянно создает образ. Этот образ есть логос Зевса. Зевс — это и логос, но логос — это как бы не весь Зевс.
Гомер создал «Илиаду». Но как? Душа Гомера созерцала нечто. Это нечто существовало до того, как воплотилось в некий комплекс букв и звуков. Это нечто, как результат созерцания, и есть своего рода модель логоса, воплотившаяся в «Илиаде».
Логос — это та сила Мировой Души, занятая чувственным миром, которую саму нужно брать в двух аспектах: как логос творящий, и в этом смысле он является дискурсивным воплощением души, и как связующий высшее (Душа) с низшим (чувственный мир). В свою очередь, логос чувственной вещи есть как бы ее конкретный смысл (отличающий ее от другой вещи), есть как бы ее семя, из которого она и вырастает.
— Рассуждая об индивидуальной душе, необходимо различать два момента: то, что она едина с Мировой Душой, и то, что она погружена в тело. Причем сам факт «заботы» души о теле и его совершенстве не является злом, ибо не всякий вид заботы о низшем отражается неблагоприятно на совершенстве заботящегося.
Итак, деятельность индивидуальной души может быть троякой: во-первых, созерцательной, что сближает душу с умом; во-вторых, направленной на саму себя с целью само сохранения; наконец, направленной на то, что ниже ее.
— Но речь шла об индивидуализации Универсальной Души…
— Главное, основное заключается в том, что такая индивидуализация является следствием единства свободы (дерзновения) индивидуальной души как конкретной потенции Мировой Души и в то же время ее роком. Если бы потенциально индивидуальная душа обладала лишь созерцательной деятельностью, то она пребывала бы в полном единстве со Вселенской Душой и ничем бы от нее не отличалась. Но эта индивидуальная душа (например, человека) как потенция, самоутверждаясь, переходит к частичному, обособленному существованию. Она удаляется (но не пространственно) от Мировой Души, то есть начинает актуализироваться, начинает отличаться от нее и, обособившись, ослабевшая и преисполненная массой мелких забот, смешивается с внешними вещами и глубоко проникает в тело. В этом обособлении и увлечении заботой о частичном и состоит погружение души в тело. Восстановление же ее созерцательной жизни является ее обратным возвращением в мир умственной реальности. И если происходит последнее, то воплощение души вовсе не является непременно злом. Ибо реализация ее изначальной свободы в воплощении дает душе знание и служит для нее развитием ее потенции…
— Но погружение души в тело является не только следствием ее свободного самоутверждения и обособления…
— Да, оно также и необходимое следствие вечного и абсолютного Закона. Дело в том, что в природе каждой сущности лежит необходимость производить низшее. Единое, переполняясь как бы, развивает из себя Нус, после которого возникает Душа, телесный мир. Вот эта-то внутренняя необходимость и заставляет душу сообщать ее силы и действия чувственному миру и тем самым обособляться и погружаться в тело.
Однако душа не всецело погружена в тело, как и стоящий в воде человек не полностью находится в воде. Лучшая ее часть вечно пребывает в умственной реальности, и направлена к уму, а не на тело. Правда, обе эти части (не пространственные части, а части как потенциальность и активность), — погруженная в заботу о теле и направленная к Нусу — находятся в гармонии друг к другу лишь у Вселенской Души. У человека же может быть иначе.
Еще раз: Мировая Душа не нисходит в тело Космоса, а скорее, наоборот, Космос находится в ней. Мировая Душа господствует и владеет, не подчиняясь и не связываясь. Что же касается человеческих душ, то они — то, о чем они мыслят: это объясняет и их нисхождение к телу, и восхождение к уму.
Отсюда, между прочим, следует и то, что полная свобода — это и есть Мировая Душа. В этом смысле и человеческая душа есть не что иное, как всеобщая свобода. Но она может быть связана и с соответствующим телом. Тогда ее абсолютная свобода ограничивается мелкими побуждениями. Душа может актуализироваться и быть и свободной и несвободной. Это зависит от нее. Но, даже когда она погружается в трясину всепоглощающей необходимости, выбирает в силу своей свободы несвободу, тем не менее потенциально она остается всеобщей свободой. Только когда она стремится, имея в качестве чистого вождя логос, то есть конкретное излияние эйдоса, такое стремление необходимо называть исходящим именно от нас и добровольным. И только в этом случае мы можем сказать, что это стремление именно наше, а не вынужденное внешними обстоятельствами…
…Какие-то неясные образы вращались, то затихая, то убыстряясь, внутри меня. Они, переплетаясь, резко взмывали, затем опускались, но неумолимо, медленно приближались. Затем и иное: одни образы как бы вливались в другие, отчего эти последние словно становились все четче, полнее, зримее.
…Мерцающая, полная луна… В отдалении — холмы… Небольшой домик… Тусклая свечка… Группа людей…
— Истинно вам говорю: ударили вас по одной щеке, подставьте другую.
Иисус, еще ниже опустив голову и глубоко задумавшись, замолчал. Никто ничего не ответил: голод и усталость часто сопровождаются равнодушным оцепенением. В субботний день благочестивые иудеи предпочитают не выходить из дому и не открывать двери прохожим, а тем более подозрительным нищим.
— Истинно вам говорю: ударили вас по одной щеке, подставьте другую.
Иисус медленно стал оглядывать своих учеников. Его глаза поблескивали на вытянутом, иссохшем лице. Казалось, он, никого не видя в этой затхлой, вонючей комнатушке, что-то напряженно ждет или ищет. Его подбородок чуть заметно дрожал.
Андрей лежал слева, в нескольких метрах от него. Ему нездоровилось. Кто-то накрыл его грязной, в сальных пятнах, мешковиной. Иногда он начинал бредить и что-то мычать.
Иисус перевел на него взор, и постепенно взгляд его стал проясняться. Он минуту разглядывал желтое, в красных точках лицо больного, затем медленно придвинулся к нему и стал мягко массировать затылок и виски.
Вдруг Иисус резко обернулся. В углу, полулежа, пристально смотрел на него тот, которого остальные знали как Иуду Искариота. Иуда смотрел сейчас даже не в глаза Иисуса, а на его переносицу. Затем он мягко отвернулся и медленно опустился на пол.
Иисус почувствовал облегчение. И вдруг сразу у него появилось некое неопределенное желание. Он стал тихо раскачиваться, чтобы это нечто прояснилось. И затем ясно увидел: надо выйти из комнаты, свернуть направо и через несколько шагов, под оливковым кустом, нужно поднять небольшой тыквенный сосуд.
Он наклонился к Иоанну и что-то ему тихо сказал. Через несколько минут Иоанн, удивленный, с широко раскрытыми глазами, протягивал коричневую, в прожилках тыкву. Иисус выдернул туго завинченную пробку, наклонился к Андрею и чуть надавил на его правую скулу. Губы больного дернулись и чуть приоткрылись. На сжатый, иссохший язык закапала темно-красная жидкость. Андрей вздрогнул, натужно попытался мотнуть головой и вдруг напрягся: его тело стало быстро теплеть и словно куда-то мягко опускаться. Через несколько минут, расслабленный, он уже крепко спал.
Иисус, продолжая держать ненужный уже сосудец, внимательно смотрел на спящего. Через несколько часов он проснется и не поверит, что почти умирал. А эти, которые сейчас с удивлением и страхом смотрят на него, вновь будут кричать о чуде. Грешники… грешники нуждаются в чуде!!!
— Истинно вам говорю: ударили вас по одной щеке, подставьте другую.
Все молчали, но это было уже иное молчание, — они думали или пытались думать. Иисус опять оглянулся: Иуда спокойно лежал, прикрыв глаза правой рукой. Но Иисус был уверен, что он не спит.
— Боже, но зачем давать себя в обиду? — с робкой и преданной улыбкой громко прошептал Иоанн. Порой он заикался, и когда, набравшись храбрости, говорил или спрашивал что-то важное для себя, то непроизвольно переходил на шепот. — Ведь и так нас часто обижают.
— Сколько раз я говорил: я есть сын человеческий. Сын человеческий. — Иисус выпрямил спину. Голос его окреп. — И запомните вот что: все тайное и явное, чему я вас учу, сосредоточено в этих словах: ударили вас по одной щеке, подставьте другую. Обнаружите здесь вы жемчужину истины, но не останавливайтесь, — в этих словах вы найдете и третью истину, и в ней две предыдущие, и тогда вы поймете, почему Бог в каждом камне. Но ведь и это еще не все: стучите еще раз мыслью своей, и желаньем своим, и благочестием своим, и вновь откроют вам двери Истины, и снова вы узнаете, что добро и есть сила.
Иисус неожиданно замолчал. Он вдруг понял, что его не понимают. Кроме одного. Ему не хотелось больше говорить. «Стучите — и вам откроют», — он тоскливо усмехнулся про себя.
— Но может случиться, что меня ударят так по одной щеке, что я уже никогда не смогу подставить другую, — раздался тихий, но уверенный в себе голос. Теперь все смотрели на Иуду. — И тогда я уже не смогу сделать то, о чем ты говоришь… учитель.
Последнее слово Иуда произнес особенно отчетливо. Иисус должен был ответить на этот вопрос, сформулированный ясно и понятно для всех. И он должен был ответить так же ясно и понятно. Но такой ясный и понятный ответ стал бы ложью. Иуда знал и это.
Все ждали, что скажет Иисус. Петр переводил взгляд с Иисуса на Иуду. Как весьма хитрый человек, он о чем-то догадывался.
«Они все боятся умереть, и он это знает», — Иисус отвернулся, а затем тихо молвил:
— Я отвечу вам, но не словами, через несколько дней в Иерусалиме. И тогда вы поймете, если будете готовы.
Иуда лежал, не шелохнувшись. Он знал, что задумал Иисус, и сейчас напряженно думал, как не допустить этого. Он пошевельнулся, чтобы размять затекшую спину, и что-то неслышно пробормотал. Затем неожиданно быстро заснул. Указательный палец его правой руки, спокойно лежавшей на груди, непроизвольно согнулся.
…Все вновь и сразу исчезло. И вновь знакомый, беззвучный голос:
— И все же — каков смысл ключевого, пожалуй, выражения «душа находится в теле»?
— Это выражение никак нельзя понимать буквально. Нельзя никогда забывать, что душа не материальна. Поэтому она не может находиться в пространстве и занимать определенное место в нем, то есть мы не должны понимать наше выражение физически или геометрически.
— Как же в таком случае понимать нахождение души в материальном теле?
— Сначала дополнительно перечислим то, как не надо понимать. Отношение между душой и телом не может быть отношением части к целому, и наоборот. Душа не есть состояние материального субъекта наподобие, например, цвета. Душа не является и эйдосом для тела, ибо она отделима и есть то, что именно и вносит смысл в материю. Душа не находится в теле, как рулевой на корабле, ибо она находится повсюду в теле.
— И все же…
— Душа находится в теле, как свет в воздухе. В этом, образном, смысле нисхождение души означает для тела освещение его темной материи душой. Для самой же души это нисхождение означает постепенное ослабление силы ее света по мере удаления от первоисточника света.
От Нуса, умственной реальности, как от солнца, исходит свет. И этот воспринятый свет и есть Душа. Она, именно как заимствованная сила света, соприкасается с областью темного, освещает его, превращая в живой, целостный Космос.
— Да, но далее отдельные лучи постепенно проникают в глубину темной неопределенности, тем самым отделяясь от общего света, слабея в своей силе и обособляясь. Так возникают отдельные души. В этом смысле можно говорить об индивидуализации. Тем не менее эти лучи и служащий им источником свет есть нечто единое.
— Безусловно, все это — одна и та же единая сила света.
— Самое главное здесь — это именно понятие силы. Взаимосвязь Мировой Души и индивидуальной — не пространственная, временная и т. д., а как бы силовая, энергийная.
— А отсюда и другое. Человек должен совершенствоваться. Это необходимость. Человек обречен на свободу — свободу в конечном счете совершенствоваться. Другое дело, как он интеллектуально понимает эту свободу. Совершенствование — это путь прежде всего интеллектуальной деятельности, путь к Уму, истинной реальности. Человек, как животное существо, обладает при этом двумя специфическими особенностями в своей душевной жизни — ощущениями и памятью. Как животное существо, человек не только чувственно познающее существо, но и аффективное. Под аффектами понимается все то, что вызывает удовольствие и страдание. Удовольствие и страдание неприсущи бездушному телу, трупу. Но они не характерны и чистой от всего материального душе. Соединение души и тела, соединение, стремящееся образовать единство души с телом, и ощущает удовольствие и страдание.
— Это и дает некую общую модель удовольствия и страдания. Боль — это познание отделения тела, лишающегося образа души, а удовольствие — познание живым существом вновь вкладываемой обратно в тело души. Таким образом, сам аффект, само состояние присущи телу, а познание этого аффекта принадлежит ощущающей душе, которая и дает ей об этом знать.
— Приведу такой пример: во время хирургической операции подвергается разрезанию телесная масса. Неприятное чувство испытывает не только тело, но и душа, которая ощущает телесный аффект и локализирует его. Но сама душа аффицированию не подвергается. Иначе, поскольку она целостна, она не могла бы конкретно выделить место боли, обстоятельства и т. д. Следовательно, необходимо различать саму боль и ощущения в смысле познания боли.
— То есть различать некое впечатление и сознание этого впечатления, боль и познание боли. Первое, то есть впечатление, сам аффект, боль — физиологический факт, а вот второе, познание аффекта, — феномен душевной жизни. Бледнеет, дрожит и краснеет тело, а душа лишь сознает эти состояния тела, лишь узнает стыд и страх. Аффекты — это физиологические состояния тела, которые душа должна сознавать не как ее собственное состояние, а именно как телесные явления. Душа по своей глубинной сути бесстрастна и лишена каких-либо аффектов.
— Наши желания возникают из чувства недовольства и недостатка. Следовательно, и телесные желания имеют своим началом антропологическое единство человека как живого существа; ни тело, само по себе, ни чистая душа чувственными желаниями не обладают. Они присущи и тому и другому вместе: из боли следует осознание ее душой. Именно душа вызывает стремление избавиться от предмета, причиняющего боль. А затем уже следует бегство от этого предмета.
— Таким образом, и по отношению к чувственным желаниям необходимо признать то, что признано по отношению к аффектам. С одной стороны, боль, бегство от данного предмета и стремление к противоположному принадлежат телу. С другой стороны, сознание боли, возбуждение соответствующих стремлений и их удовлетворение принадлежат душе.
— В наших рассуждениях явно и неявно присутствуют не две стороны, а три — живое тело, природа и душа. Желания стимулируются телом, которое, испытывая боль, стремится к удовольствию как противоположности страдания и к полноте как противоположности недостатка. Но любое тело в каждый данный момент находится в определенной пространственной нише природы. Эта природа и является как бы матерью желаний аффилированного тела, старающейся правильно направлять его. Наконец, душа удовлетворяет или отвергает, независимо от тела, телесные желания.
— Терпит боль, испытывает недостаток и движется от них к противоположному телу. Этим телом движет и управляет более сложное тело, более сложная система — природа. Утверждает же или отрицает желание тела душа. И нельзя забывать, что желания локализуются в области печени, которая в человеческом теле и есть начало желания.
— Желания связаны со страстями…
— Да, и то обстоятельство, что склонность к страстям зависит от телесных свойств, например холодной или горячей крови, указывает, что они имеют отношение к организму. Тело является главным источником страсти. Это видно хотя бы из того, что люди, презирающие тело, с гораздо большим трудом поддаются той или иной страсти.
— Но, однако, с другой стороны, источником страсти является и душа.
— Действительно, ведь мы возбуждаемся не только по поводу нас самих, но и по поводу наших друзей, воспринимая соответствующим образом какой-либо противозаконный или противонравственный поступок. Таким образом, гнев, например, предполагает восприятие и понимание. Происхождение гнева, следовательно, двойственно. И потому он, как и всякая другая аналогичная страсть, относится не к телу, не к душе, но к тому и другому вместе, то есть принадлежит человеку как антропологическому существу.
Ощущение чувственных предметов является для души восприятием. Причем душа сознает привходящие в тела качества и как бы отпечатывает в себе их логосы. Такое восприятие может быть или чисто психологическим процессом, или же психофизиологическим.
— Но восприятие, как чисто психический процесс, невозможно…
— Конечно, ибо тогда душа воспринимала бы только то, что находится в ней самой. И это было бы уже не восприятием, не ощущением, а интеллектуальным процессом.
— С другой стороны, если бы душа воспринимала непосредственно внешнее, то она должна была бы так или иначе стать похожей на это внешнее, что недопустимо…
— Поэтому для получения ощущения недостаточно, чтобы были лишь душа и внешний предмет. Необходимо еще и третье, именно то, что могло бы аффицироваться.
— Это третье, с одной стороны, должно подлежать таким же аффекциям, как и внешние предметы, и быть из той же самой материи, а с другой стороны, необходимо, чтобы его аффекция познавалась чем-то другим. Между аффинирующим предметом и душой, то есть между чувственным и умственным, должно быть нечто третье, которое может уподобляться каждой из обеих крайностей, — орган познания.
— Действительно, с одной стороны, он сходен с внешним материальным предметом, поскольку так же аффинируется. С другой стороны, он подобен душе, так как его аффекция становится его формой.
— Итак, ощущения возникают благодаря физиологическим органам: ощущение присуще душе в теле и благодаря телу. Органом ощущения может быть или все тело, например, при осязании, или какая-либо отдельная часть его, или даже искусственные аппараты.
— Ощущения извещают душу о полезном для организма и предохраняют от вредного. Это первоначальное значение ощущений.
— Какую роль, например, при зрении играют свет и воздух?
— Орган зрения скорее всего аффицируется тогда, когда нет посредствующей среды. Ведь ясно, что непрозрачная среда мешает зрению, а прозрачная — не имеет значения. Иначе говоря, суть зрения в устанавливающейся между органом и предметом «симпатии». И нужна не промежуточная среда, нужен только контакт между органом и предметом, осуществляемый при помощи света. И действительно, ведь разные люди в одной и той же ситуации видят разные предметы, обращают внимание на различные вещи. Скажи мне, что ты видишь, и я скажу тебе, кто ты — потенциально или актуально — есть. Зрение нуждается не в воздухе, как промежуточной среде, а в свете, который является сущностью и действием ощущаемого тела. И свет, как деятельность или активность тела, нетелесен.
— Таким образом, реальная причина зрительных ощущений — световая энергия. А смешение этой энергии с темной материей дает различные виды цветов, то есть является причиной цветовых ощущений людей.
— Ощущения являются видом симпатии, соаффекции. Но это возможно лишь у однородных предметов. Потому чувственные ощущения не могут быть присущи чистой душе. Но, с другой стороны, люди не могут ощущать явлений другого, абсолютного мира. Это уже дело ума.
— Ну а что по поводу той теории, что ощущения — это впечатления или отпечатки в душе, а память есть не что иное, как сохранение этих отпечатков в душе?
— Это совершенно неверно. Во-первых, ощущая что-либо посредством, например, глаз, мы стоим на месте и обращаем лишь глаза в ту сторону, где прямо перед нами находится видимый предмет. Кажется, что как раз там возникает восприятие, и душа смотрит на внешний предмет. Но именно этот факт и доказывает, что в душе не возникает никакого отпечатка, вроде того, который получается на воске от перстня… Ведь в таком случае, душе не нужно было бы обращаться зрением к внешнему миру, так как впечатление находилось бы уже в ней самой. Далее, так называемая теория впечатлений не в силах объяснить, как же душа воспринимает расстояние. Ведь понятно, что отпечатки вещей в душе не могут находиться на известном расстоянии от нее.
— Пожалуй, так…
— Кроме того, душа в этом случае не могла бы оценить и величины, так как, например, отпечаток неба в душе не может быть столь же большим, как само небо. Наконец, самое главное, если мы ощущаем только отпечатки вещей, то получается, что сами внешние вещи совершенно не то, что мы видим. Поэтому эта теория впечатлений и не дает объяснения восприятию видимого протяженного чувственного мира.
— Понятно, что точно так же и при слуховых ощущениях: звучащее тело как бы пишет в воздухе буквы, которые читаются душой.
…И вновь наступает оглушительная тишина, и вновь меня словно пронзают клубящиеся пространства…
…Ночь, глубокая ночь. Нет темных облаков, но тьма, тьма… Ибо нет там, где должно быть небо, ни драгоценных россыпей звезд, ни приветливого взгляда богини Селены…
…Я — у входа в храм. Мрачная темень, но знаю я, что это храм благословенной Артемиды. Меня и влечет туда, непрестанно и с силой, и что-то удерживает. И словно в какой-то нерешительности пребываю и колеблюсь, словно ожидаю чего-то… И действительно, появляется, словно бы сгущаясь из тьмы и озаряясь изнутри, едва-едва, нечто округлое и удлиненное, мерцающее и неопределенное… И знаю я, что это встреча, к которой я стремился еще в той жизни, встреча на неведомой спирали реальности, с тем, что когда-то я называл духом Гераклита…
— Мудрость Гераклита в бесконечно живых глубинах храма Артемиды.
— Потому я здесь…
— Но эта мудрость — неприступный путь, и приближающийся к нему без посвящения найдет лишь тьму и мрак…
— Все слова и мысли — лишь тень намека в отношении Него…
— Поэтому я сейчас и молчу здесь, где центр Великого Молчания.
— Но даже здесь невозможно дважды войти в бесконечный и грандиозный поток. В нем одновременно все соединяется и расступается, приходит и уходит.
— Я знаю это.
— Одно и то же жизнь и смерть, бодрствование и сон, юность и старость; это, изменяясь, становится тем, а то снова этим. Жизнь и смерть содержатся как в той человеческой жизни, так и в том человеческом умирании.
— Только вечное — живет, и потому оно является и в преходящей человеческой жизни, и в его умирании. Пробужденное вечное в человеке с одинаковым спокойствием созерцает и то, что люди непосвященные называют умиранием, и то, что они называют жизнью. Посвященный освобождается от тяготения к этому бесконечному становлению: жизнь — смерть, жизнь — смерть, жизнь — смерть…
— Аид и Дионис одно и то же. Но это недостаточно знать рассудком, ибо это бесполезно. Только тот, кто созерцает смерть в жизни и жизнь в смерти, и в обеих — вечное, стоящее над жизнью и смертью, только тот может в истинном свете видеть так называемые недостатки и преимущества бытия. Ибо и в недостатках живет вечное, и потому они являются недостатками кажущимися. Для людей не лучше стать тем, чем они хотят: болезнь делает сладостным и благим здоровье, голод — насыщение, труд — отдых. Как море — самая чистая и самая грязная вода: годная для питья рыбам и полезная для них, негодная и вредная для человека.
— Гармония мира обращена внутрь, но лишь посвященный воспринимает это как единственный реальный путь. А что касается людей обычных, то в своем познании держатся они за преходящее, отвращаясь от вечного. И тогда то, что считают они жизнью, становится для них опасностью, становится важным. Но, как только человек перестает придавать этой жизни безусловную ценность, происходит как бы возврат к детству. И как многое, чем дитя играет, взрослый принимает серьезно! Но посвященный становится как дитя, и тогда жизнь превращается в игру: «важные ценности» для вечности не имеют никакого значения. Игра вечного сохраняет в посвященном ту уверенность, которую отнимает у земных людей серьезность, возникшая из преходящего.
— Как сжигающее и опаляющее пламя, действует созерцание вечного на обычное мнение о вещах. Дух растворяет мысли о чувственном, расплавляет их. Он — пожирающее пламя, и потому огонь является первоосновой всех вещей. И именно потому, что во всех вещах заключается вражда, дух посвященного, как пламя, возносится над ними, претворяя их в гармонию.
— И человек смешан из враждующих стихий, в которых отразилось божественное. Таким находит он себя. Так узнает он в себе духа, который исходит из вечного. Но сам этот дух рождается из вражды стихий, и он же должен примирить их. Это та же всеединая сила, которая вызвала вражду и смешение и теперь мудро должна устранить эту вражду.
— Вечная двойственность, вечная противоположность между временным и вечным в человеке.
— Благодаря вечному он стал чем-то вполне определенным; и, исходя из этой определенности, он должен начать творить нечто высшее. Он одновременно и зависим, и независим. Он может стать причастным вечному духу, созерцаемому им, лишь в меру того смешения, которое произведено в нем этим духом. И именно потому он призван из временного слагать вечное.
— Дух действует в человеке и через человека. Но он действует, исходя из временного: временное действует в душе как вечное, побуждает и борется как вечное. Это стремящееся и борющееся в человеке, то, что рвется наружу в нем и из него, — это его даймоний.
— Даймоний не замкнут в границах личности, и для него смерть и рождение личного не имеет значения. Личное лишь форма явления даймония. Познавший это начинает смотреть назад и вперед, поднимаясь над собой. То, что посвященный переживает в себе как живой даймоний, становится ярчайшим доказательством его собственной вечности. Ведь даймоний не может замкнуть себя внутри одной личности, и ты это сейчас видишь. Он способен оживлять многих, он может превращаться из личности в личность. Подобно тому, как земной человек смотрит назад на длинный ряд вчерашних дней, и вперед — на длинный ряд завтрашних, так смотрит душа посвященного на многочисленные жизни прошлого и будущего…
…Внезапно исчезает темень, и стараюсь я увидеть что-либо, но нет… Я уже в ином…
— И память есть потенция души, ее психическая сила, а отнюдь не некая способность хранить впечатления. Ведь наша душа находится на грани двух миров, соединяет их. И ее восприятие и воспоминания относятся к обоим этим мирам. Вспоминая о феноменах умственного мира, то есть о чистых эйдосах, душа как бы сама становится ими, переходя из потенции в активное состояние. Иными словами, воспоминание о «дом» мире есть рост энергии, силы души.
— Но эта же динамическая потенция памяти объясняет и воспоминания о чувственных явлениях.
— Конечно. Чем с большим вниманием мы воспринимаем что-либо, тем лучше оно запоминается, не так ли? С другой стороны, чем рассеянней блуждает внимание по множеству предметов, тем слабей запоминание. Важно внутреннее качество души, то есть внимание, а не сами внешние предметы.
— Если память — потенция души, то понятно, почему необходимы усилия при воспоминании…
— Да, и, наконец, известно, что некоторые упражнения увеличивают силу памяти. А если бы память состояла только в хранении образов, то было бы непонятно, почему многократное повторение усиливает запоминание.
— Память есть активность. Следовательно, и ощущение, и память есть определенная сила. Кто же является субъектом памяти: живой организм, природа или душа?
— Память связана с предшествующим чувственным опытом и аффекциями?
— Да.
— Тогда можно сказать, что неаффицируемые существа, находящиеся вне времени, памяти не имеют. Память не присуща ни богам, ни сущему, ни Нусу. То, что вечно и неизменно, не вспоминает «прежнего», ибо все есть лишь настоящее.
— Тем самым память отлична от интеллекта?
— Конечно, ведь есть умные люди, у которых, однако, плохая память.
— Итак, память принадлежит людям. Но что в человеке является носителем памяти?
— Вспомним: тело аффицируется и передает эту аффекцию душе, которая получает впечатление тела и на основании этого физиологического данного выводит некое суждение. Ощущение, таким образом, общее дело души и тела.
Но память уже не нуждается в этом общем, так как душа уже получила соответствующее впечатление. Таким образом, помнить — функция души.
— Между прочим, то, что память не связана необходимо с телом, можно видеть из того, что существуют вещи, которых тело не познает и не может познать. Тем не менее душа о них вспоминает. Тело лишь мешает или содействует памяти. Память есть деятельность исключительно души.
— Но можно сказать и больше: память — это функция воображения.
— Из различия ощущения и памяти — а ведь довольно часто встречаются люди с хорошей памятью и плохим ощущением, и наоборот, — вытекает и различие их объектов. Для памяти ощущение есть образ. Подобно тому как аффекция реализуется в ощущении, так то, во что оканчивается ощущение, уже более не существуя, есть образ. Воображение «помнит», обладая образом уже исчезнувшего ощущения.
— Значит, память и припоминание принадлежат «воображающему». Таков механизм чувственной памяти. Но ведь у людей есть память и на мысли.
— А здесь происходит следующее: передача мыслей «воображающему» является делом логоса, который сопровождает ту или иную отдельную мысль. Понятие «логос» раскрывает мысль, индивидуализирует ее и сводит из реально-интеллектуальной области в сферу воображающего. Восприятие этого дискурсивного понятия и есть память на мысли.
— То есть память двойственна. А наше воображение?
— Нет, оно не двойственно. Если то в душе, что ориентированно на Нус, в высший мир, и с другой стороны, то, что — на материальный мир, на тело — находятся в согласии, то «воображающее» нераздельно. Если властвует разумная душа, то у нас возникает единый образ. Если же между ними идет борьба, то и тогда в конечном счете устанавливается единство.
— А теперь давай попробуем бросить общий взгляд на душу одновременно как на принцип «единое — множественное» и как на принцип становления активности вообще.
— Души до земного рождения живут в мире умственной реальности в полном единении с Мировой Душой, без воспоминаний и желаний, в вечно блаженном настоящем. Они не испытывают какой-либо умственной ограниченности и умственных затруднений и созерцают ту единственную истину — Единое как таковое — в его величии и полноте.
Стремясь к самоутверждению — а это и есть их суть, — эти души обособляются от Универсальной Души и начинают заботиться о низшей. Так, и это первый шаг ослабления души, отхода ее от Единого, они переходят из умственного мира (но переход этот не пространственный) в небесный мир и здесь получают тело. Отсюда же — а это уже второй шаг ослабления души — души переходят в земные тела и погружаются, и это третий шаг, в заботы о чувственном, материальном.
— Таким образом, в зависимости от данного тела, предшествующей жизни, нравов, мыслей, памяти души, ее стремлений, ее общения с Мировой Душой определяется вся индивидуальность данной души в ее актуальном жизненном земном воплощении. Вот эту целостную актуальность я и называю даймонием. Иначе говоря, это тот тип земной жизни, который мы выбираем перед воплощением на земле, или тот род нашего земного существования, который является для нас внутренним руководящим началом. Это как бы внутренний логос данного конкретного человека в данной его жизни. Оно, это внутреннее руководящее начало, этот его логос не есть ни чистый ум, который выше всего становящегося, но и не такая непонятная и внешне действующая судьба или необходимость, которая всецело лишала бы нас свободы.
— То есть можно сказать, что, не будучи ни чистым умом, ни просто роковым предопределением, этот внутренний руководитель и не есть человек в своей изначальной субстанции.
В реальной земной жизни человек может то подчиняться ему, то не подчиняться или подчиняться как-нибудь частично, приблизительно. Поскольку человек является своеобразным упомостигаемым миром, он выше своего даймония. Но, оскверняя то душевное состояние, которое он сам же выбрал перед своим земным воплощением, человек этот тем самым становится и ниже этого даймония. При новом перевоплощении душа получает право выбирать и нового даймония.
— Поскольку душа не тело, отсюда следует ее бессмертие…
— Да, во-первых, если бы была смертной Мировая Душа, то рано или поздно безвозвратно погибла бы вся Вселенная. Но раз бессмертна Вселенская Душа, то вследствие однородности бессмертна и наша душа — как принцип жизни и чистой активности. Во-вторых, бессмертие души следует так же из ее простоты: простое ведь не может разлагаться на части и погибать.
— Таким образом, смерть есть не смерть души — это было бы абсурдно, — а освобождение ее от уз тела. Посмертная же участь душ подчинена закону абсолютной справедливости. И после лишения тела никакими усилиями от этого закона нельзя избавиться. Так, дурной господин, жестоко обращающийся с рабами, сам превратится в раба. Богач, постоянно думающий о золоте, родится бедняком. Любвеобильный мужчина превратится в следующей жизни в женщину и так далее.
— Но в конечном же результате душа после огромного или определенного количества воплощений окончательно освобождается от тела и становится такой, какой была до своего земного рождения. Даже воспоминание о прежней земной жизни утрачивается душой. И она вновь всецело отдается исключительно блаженному созерцанию вечного…
Что-то вспыхнуло вдруг, как молния, нет, даже как ярчайшая точка в молнии… Нечто, связанное с тем Сном…
…Это был необычайный сон. И даже больше, чем сон. Позднее, в самых разных обстоятельствах я вдруг сталкивался с ощущением того, что те или иные события жизни — всего лишь продолжение этого страшного в своей ясной, прозрачной пластичности сна. И сейчас, когда я уже уверен, чувствую, осязаю, что распухшее мое тело окончательно прощается с этой жизнью моей, мне кажется, что и это было в нем… тогда…
…Я засыпаю… медленно… продираюсь сквозь что-то серое, беззвучное, обволакивающее… И словно нечто плавно и легко подхватывает и несет…
Огромный бескрайний луг. Миллионы разнообразных цветов и трав. И синее небо, утреннее солнце, легкий, ласковый ветерок. Где-то рядом журчит чистый ручеек.
Летаю с цветка на цветок. Я — бабочка с черно-синим, мерцающим в лучах рисунком человеческого черепа на взмахе, я — легкокрылая радость, я — весь этот луг, я — это небо, я — журчащий ручей. Я долго с упоением от чистой неизведанной радости перелетаю с цветка на цветок. И, наконец, устаю опьяняющей усталостью. Складываю свои красивые, шелковые крылышки и умиротворенно, чуть подрагивая, засыпаю. И во сне этом я вижу, что я — Плотин. Я стою на темной, небольшой скале — светящийся, в ярком округленном коконе и вижу свои глаза.
Я не удивляюсь, но размышляю: кто я — бабочка, видящая себя во сне Плотином? Или я — Плотин, видящий себя во сне бабочкой?..
Бабочка, огромная, чуть-чуть подрагивает великолепным своим хоботком:
— Принеси мне плод того фигового дерева.
— Вот он.
— Разломи его.
— Разломил.
— Что ты видишь внутри?
— Эти зерна, совсем крошечные.
— Разломи-ка одно из них.
— Разломил.
— Что ты видишь внутри?
— Ничего.
— Это мельчайшая суть, которую ты не замечаешь, именно эта мельчайшая суть и порождает большое фиговое дерево. Верь мне, эта мельчайшая суть, которая составляет все сущее, — это Истина, это ты, это я.
— Положи эту соль в воду и размешай ее.
— Размешал.
— Попробуй-ка воду хоботком своим с этой стороны. Что ты чувствуешь?
— Она соленая.
— Попробуй в середине. Что ты чувствуешь?
— Она соленая.
— Попробуй с той стороны. Что ты чувствуешь?
— Она соленая.
— Выпей ее.
— Я выпил ее, и воды нет, а вкус соли все еще остался.
— Вот так не всем заметная пребывает в этом мире суть. Эта мельчайшая суть, которая составляет все сущее, — это Истина, это ты, это я.
Если болен какой-нибудь человек, вокруг него собираются родственники и спрашивают: «Ты узнаешь меня? Ты узнаешь меня?» И пока его речь не поглощена разумом, разум — дыханием, дыхание — огнем, огонь — огнем, он узнает их. Но, когда разум поглотил речь, а дыхание — разум, а огонь — дыхание, а огонь — огонь, тогда он не узнает их. Эта мельчайшая суть, которая составляет все сущее, — это Истина, это ты, это я.
И не перестаю глубоко размышлять я в неведомых глубинах сна: кто я — бабочка, которой снится, что она — Плотин, или я Плотин, которому снится, что он — бабочка. И, так размышляя через свое тихое дыхание, иду я по тропинке — ночь, полная, пышная луна, чуть припорошенный пылью путь среди кустов, похожих на застывших в глубоком удивлении необычных животных. Иду я медленно и легко, и в руках у меня раскрытый, весь в цветах, дырявый зонт, через отверстия которого струится на меня лунный свет.
И вдруг, не переставая размышлять и при этом не имея никаких мыслей, я вижу великолепный череп на тропинке; весь он белый и потрескавшийся от своей белизны. Дотронувшись до него тонким своим посохом, я словно говорю, но звуков не слышу: «О ты, почтенный! Стал ли ты таким потому, что в жажде жизни утратил всякий разум? Иль стал таким потому, что служил в обреченном на поражение легионе? Стал таким потому, что творил недобрые дела и устыдился, что опозорил отца и мать, жену и детей? Стал этим потому, что голодал и холодал? Или дошел до этого, просто прожив много лет?»
Закончив свою речь, я прилег на траве, положив себе под голову череп, и заснул. И тут взлетел череп и сказал:
— Ты говорил как пустослов! То, о чем твои слова, бремя живых. Для мертвых ничего этого не существует. Хочешь ли ты выслушать то, что тебе скажет мертвый?
— Хочу.
— Для мертвого нет наверху императора, внизу — рабов. Нет для него течения времени. Весна и осень для него — сами Небо и Земля. Поэтому радости величайшего из царей не могут быть выше этих радостей.
Я недоверчиво покачал головой и сказал висящему в воздухе черепу:
— Ну а если бы я попросил Адрастию, чтобы она создала для тебя вещественную форму, сделала бы для тебя кости и мясо, жилы и кожу, вернула бы тебе отца и мать, жену и детей, друзей, захотел бы ты всего этого?
Череп негромко засмеялся и внятно, медленно произнес:
Цветет жасмин. Он обо мне Расскажет все — ведь это я. Заброшен дом. Он в землю врос. Его послушай — это я. Твой путь расскажет обо мне, Ведь путь твой — я — и вверх, и вниз. И нет правдивей слов дождя, Срывающего мертвый лист.Это и есть мой ответ тебе, — и он вновь, все быстрее кружась в воздухе, продолжал легко и свободно смеяться…
* * *
…Огромное пространство. Нет, все — это бесконечное пространство. Я и есть это пространство. Но ведь я вижу это пространство… Все более яркий Свет пульсирует, усиливается, неимоверно блестяще переливается. Он такой живой… Нет, это и есть жизнь…
…Я знаю сейчас: это Знание и есть этот Свет, пронзающий меня своим теплом и своей вечной жизнью: те могут заботиться о мире, которые непоколебимо стоят среди бушующих теней мирской суеты. А стоят они непоколебимо, поскольку все свое дело исполняют по прообразу предвечного этого Света. Делами занимаются вовне, творчество же совершается только там, где пробуждаемый Светом разум действует сам из себя. И те только люди творят, которые находятся среди вещей, но ими не поглощены.
И все ярче пульсирует и дышит Свет: и я слышу изнутри — все преходящее есть только средство. Необходимое средство — без него я не могу достичь Его. И преходящее есть только средство, поскольку должно от него освободиться. Ибо для того поставлен я во времени, чтобы через творчество разума приблизиться к Нему, созерцать Его, соприкоснуться с Ним, становясь и во временном все более подобным Ему.
Все сильнее и ярче Свет; сила Его — и моя сила. Кто творит в Свете, тот проникает вверх, в него — чистый и свободный от всякого посредства Свет и есть во мне творчество, а творчество становится Светом.
Все кристальнее и прекраснее Свет: три пути сливает он в Одно. Первый мой путь — это всевозможными способами, сгораемый одним желанием, искать Его во всяком творении, во всякой мысли… Второй мой путь — парить над самим собой, над всеми вещами, без воли и представления… Третий мой путь — пребывание у себя, непосредственное созерцание Его в Его сущности… Но нет трех путей… Есть Свет, всепоглощающий, растворяющий душу… И сколь дивно и блаженно пребывать сразу и вовне, и внутри; постигать и быть постигаемым; созерцать и быть самому созерцаемым; держать то, что держит себя самого…
Я — свобода, я настолько свободен от всяких дел и вещей, как внешних, так и внутренних, что я есть приют Света, где действует Свет… Но сильнее и сильнее пульсирует грациозный танец Света, и беззвучно кричу я в этом величайшем танце: я настолько свободен от Него и всех его дел, что если Он захочет, то должен проявиться и стать обителью, где будет Он действовать: ведь Он сам тогда воздействует на Самого себя. И я молю Его, становясь тонким лучом, чтобы Он сделал меня свободным от Самого себя, Светом по ту сторону различности. Здесь я только сам собой, здесь хочу я себя самого и вижу себя самого, как того, кто создал вот этого, человека, растворенного в Свете. Здесь я первопричина себя самого, моего вечного и временного существа. Только в этом я рожден. По вечной сущности моего рождения не могу я никогда и умереть. По вечной сущности моего рождения я вечен, я есть вечность и в вечности пребуду! Лишь то, что составляет мое временное существо, умрет и превратится в ничто, ибо это принадлежит дню и должно исчезнуть, как время. В моем рождении рождены все вещи — я сам себе первопричина и первопричина всех вещей. И хочу, чтобы не было ни меня, ни их. Но не было бы меня, не было бы и Его.
Все ярче и восхитительнее Свет! И я скольжу в этом Свете, чувствуя Его вечную теплоту, ибо нет меня. Но в этом прорыве, когда хочу я быть свободным в Свете, но свободным и от Света, от всех его дел, я не Он и не тварь; я то, чем я был и чем я пребуду во все времена! Тогда ощущаю я порыв, который возносит меня выше богов. В этом порыве становлюсь я настолько богат силой, что не довольно мне Света со всем, что он есть, со всеми его делами, ибо в этом прорыве приемлю я то, чем Он и я — одно…
…Он есть Ничто, и я есть Ничто. Он есть Все, и я есть Все…
Но все ярче и могущественнее Свет… грациозный танец…
VII Мерцающий луч в прозрачном океане Рим 253–268 гг.
Лентяй один не знает лени, На помощь только враг придет, И постоянство лишь в измене. Кто крепко спит, тот стережет. Дурак нам истину несет, Труды для нас — одна забава, Всего на свете горше мед, И лишь влюбленный мыслит здраво.…Я резко обернулся и увидел человека-грушу уже сидящим в кресле в углу у окна. На нем были светло-коричневые брюки, красная рубашка и зеленоватый пиджак; на босых ногах — огромные грязно-серые кеды пятьдесят какого-то размера. Он ковырялся в своих не очень чистых ушах и что-то весело и гнусаво напевал. Я был уже спокоен — в конце концов ко всему привыкаешь. Он же, встретившись со мной взглядом, попытался подобострастно улыбнуться и привстать. Первое ему удалось, а второе — нет: он словно был привязан к этому, неизвестно откуда взявшемуся креслу в полоску. Тогда он помахал мне своей тонкой, в желтой коже, рукой и с достоинством сказал: «Привет! Иногда очень полезно встречаться тет-а-тет».
Он понизил голос, поднял подбородок вверх, а потом резко, с хрустом, двинул вниз и произнес почти шепотом:
— Наверняка и там и там нас подслушивают. А ведь на этот раз я хотел сказать нечто исключительно важное… Для тебя.
Он замолчал на минуту, поглаживая свой замечательный нос. Затем, посмотрев на меня пристально и чуть насмешливо, начал говорить:
— Итак, если ты помнишь, в 253 году сенат провозгласил Публия Лициния Валериана императором, а его сына, Публия Лициния Галлиена, — соправителем отца. Это был очень интересный период: Империя-то в это время фактически распалась на части. Галлиен благодаря своим блестящим военным способностям наносил одно поражение за другим провинциальным претендентам. Но вместо одного честолюбца очень часто появлялось два новых.
Естественно, что чем шире развертывалась гражданская война, тем сильнее становился натиск варваров на границы. Поэтому Валериан, старый и опытный государственный деятель, решил сам справиться с растущими проблемами. Оставив на Западе Галлиена со всеми правами и полномочиями августа, он в 258 году поехал на Восток, в Антиохию, чтобы на месте организовать защиту.
Обстановка на Востоке к этому времени крайне обострилась. Готы на судах напали на Малую Азию. Халкедон, Никомедия, Апамея и другие прибрежные города попали им в руки. Только разлив рек остановил их дальнейшее продвижение.
Валериан из Антиохии двинулся на помощь Малой Азии. Чума, распространявшаяся в римской армии, заставила его вернуться назад. Но еще более опасной была угроза персидского завоевания: конница персов вторглась в Сирию.
Валериан попытался вытеснить персов из Месопотамии, но под Эдессой потерпел поражение и был вынужден пойти на мирные переговоры. Шапур I потребовал личного свидания с императором. Во время этого свидания, в 260 году, семидесятилетний Валериан был захвачен персами в плен.
Многие знатные римляне осуждали Галлиена за то, что он не бросился сломя голову освобождать своего отца. Однажды, в 263 году, когда в торжественном шествии вели толпу пленных персов, несколько шутников смешалось с ними, с любопытством разглядывая лицо каждого. Когда их спросили, что означает эта выходка, они ответили: «Мы ищем отца нашего государя». Галлиен велел сжечь шутников живыми. А осуждавшему его за этот поступок Плотину сказал он следующее: «Быть хорошим сыном легче, чем хорошим императором. И Квинтилиан, замысливший и сделавший все это, знал об этом, а потому и поплатился. Народ же, забывающий о своей ответственности как народа, заслуживает жестоких уроков».
Шапур, обманув Валериана, с ходу захватил столицу Сирии, богатую Антиохию. Затем наступила очередь Цезареи, города, расположенного в восточной части Малой Азии. Неизвестно, как далеко в глубь полуострова удалось бы продвинуться персидской коннице, если бы не подоспел римский полководец Каллист. Он нанес поражение персам и погнал их обратно в Сирию. Когда они переправлялись через Евфрат, на них напал правитель Пальмиры Публий Септимий Оденат. Персы были разбиты наголову.
В это время Галлиен старался защитить рейнскую границу от нападений франков и аламаннов. Города были обнесены сильными укреплениями, из Британии вызваны два легиона, часть территории на верхнем Рейне очищена, чтобы сократить оборонительную линию. Этими мерами, а также заключением договоров с некоторыми варварскими вождями удалось временно отстоять рейнскую границу. Но зато аламанны и другие племена через Альпы вторглись в Италию.
В долине По их встретил и разбил Галлиен, спешно прибывший с Рейна.
В этот момент разразилось восстание легионов в Мезии и Паннонии, выдвинувшее императором наместника Паннонии Ингенуя. После того как войска императора наголову разбили мятежников, бежавший Ингенуй был убит своими собственными телохранителями. Едва Галлиен вернулся в Италию, как в Паннонии опять вспыхнул мятеж во главе с новым претендентом, сенатором Регалианом. В конце концов Галлиен победил и его.
Для защиты Рейна Галлиен оставил полководца Кассиания Латания Постума. Это был выходец из низов, благодаря своим способностям и энергии дослужившийся до высших чинов в армии. Охране Постума Галлиен поручил своего молодого сына Валериана. Но у Валериана был еще опекун — префект преторианцев Сильван. Вскоре между обоими опекунами начался спор из-за дележа добычи, захваченной у аламаннов. Сильван, находившийся вместе с Валерианом в Кельне, потребовал, чтобы добыча была доставлена ему. Раздраженные этим солдаты восстали и осадили Кельн, требуя выдачи Сильвана и Валериана. И их вскоре выдали. Оба, Сильван и Валериан, были убиты солдатами, которые в этом же 259 году провозгласили Постума императором.
Галлия во главе с Постумом превратилась на 10 лет в самостоятельное государство, удачно отбивая все атаки Рима.
Все новые претенденты на высшую императорскую власть в изобилии появляются на Востоке. Против двух из них, Квиета и Каллиста, выступил пальмирский Оденат, объявивший себя на стороне Галлиена. Оба узурпатора были осаждены в Эмесе и погибли в 262 году.
Формальное признание Оденатом власти римского императора, гарантируя его от нападения с Запада, развязывало ему руки на Востоке. Фактически Галлиен ничего не мог с ним сделать и вынужден был признать Одената «полководцем Востока». В 262 году Оденат вновь выступил против персов. Его войска заняли Месопотамию и разбили Шапура под Ктесифоном. После этого под властью Одената объединились Сирия, Месопотамия, южная часть Малой Азии, Финикия и Северная Аравия. На западе и на востоке Римской империи образовались сильные самостоятельные государства.
Этот год, 262-й, вообще оказался катастрофическим для Галлиена. Страшное землетрясение разрушило города Малой Азии. Говорят, земля намного дней покрылась мраком. Были слышны раскаты грома, но это гремел не Юпитер, а грохотала земля. Во время этого землетрясения было поглощено много зданий с их обитателями, многие умерли от страха.
Земля тряслась также в Риме и Ливии. Во многих местах в ней образовались расщелины, причем во рвах появилась соленая вода. Многие города были затоплены морями. В самой Италии свирепствовала чума. Мавританские племена вторглись в Нумидию. Готы, скифы и сарматы снова появились на Балканском полуострове. Они опустошили Фракию и Македонию. С моря был разграблен Эфес в Малой Азии. В Византии восстал гарнизон.
Все это заставило Галлиена, одного из наиболее выдающихся римлян III века, пойти на целый комплекс реформ. В армии и в муниципальных кругах он стал исключительно популярен. При нем ряд городов получает новые привилегии. Он стал афинским архонтом, подобно императору Адриану, был посвящен в элевсинские мистерии и дружил с Плотином. Галлиен славился как оратор, как поэт и отличался во всех искусствах. Ему принадлежал тот эпиталамий, который оказался лучшим среди произведений ста поэтов. Пытаясь возродить старые римские религиозные традиции, Галлиен отменил, по совету Плотина, и преследования христиан. В борьбе с сенатскими кругами Галлиен запрещал увеличивать повинности колонов и закрыл сенаторам доступ в армию. Отныне они не могли быть не только легатами легионов, но и наместниками провинций, в которых стояли легионы. Зато перед солдатами открывался путь к высшим военным постам. Галлиен провел реформу армии, соединив все конные формирования под одним командованием, что было вызвано тем, что роль кавалерии у германцев, сарматов и персов значительно выросла. Это заметно усилило боеспособность римской армии в борьбе с ними. Знать же платила Галлиену последовательной ненавистью.
Тут странноносый замолчал, посуровел, взглянул на меня пристально и сказал:
— К сожалению, Галлиен был всего лишь смертным человеком. Будь он демоном, он бы знал, что делать: надо было разрушить социальный статус старой римской элиты. В новых условиях именно она, живя старыми представлениями и старыми ценностями, не была способна к кардинальным сдвигам. А вместо нее необходимо было создать более открытую модель новой элиты, способной к созданию новой идеологии и новой программы развития. Но он этого не сделал, и Рим медленно продолжал двигаться к своему фатальному концу.
Тем не менее армейские реформы Галлиена укрепили на время военный потенциал империи. В 264 году Галлиен послал против Постума своего старого и лучшего полководца Авреола. Но последний, один раз уже изменивший Галлиену, по-видимому, готовил новую измену и действовал против галлов крайне вяло. Тогда в Галлию отправился сам император и, несмотря на то, что на сторону Постума перешел один из римских полководцев, Викторин, нанес галлам несколько поражений. Это послужило началом конца для Постума. Военные неудачи обострили борьбу в его армии между римскими и галльскими элементами. Вскоре Постум был убит своими же солдатами.
В это время в результате дворцового переворота был убит победитель Шапура Оденат, но власть захватила в свои энергичные руки жена убитого Зенобия. Только посланному Галлиеном Аврелиану удалось подчинить отделившиеся восточные провинции.
В 267 году припонтийские варвары — герулы, готы, скифы, сарматы — начали новый грандиозный набег на Малую Азию и Балканский полуостров — провинции слабеющего Рима. Огромный флот из 500 судов напал на Византии. Город был взят, но через некоторое время войска, посланные Галлиеном, выбили из него варваров, а затем римский флот нанес им поражение на море. Однако варвары отнюдь еще не были разгромлены. Усилившись новыми пополнениями, они прошли Геллеспонт, захватили северные острова Эгейского моря и высадились на Балканском полуострове. Большая часть Греции была разграблена. Наконец появился римский флот. Варвары отступили в Беотию, а затем через Эпир и Македонию направились во Фракию. Здесь их догнал и разбил Галлиен, но он был вынужден спешно вернуться на Запад: Авреол, оставленный им для защиты долины По от галлов, поднял новый мятеж. Военные способности Галлиена и на этот раз дали ему возможность одержать верх: Авреол был разбит и заперт в Медиолане. Галлиен начал осаду города.
Здесь-то неутомимый император, в течение 15 лет отчаянно боровшийся за спасение Рима, и нашел свой конец: он уже не смог одолеть обстоятельства. Задача была слишком сложна и не по силам одному человеку.
Среди военачальников легионов, осаждавших Милан, созрел против него заговор. Во главе его стояли префект претория Гераклиан, полководцы Марциан и Марк Аврелий Клавдий, иллириец по происхождению, один из способнейших и старейших полководцев, любимец императора.
Однажды мартовской ночью заговорщики подняли ложную тревогу, сообщив Галлиену, что Авреол якобы произвел вылазку. Полуодетый император вскочил на коня и бросился навстречу предполагаемому врагу так быстро, что охрана не успела за ним последовать. В искусственно поднятой суматохе один из заговорщиков нанес Галлиену смертельную рану. Умирал он долго и мужественно, как истинный римлянин. Преемником своим назначил Клавдия, хотя и догадывался о его участии в заговоре. Произошло это весной 268 года.
…В Риме на триумфальной арке Галлиена и Салонины на Эсквилинском холме сделана такая надпись:
«Галлиену, милосерднейшему принцепсу, непобедимая доблесть которого превзойдена только одним его благочестием, и Салонине, святейшей августе…» Корнелия Салонина была женой Галлиена, который ее очень любил. Она умерла за девять лет до смерти своего мужа…
…Порфирий, выпрямившись и чуть заметно прищурившись, смотрел на медленно полыхающий огонь в очаге. Его губы слегка подрагивали: казалось, он хотел заворожить пламя. И действительно, огонь сжался, округлился, приобрел форму почти идеального шара, затем взорвался длинным, тонким языком, осветившим все углы большого зала.
А Порфирий вернулся к своему пергаменту:
— На десятом году царствования Галлиена я, Порфирий, приехавши в Рим из Эллады вместе с Антонием Родосским, нашел здесь Амелия, который уже восемнадцать лет жил и учился у Плотина, но писать еще ничего не решался и вел только записи уроков, да и тех еще до ста не набралось. Плотину в тот десятый год царствования Галлиена было около пятидесяти девяти лет, а мне, Порфирию, при той первой встрече с ним исполнилось тридцать. Еще с первого года царствования Галлиена Плотин стал излагать письменно те рассуждения, которые приходили ему в голову. К десятому году царствования Галлиена, когда я, Порфирий, впервые с ним познакомился, у него была уже написана двадцать одна книга, но изданы они были лишь для немногих, да и то издавал он их не легко и не спокойно, и назначались они не для простого беглого чтения, а чтобы читающие вдумывались в них со всем старанием. Заглавий он на своих сочинениях не ставил, поэтому каждый озаглавливал их по-своему.
Я провел с Плотином весь этот год и следующие пять лет (в Рим я прибыл незадолго до празднования десятилетия правления императора Галлиена, когда по летнему времени Плотин отдыхал, а не вел беседы, как обычно), и за эти шесть лет, многое рассказав нам в наших занятиях, он в ответ на усердные просьбы Амелия и мои написал еще двадцать четыре книги, черпая их содержание из рассматривавшихся у нас в это самое время вопросов. Вместе с теми книгами, которые были написаны до нашего приезда, это составляет сорок пять книг. А когда я уехал в Сицилию (дело было на пятнадцатом году царствования Галлиена), то Плотин написал еще пять книг и переслал их мне: «О счастье», «О провидении» (первая и вторая книги), «О познающих субстанциях и о том, что выше их», «О любви». Их он послал мне в первый год царствования Клавдия. А в начале второго года, незадолго до собственной смерти, прислал еще следующие: «В чем зло», «Что делают звезды», «Что есть человек», «Что есть животное», «О первичном благе, или О счастье». Вместе с сорока пятью книгами, в два периода написанными ранее, это составляет пятьдесят четыре книги.
Я разделил пятьдесят четыре книги Плотина на шесть эннеад, радуясь совершенству числа «шесть» и тем более девятки. В каждой девятке я постарался соединить предметы родственные, в каждой начиная с вопросов менее значительных.
Итак, первая эннеада заключает сочинения преимущественно этические: «Что есть животное и что есть человек», «О добродетелях», «О диалектике», «О счастье», «В продолжительности ли счастье», «О прекрасном», «О первичном благе и остальных благах», «В чем зло», «О разумном исходе из жизни».
Вторая эннеада, напротив, посвящена предметам физическим и обнимает то, что относится к Космосу: «О Космосе», «О круговом движении», «Что делают звезды», «О двух материях», «О силе и действии», «О качестве и виде», «О всеобщем смешении», «Почему издали вещи кажутся маленькими», «Против утверждающих, что мир — зло и творец его — злой».
Третья эннеада, также посвященная Космосу, обнимает смежные с нею предметы рассмотрения: «О судьбе», «О провидении, I», «О провидении, II», «О присущем каждому демоне», «О любви», «О бесстрастии бестелесного», «О вечности и времени», «О природе, умозрении и едином», «Разные наблюдения». Эти три эннеады мы расположили в одном сборнике.
После книг о Космосе четвертая эннеада охватывает книги о Душе. Вот они: «О сущности души, I», «О сущности души, II», «О сомнениях души, I», «О сомнениях души, II», «О сомнениях души, III, или О времени», «Об ощущении и памяти», «О бессмертии души», «О нисхождении души в тело», «Все ли души — одна душа». Таким образом, четвертая эннеада обнимает все вопросы о душе, тогда как следующая за ней, пятая — об уме, причем каждая книга здесь касается и того, что выше ума, и того ума, который в душе, и, наконец, эйдосов. Вот эти книга: «О трех начальных субстанциях», «О становлении и порядке того, что после первичности», «О познающих субстанциях и о том, что выше их», «Как от первого происходит последующее и о единице», «О том, что вне ума нет умопостигаемого, а также о благе», «О том, что не может мыслить то, что выше сущего и что есть первое мыслящее, а что второе», «Существуют ли эйдосы частных вещей», «Об умопостигаемой красоте», «Об уме, эйдосах и бытии». Четвертую и пятую эннеады мы также расположили в одном сборнике.
Остальные книги составили шестую эннеаду, образующую отдельный сборник, так что все, написанное Плотином, распределяется по трем сборникам, из которых первый состоит из трех эннеад, второй из двух, а третий из одной. В третий сборник и в шестую эннеаду входят следующие книги: «О родах сущего, I», «О родах сущего, II», «О родах сущего, III», «О том, что сущее повсюду одно и то эхе, I», «О том, что сущее повсюду одно и то же, II», «О числах», «Как существует множественность эйдосов, а также о Благе», «О добровольном и воле Единого», «О Благе и Едином».
…Груша с вдохновением поедал немыслимо огромный, нарезанный кружками ананас. Он с шумом и пыхтением вгрызался в него; челюсти жадно двигались; сладкие струйки сока стекали на красную рубашку. Но одновременно он ухитрялся и быстро говорить, поглядывая на меня:
— Очень важной для любой культуры и цивилизации является господствующая, но практически никогда не осознаваемая на обыденном, каждодневном уровне установка на соотношение жизни и смерти. В культуре жизнь и смерть в определенном смысле равноценны, ибо ведь есть более высокие ценности (например, Бог). Но затем, в рамках цивилизации, на первое место выходит как системообразующая ценность «жизнь», а смерть — как противоположное — приобретает главенствующую роль как антиценность.
Он замолчал, опять потер свой прыщавый нос, задумчиво прожевал кусок и продолжил:
— Еще при Плотине истинные римляне совершенно иначе, нежели вы, относились к дихотомии «жизнь — смерть»: спокойнее, фатальнее, возвышеннее… Не так ли?
Он смотрел на меня и улыбался, широко раскрыв рот и демонстрируя гнилые зубы.
Я отвернулся и посмотрел на Порфирия. Он вновь, казалось, задумался, и пламя свечи вздрагивало иногда от его тяжелого стариковского дыхания. Он смотрел на уже исписанный пергамент:
«На платоновском празднике я прочитал однажды стихотворение о священном бракосочетании, и так как в нем иное было сказано мистически, а многое — и по вдохновению, то кто-то заметил, что „Порфирий безумствует“; но учитель объявил мне: „Ты показал себя и поэтом, и философом, и иерофантом!“ А когда ритор Диофан стал читать апологию Алкивиада на Платоновом пиру, рассуждая, будто для научения добродетели следует отдаваться наставнику, ищущему любовного соития, то Плотин несколько раз вставал с места, словно собираясь выйти вон, но сдерживал себя, и, лишь когда собрание разошлось, он поручил мне, Порфирию, написать опровержение.
А когда Евбул, преемник Платона, прислал из Афин написанное им сочинение по некоторым платоновским вопросам, то Плотин и его велел мне передать для рассмотрения и ответа.
Мне, Порфирию, он однажды три дня отвечал на мои вопросы о том, как душа связана с телом, и когда вошел Фавмасий, записывавший в книги его рассуждения на общие темы, и хотел его послушать, но не мог этого сделать, оттого что я, Порфирий, все время перебивал его речь своими вопросами и ответами, то Плотин сказал: „Пока я не решу всех сомнений Порфирия, ничего сказать для книги я не смогу!“»
У Порфирия внезапно всплыла в памяти картина, свидетелем которой он был когда-то. Собрались в загородном доме у Амфиклеи человек двенадцать, чтобы торжественно принести жертвоприношения и отпраздновать день рождения божественного Платона. Проходило празднование каждый год, и за этим тщательно следил сам Плотин, желавший, чтобы священный огонь в этот день возгорался не только в Афинах, Крите и Микенах, но и в Риме. Сам он, будучи уже больным, возлежал молча на носилках, в которых его принесли рабы, посланные Оронтием.
Уже после пышных жертвоприношений, возглавленных Амелием, чтения некоторых особо сокровенных произведений Платона и собственных, специально подготовленных для этого случая работ, беседа неожиданно направилась по весьма странному руслу.
А началось это, когда Гемина поведала следующую историю.
— Был в Афинах дом, просторный и вместительный, но ославленный и зачумленный. В ночной тиши раздавался там звук железа, а если прислушаться внимательно, то звон оков слышался сначала издали, а затем совсем близко; потом появлялся призрак. Жильцы поэтому проводили в страхе, без сна, мрачные и ужасные ночи: бессонница влекла за собой болезни, страх рос, и приходила смерть, так как даже днем, хотя призрак и не появлялся, память о нем не покидала воображения. Дом поэтому был покинут, осужден на безлюдье и всецело предоставлен этому существу. Объявлялось, однако, о его сдаче на тот случай, если бы кто-нибудь, не зная о таком бедствии, пожелал его купить или нанять.
И вот прибывает в Афины философ Афинодор, читает объявление и, услыхав о цене, подозрительно низкой, начинает расспрашивать и обо всем узнает; тем не менее он даже с большой охотой нанимает дом.
Когда начало смеркаться, Афинодор приказывает постелить себе в передней части дома, требует таблички, стиль, светильник. Всех своих отсылает во внутренние покои, сам пишет, всем существом своим сосредоточившись на писании, дабы праздный ум не создавал себе призраков и пустых страхов. Сначала, как это везде бывает, стоит ночная тишина; затем слышно, как сотрясается железо и двигаются оковы. Он не поднимает глаз, не выпускает из рук стиля, но укрепляется духом, затворяя тем самым свой слух. Шум чаще, ближе, слышен как будто уже на пороге, уже в помещении.
Афинодор оглядывается, видит и узнает образ, о котором ему рассказывали. Привидение стояло и делало знак пальцем, как человек, который кого-то зовет. Афинодор махнул ему рукой, чтобы оно немного подождало, и вновь принялся за стиль и таблички. А привидение замерло в ожидании, позванивая цепями. Афинодор вновь оглядывается на подающего тот же знак, что и раньше, а потом, больше не медля, поднимает светильник и следует за привидением. Оно шло неторопливо, словно отягченное оковами. Свернув во двор дома, оно внезапно исчезло, оставив своего спутника одного. Оказавшись один, он кладет на этом месте в качестве знака сорванные травы и листья, а на следующий день обращается к должностным лицам и уговаривает их распорядиться, чтобы место это разрыли. Находят кости, крепко обвитые цепями; они одни, голые и изъеденные, остались в оковах после тела, сгнившего от долговременного пребывания в земле, — их собрали и публично предали погребению. После совершенных как подобает похорон дом избавился от призрака.
Когда же Гемина замолчала, приподнялся на своем ложе Зеф, чтобы продолжить, но я опередил его, ибо неожиданная мысль сверкнула во мне, заставив даже нарушить принятые в нашем кругу правила беседы:
— То, что поведала достопочтенная Гемина, совершенно не случайно рассказано именно здесь и в это время. Во всяком случае, как мне представляется, оно связано с нашими жертвоприношениями божественному Платону.
Наступила сосредоточенная тишина. Но наш друг сразу понял, к чему я клоню, и заговорил — медленно, но очень внятно:
— Слушая Гемину, я вдруг вспомнил вот о чем. В Афинах, как вы знаете, судили в соответствии с вечными законами не только людей, но и животных, и даже растения и камни. Если какой-либо афинянин жаловался судье, что некий камень сам сорвался с возвышенности и ударил его, то после расследования обстоятельств дела выносился, в соответствии с законами, и приговор: камень торжественно выбрасывали за пределы города. А теперь подумайте вот о чем: что связывает божественного Платона, призрак и камень, подвергшийся наказанию.
Все внимательно слушали Плотина, но более всех дочь Гемины — она с восхищением смотрела на него, широко раскрыв свои огромные, с проникновенной голубизной глаза. Заговорила — и мудрость, не свойственная ее возрасту, сквозила в этих словах:
— Я скажу, и это будет отчасти ответ, а еще больше загадка. И камень, и призрак, и Платон имеют каждый свое намерение. Намерение — это то, что едино для души как чистого эйдоса и души в соединении с телом в конкретной жизни. Намерение — это сила направленности. Призрак не только имел намерение быть погребенным, но и намерение стать испытанием для Афинодора. И когда он исчез, он исчез и в Афинодоре.
В этот момент Плотин повернулся к ней и сделал знак рукой, запрещая ей говорить что-либо еще по этому поводу. Она согласно кивнула, а затем продолжила, словно бы о другом:
— А загадка, в которой, вероятно, больше ясности, нежели тайны, вот в чем: гаруспики, как вы знаете, гадают по внутренностям жертвенных животных, внимательно исследуя сердце, легкие, но более всего печень. Наш друг считает, что печень — источник намерения или, точнее, то, через что фокусируется намерение. Гаруспики выделяют в ней сорок частей и предполагают, что каждой из них соответствует одна из сорока небесных сфер…
Я ее прервал:
— То что объединяет камень, призрак и Платона, есть намерение. Но намерение не есть готовый план, предопределенность, судьба, рок и т. д. Намерение — это сила направления, всегда питаемая желаниями индивидуальных душ, по отношению к этой реальности либо бывших, либо актуальных, либо будущих. Поэтому намерение питается и прошлым, и настоящим, и будущим.
Некогда галлы разрушили Рим, и сенат стал решать, отстроить ли город на прежнем месте или всем жителям перебраться в лежавшие неподалеку Вейи. Когда пришло время принимать решение, за дверью раздался голос центуриона, проходившего мимо со своим отрядом стражи. Центурион велел знаменосцу поставить знамя и сказал: «Останемся здесь». Сенат тут же постановил как можно скорее восстановить уничтоженный Рим. Конечно, речь не идет о случайных словах солдата и даже не о решении сената. Будущий процветающий Рим со своими духами места был важным фактором намерения в этот миг. Так же как таким фактором был прошлый Рим — со своими родами, со своими родовыми эйдосами, со своими душами, привязанными к этому месту. Сенаторы знали все это и ждали: ждали проявления намерения. И только тогда пришло указание: «Останемся здесь». Но от кого?
Наконец-то Америй дождался своего: он уже давно хотел вмешаться в разговор. Да и то сказать: здесь-то он был знатоком великим!
— И это верный показатель духовного совершенствования: умение ждать с умением быть внимательным, да при этом быть бесстрастным и счастливым, даже понимая, что, возможно, ждать придется несколько жизней.
Тут важно, как мне кажется, и другое еще, а именно, читая предзнаменования, знающий готовится к встрече с намерением. Причем сама эта подготовка может быть и типично человеческой. Возьмите того же Октавиана Августа. Перед громом и молнией испытывал он страх, везде и всюду он носил с собою для защиты от них тюленью шкуру, а при первом признаке сильной грозы скрывался в подземное убежище… Сновидениям, как своим, так и чужим, относившимся к нему, он придавал большое значение. В битве при Филиппах он по нездоровью не собирался выходить из палатки; но все же вышел, поверив вещему сну своего друга. И это его спасло, потому что враги захватили его лагерь и, думая, что он еще лежит в носилках, искололи и изрубили их на куски. Некоторые приметы и предзнаменования Октавиан считал безошибочными. Если утром надевал башмак не на ту ногу, левый вместо правого, это было для него дурным знаком. Если выпадала роса в день его отъезда в дальний путь по суше или по морю, то это было добрым предвестьем быстрого и благополучного возвращения.
Но больше всего волновали его чудеса. Когда между каменных плит перед его домом выросла пальма, он перенес ее в атрий, к водоему богов Пенатов, и очень заботился, чтобы она пустила корни. Когда на острове Капри с его приездом вновь поднялись ветви древнего дуба, давно увядшие и поникшие к земле, он пришел в такой восторг, что выменял у неаполитанцев этот остров на остров Эпарию. Соблюдал он предосторожности и в определенные дни: после нундин не отправлялся в поездки, а в ноны не начинал никакого важного дела.
Вновь заговорил Плотин, подслеповатыми глазами вглядываясь по очереди в каждого из нас, словно что-то искал:
— Намерение, о чем вы говорите, есть потенциальность. Но это такая потенциальность, которая живет не как понятие, не как абстракция, а как абсолютная жизнь, даже будучи величественнее жизни. Намерение — это движущаяся в самой себе потенциальность; это бурлящая потенциальность.
Намерение присутствует всюду, ибо оно создает миры. Люди и все живые существа — камни, растения, духи, боги — все служат намерению еще и потому, что обладают своими желаниями. Когда мы становимся совершенными, намерение становится нашим другом, потому что мы отказываемся от иллюзорных желаний, и намерение начинает показывать нам удивительные вещи.
Плотин смотрел в этот момент на Рогациана. Тот был очень худ, бледен, с желтым цветом лица, но глаза его сияли каким-то необыкновенным блеском, добротой и силой. Рогациан, один из немногих, сидел неестественно прямо. Он, в свою очередь, посмотрел на Плотина:
— Жить гармонично — это слишком широкая формула. Ее высшая фаза — жить гармонично с намерением, что означает любить свободу намерения и быть в этом свободным.
— Я не понимаю, — откровенно сказал Малютка.
— Стремящийся к совершенству все, что случается с ним, интерпретирует как тотальный, духовный знак. Это — первое. Так, оракул Аполлона предупредил царя Македонии Филиппа, что он погибнет от колесницы. Царь воспринял это как угрозу, а не как знак: мистический символ колесницы заключался в необходимости поворота в жизни, но он этого не понял и приказал разрушить все обычные колесницы. Тем не менее во время театрального представления его заколол Павзаний мечом, на рукоятке которого была вырезана колесница. А император Траян, отправлявшийся на войну с парфянами, послал спросить оракула, вернется ли он в Рим после похода. Вместо ответа он получил виноградную лозу, разрезанную на части. Траян не понял этот знак, и, вместо того чтобы подождать, отправился с легионами на восток. Смысл же знака стал ясен незнающим позже, когда Траяна привезли в Рим мертвого, с изрубленным на куски телом.
Стремящийся к совершенству всегда рассматривает первое событие как программу, или карту, или план того, что предпочитает намерение. Это — второе. Поэтому намерение требует постоянного развития внимания.
Разве не об этом говорят мудрые предания наши? На официальной церемонии ауспиций авгуры выступают в особом одеянии — трабее, парадном белом плаще с пурпурными полосами, знаками особого внимания. Они произносят необходимые молитвы — это дальнейшая концентрация внимания. И все, что происходит потом, — не есть ли божественное сосредоточение внимания: на освященном традицией месте на Капитолийском холме авгур очерчивает определенное замкнутое пространство для ауспиций в форме квадрата, ориентированного по сторонам света. На обозначенном месте ставят шатер, так, чтобы вход в него был обращен на юг.
Авгур усаживается пред входом в шатер, очерчивая соответствующее пространство своим посохом, и на небе ждет появления птиц. Весь обряд совершается в полной тишине, в безусловном священном молчании. Полет птиц с левой стороны от авгура рассматривается как добрый знак, появление же птиц с правой, западной, стороны предвещает нечто неблагоприятное.
Наконец, стремящийся к совершенству рассматривает любое событие как первое событие. Направление полета птиц — это первое событие; особенность птичьего крика — это первое событие; высота полета — первое событие. Орел — посланец Зевса — первое событие; ворон — посланец Аполлона — первое событие, ворона — посланец Афины — первое событие.
И все же эти три ступени — только начало. Истинное начинается тогда, когда намерение обращается к тебе и через тебя, а ты питаешь намерение своими желаниями, которые есть не что иное, как образы самого намерения…
Порфирий чуть склонил голову, бросил рассеянный взгляд на огонь и вновь начал быстро писать:
«В большом почете он был и у императора Галлиена, и у супруги его Салонины. Благосклонностью он их хотел воспользоваться вот для чего: был, говорят, в Кампании некогда город философов, впоследствии разрушенный, его-то он и просил восстановить и подарить ему окрестную землю, чтобы жили в городе по законам Платона, и название город носил Платонополь; в этом городе он и сам обещал поселиться со своими учениками. И такое желание очень легко могло исполниться, если бы не воспрепятствовали этому некоторые императорские советники то ли из зависти, то ли из мести, то ли из каких других недобрых побуждений».
Порфирий задумался. Америй рассказывал ему о многих встречах учителя с императором, особенно пока была жива Салонина. Была она женщиной умной и провидящей, молчаливой, доброй и с какой-то скрытой неземной тоской во всем своем красивом облике. Император ее очень любил. Когда же она умерла, что-то в Галлиене — муже сильном и замечательном — надорвалось. Он стал гораздо больше пить неразбавленного вина и общаться с людьми непотребными и нечестными. Иногда, глубокой ночью, ходил он по внутренним покоям дворца с факелом в руках — молчаливый, с капельками пота на лбу.
Однажды Амелий написал некий трактат, где разбирал он различные способы правления — римские и азиатские. Когда же он дал мне его на прочтение, то поведал небезынтересный рассказ об одной из встреч учителя с императором и Салониной.
…Плотин начал, как обычно, говорить тихо и даже чуть запинаясь:
— Божественный Платон основным условием и принципом совершенного устройства общества считал справедливость. Состоит же она в том, что каждому гражданину такого общества отводится особое занятие и особое положение. Там, где это достигнуто, общество сплачивает разнообразные и даже разнородные части в целое, запечатленное гармонией целого…
Тут его прервал император и, улыбаясь, взглянул на Сапонину:
— Но как же это согласовать с прирожденной свободой человека, о которой ты так настойчиво говорил нам прошлый раз?
— Здесь нет противоречия: справедливость есть то, что связывает в одно целое различные индивидуальные свободы. Ведь главная цель каждого человеческого воплощения, в той мере, в какой оно способно на свободу, создать свой особый, уникальный способ творчества, путь созерцания. Это высшая форма служения богам, ибо тогда только Единое в полной мере реализует свою творческую потенциальность в этом человеке. В той степени, в какой данный человек свободно осознает необходимость создания такого индивидуального способа созерцания, в такой же Степени он гармоничен целому, служит осознанию целого, является целым, будучи человеком. Поэтому божественный Платон и утверждает, что каждый отдельный человек должен заниматься чем-нибудь одним из того, что нужно в обществе, и притом как раз тем, к чему он по своим природным задачам больше всего способен.
Галлиен молча кивнул. Сапонина неотрывно смотрела на Плотина.
— Наилучшая система общества должна обладать рядом черт политической организации и нравственной добродетели, которые были бы способны обеспечить решение самых важных задач. Такое общество, во-первых, должно располагать средствами защиты, достаточными для сдерживания вражеского давления. Во-вторых, оно должно снабжать всех своих членов необходимыми для жизни естественными благами. В-третьих, оно должно руководить развитием духовной деятельности и направлять его. Выполнение всех этих задач означало бы осуществление идеи Блага как высшего принципа.
Император встал, прошелся и только потом заговорил:
— Я думаю, что справедливость является истинной справедливостью не только потому, что гармонично связывает общественную необходимость с индивидуальной свободой. Справедливость есть нечто и иное; то, что объединяет в некую целостную систему основные характеристики групп, из которых и состоит это общество.
— Согласно божественному Платону, наисовершеннейшее по своему устройству и оттого благое общество обладает тремя главными добродетелями: мудростью, мужеством, рассудительностью. Справедливость — гармония этих добродетелей.
Мудрость — высшее знание, или способность дать добрый совет обществу в целом. Такое знание охранительное, а обладающие этим знанием правители — «совершенные стражи». Мудрость — добродетель, принадлежащая весьма немногим гражданам, составляющим особую группу в обществе — класс философов. Более того, она есть не столько даже специальность по руководству обществом, сколько созерцание области высших и вечных эйдосов. Только философы могут быть правителями (хотя именно они к этому и не стремятся). Пока в государствах не будут царствовать философы либо нынешние так называемые цари и владыки не станут благородно и основательно философствовать и это не сольется воедино — государственная власть и философия… государствам не избавиться от зол. И божественный Платон утверждает, что для достижения благоденствия правители должны быть не мнимыми, а истинными философами, то есть стремиться к Истине не потому, что это выгодно, полезно, а потому, что невозможно иначе.
Галлиен усмехнулся. Искренне считал он себя (во всяком случае, по рождению) больше философом, чем императором. Но государственные заботы не давали ему привилегии концентрироваться на созерцании Вечного, как советовал Плотин. Суета постоянно грозила подчинить его себе, но он все же не сдавался. Никто не знал, даже Салонина, что порой он испытывал почти осязаемую ответственность за людей, которых как император должен был опекать. Ему хотелось возразить Плотину или Платону, что если философы и могут стать правителями, то остаться философами, будучи правителями, они вряд ли смогут…
— Вторая добродетель наилучшего по устройству общества — мужество. Так же как и мудрость, оно свойственно небольшому кругу граждан, хотя в сравнении с мудрыми таких граждан больше. Чтобы общество было, например, мудрым, вовсе не требуется, чтобы мудрыми были все без исключения его члены, да это и невозможно. То же самое и с мужеством: чтобы характеризовать общество как обладающее добродетелью мужества, достаточно, чтобы в государстве имелась хотя бы некоторая часть граждан, способных постоянно хранить в себе правильное и согласное с законом мнение о том, что страшно и что нет.
Третья добродетель совершенного общества — рассудительность. В отличие от мудрости и от мужества рассудительность есть качество уже не особого класса, но принадлежит всем членам или большинству наилучшего общества. Там, где эта добродетель налицо, все члены общества признают принятый закон и существующее в этом обществе правительство, сдерживающее дурные порывы отдельных лиц.
Плотин замолчал, затем тоже встал и прошелся по залу, тяжело и неровно дыша.
— Закон аналогий — всепроникающий закон. Подобно обществу, в человеческой душе требуют гармоничного сочетания три элемента: начало разумное, начало аффективное, начало вожделеющее. Если в совершенном обществе три разряда его граждан — правители-философы, стражи-воины и ремесленники — составляют гармоническое целое под управлением наиболее разумного сословия, то же происходит и в душе отдельного человека. Если каждая из трех составных частей души будет совершать свое дело под управлением разумного начала, то гармония души не нарушится. При таком — гармоническом — строе души разумное начало будет господствовать, аффективное — выполнять обязанности защиты, а вожделеющее — повиноваться и укрощать свои дурные стремления. От дурных поступков и несправедливости человека ограждает именно то, что в его душе каждая ее часть исполняет только одну предназначенную ей функцию как в деле господства, так и подчинения…
…Созерцать — это отождествлять нечто с ним же самим… …Но ведь в каждом «нечто» есть сотни его образов, поэтому отождествлять необходимо с предметом как сущностью, а не только и не столько с его образом. А это связано с тем еще, что каждый предмет обладает собственным потенциалом к созерцанию и самосозерцанию…
Погружаюсь или углубляюсь куда-то, и все — все слова, чувства, память, переживания — все это и другое многое становится внутренним, все более внутренним и… новым, иным реальным…
…Я слышу, как кто-то во мне, в моем внутреннем пространстве, медленно и тихо произносит:
— Когда созерцание восходит от природы к душе и от последней к уму, то и созерцания все больше и больше сродняются и единятся с созерцающими. И в серьезной душе познанное идет к отождествлению с субъектом. И в нем, Нусе, оба они — созерцания и созерцающее — уже одно не потому, что присваивается извне, как в наилучшей душе, но по сущности, по тождеству бытия с мышлением…
…И это я сам… мои слова… мои мысли… которые были или есть мои?.. И это так и есть — я вижу — необходимое для самосозерцания иное бытие находится уже внутри самого ума. И жизнь здесь уже не вне ума, в некоем внешнем, по отношению к уму, инобытии, куда ум раньше переходил, чтобы стать жизнью, но внутри, в бурлящей сокровенности самого же Нуса. Эта другая жизнь и есть жизнь, не отделенная ничем от сущности Нуса, это жизнь в себе, саможизнь, жизнь без перехода куда-то вовне. И здесь Нус и жизнь — одно. Эта вот жизнь — бурлящая, безмолвная умность; это океан, где каждая его капля есть некий уникальный смысл и единство, в котором отражается весь океан, который никогда не выходит за свои прозрачные пределы.
— Здесь и жизнь, и Нус не различны между собою. Живущее созерцание ума, которое есть Нус и жизнь, и только это, — не та созерцательная реальность, которая как бы находится в другом. Но прочие виды жизни оказываются ведь в известном смысле мышлением: одна жизнь должна быть растительным мышлением, другая — чувствительным, третья — психическим. Но почему же это мышление? А потому, что они суть эвдосы. И всякая жизнь есть некое мышление. Но одно мышление более темное, чем другое, как и сама жизнь. Эта же более светлая первичная жизнь есть одно с первичным умом. Следовательно, первичное мышление есть первичная жизнь, и вторичная жизнь есть вторичное мышление, и последняя жизнь есть последнее мышление. Всякая жизнь, стало быть, есть и мышление. Ведь раз всякому факту, предмету, явлению внутренне соответствует какой-то эйдос, а восходящей иерархии жизни соответствует восходящая иерархия смысла и мышления, то ясно само собой, что существует и растительная, например, степень мышления или, лучше сказать, мысленности, или мыслимости.
— Все сущее относится к созерцанию. Поэтому если истиннейшая жизнь есть жизнь благодаря созерцанию, которое тождественно с истиннейшим мышлением, то истиннейшее мышление живет, а созерцание и такая созерцательная данность есть живущее и жизнь, и обе они вместе есть одно, что и есть Нус.
— Но как созерцание души через внешне-инобытийное диалектически предполагает внутренне-инобытийное самосозерцание, так это второе — самосозерцание Нуса — диалектически же предполагает новую форму созерцания, свободную даже от внутренней своей раздробленности. А созерцание, свободное решительно от всякого инобытия, всякой инаковости, даже и внутреннего, сокровенного, есть созерцание, свободное от всякого самопротивопоставления, не говоря уже о противопоставлении себя чему-нибудь другому; то есть оно есть Единое.
— Выходит, Нус, не зависящий никоим образом ни от какого внешнего, требует тем не менее начала, принципа мышления, который раньше по смыслу самого мышления?
— Да, ведь и Нус есть множество созерцающего и созерцаемого, а любое множество предполагает единство. Такое единство Нуса, как множества, не может быть умопостигаемым или созерцаемым, так как последнее как раз предполагает наличие упомостигающего, то есть Нуса. Следовательно, единство — это не есть ни созерцающее, ни созерцаемое, но то, из чего и ум, и связанное с ним умопостигаемое. К нему не применимы никакие вообще названия. Аналогией этого единства, вездесущего, но в то же время существующего целиком в каждой точке бытия, является звук, наполняющий пустое помещение, который может быть целиком воспринят ухом в любой точке данного пространства.
— И понятно, что такое Единое уже не может быть умом просто, так как необходимо, чтобы он происходил из чего-нибудь другого, что уже не процессуально, являясь принципом самой процессуальности, принципом жизни, принципом ума и всего. И этот принцип всегда — Единое — не есть ни само все, ни что-нибудь из всего, ибо иначе он не порождал бы всего и был бы множествен. И кроме того, он был бы тогда не раньше всего. Принцип этот не может существовать и только в соответствии с отдельными вещами, ибо в таком случае все вещи, все предметы были бы тождественны, все было бы безразлично.
— Следовательно, этот принцип есть чистая потенция, о которой ничто не может быть сказано. Причем Единое не простое самотождество сущего (тогда в нем все различия погасли бы в абсолютном смысле), но такое самотождество, которое порождает из себя и все различия. В этом смысле оно потенция, источник бытия и ума, корень мирового растения жизни, превышающее всякое отдельное оформление. В этом Единое есть Благо.
— То есть Благо изначально не есть человеческая, моральная категория, но принцип оформления всего и всякого бытия в законченные вещи и существа, принцип связи всех вещей. В этом смысле Благо выше Нуса, так как Ум состоит из эйдосов, Благо же есть принцип всех эйдосов и каждого эйдоса…
…И я вижу, там, в этой пульсирующей точке, где я и нахожусь, как прекрасен Нус; и он прекраснейшее из всего, покоясь в чистом свете и чистом сиянии и охватывая природу сущего, в отношении которого этот прекрасный мир есть только тень и образ. Он покоится во всяческой красе — ведь в нем нет ничего ни бессмысленного, ни темного, ни безмерного, и он живет блаженной жизнью. И охватывает меня великое изумление, по мере того как погружаюсь плавно в упругом свете в него и становлюсь одним с ним. И подобно это тому, как воззревший на небо и увидевший свет звезд имеет в душе и ищет создавшего, так и я, видящий и с изумлением переживающий чистейшую красоту вселенной Нуса, в своем изумлении, в окружающем меня свете ищу его творца. Где тот, кто породил такого сына? Будучи ближе к безущербному и уже нисколько не нуждающемуся в мысли, Нус как сын имеет истинное наполнение и мышление, потому что он имеет это первично. То же, что раньше него, и не нуждается, и не имеет. Иначе оно не было бы и Благом.
— Итак, все истинно-сущее возникает из Созерцания и есть Созерцание, а возникшее из него возникло вследствие того, что оно созерцает и само есть созерцательные реальности — одно путем ощущения, другое — путем знания или мнения. Вообще все, будучи подражанием Творящего, творит созерцательные реальности и лики. Становящиеся субстанции, будучи подражанием сущего, указывали на Творящее, сделавшее своей целью не самые акты творчества и не акты деятельности, но созерцание продукта. Если Первичное состоит в Созерцании, то необходимо и всему прочему стремиться к этому, раз целью для всего является Начало.
— Действительно, когда живые существа рождают, то движут этим эйдосы. И это есть энергия созерцания и мука созидания многих эйдосов и многих созерцательных данностей, наполнения всего смыслами и как бы постоянного созерцания. Ибо творить какое-либо бытие значит творить эйдос, а это значит наполнять все созерцаниями. И ошибки в возникающем ли, или в действующем суть уклонение созерцающего от предмета созерцания.
— Следовательно, Созерцание, лежащее в глубине природы, есть принцип осмысления всякого живого самосознающего предмета. Это Созерцание — иерархийно, от неодушевленного, казалось бы, предмета до Единого. По сравнению с чистым Созерцанием всякое действие есть только ослабление, отчуждение от себя самого, самозабвение. Когда созерцание ослабляется, потемняется, забывает себя и переходит в инобытие, оно превращается в действия, из которых состоит жизнь природы…
…И вновь я слышу безмолвный шепот… шепот музыки… мерцающий ритм…
…Если кто-нибудь из нас не в состоянии созерцать самого себя, когда выносит вовне для созерцания предмет своего видения, тем самым себя выносит вовне и видит себя как изукрашенный образ божий. Когда же он отбросит этот образ, хотя и прекрасный, придя к единству с самим собою и уже не раскалываясь, тогда он есть вместе все едино с этим безмолвно присутствующим Богом и существует с ним — насколько может и хочет. Если же он обратится к двойственности, то, будучи чистым, он непосредственно рядом с ним, так, чтобы опять наличествовать при нем прежним способом, когда он снова к нему обращается. В обращении же этом он имеет следующую пользу. Вначале он воспринимает самого себя, пока он — другой. Обратившись же вовнутрь, он обладает всем. И, отбросив назад чувственное восприятие, он, вследствие страха пред бытием в качестве другого, оказывается там единым. Даже если он захочет увидеть Бога существующим в качестве другого, чем он сам, все равно вовне созидает его в качестве себя самого. Тому, кто обучается, необходимо, пребывая в некоем его отображении, точно разузнать при помощи исследования, во что он погрузился; и, убедившись и поверив, что это — предмет, достойный почитаться блаженным, он должен предать себя самого во внутреннее и стать вместо только созерцающего видением другого созерцателя, самому изучающим при помощи мыслей, каковым он оттуда непосредственно является…
…Порфирий перестал писать и прислушался. Ему показалось, что он в глубокой ночи слышит чьи-то крадущиеся шаги: кто-то приблизился к его комнате и притих. Порфирий незаметно даже для самого себя усмехнулся… Он вспомнил нечто, случившееся в доме у Гемины…
Несмотря на раннее утро, за стенами уже раздавался привычный шум улицы. Но никто, казалось, не обращал внимания на это, слушая Сабинилла.
— Гностики допускают четыре принципа: сущее, ум, душу и создателя. Сущее делится на потенциально сущее и актуально сущее. Этому соответствует и деление ума на ум в молчаливом спокойствии и ум в движении, то есть первым принципом является первый бог — потенциально сущее, которое есть ум в молчаливом спокойствии.
Ум в движении есть ум, созерцающий самого себя (с него и начинается актуально сущее). Движение ума далее приводит к душе-мудрости и душе-рассудку. Эти четыре принципа, таким образом, выстраиваются в следующую цепочку: 1) первый бог, потенциально сущее, ум в молчаливом спокойствии; 2) самосозерцающий ум; 3) душа-мудрость; 4) душа-рассудок, который и есть создатель.
Процесс творения для гностиков есть «погружение», «падение» души-мудрости и созидающей души-рассудка. Душа-создатель постепенно созидает наш мир посредством неясного воспоминания об интеллигибельном мире ради желания почета. Творческая сила не присуща ей, но она творит размышлением, иными словами, творческую силу душа-создатель заимствует от души-мудрости. Именно восприняв рассуждение мира и став, в силу этого, потентной, душа-создатель освещает темную материю. Вследствие этого в материи возникает подобие, затем — подобие подобия и т. д., вплоть до «создателя», состоящего из материи и подобия. Этот «создатель» есть «материалистическое подобие», «мысль души», «другой вид души», — не разумный, состоящий из материальных элементов. Вот этот «плохой» создатель посредством неясного воспоминания об интеллигибельном мире и создает уже непосредственно наш, очевидно, также «плохой» мир и прежде всего огонь. Когда душа-создатель раскается и отдельные души достигнут совершенства, этот мир погибнет. С другой стороны, душа-мудрость — это «новая», «чужая» земля, родина душ гностиков, прообраз нашего мира, презираемого гностиками, которых ждет «там» «новая земля».
Сабинилл замолчал. Но тут же в своей торопливой манере заговорил Зотик:
— Совершенно неправильно, как мне представляется, отождествлять ум с «Первым» и ум с душой. Это три разных принципа. Так же неправильно различать Нус в спокойствии и Нус в движении, так как ум всегда находится в спокойствии, и только душа движется. Далее, как можно говорить о дроблении душ — существует одна Мировая Душа со многими способностями. А каждая так называемая индивидуальная душа есть именно определенная способность Мировой Души, и причем такая способность, в которой целокупно проявляется или может проявиться вся единая Мировая Душа.
Но вот о чем мне хотелось бы сказать подробнее: совершенно неприемлемо утверждение христиан о возникновении и уничтожении мира во времени. Мы знаем, что мир вечен.
Они объясняют возникновение мира из падения души Вселенной. Но это объяснение непонятно. Ведь если мыслить это падение в вечности, то душа и пребывает вечно падшей, а если мыслить его во времени, то непонятно, почему оно произошло именно в данный момент. «Погружение» души не может быть причиной творчества, скорее наоборот, такое «погружение» ослабляет некую первоначальную творческую силу. Кроме того, с этим погружением, естественно, должно быть связано забвение, но тогда душа не может создавать, а если нет забвения, то нет и полного погружения, но скорее есть устремление вверх.
Наивно объяснять создание мира жаждой почета! А с другой стороны, совершенно неясно, когда же будет кончина мира, так как непонятно, почему душа медлит с раскаянием и почему отдельные души еще не познали зло этого мира. Несостоятельно и введение другой души, состоящей из элементов: как она возникла из них, раз она то, что связывает их? И как такая душа может иметь жизнь?
Подхватывая мысль и направление Зотика, продолжил его речь Рогациан:
— Нельзя отождествлять Мировую Душу с душой, например, человека, ибо Вселенская Душа не связана с телом и, имея свою собственную жизнь, независима от тела. Во-вторых, вопрос о том, почему душа создала мир, или, что то же, почему существует душа и почему некий создатель создал мир, предполагает две ошибочные предпосылки — что вечное имеет начало; что изменение создателя есть причина создания, а это противоречит природе умного мира.
Но рассмотрим еще далее. Непонятно, почему сама душа не создала мира, а стала ждать «создателя», и почему «создателем» не является то, что потентней души. Еще более непонятно, как материальное подобие может быть мыслью. Как может этот пресловутый творец обладать воспоминанием? Как он творит и почему он творит именно в данной последовательности, а не все сразу, как мыслит его? Откуда, наконец, взялась тьма и прочее?
Тут уже вмешался Амелий:
— Таким образом, суммируя, можно утверждать, что христиане не знают системы принципов, их взаимосвязи. В этом корень их искренних заблуждений.
Сказав так, он с улыбкой посмотрел на меня, зная мое неприязненное отношение к иудейским и христианским учениям.
Я ему тотчас ответил:
— Наше отношение к ним, проистекающее от божественного Платона, зиждется на знании того, что создатель мира не есть Мировая Душа и ее производное. А то, что они называют творением, для нас не есть акт во времени. Но не о том покуда хочу я говорить, а вот о чем, памятуя об «искренности их заблуждений».
Кто же такие эти гностики-христиане, ученики Демострата и Лида, Адельфия и Аквилина? Наш друг Плотин в прошлый раз убедительно показал, что часть их учения взята у Платона: о восхождении из пещеры к истинному созерцанию, о правосудии, реках в аду и перевоплощениях, об интеллигибельном мире, о падении душ, о демиурге. Но не поняв учения божественного Платона об умственной реальности, душе, демиурге и утверждая, что, мол, Платон не проник в глубину умственной сущности, они перечисляют массу существ умной реальности, вместо того чтобы стремиться к возможно меньшему числу их и тем самым мир Нуса делают копией мира чувственного. И вот это в какой-то степени могу я отнести к искренности их заблуждений.
Но совершенно другое дело их невежественная наглость по отношению к традиционной мудрости, эллинской морали. В противоположность их фанатизму наш Плотин призывает нас быть возможно более сдержанными и терпимыми, возражать им «иным способом».
Но как можно быть вполне спокойным, когда они, гностики, заявляют тем, кто идет за ними: «Ты будешь лучше всех, не только людей, но и богов»; или так: «Ты — дитя бога, а остальные, которым ты удивлялся, не дети его; также не дети его и светила, почитание которых перенято от отцов, а ты, ничего не создавший, могущественней даже неба». Они, в своей безмерной гордыне, утверждают нагло, что только они обладают способностью постичь умственный мир, что только они имеют бессмертную и божественную душу из божественной природы, что только они способны достичь высшей цели и стать богами и что только они предмет промысла божьего. Это ли искреннее заблуждение?
Плотин присел на ложе: голос его уже ослабел, но был еще чистым и звучным. Он чуть взмахнул слабой рукой:
— Какой бы ни был благородный повод, Порфирий, раздражение не должно даже тенью своей коснуться тебя. Ты Малх, и должен вести себя как малх.
Все рассмеялись искренне и с одобрением. Вздохнув, учитель продолжил:
— Позвольте и мне сказать вот о чем. Заповедь гностической морали гласит: «Устреми взоры к Богу». Профан может сказать: «А что тут плохого?» Но ведь, открыто и скрыто, эта заповедь как бы избавляет их, гностиков, от напряженного дела нравственного совершенствования, внушает им презрение к миру, телу и всем делам человеческой жизни, даже добродетелям. Но мы можем спросить далее: что мешает устремлять взоры к богу и не воздерживаться от наслаждения или быть несдержанным в гневе, помня об имени божьем, но находясь во власти всех страстей и не пытаясь от них избавиться? Нет, мы знаем, что без подлинной добродетели произносимый бог — лишь слово.
С другой стороны, вовсе не хорошо презирать Космос, богов, находящихся в нем, и все прекрасное в мире: кто любит отца, детей отца не презирает. Конечно, мир людей есть копия, но копия самая лучшая.
Представьте себе, что это был бы за музыкальный человек, который, увидев гармонию в умственной реальности, не был бы взволнован, услышав отображение этой гармонии в чувственных звуках? И что это был бы за знаток геометрии и чисел, если бы он не получил удовольствия, увидев глазами симметрическое, пропорциональное и упорядоченное? Это удовольствие бывает, конечно, только в том случае, если те, кто смотрит на область искусства чувственными глазами, не видят все те же самые предметы (даже и в изобразительных искусствах), но в чувственном узнают подражание находящемуся в мышлении, как бы приходя в трепет и вспоминая истинное. От такого аффекта, как известно, приходят в движение и чувства любви. Поэтому увидевший красоту, хорошо воспроизведшую себя в человеческом лице, от этого лица устремляется к самой тамошней красоте. И нужно быть слишком недеятельным в отношении мысли и ни к чему другому не двигаться, чтобы при виде всей красоты в чувственном мире, всей симметрии, этой великой благоустроенности и картины, являемой звездами (несмотря на их отдаленность), не тронуться от этого сердцем и не проникнуться величием, от всего этого исходящим. Такой человек, значит, ни этого мира как следует не понимал, ни того умного не видел.
Однако если гностикам и приходится ненавидеть природу тела, поскольку они слышали, что Платон во многом порицает тело как то, что доставляет препятствие душе и, по его мнению, вся телесная природа — худшая, то, абстрагировавши ее мысленно, нужно было бы видеть прочее, а именно умную сферу, которая охватывает эйдос, проявляющийся в Космосе. И стремиться ли мыслить эту сферу в движении, когда она водится потенцией Бога, содержащего начало, середину и конец всей сферы, или мыслить ее в покое, когда она еще ничего не приводит в порядок, все равно одинаково хорошо это служит для понимания Души, приводящей в порядок здешнюю Вселенную.
Если же гностики отрицают то, что прекрасное на них действует, то они должны сказать, что вообще не воспринимают раздельно безобразные и прекрасные тела. Однако так они не смогут различать и безобразных, и прекрасных занятий, а также наук, также, конечно, и зрелищ, и даже самих богов, потому что все это зависит от первичного. Ведь если это не прекрасно, то и то умное также не прекрасно, поскольку это прекрасное, конечно, после того и из-за того прекрасно.
Правда, если христиане говорят, что они не признают здешней красоты, то это они делают хорошо, если презирают ее в мальчиках и женщинах, чтобы не снизиться до распущенности. Однако их не за что превозносить, если они просто презирают безобразное, поскольку они к тому же презирают то, что раньше называли прекрасным, — в таком случае как они различают то и это? Также необходимо иметь в виду, что красота — не одна и та же в частях, в целом, во всех частях и во всем; что такая красота находится и в чувственных вещах и в частичных, как, например, в демонах, так что приходится удивляться создателю и верить, что все это — оттуда, и на этом основании называть тамошнюю красоту непреодолимой, не хватаясь за это чувственное, но от этого идти к тому, хотя и не порицая этого. И если внутреннее прекрасно, то нужно говорить, что то и другое согласуется между собою. Если же внутреннее плохо, оно страдает своими лучшими моментами. Кроме того, невозможно, чтобы прекрасное внешне действительно оказалось внутренне безобразным, потому что, если у кого все внешнее — прекрасно, то это благодаря главенству внутреннего.
Однако Вселенной, если она прекрасна, что же мешает ей быть прекрасной и внутренне? Конечно, кому природа не дала совершенства с самого начала, этому, может быть, и невозможно дойти до совершенства, так что он может стать и дурным. Что же касается Вселенной, то ей невозможно быть несовершенной наподобие младенца, и ничто не прибавилось к ней в процессе ее развития, и ничто не присоединилось даже к ее телу. Да и откуда могло бы что-нибудь присоединиться? Она ведь и без того всем обладает. Однако и к душе никто не смог бы что-нибудь примыслить.
Я могу сравнить христианина и себя с двумя людьми, которые живут в одном и том же прекрасном доме. Один из них порицает и устройство дома и архитектора и тем не менее продолжает в нем жить, в то время как другой не порицает, а восхваляет создателя, но все-таки живет и знает, что живет в этом доме временно, так как он оставит этот дом и вообще не будет нуждаться в доме.
И вот что еще мне хотелось бы сказать, опровергая измышления христиан о том, что создана Вселенная по предварительному замыслу и обсуждению.
Мы знаем уже, что все происходящее, будь то произведения искусства или природы, создает некая мудрость — софия, и творчеством везде водительствует софия, и если кто творит согласно самой мудрости, то таковыми же софийными надо считать, очевидно, и искусства. Однако художник опять, в свою очередь, приходит к мудрости природы, соответственно которой он и сам появился на свет и которая уже не получена из теоретических положений, но цельно является чем-то единым, не составлена из многого в единое, но скорее разрешается из единого во множество. Поэтому если кто-нибудь признает ее первичной, то этого уже достаточно.
Если же скажут, что смысл заключен в природе и, с другой стороны, природа является его принципом, то мы спросим: откуда же природа его получит? Но мы успокоимся, если скажут, что он возникает из себя же самого. А если будут восходить к уму, то необходимо посмотреть, ум ли породил мудрость. А если из самого себя, то иначе не может быть, как то, что сам он и есть мудрость. Следовательно, истинная мудрость есть бытие, и истинное бытие есть мудрость. При этом достоинство для бытия — от мудрости, и, поскольку от мудрости, оно есть бытие истинное. Потому и те сущности, которые не содержат мудрости (хотя они и произошли через мудрость), но мудрости в них не содержится, не есть суть истинные сущности.
Постараемся понять, что я хочу сказать, на одном, зато значительном примере, который можно применить и ко всему. Именно — относительно Вселенной, хотя мы и соглашаемся, что она в своей качественности происходит от другого. Так неужели мы станем думать, что ее творец замыслил в самом себе Землю и то, что ее следует поместить в центре, затем — воду, и притом как на Земле, так и в прочих местах по порядку до неба, затем — все живые существа, и для каждого из них те формы, что теперь, внутренние их органы и внешние части, затем, все распределив у себя в отдельности, осуществил это на деле? Однако такой замысел невозможен, потому что откуда бы он появился у того, кто сам этого никогда не видел?
В действительности вся эта Вселенная в совокупности происходит оттуда; и там оно прекрасно в большей степени. Здешняя Вселенная с начала и до конца сдержана эйдосами. Прежде всего уже материя сдерживается эйдосами элементов. Над одними эйдосами существуют другие эйдосы, а затем опять другие. Поэтому и трудно найти материю, скрытую под многими эйдосами. А так как и сама она есть некий крайний эйдос, то и это Все есть эйдос, и все вещи есть эйдосы. Эйдосом был и сам прообраз. Творит же он это бесшумно, так как все творящее есть сущность и эйдос. Потому-то и творчество это точно так же свободно от трудов, то есть оно относится ко Всему, как будто бы и было Всем. Не было, стало быть, для творчества и препятствий. Да и теперь оно владычествует над происходящим, хотя одно происходящее препятствует другому.
Ведь не положено, чтобы образ прекрасного и сущности не был прекрасным. Известно, он повсюду подражает первообразу. К тому же он обладает жизнью и есть сущность, как подражание, и есть красота, как происходящее оттуда. И он вечно существует в качестве образа. Но всякий образ, являющийся таковым по природе, пребывает, пока пребывает образец.
Вследствие этого не правы те христиане, кто считает преходящим чувственный мир, когда пребывает умный, и порождает его так, как будто бы творящий некогда замыслил его создать. Они не хотят понять способа подобного творчества и не знают, что, поскольку тот освещает, никогда не убудет и другое. Ибо с каких пор существует то, с тех пор и это. А то всегда было и будет…
Порфирий словно очнулся, чуть кивнул головой неведомому и вновь начал писать:
«Против христиан Плотин высказал на занятиях очень много возражений, записал их в книге, озаглавленной нами „Против гностиков“, а остальное предоставил на обсуждение нам. Амелий написал против книги Зостриана целых сорок книг, а я, Порфирий, собрал много поводов против Зороастра, доказывая, что книга его — подложная, лишь недавно сочиненная, изготовленная самими приверженцами этого учения, желавшими выдать собственные положения за мнение древнего Зороастра…»
Порфирий встал, прошелся по комнате и затем вновь вернулся к столу. Стоя, он задумался: неясные тени каких-то образов виделись ему, требовали чего-то, но, как он ни напрягался, не мог уловить их намерения.
И вновь слова стали ложиться на пергамент, облегчая внутреннее напряжение:
«Слушателями Плотина были даже многие сенаторы, из которых более всех преуспели в философии Орронтий Марцелл и Сабинилл. Из сенаторского сословия был и Рогациан, который проникся таким отвращением к своему образу жизни, что отказался от всего имущества, распустил рабов, избегал всех знаков своего достоинства: в звании претора, когда он должен был выступать в сопровождении ликторов, он и с ликторами не выступал и об устройстве зрелищ не заботился; дом свой он покинул, ходил по друзьям и близким, там ел и спал, а пищу принимал через день. От такого воздержания и нерадения о себе он заболел подагрой, ослабел до того, что не мог встать с носилок и не мог поднять руки; но пальцами владел куда искуснее, чем ремесленники, ручным трудом зарабатывающие на жизнь. Плотин его очень уважал, отзывался о нем всегда с великими похвалами и ставил его в добрый пример тем, кто занимается философией.
Были при нем женщины, всей душой преданные философии: Гемина, у которой он жил в доме, и дочь ее, тоже Гемина, и Амфиклея, вышедшая за Аристона, сына Ямвлиха…»
…Кто-то осторожно и слегка обтер мне лицо влажной и мягкой тканью и дал напиться холодной воды… Но я все равно не могу открыть глаза и увидеть его… День или ночь… Впрочем, все равно… И странно, я по-прежнему чувствую, ощущаю тот же вкус воды. Это было, было когда-то…
…Император сосредоточенно провел своей правой рукой над серебряным, инкрустированным камнями персидским кубком. Затем молча протянул воду мне — она была прозрачна, чиста, холодна и чуть, казалось, кипела. Маленькие пузырьки появлялись на поверхности и медленно начинали вращаться. Я сделал два глотка и кивнул. Галлиен просиял.
— Ты видишь, дорогой Плотин, что я прав, прав. Что-то произошло со мной… я чувствую в себе новые силы.
Он улыбался и даже чуть притоптывал ногой. Кудри его разметались на вспотевшем лице. Но глаза были напряжены, словно что-то давило на него, и отражалось это только в его глубоко посаженных глазах. Тогда я еще не знал, что незадолго до этого он потерял своего сына.
Я впервые у Галлиена. Неоднократно звали меня в императорский кружок, превознося молодого соправителя Валериана, и Сабинилл, и Марцелл, и другие. Но я отказывался под разными предлогами. Да и не хотел встречаться и говорить с придворными философами: зла им не хотел, и о зависти их догадывался.
В этот же раз я согласится приехать с Рогацианом. И была причина на то: хотел переговорить с императором после того, как его суровый отец отправился к восточным легионам.
Наступил подходящий момент, и заговорил я:
— Император, хочу обратиться к тебе с просьбой.
Все замолчали в зале, во-первых, я только сегодня познакомился с Галлиеном, а во-вторых, многие знали, что редко я обращаюсь с просьбой, тем более к имеющим власть.
Галлиен чуть улыбнулся, искоса посмотрел на меня и кивнул:
— Я прошу тебя о милосердии: ты только можешь отменить эдикт твоего отца против секты христиан.
Несколько почтенных сенаторов, которым было уже немало лет, бурно запротестовали. Но скоро вновь воцарилась тишина. Все ждали, что скажет император: о натянутых отношениях между отцом и сыном было известно многим.
Галлиен сделал несколько шагов, подошел к своему ложу и возлег на него. Остальные в зале последовали его примеру. Император чуть взмахнул рукой, и чернокожий раб подал ему кубок с вином.
— Ты, дорогой Плотин, симпатизируешь последователям этой иудейской секты?
— Нет, но они заблуждающиеся; а ведь и злым, и добрым, и заслуживающим смерти должен сочувствовать мудрый, ибо нет человека без вины.
— Закон карает их не за их веру и их убеждения; они несут наказание как граждане Рима, отказывающиеся подтверждать свою лояльность жертвоприношением богам и святыням этого государства. Издавая этот эдикт, император Валериан действовал в интересах великого Рима. Не будешь же ты оправдывать преступников?
Галлиен внимательно смотрел на меня.
— Люди заблуждаются, ошибаются, совершают неправедные дела и преступления в соответствии со своей судьбой и своей свободной волей. Закон должен быть справедлив, но эта справедливость должна соответствовать Нусу. Можешь ли ты защищать эдикт против христиан, объявляя его соответствующим Благу?
— Но опасность поведения этих христиан для государства слишком очевидна, чтобы закрывать глаза на это…
— Как император и как человек ты волен поступать как хочешь: свобода абсолютно имманентна каждому — императору и рабу. Соответствует ли твоя воля, твоя свобода намерению Блага? Это гораздо важнее, чем некая абстрактная забота об абстрактных христианах.
— Ты хочешь сказать, что как император в своей воле я сталкиваюсь с противоречием: благо государства, благо подданных и благо христиан. Только здесь это противоречие неразрешимо. Нужен еще один шаг; мое благо и Благо как таковое: их соотношение, их связь. Я прав?
— Да.
Галлиен, казалось, забыл обо мне. Он вскочил с ложа и направился к двум сенаторам, сидевшим у фонтана.
…Эдикт формально не был отменен, но казни христиан, их высылка на принудительные дорожные работы, продажа их в рабство, конфискация имущества — все это прекратилось…
Да и я, Порфирий, не понял его, когда в самый первый раз услышал. Я даже взялся писать ему возражение, стараясь показать, будто и вне ума существует умопостигаемое. Плотин попросил Амелия прочесть ему это возражение и, выслушав, улыбнулся и сказал: «Ну что же, Америй, придется тебе разъяснить Порфирию его недоумения, возникшие от незнания наших мнений!» Амелий написал тогда немалую книгу «О недоумениях Порфирия», я сочинил на нее возражение, Амелий и на него ответил, и тут, с третьего лишь раза, и я, Порфирий, понемногу понял сказанное.
А какого мнения о Плотине держался Лонгин, судивший главным образом по тому, что я сообщал о нем в письмах, это виднее всего из одного отрывка послания Лонгина ко мне. Написано в нем вот что. Он приглашает меня приехать из Сицилии к нему в Финикию и привезти с собою книги Плотина. «Можешь, если захочешь, послать их с кем-нибудь, — пишет он, — но лучше привези их сам. Писцы здесь так редки, что за все это время, клянусь богами, я с трудом сумел достать и переписать для себя остальные сочинения Плотина, да и то писцу пришлось бросить все дела и заниматься только этим. Теперь, кажется, у меня есть все, что ты в последний раз прислал, но в очень несовершенном виде, потому что ошибок там безмерное множество. Я было надеялся, что друг наш Америй сам выправит ошибки писцов, но он предпочел заниматься чем угодно другим, только не этим. Поэтому хоть мне и больше всего хотелось бы разобраться в книгах „О душе“ и „О бытии“, но, как это сделать, не знаю: они больше всего пестрят ошибками. Поэтому мне очень хотелось бы получить их от тебя в надежном списке: я их только сверю и отошлю обратно. Но повторяю еще раз: не присылай их, а лучше сам приезжай и с ними и со всеми остальными книгами, которые ускользнули от Амелия. Все, что привез Амелий, я, конечно же, постарался приобрести: как же было не приобрести сочинений такого человека, достойных всяческой чести и уважения? Ведь я об этом и прямо тебе говорил, и писал тебе в Тир и в дальние твои поездки: в содержании с ним я далеко не во всем согласен, но и слог его, и густота мыслей, и философичность исследований бесконечно дороги мне и любезны, так что я считаю, что книги эти должны быть в великом почете у всех питателей истины».
А вот еще одна выписка из книги Лонгина «О пределе».
«Много в мое время, Фебион, было на свете философов, особенно же много в пору ранней моей молодости. Нынче в этой области такое оскудение, что и сказать трудно; а когда я был мальчиком, то еще много было мужей, отличавшихся в философских занятиях, и мне со всеми ними довелось видеться…
Подлинное же писательское рвение обнаружили как в изобилии затронутых ими вопросов, так и в особенном своем способе их рассмотрения лишь Плотин и Амелий Гентилиан. Первый из них, как нам кажется, достиг в разработке платоновских и пифагорейских положений гораздо большей ясности, чем было до него, далеко превзойдя подробностью своих сочинений и Нумения, и Крония, и Модерата, и Фрасилла. А второй, следуя по его следам и занимаясь теми же положениями, что и он, был неподражаем в отделке частностей и особенно усердствовал в обстоятельности слога, в полную противоположность своему учителю. Только их сочинения мы и считаем заслуживающими изучения».
Я сделал эти пространные выписки, чтобы показать, как отзывался о Плотине самый тонкий ценитель нашего времени, у всех остальных современников решительно осуждавший едва ли не все ими написанное.
…Порфирий чуть поежился. Не то, чтобы было холодно, но поздно ночью неотступно овладевала городом зябкая прохлада, особо чувствительная для стариков и больных. Порфирий накинул на свои худые плечи шерстяной плащ, не переставая думать о только что написанном.
Он видел опустевший Рим, пытавшийся сопротивляться моровой язве, невесть откуда вновь появившейся в городе. Впрочем, почему невесть откуда? Говорили тогда, что в кораблях, поднявшихся по Тибру и доставивших в город в своих трюмах зерно из Африки, были и больные, задыхавшиеся от горячки и с явственными полосами на теле. Они и принесли в Рим эту страшную болезнь.
За несколько лет вымерли десятки тысяч римских граждан — и патриции, и ремесленники, и преторианцы. Не было уже такого оживления на улицах и рынках, в цирке и театрах. Лишь скрип огромных телег, запряженных четверкой лошадей, постоянно выводил на улицах Рима мелодию воинствующей смерти. На них вывозили за город трупы умерших в мучениях. И одна мысль рефреном звучала в этом скрипе: «Кто следующий? Кто следующий? Кто следующий? Ты!!!»
Поправив плащ, Порфирий вновь начал писать:
«Многие мужчины и женщины из числа самых знатных перед смертью приносили к Плотину своих детей, как мальчиков, так и девочек, доверяя их и все свое имущество его опеке, словно был он свят и божествен. Поэтому дом его полон был девиц и подростков, среди них был и Полемон, о воспитании которого он очень заботился и даже не раз слушал сочиненные им стихи».
Порфирий вновь задумался: лица этих детей, которых он хорошо знал, явственно пытались возникнуть перед глазами. Некоторые, появляясь в доме, оказывались заносчивыми и надменными, другие, напуганные несчастьями, молчаливыми и внутренне сжатыми до звенящей боли, третьи часто плакали и, казалось, никого не слышали и не видели, четвертые были озлоблены и при удобном случае стремились сбежать. Но через несколько часов общения с Учителем все они словно преображались: в глазах появлялась жажда жизни, к ним возвращалась уверенность и какая-то особая умиротворенность.
Плотин был яснейшим воплощением добра в этом жестоком мире, и дети сразу чувствовали это. Ни разу не видел Порфирий Плотина, который бы говорил с кем-нибудь из детей без улыбки, равнодушно, по необходимости. Любой такой разговор был для Плотина словно бы самым важным и значительным в этот момент; он, словно посредством своей глубокой симпатии к этому ребенку, беззвучно обращался к его душе, зовя ее к свершениям.
Порфирий размышлял, почему же так трудно описать словами отношения Плотина с детьми. Может быть, потому, что и не было особых отношений? Он общался с ребенком как с равным себе, и более того, он заставлял подростка быть словно учителем — он спрашивал иногда их о том, чем сам занимался и о чем размышлял в этот момент. Спрашивал, конечно, так, чтобы дети понимали, и, более того, так, что вопрос его вызывал у них живейшее внимание.
Он искренне интересовался каждым их этих мальчиков и девочек и спрашивал их порой о том, о чем иные родители забывают спросить своих детей.
Каждый из них был для него особенным. Но более того, он как-то ненавязчиво подчеркивал уникальность, особенность каждого из них. И делал это он странным, может быть, образом: задавая тому или иному ребенку, иногда на ходу, парадоксальный вопрос или давая совершенно неожиданное задание. Например, того же Полемона он однажды попросил (а при этом был и сам Порфирий) сделать следующее: представить себя Гомером и написать новое окончание «Илиады».
Однажды он сказал Порфирию: «Ребенку надо помогать не только тогда, когда он просит помощи, и брать с него пример не только тогда, когда ты вынужден делать это».
Порфирий вновь начал писать:
«Плотин терпеливо принимал отчеты от управителей детским имуществом и следил за их аккуратностью: пока дети не доросли до философии, говорил он, нужно, чтобы имущество их и доходы были при них целыми и неприкосновенными.
О каждом из детей, которые при нем жили, он заранее предсказывал, какой человек из него получится; так, о Полемоне он сказал, что тот будет любвеобилен и умрет в молодости — так оно и случилось».
Порфирий оторвал свои глаза от письма. Однажды Плотин сказал, что учиться свободе надо только у детей, потому что они к ней не стремятся, а играют. Лучший философ, продолжил Плотин, это тот, кто выбросил прочь все свои книги и изучает самое великое искусство — дышать как ребенок и смотреть на себя как ребенок.
И странно, что люди создают храмы и алтари, ставят туда изображения своих богов, приносят им жертвоприношения, и молятся им, и просят их о чем-то. Играющий ребенок — ярчайший символ Единого, а не пророки и чудеса. И истинно верующий — это тоже играющий ребенок.
Порфирий вздохнул и вновь взял в руки перо:
«Но и в стольких своих жизненных заботах и попечениях Учитель никогда не оставлял напряжения бодрствующего своего ума…»
…Ярко-голубое, безоблачное небо… Может, даже и не небо, а сама бесконечность, окрашенная в блестящую голубизну… Оно мне несется навстречу, и я так стремлюсь к этой прохладной, свежей голубизне… Что это?.. С чем это сравнить?.. И вдруг все словно резко изменяет направленность… словно кувырок… и я несусь вниз… кто это «я»? Вниз… все слышнее рев толпы в амфитеатре… Полдень, и припекает солнце, но очень мало тех, кто обращает на это внимание… Рев толпы и затем мгновенная тишина, и вновь нарастающее напряжение…
…На арене шел бой между двумя наиболее популярными и известными гладиаторами из школы Фламинина — Адволантом и Сергиолом. Адволант был в тяжелом вооружении гопломаха — с копьем, в шлеме, с длинным прямоугольным щитом, узким, вытянутым мечом на поясе. Его правую руку защищала маника. Сергиол же держал в руках трезубец и сеть, а на бедре — небольшой кинжал.
Оба противника хорошо знали и уважали друг друга Точнее сказать, уважали опасность, исходящую друг от друга Они не торопились, зная, как раззадорить публику и довести представление до благополучного для обоих конца. Благополучным считался исход, когда обе партии, болевшие за того или иного бойца, требовали прекратить затяжной бой и бросали в знак восхищения боевым искусством партнеров монеты на песок амфитеатра…
…Я смутно вспоминаю… или нет, это не воспоминание… я вижу… уже яснее… рыжеволосого императора Галлиена, с улыбкой и напряжением следившего за атакой Адволанта… я заглядываю ему в глаза… словно какая-то тень мелькает у него на лице… рядом, чуть сзади сижу я, Плотин, в глубокой задумчивости… Я смотрю себе в глаза… и я вижу, что он, то есть я, Плотин, вижу самого себя потом и здесь… Я не вздрогнул тогда, нет, но вспыхнуло на миг ощущение необыкновенного холода и странной невесомости, словно все померкло, лишившись света…
— Что с тобой, мой друг? — На меня посмотрел, едва обернувшись, император. Но и он сам выглядел встревоженно, — потерянный и одинокий в этой полуденной массе потных римлян.
Я молча покачал головой и вновь повернулся к арене. Я пришел сюда по настоянию Галлиена — я, который всегда выступал против гладиаторских представлений.
«…Нет ничего гибельнее для добрых нравов, чем зрелища, ведь через наслаждение еще легче прокрадываются к нам пороки», — говорил Сенека, и был он прав. В одной из своих книг Малх напоминает и другие его искренние и отчаянные слова, которыми хоронил он римскую доблесть: «Утром люди отданы на растерзание львам и медведям, в полдень — зрителям. Это они велят убившим идти под удар тех, кто убьет их, а победителя щадят лишь для новой бойни. Для сражающихся нет иного выхода, кроме смерти. В дело пускают огонь и железо… „Но он занимался разбоем, убил человека“. „Кто убил, сам заслужил того же. Но ты, несчастный, за какую вину должен смотреть на это?“»
В это время на арене, казалось, назревала кульминация: Адволант решился нанести эффектный, но опасный для противника удар копьем. Запущенное мускулистой рукой оружие длиной в три локтя просвистело в воздухе. Сергиол успел резко сдвинуться вправо — и копье только задело его левое плечо, вспоров мышцу. Теперь на песок капал не только пот, но и кровь. Адволант выхватил меч и прыгнул на противника. Зрители замерли: начиналась последняя стадия боя, когда в глазах у бойцов появляется мертвящая ожесточенность, когда они перестают слышать зрителей, когда из-за нехватки воздуха легкие наполняются злобой, — расчеты забываются.
Сергиол, выставив правое колено вперед, накинул на прыгающего Адволанта сеть. Все это произошло в доли секунды. Сергиол левой, кровоточащей рукой направил свой блестящий на солнце трезубец на своего товарища и врага, катающегося на песке. Адволант застонал: у него была перебита нога ниже колена. Казалось, все: и сторонники Сергиола зааплодировали своему любимцу, и, поскольку времена менялись, многие считали, что Адволант попросит пощады, и это ему благодаря его славе и доблести будет, безусловно, даровано. Но произошло то, что ожидали очень немногие: когда Сергиол, выхватив кинжал, быстро двинулся к хрипящему в крови Адволанту, тот нанес в последний момент резкий колющий удар своему неосторожному сопернику. Острие клинка пронзило Сергиола и выскочило сзади, со спины. Он рухнул на Адволанта — капельки быстро чернеющей крови поднялись в воздух вместе с песчинками.
Словно вулкан взорвался, гул, свист, крики — все смешалось в какой-то странный полурев, полустон. Многие вскочили со своих мест. Взоры всех были устремлены на неподвижные тела, лежащие крест-накрест.
Галлиен быстро повернул голову ко мне и, странно, рассеянно улыбаясь, начал медленного говорить:
— Продолжим наш вчерашний разговор, Плотин. Да, я еще более уверен сегодня, чем вчера, что наша жизнь — это в высшем смысле постоянное и сокровенное жертвоприношение. Жертвоприношение в нескольких смыслах: жертвоприношение самому себе, жертвоприношение своему народу, жертвоприношение тому месту, где ты родился и живешь, жертвоприношение своим богам. Жертвоприношение самому себе, поскольку ты есть ум и душа прежде всего, душа, которая возвращается к себе, жертвуя своими воплощениями в цепи жизней. Душа человека не имеет прообраза в Нусе, поскольку она сама интеллигибельна. Следовательно, такая душа в себе содержит все прошлые и будущие воплощения в различных временах и пространствах. В этом смысле я утверждаю, что душа как потенциальность не только реализуется в своих воплощениях. И это даже не совсем точно: душа как потенциальность достигает своей сущности как потенциальности, жертвуя искренне своими конкретными воплощениями.
Лицо Галлиена напряглось, его черные глаза засверкали, речь полилась гладко и энергично. Он ждал моего ответа, но я знал, что он всматривается в самого себя.
— Император, твои слова вдохновенны. Но вот что я скажу тебе, как бы странно это тебе ни показалось: ты знаешь, что я всячески избегаю гладиаторских представлений. Одна из причин заключается в том, что я могу догадаться, чем закончится тот или иной бой. Почему же так?
Он долго смотрел на меня, и потом он понял…
— Взгляни на этих либитинариев.
Его палец указывал на четырех рабов, одетых в специальные черные одежды. В этот миг они выносили с арены тело Сергиола.
— Говорят, именно в этой одежде Харон перевозит души людей на ту сторону.
Галлиен был чем-то взволнован или возбужден. Иногда по нескольку дней он не смыкал глаз: либо пируя, в окружении юных красавиц, либо читая — Платона, Гесиода, кого-либо еще.
— А ты знаешь, что первых гладиаторов называли бустуариями? И они играли крайне существенную роль в погребальных торжествах. Говорят, когда-то, еще до царских времен, над гробом заслуженного воина принято было убивать преступников, осужденных на смерть. Это и было жертвоприношением богам подземного царства. Для преступника это становилось благом, ибо смерть он встречал не один, а с мужественным бойцом и человеком, который мог помочь ему в переходе от света к свету. Но для этого мертвого героя жертвоприношение было тоже важным. Посредством него оставалась существенная связь между ним и народом, с которым он жил и защищая который он погиб.
Галлиен закашлялся и сделал знак рукой. Ему подали огромный золотой кубок вина. Он стал пить, медленно и с удовольствием. Пролив несколько капель на доски ложа, он продолжил:
— По-настоящему действительные гладиаторские игры устроили сыновья Луция Юлия Брута на его похоронах. И вот что они значили: душа Брута, впитывая этот бой, должна была окончательно отрешиться от своего земного существования и успокоиться. Это был мистериальный символ… для них…
Галлиен понизил голос и наклонился ко мне.
— Бой двух гладиаторов — это символ взаимодействия смерти и жизни, когда всегда побеждает смерть и избавляет тем самым от привязанностей и, прежде всего, от привязанности быть человеком. Когда ты имеешь эту привязанность, то тем самым ты не можешь стать богом. Да..
Он опять закашлялся и опять сделал большой глоток вина. Он горел — горячие волны шли от его тела.
— Но всего этого уже нет. Все исчезло, все это только зрелище. Почему зрителям так нравится бой? Потому что они не эти «другие»… И ты прав, Плотин, Рим обречен в этой реальности, ибо разорвалась связь римлян и их богов, нет уже этой гармонии вечности, мы перешли во время…
Жертвоприношение — это глубочайшее воссоздание, из вечности, своих связей со своими богами… Я скажу яснее… только мне надо выпить еще…
Нельзя стать Богом, если ты не бог. Нельзя стать богом, если ты не приносишь себя в жертву. Но кто это, боги народа? Кто они, подобные даймониям каждого человека? Это те души, которые превысили бытие человеком, которые совершенны в принципиально новой реальности, они своего рода идеал совершенства, и в то же время они связаны с этим народом и с этим местом.
Жизнь — это гораздо большее жертвоприношение, мой друг… Да… Так вот, жизнь — это гораздо большее жертвоприношение, чем сама смерть…
…Ты видишь, о чем я говорю?
…И опять синева, несущаяся на меня. И в этой спирали, в этом вихре я слышу мягкий голос Галлиена. Его нет уже там, где скоро не будет меня. Но я встречу его там, куда он зовет меня сейчас…
…Я тот, которого называют Плотином в этой жизни, и я жду… кого?.. Евстохия… Зачем?.. Не знаю… Я слышу звуки… Это странная и величественная музыка… Музыка тишины, безмолвия и пустоты… Эта пустота везде… И ритмика ее — величественная музыка безмолвия… И словно я сам уже безмолвие, пустота, колеблющийся свет… несущийся к голосу, неслышному и беззвучному…
— Желай только то, что внутри тебя, желай только то, что выше тебя, желай только то, что недостижимо!
И не слышу я себя, обращающегося к этой бесконечно плодоносной Пустоте. Но исторгается моя сокровенная молитва;
— Я знал тебя и знаю тебя, и к тебе обращаюсь…
— Так слушай вновь и внимай, как было это уже однажды, когда пришел ты в мой храм и увидел то, что должен был увидеть. Правильно, верно без лжи и истинно то без сомнения: то, что внизу и вовне, подобно тому, что в выси и в глуби, и то, что в глубине и вверху, подобно тому, что внизу и снаружи… Сумей отделить внутреннее от внешнего, тонкое от грубого, с осмотрительностью спокойствия, осторожностью разумения, с дерзновением знания. Эта великая сила восходит с земли к небесам, откуда вновь возвращается в землю, объяв в себе мощь выси и низин. Так воспринимаешь ты славу победы над всей Вселенной, а потому мрак и тьма оставят тебя. На этом зиждется непоколебимость силы мощи, она восторжествует над всем высшим, властвующим, тонким, дотоле непобедимым и в то же время проникнет все твердое и незыблемое. Так сотворен мир. Отсюда почерпнуты могут быть чудесные тайны и силы великие, способ чего также здесь заключен. Вот почему именуюсь я Гермесом Трисмегистом, и созерцаешь ты меня.
…Я знаю, я — Плотин, умирающий от этой жизни и не скорбящий о том, что слышу Трисмегиста из самого себя. И это тоже то, что составляет великое умирание, которое происходило многократно. Но я пытаюсь напрячься и на мгновение даже чувствую стынущее свое тело; я должен — в этот миг — ясно «увидеть» свое последнее намерение и обнять своим пульсирующим сознанием всю систему представлений, которая позволит прорваться к этой единственно желанной цели. Я должен твердо очертить — как живущий еще человек — это намерение, эту первоначальную систему, которая была всегда до меня, совершенно оторвать ее от всего остального, всю силу своей пульсирующей воли сосредоточить на желании, и в момент высшего напряжения я должен в порыве ввысь оторваться и от цели и от начальной системы, стремясь в иное…
— Прежде чем душа найдет возможность постигнуть, она должна соединиться с Безмолвным Словом, и тогда для внутреннего слуха будет говорить Голос Молчания.
— Мировое творчество, о Гермес, есть Игра Единого?
— Слушай же; энергия Единого есть Его Воля; Его Сущность есть желание, чтобы Вселенная была, ибо Он, Отец и Благо, суть не что иное, как Бытие того, что еще не существует.
Подобно тому, как нечто бы не могло существовать без Творца, так точно Он Сам не существовал бы, если бы Он не творил беспрерывно в воздухе, на земле, в глубинах, во Вселенной, во всякой части Вселенной, во всем, что существует, и во всем, что не существует, ибо во всем мире нет ничего, чего бы не было в Нем. Он Тот, кто есть, и тот, кто не есть, так как то, что Он не проявил — то, что не есть, он заключает в Себе Самом. Таков Он в Своем Имени, Невидимом и Проявленном, Который проявляется духу, Который раскрывается глазам, Который не имеет тела и Который имеет все тела, ибо нет ничего, что не было бы Им и все есть Он Единый. Он имеет все имена, ибо Он есть Единый Отец, и вот почему Он не имеет Имени, ибо Он Отец всего. «Куда я направлю свой взор, чтобы Тебя прославлять, — ввысь, в низины, внутрь или вовне? Нет пути, нет места, которые были бы вне Тебя; не существует других сущих, все существует в Тебе, все исходит от Тебя, Ты даешь все и не принимаешь ничего, ибо Ты управляешь всем, и нет ничего, что бы Тебе не принадлежало».
И скажу еще вот что: Он — Вечный Творец всего. Рожденный им мир бессмертен. Но бессмертность отлична от вечности: Вечный не был никем рожден, он утверждается Самим Собой, Он себя вечно творит. Отец вечен в Себе Самом. Мир получил от Отца жизнь текущую и бессмертие.
— Но как же исходит бессмертие от Вечного?
— Все, что есть в мире без исключения, есть арена движения, будь то восхождение, будь то нисхождение. Все, что движется, живо, и вселенская жизнь есть необходимая трансформация. В своем целом мир не изменяется, но все его части вечно видоизменяются. Хотя дух и материя различны, но я скажу, что они различны между собою как вода и снег. А ведь последние вовсе не различны, ибо снег — не что иное, как вода. Когда колебания духа становятся более интенсивными, он обращается в материю, а когда колебания материи становятся неуловимее, она обращается в дух. И вот так Вечность дает материи бессмертие и незыблемость, ибо ее произрождение зависит от Бога. Произрождение и время имеют разную природу на небе и на земле, недвижную и незыблемую на небе, подвижную и изменчивую на земле.
Все, что есть проявленного, имело начало, рождение и родилось не из себя самого, но из другого. Вещи сотворенные многочисленны, и каждая проявленная вещь, различная и не имеющая подобных, родилась из другой вещи. И в том смысле, что она из другой вещи, она смертна. Смерть — это показатель иного в вещи, помимо самой этой вещи в себе. Поэтому есть Некто, Кто делает вещи и Кто Сам по Себе Несотворен и лежит вовне творения. Я говорю, что все, что рождено, родилось из другого, и что никакая сотворенная вещь не может быть вовне других, но только Несотворенный, Он есть Высший в силе, Единый и Единственный действительно Мудрый во всех вещах, потому что Он ни от чего не зависит. От Него зависит множественность, величина и различность вещей сотворенных, продление Творчества и его мощь. Творения видимы, Он же никогда не видим. Если ты это поймешь, то То, что кажется Невидимым, для тебя будет повсюду проявленным. Если бы Он был Проявленным, Он бы не был Богом: Невидимое существует всегда без необходимости в манифестировании. Оно есть всегда и делает все вещи видимыми. Невидимое, потому что Оно вечно, проявляет все, не раскрывая Себя. Несотворенное, Оно эманирует все вещи в проявлении; проявленность присуща только сотворенным явлениям, она есть не что иное, как рождение. Тот, кто Един и несотворен, в силу этого Невыявлен и Невидим, в то же время манифестированием всех вещей выявляется в проявлении и через него становится Видимым для тех, кто хочет Его найти.
Говорю тебе, что мир есть проявление Бога. Там, где в разнообразии форм скрыто Его Единство под видом разных имен и образов, в которых Он исчезает, как Безымянный, достойный славы и почитания. Потому что Единство содержит, согласно законам разума, декаду, и декада содержит Единство.
— Но вечно ли творчество Единого? Не сменяется ли Его покой активностью, и активность покоем?
— Единство как Принцип и Первоисточник всех вещей существует во всем, как Принцип и Первоисточник. Он сам по себе свое основание, потому что у него нет других. Единство, которое есть принцип, содержит все числа и не содержится ни в каком. Оно рождает их всех и не рождается ни из чего другого. Существует Единый Творец всех этих вселенных. Место, число и протяжение не могут сохраняться без Творца. Порядок не может существовать без места и измерения; необходимо должен быть Господин. О мой сын! Дай Ему Имя, которое подходит наилучшим образом, назови Его Отцом всех вещей, ибо Он Един и Его чистое Действие — это быть Отцом; Его сущность — это рождать и творить. И как ничто не может существовать без Творца, точно так же Он Сам не существовал бы, если бы Он не творил беспредельно… Он есть то, что есть, то, чего нет, ибо то, что есть — Он проявил, то, чего нет, — Он держит в Себе Самом…
Ибо нет ничего, что бы не было в Нем, и все, что есть, — это Он Единый. Вот почему Он имеет все имена, ибо Он есть Единый Отец, и вот почему Он не имеет имени, ибо Он Отец всего. Всякая вещь — от Него, а потому Бог есть все. Творя все, Он творит Самого Себя, никогда не останавливаясь, ибо Его активность не имеет предела, и точно так же, как Бог безграничен, творение не имеет ни начала, ни конца.
— С чем же связано, о Трисмегист, творческое пробуждение человека как двойственного существа?
— Божественная часть человека состоит из души, чувствования, духа и разума, и могут они взойти на небо. В то же время часть космическая, мировая, составленная из огня, земли, воды и воздуха — смертна и остается на земле до тех пор, пока погрузившееся в мир их не восстановит. Истинное творчество начинается тогда, когда часть смертная предохраняет себя от желаний и отстраняет от человека все то, что ему чуждо, ибо земные вещи, которыми тело желает обладать, чужды всем частям Божественной Мысли. Их можно назвать владением, ибо они не родились с человеком.
Я говорю человеку: ты несешь внутри себя высочайшего друга, которого ты еще не знаешь, ибо Бог обитает внутри каждого человека, но немногие могут найти Его. Человек, который приносит в жертву свои желания и свои действия Единому, Тому, из Которого истекают начала всех вещей и Которым создана Вселенная, достигает такой жертвой совершенства, ибо тот, кто находит в самом себе свое счастье, свою радость и в себе же несет свой свет, — тот человек находится в единении с Богом. Душа, которая нашла Его, освобождается от рождения и смерти, от старости и страдания и пьет воду бессмертия.
Здесь новое и истинное начало Творчества: если бы ты мог иметь крылья, парить в воздухе между небом и землей и оттуда видеть твердость земли, воды океана, течение рек, легкость воздуха, чистоту огня, бег звезд и движение неба, их окружающего, — о мой сын! — какой это великолепный вид, ты бы себя мог почувствовать недвижным, ты мог бы познать в одно мгновение недвижное движение, проявление Невидимого в порядке и просторе мира! Таков славный конец того, кто следует мудрости: стать Богом! И это Начало…
* * *
Для тех, кто как бы целиком упился вином и наполнился нектаром (так как красота проходит через всю душу), возможно стать и не только созерцателем. Такой уже не находится вне, и предмет созерцания тоже не вне его, но тот, кто созерцает его проницательно, в самом себе имеет созерцаемое и, многое имея, не знает, что имеет, и взирает на него как на внешнее, поскольку взирает на него как на созерцаемое и поскольку хочет взирать на него этим образом. Все, на что взирает кто-нибудь как на зримое, он видит внешним. Однако необходимо перенести это уже в самого себя, и взирать, уже будучи единым, и взирать как на самого себя, подобно тому как если бы кто-нибудь, охваченный богом, оказался объятый Фебом или некой Музой, созидая в самом себе видение бога, если он обладает в самом себе способностью взирать на бога.
Если бы мы были первообразами, сущностью и одновременно эйдосами; и творящий эйдос сам был бы нашей сущностью, то и наше художество достигало бы победы без трудов. Однако даже и человек может осуществить свой собственный эйдос, хотя человек и возникает не в качестве того, чем он действительно является. Став теперь человеком, он отошел от бытия в качестве Всего. А перестав быть человеком, он парит в высотах и управляет всем миром.
Произойдя из целого, он и творит целое.
VIII Безмолвие божественной игры
Прекрасно то, где сущность и причина — одно и то же.
Все времена и все века — я. Душа и мир — все это я. Но разве никому не странно, Что в них я тоже не вмещусь? Я — сладкий сон, луна и солнце. Дыханье, душу я даю, Но даже в душу и дыханье Весь целиком я не вмещусь. Все то, что было, есть и будет, Все воплощается во мне. Не спрашивай! Иди за мною. Я в объяснения не вмещусь.— Душа танцует вокруг Ума, разглядывая и созерцая его.
— И несется в волнах божественного созерцания…
— Всепроникающая радиация, исходящая от Единого, подобна ослепительному свету, рожденному великим солнцем;
— Развертываемая сила, потенция Единого; беззвучно бурлящее в себе семя, содержащее потенциально все реальности; вечная вспышка спонтанной творческой мощи;
— Вселенная взаимопроникающих, пластичных, прекрасных духовных сущностей, каждая из которых содержит все остальные в органическом единстве ритмичного созерцания;
— Космос умственной реальности, спокойно и щедро содержащий прообразы всех феноменов чувственного мира, кипящего во времени;
— Высшая напряженность, высшая степень проявления любви ума как такового, и человеческого, и божественного, и космического.
— Почему все же обособляется конкретная душа, отдаляясь от Мировой Души?
— Дерзкая смелость души — вот причина такой индивидуализации. А эта смелость обусловлена ее ключевой первоначальной двойственностью, инаковостью, с одной стороны, и желанием принадлежать самой себе, с другой…
— Душа двойственна потому, что изначально дуалистачен Нус, отражением которого и является она. С другой стороны — это непреклонная решимость души быть самостоятельной, что также является ее ключевым принципом.
— Следовательно, обособление души является одновременно результатом свободного ее устремления в материю, в чистую неопределенность, поскольку там она может реализоваться как некая самостоятельная активность и в то же время она должна устремиться в материю. Душа — луч света, который по собственной своей природе — свободно — нисходит в мрак и там слабеет. Но это также и ее рок.
— Таким-то образом, причина индивидуализации души — ее фатальная свобода. Более того, душа по своей природе обречена на свободу. Эта свобода может довести душу до полного незнания о своем происхождении, подобно ребенку, который сразу после рождения отделяется от родителей и вырастает на чужбине. В этом случае душа как бы все больше и больше отстраняется от великого и божественного и все более начинает ценить и стремиться к чувственному и иллюзорному. Задача человека — вспомнить об истинной родине своей.
— Но что это значит?
— Прежде всего его индивидуальная душа должна понять, что она в себе самой и Абсолютная Душа. А достигнуть этого она может только путем тишины. И если будут тихими у нее не только окружающее ее тело и прибой тел, но и все объемлющее: тиха земля, тихо море, тих воздух, и само небо невозмутимо, тогда и сможет созерцать она, как отовсюду Вселенская Душа как бы втекает, врывается, отовсюду входит в нее неподвижную и освещает ее. Так, путем молчаливого и спокойного сосредоточения может осознать человек в себе Единую, Вселенскую Душу.
— Потому-то божественный Пифагор и требовал у тех, кто стремился стать его учениками, чтобы приняли они обет молчания на пять лет.
— Но душа есть лишь образ ума. Как выговариваемое слово есть образ слова в душе, говорил иногда Пифагор, так и душа есть слово ума. Душа — словно излучаемая из огня теплота; словно вода, изливаемая из источника; словно дерево, вырастающее из корня. Душа — активность ума вне самого ума. Поэтому глубинная сущность души — интуиция. Душа в своей основе ведь есть ум и ее подлинная жизнь — созерцание ума.
— Можно утверждать, что вся реальная жизнь души есть созерцание. И всякое действие души в конечном счете совершается ради созерцания и объекта созерцания. Другое дело, осознает она это в данной точке потока времени или нет.
— Точнее говоря, даже всякое действие души есть лишь момент в ее стремлении к созерцанию. Жизнь души есть движение, стремление к созерцанию ума. Эта жизнь, это движение есть путь от действия к рассудку, от рассудка к интуиции.
— Поэтому мы и считаем, например, что творчество природы есть лишь момент в созерцании Вселенской Душой Ума.
— Да, но пространственно ум никак не отделен от души. Интуиция Абсолютной Души, направленная на саму себя, и есть Нус.
— И в этом смысле Ум — чистый интеллект, несравненная мудрость и истинная жизнь. Нус, в противоположность Абсолютной Душе, чужд исканий и стремлений: он самодовлеющ и поэтому неизменяем. Он мыслит, не ища, но имея. Если жизнь души, то есть ее мышление, состоит в стремлении, то жизнь ума состоит в обладании. В истинном Уме, субъект и объект, мыслящее и мыслимое, образуют, несмотря на свою двойственность, единство.
— Но, дойдя до созерцания Нуса, душа должна спросить: ведь этот ум и умственное — вместе, так что двое — вместе; но если двое, то нужно принять предшествующее двум, то есть Единое. Ведь два не может быть без одного. Как из Единого получает свою субстанцию Ум, или иначе, как из Единого изливается множественность реального мира?
— Прежде чем начать мыслить об этом и о том, что есть Нус и ум, необходимо вновь коснуться глубинной сущности диалектики как способа взаимосвязи внутреннего и внешнего, объекта и субъекта…
— Да, но более того, действительная диалектика есть такой путь мышления и жизни, когда внутреннее есть само по себе внешнее, а внешнее есть внутреннее. Иначе говоря, диалектика — это система, где субъект потому и субъект, что одновременно он есть объект, а объект является объектом, потому что одновременно он есть субъект.
— Но проявляется эта диалектика по мере продвижения к Единому по-разному. Возьмем, например, природу. Утверждают: «природа творит». Что это значит? А то, в конечном смысле, что эйдос определяет материю. При этом данный эйдос перестает быть эйдосом, но делается смыслом некой деятельности. Но сам эйдос не переходит в эту деятельность. То есть он разделяется, оставаясь самим собой, самопротивопоставляется. Например, есть смысл лотоса вообще и смысл лотоса, воплощенного в материи, то есть в конкретном цветке. Но ведь это тот же самый, один и единственный эйдос лотоса. Следовательно, факт воплощения эйдоса в материи возникает только потому, что он может самого себя самому же себе противопоставлять, будучи поэтому сам для себя и субъектом и объектом.
— Но сделаем и следующий шаг. Душа есть эйдос. Но этот эйдос перешел во внешнее действие и забыл себя. Однако через это внешнее же действие душа может вернуться к себе и выявить свой собственный смысл. Деятельность, активность — а это и есть внешнее воплощение души, — в этом случае обращается к созерцанию. То, что она получает в душе, то есть в самой себе, которая и есть смысл, не может быть не чем иным, как безмолвствующим логосом. И это тем больше, чем больше душа как активность есть смысл. Тогда именно и соблюдает душа тишину и уже ничего не ищет, поскольку она наполнена. Созерцание в таком доверии к своему владению пребывает обращенным вовнутрь. И чем более ясно доверие, тем безмолвнее и созерцание, тем больше идет познающее к единству с познанным.
— Следовательно, все заключается в степени отождествления субъекта с объектом. В природе субъект отождествляется с объектом вне себя. В душе это отождествление происходит уже так, что субъект находит себя в себе же, но пока через посредство инобытия. И есть еще более высокое тождество, где субъект будет отождествляться с собою и, следовательно, созерцать себя в себе же, и притом без всякого посредства инобытия.
— Но человек есть и природа, и душа, и ум, и Единое.
— Сказать так будет недостаточно. Человек есть природное существо потому, что он есть и душа, и ум, и Единое. Он есть душа, потому что он и природное, и ум, и Единое. И так далее.
— То есть восхождение человека к Единому обусловливается не только им самим, его свободой, но и его, если можно так сказать, первоначальным роком. Этот рок в том, что он потенциально есть Все.
— Восхождение к Единому есть восхождение к Благу в себе. И продвижение по этому пути требует того, чтобы диалектика внешнего и диалектика внутреннего, диалектика объекта и диалектика субъекта становились одной, единственной диалектикой.
— Наша душа однородна с Абсолютной Душой. Но этого еще недостаточно для восхождения к единому Уму.
— Да, ведь в своей душе мы открываем двоякий ум: с одной стороны, рассуждающий, а с другой — доставляющий рассуждения. Действительно, можно спросить себя: если душа периодически то рассуждает о справедливом и прекрасном, то не рассуждает, должен быть в нас некто не рассуждающий, но всегда имеющий справедливое, то есть целостный ум. Более того, должно быть в нас поэтому и начало ума, тот центр в нас, с которым мы соприкасаемся и существуем и от которого зависим. Это центр силы, а путь к нему есть путь силы. Но и центр и путь к нему — нераздельны…
…В этот момент я чувствую, что где-то в глубине опять забурлил огонь. Беззвучные волны, идущие изнутри, кажется, ищут ту ритмику волн, энергии, которая вокруг него. Я вижу, как они медленно соприкасаются и вдруг, словно вспышка, рвутся во все стороны, и я сам превращаюсь в беззвучный вихрь, полностью растворяющийся в могучем, но грандиозном в своей красоте безмолвном потоке…
…Что-то несется впереди в бурлящем потоке. Странные очертания человекоподобных гор… пустыня… опять горы. Темное, дергающееся, огромное человеческое лицо. Вдруг разом все как бы отхлынуло…
…Мрак… Небольшая землянка… Ночь… Изредка скользят тени… Тихий, с посвистом голос что-то бормочет. Звуки то усиливаются, то ослабевают:
— О Боже, о Боже, дай мне знание Твое. Дай мне возможность прикоснуться к истине Твоей, о Боже. Прошу Тебя, о Боже, сжалься надо мной. Каждым вздохом своим, каждым выдохом своим, каждой частью бренного моего тела, душой своей прошу, о Боже, — дай мне возможность прикоснуться к знанию Твоему, тайне Твоей, к свету Твоему, к теплу Твоему, истине Твоей…
…Ночь. Неподвижная ночь. Бормотание. Все глуше и глуше. Несвязные слова. И вдруг… Исступление. Ярость. Огонь всепоглощающий… На земле — скрюченная, в лохмотьях фигура. Пальцы впиваются в камень. Капли крови на грязных, иссохших ладонях. Полузакрытые глаза, дрожащие веки. Оскаленные зубы…
— …О Боже милостивый. У меня ничего не осталось, кроме Тебя. Уже много лет я обращаю к Тебе молитвы мои — дай мне возможность прикоснуться к Твоей истине. Дай, дай, о Боже, дай…
Вопль. Еще… Боль. Ночь. Тишина. Распростертая фигура на камнях. Свист летучей мыши. И бормотание, бессилие… Провал… Сон… сон…
…Все небо — единый свет. И голос мягко и нежно звенит в пронзительном полете лучей:
— Встань и иди. Иди на восток. В первом же городе на твоем пути ты войдешь в дом. Там ты найдешь некоего слугу. Он ждет. Он тот, кто тебе даст Знание, которое ты заслуживаешь…
…Фигура вскакивает и бросается к выходу. Но тень ее застывает на стене. Человек бежит. Радость его словно превратилась в крылья, которые несут его к свободе, на восток. Темно, но человек видит, видит своими ногами, своим телом.
…Он устало, едва переставляя ноги, входит в большой, просторный двор. Фруктовые деревья со спелыми плодами; три красочных, застывших в своей гордости павлина. Люди, занятые своими делами.
Человек останавливается в нерешительности. Он вдруг понимает, что не знает… Через минуту кто-то прикасается к его левому плечу. Он чувствует холод, неопределенный ужас, и резко оборачивается. Небольшой, какой-то бесформенный и без возраста, в старой, но чистой, зеленой одежде некто, чуть улыбаясь, мягко и тихо говорит:
— Ты ищешь меня?
Человек посмотрел на него, и вдруг ему показалось, что тот смотрит на него одновременно спереди, сзади, с боков, сверху. Потом человек, протерев глаза, торопливо рассказывал, как много лет назад выбрал путь отшельника; какие претерпел испытания, пока не почувствовал истинную святость духа; он говорил о видении, о Голосе, направившем его на восток.
Собеседник же его, не поднимая лица, казалось, внимательно слушал, затем так же тихо, шепотом, но ясно сказал:
— Имя мое — Хыдр, и я скоро ухожу в далекое путешествие, чтобы сделать нечто очень важное. Ты можешь получить то, что хочешь, если пойдешь со мной.
— Я пойду с тобой, куда ты скажешь.
— Хорошо. Но запомни вот что: ты не должен ни о чем меня спрашивать. Ни о чем. Что бы ни случилось. Если ты — намеренно или случайно — нарушишь этот уговор, наши пути разойдутся.
К полудню следующего дня они дошли до широкой реки в пустыне, которая лениво или устало несла куда-то свои мутные воды. На утлой лодчонке они переправились на другой берег. Изможденный, почти беззубый лодочник долго благодарил их шамкающим ртом за те несколько медных монет, которые они смогли ему дать.
Когда путники отошли на некоторое расстояние от реки, Хыдр вдруг развернулся и, подав знак рукой человеку, направился, крадучись, назад. К самому берегу они пробирались уже почти ползком, скрываясь в тощих и колючих кустах.
Хыдр подполз к знакомой лодке. Кругом никого не было — старый лодочник, по-видимому, отправился к своей лачуге. На глазах у изумленного человека его спутник, вытащив откуда-то острый топорик, стал быстро и ловко дырявить днище. Закончив, так же осторожно и незаметно они вернулись на свою дорогу.
Изумление, перемешанное с испугом, довольно быстро сменилось у человека негодованием. И как он ни крепился, помня об уговоре, в конце концов не выдержал и стал упрекать слугу:
— Зачем ты так поступил? На добро ты ответил злом, лишив старика единственной его ценности. Почему направил ты свое сердце по пути подлости?
Хыдр остановился, нагнулся и взял немного дорожной пыли. Он осторожно растер ее рукой, а затем стряхнул. Только после этого он прервал свое, с начала путешествия, молчание и сказал:
— Ты забыл о нашем уговоре. На этот раз я тебя прощаю. Но если еще раз это произойдет, ты вернешься назад.
Он замолчал и пошел дальше. Человек, так и не успокоившись, побрел за ним.
К вечеру следующего дня они подошли к небольшому уютному домику. Счастливая семья — добрый и сильный муж, красивая и трудолюбивая жена, умный и забавный их сынишка — гостеприимно распахнули перед ними двери. Путников хорошо накормили, дали возможность искупаться, уложили на чистую, прохладную постель.
Усталый человек сразу заснул. Ему показалось, что проспал он всего несколько минут, когда напарник тихо разбудил его. Еще не рассвело, но небо уже наливалось темной голубизной, и тревожно сверкали предутренние звезды.
Хыдр сделал знак, и человек тихо последовал за ним. Он вошел в соседнюю комнату, где находилась кроватка малыша. Человек с ужасом следит за тем, как тот подошел к кроватке, вытащил кривой нож и, быстро зажав спящему ребенку рот, вонзил лезвие в тонкое детское горло. Затем так же быстро он покинул гостеприимный дом, ведя с собой парализованного человека.
Через несколько минут, когда человек унял внутреннюю свою дрожь и ярость, он с неприкрытой ненавистью набросился на Хыдра:
— Ты — гнусное отродье! Ты — дьявол в человеческом обличье! Ты тот, который хуже праха и навоза! Ты… Почему ты так подло поступил? Эти добрые люди отнеслись к нам как к своим родным, нет, лучше чем к родным. А ты — ты убил единственную их радость!
Хыдр остановился и, закинув голову, стал всматриваться в мерцающие, побледневшие звезды. Когда человек выговорился, он медленно перевел свой взгляд на него и тихо сказал:
— Ты опять забыл о нашем уговоре. В последний раз я тебя прощаю. Но если это произойдет в третий раз — мы расстанемся навсегда.
Он замолчал и неторопливо, но верно пошел дальше. Человек сначала стоял, громко выкрикивая проклятья, но потом, продолжая ненавидеть, побрел за ним.
К вечеру этого же дня пришли они в небольшой городок. Тамошние жители не жаловали тех путешественников, которые с собой приносили только дорожную пыль. Такие не находили приюта за городской стеной. Куда бы ни стучались человек и его спутник, отовсюду их гнали, травили собаками, обливали помоями. Потом их избили, разорвали одежду, и стражники, подталкивая тупыми концами копий, выгнали их за городскую стену. Здесь, рядом с отвалами мусора, вместе с такими же несчастными и больными бедняками провели они ночь. По своему обыкновению, Хыдр вновь не проронил ни слова.
Рано утром он повел человека за собой. Они стали обходить городскую стену. В одном месте Хыдр остановился и пальцем показал на довольно широкую трещину в стене. Потом он сказал, что им надо заделать эту трещину.
Невыспавшийся и недоумевающий человек стал ему помогать. Хыдр работал скоро. Он натаскал воды, отрыл яму и замесил глину, добавив в нее стебельки какой-то длинной травы. Затем быстро и аккуратно заделал трещину. Когда помыл он руки, человек не выдержал и спросил:
— Как же так? В этом городе к нам отнеслись как к бродячим собакам. Ты же на это беспричинное зло и ненависть ответил добром. Я больше никуда с тобой не пойду. Но все же объясни мне напоследок, что значат твои поступки?
Хыдр внимательно и сурово посмотрел на него и сказал:
— Ты оказался неподготовленным. Это стало ясно уже тогда, когда ты не узнал меня. И ты правильно сделаешь, что вернешься. А теперь слушай. Днище лодки должно было быть продырявлено потому, что правитель той страны через несколько дней отобрал все, что может плавать, для перевозки своих воинов. Лодку старика не тронули, он ее починил, а сейчас разбогател.
Сын добрых родителей стал бы одним из величайших злодеев в этой стране и принес бы много горя своим отцу и матери. То, что было сделано, благо не только для них, но и для него. Через некоторое время у них опять родится сын, и они будут поистине счастливы.
Что касается стены, то в этом месте, которое мы заделали, находится клад. Он предназначен для двух братьев-сирот, которые живут в этом городе. Они должны его отыскать через пять лет. Мы заделали стену, чтобы никто не получил доступа к этому кладу, кроме братьев. А теперь возвращайся — путь всегда начинается сначала..
…Скрюченная фигура на земле задрожала. Человек, казалось, медленно возвращался: то ли из сна, то ли из долгого путешествия к самому себе…
Я вижу, как быстро ложатся на пергамент неровные строчки, и как я мучаюсь, пытаясь столь несовершенным языком выразить нечто важное… Но я пытаюсь это сделать, ибо это прежде всего для меня, для облегчения моего жизненного бремени и для поиска моей тайной радости:
«Попробуем прежде увидеть и самим себе разъяснить (насколько это доступно словам), как можно созерцать красоту Ума и того Космоса. Пусть рядом лежат, допустим, два камня. Причем один — необработанный, непричастный искусству. Другой — уже преодоленный искусством и превращенный в статую бога или какого-нибудь человека. Если это статуя бога, то — Хариты или какой-нибудь музы, если человека — то такого, которого искусство создало на основании того, что прекрасно во всех людях. В таком случае камень, превратившийся от этого искусства в красоту формы, оказался прекрасным не от того, что он — камень (ведь иначе подобным же образом был бы прекрасен и другой камень), но от того логоса, который вложило в него искусство. Материя этого камня эйдоса не имела, но он был в художнике, и не потому, что у него были глаза и руки, но потому, что художник был причастен искусству.
Следовательно, красота эта присутствовала в искусстве в более высшем виде. При этом та красота, что в искусстве, в камень не привходит, а привходит от него другая, меньшая, чем та. Да и эта, меньшая, не осталась чистой в камне, как хотел художник, но постольку, поскольку камень поддался искусству. Потому-то чем более развита душа художника, тем чаще он разочаровывается после окончания работы: то, что в конечном счете получилось, и то, что в нем, ведь всегда отличаются.
Но оставим искусство. Рассмотрим то, произведениям чего подражают художники, то есть те предметы, которые возникают и считаются прекрасными от природы. Откуда воссияла красота Елены, бывшей предметом спора? Откуда те из женщин, которые похожи красотою на Афродиту? Да и красота самой Афродиты — откуда? Не есть ли это везде эйдос, который идет от создавшего к ставшему, подобно тому, как и в области искусства он идет, согласно нашему утверждению, от самих искусств к произведениям искусства?
Произведения искусства и существующий в материи логос прекрасны, а предшествующий, идеальный смысл, который не в материи, но в самом творящем, разве не есть красота, тот смысл первичный и нематериальный?
Есть внешние и есть глубинные пласты внутреннего. Мы же, не имея никакой привычки к выделению внутреннего и не обладая таким умением, гоняемся за внешним и не понимаем, что на нас действует внутреннее. Это подобно тому, как если бы кто-нибудь, видя свое изображение, преследовал бы его, не зная, откуда оно взялось.
Предмет нашего стремления — иной. Красота заключается не в физических размерах. Поэтому она и в науках, в занятиях, вообще в душах. Здесь, на самом деле, еще большая красота, когда ты созерцаешь в ком-нибудь разумность и удивляешься ей, невзирая на лицо (ибо последнее могло бы быть и безобразным). Но ты, отбросив всякую внешнюю форму, устремляешься к внутренней его красоте. Если же она еще не действует на тебя так, чтобы назвать такого человека прекрасным, то, значит, и самим собою ты не можешь наслаждаться как прекрасным, когда смотришь в собственную глубину. Следовательно, напрасно ты стал бы стремиться к этому, находясь в таком состоянии. Ибо ты будешь искать безобразным путем, но не чистым. Потому и не ко всем — слова о таковых вещах.
Итак, и в природе существует смысл красоты, который является первообразом в отношении той, что в теле. Но по отношению к той красоте, что существует в природе, есть свой первообраз — еще более прекрасный логос в душе. Однако яснее всего он в душе возвышенной. Этот смысл красоты, украшая такую душу и освещая ее светом первичной красоты, сам оставаясь в душе, заставляет заключать, каков есть принцип красоты, еще раньше воплощенного в душе эйдос а. Принцип, который уже не становится в чем-нибудь и не пребывает в ином, но только в самом себе. Поэтому он уже и не логос, но творец красоты, существующей в душевной материи. Он — Ум, постоянно Ум, поскольку он не пришел к самому себе извне.
И в данном случае, в отношении этого образа мы имеем знание от Ума, пребывающего в нас в чистом виде или, если угодно, от богов о том, каков существующий в них ум. Именно: все боги возвышенны, прекрасны, и красота их неизъяснима. От чего они таковы? Это — Ум. И они таковы потому, что в них по преимуществу действует Ум в целях своего обнаружения. В соответствии именно с Нусом и существуют они как боги, а будучи богами, они прекрасны.
Дело обстоит не так, что они, боги, иной раз пользуются умом, иной — не пользуются, но так, что они всегда пользуются умом в Уме бесстрастном, устойчивом, чистом. Они все знают и познают не человеческое, но свое собственное, божественное, и то, что зрится умом. И истина является для них и родительницей, и кормилицей, и существованием, и нищетой. И они видят то, чему не присуще возникновение, но что есть само бытие, и самих себя они видят в других. Ведь все там, в Уме, прозрачно: и нет ничего ни темного, ни противящегося взору. Всякий бог ясен всякому. Ибо свет прозрачен для света. И всякий содержит все в себе и, в свою очередь, видит все в другом, так что все находится везде, и все есть все, и каждое все, и потому сияние — беспредельно. Ведь каждое из этого — велико, так как и малое — велико. В Уме и солнце есть все звезды, и каждая звезда, в свою очередь, есть солнце и все. В каждом светиле восходит иное, видится же в каждом все.
И движение в истинном Уме чистое, поскольку движущее, так как оно не отличается от движения, не мешает ему, когда последнее происходит. И покой здесь не нарушается никаким движением, так как он не примешан к тому, что неустойчиво. И прекрасное — прекрасно потому, что оно не находится в не-прекрасном. Для каждого здесь то, в чем он находится, и является тем, что он есть. И то, в чем он находится, бежит вместе с ним, когда он, например, поднимается вверх, и сам он не отличается от занимаемого им пространства. Здесь каждая часть появляется всегда из целого, и каждое, взятое в отдельности, есть одновременно и целое. Для созерцания все здесь — неисчерпаемо.
Видящий видит здесь все больше и больше и созерцает в качестве беспредельного себя самого, и видимое следует в этом только своей собственной природе. Именно жизнь, когда она чистая, никому не приносит утомления. Да и что могло бы утомить того, кто живет наилучше? Жизнь же есть мудрость, и такая мудрость, которая не доставляется умозаключениями. Ибо мудрость здесь всегда целостна и ни в чем не ущербна, чтобы нуждаться в мыслимом искании. Но она существует как первичная и не от другой мудрости. И само бытие есть мудрость, но именно не так, что сначала — бытие, а потом — мудрость. Вследствие этого нет никакой большей мудрости, и знание — в себе совосседает там с умом.
Действительно, все такое существует здесь наподобие статуй, которые видятся сами через себя. О величии и силе мудрости можно судить по тому, что она имеет с собой и содержит как сотворенное все сущее; все последовало за ней, и она есть сущее, и оно совозникло с нею, и оба они — одно, и бытие здесь есть мудрость.
Итак, все происходящее, будь то произведения искусства или природы, создает некая мудрость. И творчеством везде водительствует мудрость, „софия“.
Если же скажут, что эйдос заключен в природе и, с другой стороны, природа является его принципом, то мы спросим: откуда же природа его получает? И если из чего-нибудь другого, то отличается ли это от нее? Но мы успокоимся, если скажут, что он возникает из себя же самого. А если будут восходить к уму, то необходимо посмотреть, ум ли породил мудрость. А если это подтвердят, то — откуда? А если из самого себя, то иначе не может быть, как то, что сам истинный Ум и есть мудрость. Следовательно, действительная мудрость есть бытие, и истинное бытие есть мудрость. При этом достоинство для бытия — от мудрости, и, поскольку от мудрости, оно есть бытие истинное. Потому и те сущности, которые не содержат мудрости, тем самым — не суть истинные сущности.
Следовательно, не нужно считать, что боги и другие созерцают в уме рассудочные аксиомы, но все в отдельности здесь являются прекрасными изваяниями наподобие тех, которые иной раз вспыхивают в душе мудрого мужа. Причем изваяния эти не нарисованные, а сущие. Поэтому древние и говорили, что эйдосы есть сущее и сущие…»
…Я присаживаюсь на валун, рядом с Аммонием. Полная луна освещает берег моря: пенистые волны яростно рокочут свою давнюю песнь, пытаясь пробраться выше, на песчаный берег. Аммоний, казалось, прислушивается к чему-то. Затем он поворачивает к нам свое красивое старческое лицо и начинает рассказывать, тихо и ясно:
— Когда-то, в давние времена, жил в некой большой богатой стране стрелок из лука. Долгие годы совершенствовал он свое умение и мастерство в стрельбе. И в конце концов стал он непревзойденным мастером и достиг замечательных результатов. Говорят, и я этому верю, мог он первой своей стрелой попасть в любой глаз высоко летящей утки и одновременно вторым выстрелом попасть в хвост первой своей стреле.
И захотел он помериться силой и умением с другими стрелками из лука. И пошел он из одного города в другой, из одной страны в другую в поисках достойного соперника. Но кто бы ни вступал с ним в соперничество, не мог его одолеть. И слава его распространилась во все стороны, и возгордился он. И когда прибывал в новый город, то смеялся и оскорблял жителей, бахвалясь своим непревзойденным искусством.
Однажды в толпе, которая благоговейно взирала на него, некий старец сказал, что нанесет ему поражение. Гордо взглянул на него стрелок и, выхватив свой лук, одной стрелой поразил двух воробьев, летящих в отдалении над городской стеной. На что старик ответил, что он свое умение покажет в другом месте. Стрелок согласился и пошел за ним.
Трое суток, днем и ночью, без отдыха шел старик. И вот оказались они в безлюдном горном месте и все выше взбирались по узкой тропинке ввысь, пока не поднялись на высокую, над облаками, гору. Здесь, на вершине, была маленькая площадка, круто обрывавшаяся в глубокую пропасть, где шумела грозно река.
Измученный стрелок попросил старика наконец-то показать свое мастерство в стрельбе из лука.
Тот молча кивнул, улыбнулся, подошел к самому краю площадки, встал на цыпочки и стал танцевать.
Он танцевал долго, и внезапно поседевший стрелок из лука неотрывно смотрел на его закрытые глаза Когда же этот страшный и замечательный танец закончился, стрелок, неожиданно все осознавший, низко поклонился старику, назвал его величайшим лучником мира и тем самым признал свое поражение, которое стало его второй величайшей победой…
Аммоний замолчал, а потом, указывая на луну, сказал:
— Сегодня она купается в море…
— Что же есть Нус по отношению к Единому и Душе?..
— Итак, основа, предпосылка, потенция всего существующего, всего бытия — Единое. Оно есть все и ничто, ибо начало всего не есть все, но все — его, так как словно взошло там. Точнее, еще не есть, но будет. В этом смысле для нас Единое — Абсолютная потенциальность.
— Но как же происходит все из Единого, если в абсолютно тождественном отсутствует какая-либо пестрота, какое бы то ни было раздвоение?
— Именно потому, что нет ничего, поэтому и есть из него все. И именно для того, чтобы существовало бытие, Единое поэтому и есть не сущее, но родитель его. Единое есть все в смысле потенциального генезиса из него всего существующего.
— То есть Единое — абсолютно совершенно, и из его совершенства следует его преисполненность. Оно, будучи совершенным, потому что ничего не ищет, не имеет и ни в чем не нуждается, как бы переполненное самим собою, создает другое.
— Возникшее же обратилось к Единому и преисполнилось, а взирая на самое себя, стало, таким образом, Умом. И, с одной стороны, неподвижное пребывание Ума с Единым, то есть избыточность Единого, создало сущее, а с другой стороны, созерцание, направленное на самое себя, — Ум.
— Ум есть сущее, поскольку оно — избыточность Единого. Ум есть ум, как образ, как бы воображение Единого. Двойственность Ума составляет первоначальный дуализм бытия и мышления.
— Но Нус подчинен все тому же основному закону «излияния вперед», «пути вперед». В результате такого излияния вперед Ума возникает Абсолютная Душа. Но такая внутренняя активность Нуса означает не что иное, как дальнейшую избыточность самого Единого. В этом смысле Душа — порождение Единого через Ум.
— И здесь надо повторить вот что: во-первых, каждое произведение есть обязательно «худшее» сравнительно со своим «родителем», есть лишь его образ. Во-вторых, каждый член этой цепи — един, ибо происходит от Единого и в то же время дуалистичен: он обращен к высшему (получая от него ту или иную полноту бытия) и к низшему (сообщая, в свою очередь, ему ту или иную меру бытия). И, наконец, в-третьих, Единое и Мировой Разум производят последующее, сами пребывая неизменными. Но Душа творит уже в движении, будучи сама активностью вовне.
— Совершая «путь вперед» (опять-таки в силу дальнейшей избыточности Единого и могущества мысле-жизни), Душа создает «свои образы» — ощущения в «природе». То есть, животные и растения — моменты творческого «пути вперед» Абсолютной Души.
— Причем и Душа, словно двуликий Янус, обращена и к Уму, получая от него бытие, и к материи, оживляя как бы ее.
— Люди используют буквенное письмо, а это ведь «слово рассудка», выражение дискурсивного мышления. Но по мере продвижения к Единому необходима другая система изложения…
— Конечно, нужно нечто, подобное тайной письменности египетских жрецов. Ведь пиктография — это «слово ума». Но, кроме немногих, кто знает это «слово ума»? Мне известно, что и египетские мудрецы хотят обнаружить свою мудрость о том или другом предмете, пользуясь не буквенными знаками, выражающими слова и предложения, но рисуют целые изображения. В святилищах напечатлевают для каждого предмета одно специальное изображение, чтобы показать, что тамошняя мудрость не является дискурсивным мышлением. Каждое такое изображение является там наукой и мудростью, и именно — в своей субстрактной цельности. Затем от этой цельной мудрости возникает в ином частичное изображение, уже детализированное, которое само себя истолковывает дискурсивно и выражает причины, по которым оно было именно так создано, а не иначе.
— И все-таки даже дискурсивное письмо в себе самом отражает пласты скрытых взаимодействующих, динамических внутренних смыслов. Потому-то мудрые пророки толкуют загадки и понимают, что в них имеется в виду. А образность предполагает, что читающий будет воспринимать не жесткую, ограниченную логическую аксиому, мысль и т. д., но прежде всего пластичный, живой, бурлящий образ.
— И в данном случае, например, когда мы говорим о «преисполненности», «излиянии вперед» и т. д., необходимо воспринимать это как бы метафорически.
— То есть…
— Единое есть абсолютная, самодовлеющая, световая энергия — сила. Но эта световая энергия, сила имматериальна, и потому здесь и не может быть речи об отдаче какого-либо вещества. Энергия, сила «производна», «действует» и сама «пребывает». Низшее есть ослабевшая от излияния вперед энергия более высшего. Истинный Ум есть подобие силы, энергии Единого. Душа есть подобие энергии Ума. Природа как тело есть подобие Души. Здесь эта первоначальная энергия, сила настолько ослабевает, замедляется, что уплотняется в телах.
— А материя?
— Но она ведь тоже результат этого излияния вперед.
— Каким же образом?
— А тем, что материя — это полная пассивность, но пассивность, связанная с полным истощением силы. Иначе говоря, материя — это сила, но нулевая сила.
— Таким образом, все есть лишь одна и та же энергия, сила.
— Да, и как таковой, ей присуще действовать. Ведь и материя по-своему — отрицательно — действует, воспринимая эйдосы. Действия силы — порождение в объекте подобия данной энергии. Чем совершенней энергия, тем она преисполненной, то есть тем необходимее должна она действовать. Опять повторю: речь не идет о некой внешней необходимое — та; преисполненность — это форма выражения, манифестация совершенства силы. Всё, обладающее бытием, сохраняя свою истинность, порождает необходимый род существования, который относится к его сущности, как образ к своему первообразу. Так, тепло — образ огня, а холод — снега. Тепло — эманация огня, потому что огонь есть то, что он есть.
— Итак, если душа оказалась в растении, значит, ею окончательно овладела «дерзкая смелость» самоутверждения и отступничества. Иными словами, она дошла в своем пути вперед до крайней степени отчуждения от ума. Если же душа находится в животном, значит, ею владеет чувственное ощущение. Если же душа в человеке, то она уже разумна.
— Но Душа, как некая жизненная сила, в растениях пространственно совершенно не отделена от растительной энергии природы вообще. Последняя, в свою очередь, не отделена пространственно от души, воплощающей так называемую среднюю жизнь. Но эта опять, поскольку обращена к уму, составляет с ним единство, и ни о каком пространственном отделении здесь не может быть и речи. Таким образом…
— Таким образом, во-первых, вся Душа едина, во-вторых, она генетически связана с Умом, а в-третьих, произведенное тождественно тому, чему оно следует, поскольку оно ему следует — то есть Душа может уподобляться Уму.
— Каким образом это возможно?
— Путем самопознания — это основной путь в нашем продвижении к Нусу и одновременно диалектика самой умственной реальности. Ибо самопожертвование присуще лишь простому существу, а не сложному. Ведь утверждать, что способно к самопознанию сложное существо, которое мыслит одной своей частью все остальные, значит, не догадываться, что именно в этом случае и нет самопознания, а есть всего лишь обыкновенное познание одного посредством другого. Таким образом, только простые, не составимые принципы — душа и ум могут обладать самопознанием. Во-вторых, душа ведь есть необходимый образ Ума, необходимая по своей сущности манифестация истинного Ума, а следовательно, самопознание Души и есть уже самопознание Нуса.
— Душа не может познавать саму себя посредством ощущений. Но, кроме способности ощущать, душа обладает еще способностью рассудка Следовательно, проблему можно сформулировать так: как осуществляется через рассудок самопознание души?
— Да, но ведь есть две, кроме рассудка, познавательные способности души — ощущение и воображение. Где же место рассудка, дискурсивного мышления?
— Предположим, я вижу человека, то есть я имею зрительное ощущение человека. Мое ощущение передает полученное впечатление мышлению. Что же делает с этим впечатлением мышление?
— Прежде всего, лишь сознает его. Иначе говоря, душа сознает физиологический процесс. Но рассудок может не ограничиваться простым сознанием, а станет производить высказывания. Это уже второй этап. Такое высказывание может быть простой констатацией: «Это Платон», то есть результатом памяти и воображения.
— Так рассудок создает суждение на основе получаемых из ощущения образов, посредством их анализа и синтеза.
— Да, но суждение может быть и не простой констатацией, не наименованием, а предицированием. Например: «Платон мудр». Такое высказывание есть суждение и о чувственно воспринимаемом, и о более высшем: кроме ощущения и представления, оно предполагает еще некий канон мудрости, которую душа находит в себе самой. Ведь саму мудрость, не как результат, а как феномен в себе самом, ощутить нельзя.
— Как же душа получает, находит в себе нечто, позволяющее ей судить, что, например, «Платон мудр»?
— Дело в том, что Душа как истечение, эманация Ума в себе имеет образ Блага, добра. И она обладает силой потому только, что ее осветил обладающий таким качеством ум. То есть свои глубинные представления, элементы, необходимые для суждения, рассудок, как дискурсивная мыслительная способность, черпает из ума.
— Человеческая душа, таким образом, занимает некое срединное место между ощущением и умом.
— Да, потому что рассудок, как и воображение, занимает промежуточное положение. Подобно тому как воображение получает свои образы и от ощущений и от ума, так и рассудок познает внешние впечатления, но в соответствии с умственной реальностью, Нусом.
— А теперь можно сформулировать, что означает «самопознание рассудка». Такое самопознание устанавливает для рассудка прежде всего сам факт его рассуждения и сознания им внешних впечатлений. Это во-первых. Далее, рассудочное самопознание ведет к выводу, что рассудок высказывает суждение о предмете, пользуясь некими базовыми канонами. Это во-вторых. Наконец, самопознание рассудка говорит, что существует нечто более высшее, чем он сам, то есть ум, откуда и заимствуются такие каноны.
— Следовательно, действительное самопознание души уже ведет к самопознанию ума. Если душа способна к внутреннему созерцанию, то она на определенном этапе начинает видеть не столько саму себя, сколько свой совершеннейший первообраз. Таким образом, душа убеждается, что, будучи образом ума, она может созерцать той своей деятельностью, которая обладает памятью о том, что она носит в себе. Поэтому, чтобы узнать, что такое ум, надо созерцать самое высшее, самое божественное в душе. А для этого надо отделить от человека, как такового, тело, ощущение, желания, страсти и т. д. То, что останется, и есть образ ума, сохраняющий нечто от его света: душа ведь есть возникающий из ума свет, который окружает солнце ума. Подобно тому как этот свет расходится в воздухе в различные стороны, так и наша жизнь разветвляется на многие виды жизни. Но тот, кто дошел до чистой душевной жизни, когда душа всецело обращена к уму, тот через самопознание души достигает познания ума.
— Таким образом, самопознание рассудка ведет нас к признанию существования ума, а следовательно, уже и к проблеме самопознания ума.
— Самое главное здесь в том, что самопознание ума должно предполагать живое, пластическое тождество созерцающего и созерцаемого, ума и мышления ума.
— То есть исходить из того, что мысль и мыслимое едино, что едино и ум и мысль. Как же при этом ум мыслит самого себя?
— Мыслимое в уме есть активность, энергия. Это именно живая и мыслящая активность. А ведь такая активность и есть мысль, то есть активный ум. Но ведь ум, в отличие от рассудка, бывает всегда исключительно активным. Таким образом, мыслимое, мысль и ум тождественны.
— Следовательно, если мысль ума есть мыслимое, а мыслимое — он сам, то он будет мыслить самого себя. Потому что он будет мыслить мыслью, что и было им самим, и будет мыслить мыслимое, что и было им самим. Итак, с обеих точек зрения, абсолютный Ум будет мыслить самого себя, поскольку и мышление было им и поскольку мыслимое — он сам. Значит, такой ум и мысль — единое, и ум как целое познает себя как целое.
— Давай для большей ясности сравним самопознание ума с самопознанием рассудка.
— Для рассудка типичен дуализм дискурсивного мышления и его объекта, то есть отчужденность предмета мышления от мысли. А поскольку истинно реальное выше рассудочного мышления, то последнее есть лишь истолкователь этого высшего, хотя и родственного ему. И познавать себя рассудок может не иначе, как всматриваясь в эти черты, как бы в следы ума, и тем самым становясь как бы образом ума. Поэтому мы и говорим, что самопознание рассудка — это искание.
Что касается самопознания Абсолютного Ума, то здесь ситуация иная. Ум, в силу своей активности, есть мысль, а мыслимое, в силу своей возвышенности, есть жизнь и также мысль. Следовательно, Ум, как мыслящее, познает Ум, как мыслимое. А это и значит, что Ум, как мысль, познает Ум, как мысль.
— Таким образом, необходимо признать у Ума самопознание и то, что он существует в самом себе, что нет у него какой-либо другой функции и что сущность есть бытие Умом. И, конечно, последний не является практическим умом, рассудком. Ведь для рассудка, ориентированного на внешнее и не пребывающего неизменно в самом себе, возможно лишь некоторое знание внешних предметов. А раз он всецело практический, то ему нет необходимости познавать самого себя. Но для того, которому не присуща внешняя деятельность (так как у чистого Ума нет даже и стремления к отсутствующему), для того не только вполне обоснованно обращение к самому себе, но и доказана необходимость самопознания. Ибо в чем может состоять подлинная жизнь того, кто отошел от внешней деятельности и существует в уме?
— Таким образом, жизнь ума именно в самопознании и состоит. Ум, можем мы сказать, есть активность в нем самом. Но эта активность есть истинное спокойствие. И с этой точки зрения, сосредоточенная на самопознании спокойная жизнь ума отличается от души, стремящейся к уму и пребывающей в вечном движении и деятельности.
— Что же дает самопознание уму?
— Самопознание говорит уму, что он обладает множественностью и различием. Ведь созерцание нуждается в объекте, и объект этот, раз умственная деятельность предполагает переход от одного к другому, есть множественность. Иными словами, ум, поскольку мыслит, предполагает дуализм субъекта и объекта (в самом себе). Причем объект, чтобы быть различаемым, должен быть, в свою очередь, множественным. Ведь познание абсолютно простого невозможно.
— Но самопознание ума одновременно содержит в себе указание и на Единое. Сама множественность ума объясняется тем, что ум, стремясь к созерцанию Единого, переходит от одной мысли к другой. Прежде множественности должно существовать Единое, от которого множественность и получает свое бытие. Это подобно единице, которая предшествует всякому числу, составляет каждое число и в то же время остается единицей. Без Единого все было бы беспорядочным хаосом.
Таким образом, диалектика самопознания ума, с одной стороны, обнаруживает в уме априорные нормы рассудка и прообразы чувственного мира, поскольку ум есть красота, истина и добро. С другой стороны, эта же диалектика самопознания ведет к таинственному соприкосновению с Единым, Благом, которое обусловливает собой и Ум, и все существующее.
— При этом Ум является «первой активностью» Единого. Ум есть вытекающая из Единого активность, энергия, подобно тому, как из солнца истекает свет.
— Это Единое есть «неизреченное» и «неизрекаемое». Оно выше Ума, знания, сущности. Оно трансцендентно решительно всему. А так как мышление возможно лишь там, где множественность объединяется в общем сознании, то самопознание не присуще Единому. Оно — абсолютное начало, познаваемое лишь посредством некоторого мимолетного умственного осязания.
— Таким образом, путь самопознания ума ставит две проблемы — единство первоисточника активности ума и множественности его содержания. Каким образом они связаны?
— Прежде надо еще раз повторить следующее. Самопознание души раскрывает в ней ощущение и рассудок. Самопознание присуще только рассудку. Самопознание рассудка есть, собственно говоря, уже начало самопознания ума. Самопознание предполагает единство субъекта и объекта Ум таким единством обладает: мысль здесь познает мысль. И основа этого единства — Единое.
— Почему это так, ясно. До всего, что существует, должно быть дано единое и простое Первоначало. Это Первоначало, вследствие своего совершенства, является потенцией всего существующего. Оно поэтому является трансцендентным всему существующему и прежде всего Нусу, который рождается от него.
— Иначе говоря, существует необходимость пути вперед, вследствие переполненности Первоначала, но при этом Единое пребывает неизменно в самом себе, ничего не отдавая, в ущерб себе, последующему. Это последующее, Абсолютный Ум, есть лишь образ, то есть уже не единое, но единомножественное. Оно происходит от Единого, как от единого источника света, от центрального огня, происходит по радиусам вся световая сфера.
— Абсолютный Ум, таким образом, един, так как едино Первоначало, Благо, но Ум в то же время множествен, так как он есть последующее.
— А почему бы само Единое не назвать умом, в котором все содержится, который всему причина? Какой смысл выделения Единого, если по поводу него можно лишь сказать единственное, что оно Единое?
— Этот вопрос очень важен. Но для того чтобы ответить на него, необходимо сначала доказать, почему сущее имманентно Уму, то есть почему действительное бытие и есть Ум.
Начнем со следующего утверждения. Уму присуще истинное знание, но истинное знание не может приобретаться извне, а следовательно, оно приобретается Умом из самого себя.
— Почему Уму присуще истинное знание?
— Потому что ошибающийся ум не есть ум.
— А разве нельзя приобрести истину извне?
— Если знание приобретается умом извне, тогда ум, по своей достоверности, аналогичен ощущению. Ведь как бы ни было живо ощущение, объект ощущения не объективно реальное явление, а некая модификация ощущающего субъекта.
— А если все же признать объективность предмета ощущения…
— Но и в этом случае ясно, что мы воспринимаем не сам внешний объект, а только его образ. То же самое следует сказать и об уме, если предположить, что он познает внешние умственные предметы, то есть сущности: или он не встретится с ними, как с внешними, или же они будут для него привнесенными извне отпечатками.
— Но в последнем случае мысль ничем принципиально не будет отличаться от ощущения…
— Это так, ибо как узнает ум, что он воспринял истинно? Ведь при чувственном познании конечным судьей является ум. Кроме того, если принять тезис о мыслях как внешних чувственных отпечатках, то тогда непонятно, откуда у ума глубинные нормы для этических и эстетических оценок, или как может он судить о таких предельных понятиях, как вечность, красота, мудрость?
— Можно привести и другое доказательство того, что знание приобретается умом из себя самого. Мы опять идем от противного: если предположить, что эйдосы вне ума, то они либо обладают умом, либо не обладают. Если обладают, то они ничем не отличаются от умственного мира, и тогда они в уме. Если же нет, то они всего лишь бессмысленные словесные выражения. И синтез их в суждении будет без объединяющего центра невозможен.
— Таким образом, умственные предметы, то есть сущности, эйдосы, не вне ума, иначе они воспринимались бы лишь как не связанные образы без всякого критерия их истинности.
— Если же уму внутренне присуща истина, то вопрос о доказательстве или достоверности ее отпадает. Ведь нельзя найти ничего истинней истинного. Самопознание ума внутренне самоочевидно. А поэтому результатом истинного самопознания и является истина, мудрость.
— Но Нусу как единству двойственности мысли и мыслимого предшествует чистое и истинное Единое. Оно, как тождественное и пребывающее в самом себе, производит множественность реального умственного мира. Это подобно тому, как в мире число единица, именно как единица, обусловливает числовой ряд. И как все числа выражают количества лишь как определенные единицы через приобщение к первоначальной единице (число пять, например, есть нечто единое в том смысле, что это не три, девять или двадцать. В этом смысле число пять подобно абсолютной единице, хотя оно и не состоит из этих абсолютных единиц), так и здесь бытие есть след Единого.
— Сущность происходит от Единого. Но сущность, эйдос есть нечто неопределенное. А Единое, как начало, как основной принцип, предшествует всякой определенной реальности. Единое трансцендентно реальному, оно ненаполняемо, неизрекаемо. И когда мы называем его Единым, это означает лишь изъятие его из множественности. Оно доступно лишь умозрению.
— Что это значит?
— Говоря о чувственном зрении, мы различали, с одной стороны, видимый объект, то есть воплощенный эйдос, смысл ощущаемого предмета, а с другой — то, благодаря чему видели этот эйдос, то есть свет. Так вот и по отношению к умозрению необходимо различать умственные явления и освещающий их свет.
Но пойдем дальше. Глаз имеет свой, еще более яркий и чистый свет, в чем можно убедиться, например, закрывая в темноте глаза и надавливая на веки. Но и ум, скрыв себя от остального и сосредоточившись на внутреннем мире, будет, не видя ничего, созерцать исключительно свет, как таковой, чистый, появившийся внезапно из него самого.
Иначе говоря, такое чистое умозрение состоит из двух моментов. Первое — спокойное пребывание ума в себе самом, пока не явится нечто высшее. Второе — наполнение светом, красотой и силой, то есть созерцание Того, который пришел, не придя, но до всего присутствуя, не в пространстве, а вообще нигде.
— Что означает последнее утверждение? Как можно доказать, что Единое нигде?
— Все низшее содержится в высшем: мир и тело в душе, душа в уме, а ум в Едином. Следовательно, Оно ни стоит отдельно от прочего, ни само существует в нем, и нет ничего, обладающего Им, но Оно само обладает всем. Единое неотделимо ни от чего и в то же время не находится в определенном месте. Единое, другими словами, есть всегда и везде, но всегда и везде пребывая в самом себе. Вот отрезок прямой. Ведь даже этот отрезок не является чем-то ясным и простым. Начать с того, что все точки данного отрезка совершенно неразделимы и сливаются в нечто целое. Так что, собственно говоря, всякий отрезок прямой даже и не есть отрезок прямой, а всего только одна и единственная точка.
Далее, и начальная точка данного отрезка слита с предыдущей, то есть с несуществующей точкой. А поэтому она вовсе даже и не есть начальная точка. Но и конечная точка данного отрезка прямой опять-таки тождественна с последующей, то есть с несуществующей точкой, и потому сама тоже не есть конец данного отрезка. Поэтому и весь отрезок данной прямой не есть ни его начало, ни конец, и не может находиться где-нибудь и в самом отрезке прямой. Поэтому и весь отрезок существует только вследствие того, что обязательно предполагает одновременно также и свое несуществование.
Единое как бы подобно такой точке. Оно одновременно везде есть и все его. Но в то же время Единое отсутствует везде и всюду и даже в себе самом.
— Но возможно ли какое-либо знание по отношению к абсолютно трансцендентному?
— Любое наше знание о Едином всегда будет нашим знанием, ибо Единое выше даже истины; Оно — Благо. Ведь Оно есть причина умной жизни, будучи потенцией, от которой жизнь и ум. Оно — содержание сущности и реального, потому что Единое. В этом смысле Оно максимально сконцентрированное реальное. Оно, как Благо, раньше даже красоты. Оно не просто благовидно, а само Благо как субъект. Мы не можем ничего сказать о его качествах, ибо все качества есть уже следствие Единого. Даже когда мы говорим, что Оно — Благо, мы должны добавить «как бы». В этом смысле Единое одиноко и пусто от всего остального (как бы).
— А теперь, почему же Единое — не Ум?
— Если бы Единое мыслило, то было бы умом, а следовательно, и диадой, а не монадой. Но ведь ум, как мышление мыслимого, предполагает самой своей активностью то, что по отношению к уму будет умственным объектом, но само по себе, как таковое, не будет ни мыслящим, ни мыслимым. Сама диада невозможна без монады. Кроме того, мыслящее, как множественное, предполагает единое, как субъект, но этот субъект, именно как Единое, исключает мышление, как множественное. Следовательно, Оно не может быть мыслящим. И, наконец, Благо, как абсолютно самодовлеющее, не нуждается в мышлении. Наоборот, мышление, как и любая другая активность, есть стремление к благу и единству. Но самому Благу, Единому не для чего мыслить.
— Тогда Благо выше и красоты…
— Конечно, Благо первоначальнее и важнее красоты. Ведь добро, как таковое, не нуждается в прекрасном, тогда как прекрасное предполагает добро.
— С другой стороны, стремление к Благу изначальнее, чем жажда красоты. Стремление к Благу порожденно, и даже в снах проявляется это стремление. А любовь к красоте, мудрости (поскольку мудрость и есть красота) — это уже вторая страсть, предполагающая духовное пробуждение и понимание.
— Наконец, только добро дает полное удовлетворение, а красотой удовлетворяются далеко не все. Кроме того, очень часто довольствуются кажущейся красотой, но ведь призрачное, иллюзорное обладание добром никого не удовлетворит. Да и не надо забывать, что красота не всегда доводит до Блага, будучи сама производной от него и подчиненной силой.
— Отсюда если знание о Добре сливается со знанием о Едином, то учение о красоте должно слиться с учением об Уме.
— И можно сказать, что Абсолютный Ум и есть абсолютно красивое. Познать истину и значит познать красоту, то есть красота и истина одно и то же. Это и есть именно живая, трепещущая жизнью глубина чистого ума, черпающего красоту из своих собственных недр.
— Красота произведений искусства и природы заключена не в материале, а в эйдос с, который входит в материю из ума в душе. Сущность ума не сухие, жесткие, словесные аксиомы, а живое, грациозное и бесшумное бурление эйдосов. Так называемое видотворчество мира — отражение в материи образов этих смыслов. И потому-то наш чувственный мир прекрасен, поскольку в нем отражается образ действительно реального и истинного умственного мира. Душа и боги созерцают красоту Нуса, сливаясь с ней и постигая отраженную красоту Души и первокрасоту отца души — Ума. Следовательно, поскольку эйдосы и являются красотой, а ум — это и есть эйдосы, то ум и красота — одно и то же.
Всеобщая мудрость и Универсальный Ум, имманентный жизни и сосуществующий ей и целокупно объединенный с нею, творит ее еще лучшей при помощи некоего умного расцвечивания и, соединяя с мудростью, заставляет ее красоту являться еще более достойной почитания. Уже и здесь, в земной жизни, мудрая жизнь есть поистине нечто достойное чести и прекрасное, хотя оно и видится здесь в затемненном виде. Но там оно является во всей чистоте, ибо там она дает видящему самое видение и способность жить с высшей интенсивностью и большим напряжением видеть живые существа и, наконец, прямо стать тем, что он видит. Здесь, в чувственном мире, наш взгляд часто падает также и на неодушевленные предметы. Но даже, когда мы видим живое, нам раньше бросаются в глаза неживые моменты из живого. Сокровенная красота живого находится здесь в смешении с тьмой и умиранием. Там же, в Универсальном Уме, даже если возьмешь что-нибудь как неживое, то тем самым оно уже блеснуло тотчас же во всей своей жизни.
Способный созерцать сущность, которой проникнут умный мир, которая дает ему жизнь, неподверженную изменениям, которая дает также этому миру имманентно присущее ему знание и мудрость, — способный это созерцать уже не сможет без улыбок смотреть на весь дольний мир, взятый целиком, из-за его потуг быть истинной сущностью. В умном мире пребывает жизнь, и сущие предметы покоятся в вечности. Ничто там не выходит из сферы сущего, ничто не меняет его и не сдвигает, ибо, кроме него, нет ничего сущего. Поэтому прав Парменид, сказавший, что сущее есть единство. Так велико сущее в своей силе и красоте, что очаровывает нас, и все подчиняется ему, радуется одному тому, что имеет след его на себе и вместе с ним ищет благо. И весь этот мир стремится и жить и быть тем, что они есть…
— Диалектика требует постоянного поиска новых точек созерцания. Как только это условие перестает выполняться, диалектика уже не диалектика… Всякое тело сложно и состоит из материи и эйдоса, а душа представляет собой нечто предельно простое, или же и она может быть сложное и состоять из материи и эйдоса? Более того, а нельзя ли и в уме найти подобного рода двойственность: с одной стороны, ум, как эйдос души, а с другой стороны, ум, как то, что создает этот эйдос.
— На первый взгляд это парадоксально. Ведь все время речь шла о том, что душа и ум — простые изначальные субстанции, а материя есть нечто неопределенное и аморфное. Поэтому о каком соединении материи с эйдосом в душе и уме может быть речь? Кроме того, умственное, как вечноэйдетическое, не может быть материальным соединением.
— Парадоксы потому постоянно и необходимы, чтобы диалектика двигалась вперед, сжигая иллюзии окончательно достигнутого знания. Материя есть бесконечная неопределенность, инаковость. Но откуда эта неопределенность? Если она присуща материи как таковой, вне всякой связи с душой и умом, тогда материя никак не связана и с Единым. Тогда она, материя, абсолютно иное по отношению к Единому. Но ведь в этом случае Единое уже не может быть названо Единым по определению.
— Ты хочешь сказать, что материя также от Единого?..
— Конечно. Переполненность Единого создает Ум как образ Единого. Ум, в отличие от Единого, единомножествен. Ум первично дуалистичен: в нем бытие и мышление (то есть нечто отличное друг от друга) тождественны. И здесь-то коренится начало разгадки происхождения материи: как первоначальная дуальность Ум уже не есть Единое. Хотя он и прозрачно красив, но он уже не абсолютен как Единое. И вот это «уже» и есть как бы материя, есть некая инаковость. С другой стороны, то, что Ум есть тождество бытия и мышления, обусловливает ясность, яркость, прозрачность умственной материи в том смысле, что эта материя и есть сам Ум, что эта материя не отделена от умственной реальности. Далее, умственные реальности не есть некие жесткие, логические аксиомы, а есть живые пиктограммы, боги, красивейшие статуи, которые созерцают сами себя; это именно живые, прекрасные эйдосы. Когда ум мыслит в себе самом, он мыслит посредством оформления. А следовательно, в уме необходимо различать ум как то, что создает эйдос, форму, и ум как эйдос души.
— Нужно только добавить, что соединение прозрачной умственной материи с данным эйдосом в уме вечно. А потому-то сложность умственных реальностей иная по сравнению с чувственной сложностью. Чувственная сложность — это отношения частей к целому. Сложность умственных реальностей — это отношение целого к другим целостностям, которые в нем, а он в них.
— Тогда можно сказать, что неопределенное отнюдь не везде достойно только презрения. Равно как и то, что по своему смыслу могло бы быть понято как бесформенное, если оно имеет целью подчиняться тому, что раньше его, и совершеннейшему. Например, душа есть нечто более неопределенное по сравнению с умом, и тем не менее она может вполне ему подчиниться. И если умная материя подчинена Нусу, то она уже не есть нечто само по себе неопределенное. Материя становящихся вещей постоянно имеет все разные и разные эйдосы. Материя же вечных вещей постоянно остается само-тождественной.
Здешняя материя, пожалуй, противоположность той, так как здесь она только отчасти все и только отчасти одно и то же в каждой отдельной вещи. Поэтому раз одно выталкивает другое, то ничего и не остается в ней пребывающим. Поэтому она в чувственном мире и не самотождественна постоянно. А там, в умственной реальности, она есть все одновременно.
Поэтому вполне правыми следует считать тех, которые утверждают, что материя есть сущность, если это говорится об умной материи. Лучше же сказать, сущность, мыслимая вместе с находящимся при ней эйдосом, целостна, то есть как материя и эйдос, одновременно пребывающие в свете. Тогда понятно и то, почему делим и неделим одновременно эйдос.
— В самом деле, умственная реальность, с одной стороны, совершенно и окончательно неделима сама по себе. С другой же — как-то и делима И если части удалены друг от друга, то также деление и удаление в уме есть аффекция материи, поскольку последняя и есть то, что в данном случае раздельно. Если же эйдос, оставаясь множественным, неделим, то многое, находясь в едином, существует в материи, будучи формами этого единого. Такое единое, данное как многое, надо мыслить разновидным и многообразным.
— Таким образом, материя в чувственном мире является образом материи в Нусе и Универсальной Душе. Материя в нашем чувственном мире есть мрак в смысле своей абсолютной неопределенности, бесформенности, поскольку она инаковость по отношению к Душе, которая самоутверждается в ней, в своей внешней множественности. В этом смысле чувственная материя есть фатальное порождение дерзающей души. Но умственная материя, в отличие от чувственной, обладает жизнью и мышлением. И потому-то она есть подлинная сущность бытия.
— Вот так ум мыслит о себе самом и из себя самого. В этом смысле он есть то, что он мыслит, он же есть те реальности, которые существуют в нем и тождественны с ним. Ум и мыслимые им реальности — одно и то же. Абсолютный Ум содержит все истинно реальное в себе, как семя содержит потенции. Но если ум есть мышление находящегося в нем, то он есть имманентный ему эйдос в том смысле, что Ум как целое есть целосовокупность эйдосов. Или иначе говоря, Ум есть эйдос эйдосов.
— Активность и природа сущего и ума тождественны: реальное и активность реального есть ум, а мысли суть эйдос реального и активность его. Все это неотделимо друг от друга.
— А что касается чувственного мира, то он — образ умственного. В этом образе раздробленные эйдосы существуют, борются, отрицают друг друга, в то время как в прообразе — все во всем. Пространства, например, в умственном мире находятся одно в другом, а в чувственном мире они разделены, могут сталкиваться, конфликтовать.
…Я внезапно оказываюсь в Темноте. Это действительно Темнота — она вне меня сверху и снизу, она — внутри меня. Темнота, дышащая Темнотой. И я неожиданно слышу Голос:
— Однажды некий юноша, изучающий математику, решил покинуть свой родной город и отправиться на поиски великого Знания. Его учитель посоветовал ему идти на юг и сказал при этом:
— Узнай значение павлина и змеи.
Над этими словами и размышлял юноша в дороге. Достигнув конца дороги, он в самом деле увидел змею и павлина, которые о чем-то беседовали. Юноша приблизился к ним и спросил, о чем они говорят.
— Мы сравниваем наши достоинства, — ответили они.
— Продолжайте, прошу вас, — сказал юноша, — это как раз то, что меня чрезвычайно интересует.
— Я думаю, что я гораздо важнее змеи, — начал павлин. — Я олицетворяю вдохновение, устремленность к небесам, к вечной красоте, другими словами, высшее Знание. Мое предназначение — напомнить человеку о его собственных качествах, известных ему.
— Я, — прошипела змея, — олицетворяю собой то же самое. Подобно человеку, я привязана к земле. Этим я напоминаю человеку его самого. Я такая же гибкая, как он, потому что ползаю по земле, извиваясь. Человек об этом часто забывает. И я же — страж подземных сокровищ.
— Но ты вызываешь отвращение! — воскликнул павлин. — Ты лукава, скрытна, ядовита.
— Ты перечисляешь лишь человеческие черты, — ответила змея, — между тем как я хочу указать на мое назначение, которое только что описала. Но взгляни на себя самого. Ты тщеславный, отвратительно толстый, и у тебя противный голос; ноги твои непомерно велики, а перья длинны.
Тут юноша вмешался в беседу.
— Наблюдая ваш спор, я понял, что ни один из вас не прав полностью. И все же вы можете ясно увидеть, если отбросите ваши личные предубеждения, что вместе вы являетесь поучительным примером для человечества.
Человек привязан к земле, как змея. У него есть возможность подняться ввысь, подобно птице. Но, имея в себе что-то от жадной змеи, он остается эгоистичным даже в этом высоком стремлении и становится похожим на надутого гордостью павлина. В павлине можно видеть большие возможности человека, которые так и не смогли развиться правильно. Сверкающая чешуя змеи говорит о возможной красоте, а в павлине эта возможность проявляется в пестроте хвоста…
И вновь Темнота, и я жду. И вновь слышу голос:
— Но это еще не все. Павлин и змея наделены жизнью. Но они спорят друг с другом потому, что каждый из них привязан к своему собственному образу жизни, полагая, что своим существованием он осуществляет нечто истинное. Однако змея охраняет сокровища, но не может воспользоваться ими. Павлин, отражая красоту, напоминает о сокровищах, но это нисколько не помогает ему измениться…
…И словно я вновь, гигантским скачком, как бы возвращаюсь…
— А как же связано время с вечностью?
— Единое — выше бытия. Единое не есть ни движение, ни покой, оно не во времени и не в пространстве. Тем самым оно превосходит и всякую длительность. Единое превосходит даже саму вечность.
— Следовательно, вечность есть специфическое свойство абсолютной умственной реальности, Нуса Вечность — это свечение умопостигаемой реальности, в силу которого эта природа являет свое совершенное самотождество.
— То есть нельзя мыслить действительную цельность, не мысля при этом вечности?
— Да, и поскольку вечность тождественна цельности, она не заключает в себе ни промежутков, ни спиралей, ни протяжений. Вечность есть предельная собранность всех возможных становлений в одно нерушимое целое.
— Для вечности поэтому нет будущего и прошлого. С ней ничего не может произойти, потому что она, как реальность Нуса, в котором воплощены все реальности, ни в чем не нуждается. Вечность есть постоянно цельное, это всегда завершенное движение, всегда удовлетворенное желание, нечто всегда преуспевшее, достигшее равновесия. Но стоит малейшему препятствию, как бы ничтожно оно ни было, отделить намерение от его осуществления, как равновесие распадается. Это нарушение полноты в лоне вечного и порождает время. Время как бы «выпадает» из вечности.
— С другой стороны, время — это образ вечности. Время вызвано к жизни душой, которая решила осуществить себя в своей дерзкой свободе и устремилась к тому, чего еще нет. И сквозь это время человек постоянно ощущает как бы веяние неподвижной вечности.
— Но если душе удается возвратиться к цельности умственной реальности, то есть к неподвижной вечности, то время прекращается. Желая показать сущность времени, божественный Платон говорит, что время возникло вместе с Небом по образу вечности и есть ее подвижный образ. Одна и та же жизнь Мировой Души сооружает и Небо и время. Поэтому, если бы эта жизнь свернулась в такое неподвижное единство, то вместе прекратило бы свое существование и время, находящееся в этой жизни, равно как и Небо, которое бы уже не содержало в себе этой жизни.
— Но время не есть пространственное движение, а то, что его осмысливает. Время есть протяжение вечной жизни души, непрерывно, энергично и безмолвно проявляющейся в закономерных изменениях…
— А если спросят: не может ли прекратиться эта сила души?
— Нет, ведь, если бы она прекратилась, кроме вечности, ничего не было бы. И не было бы никакого различия в Едином, не было бы ни «раньше», ни «позже», ни «больше». Душа не могла бы ни обратиться к иному (так как это и было бы ее деятельностью, то есть временем), ни к себе самой (так как для этого нужно сначала отвратиться от себя).
— Но время не может быть численно определенным через душу, ибо последняя сама есть время и, кроме того, невидима и неосязаема. Отсюда-то — происхождение ритмики дня и ночи, служащей измерением времени, чтобы численно зафиксировать временную инаковость.
— То есть не время является мерой движения, но движение есть мера времени или измеряется по времени. Иначе говор 1, движение есть акциденция времени, «иное» времени, служа его воплощением и подражанием.
— А существует ли также в каждом человеке время?
— Несомненно. Оно есть в каждой такой душе и единовидно у всех людей, поскольку все души — едино. Поэтому и не дробится время, равно как и вечность, которая существует по-разному во всех одновидных сущностях.
— Таким образом, не существует никакого времени и даже никакого мельчайшего момента времени, где не отражалась бы вечность. Время есть подвижный образ вечности, а вечность есть неподвижный образ времени. Вечность бурлит и клокочет в умственном мире, борется в нем так же, как и в чувственном бытии. Но все моменты становления, изменения и моменты реального времени собраны здесь в Нусе, в одно неделимое целое. Вечность — это и несокрушимо становящееся течение всего и в то же время неподвижный, вечный миг.
— Существуют ли эйдосы отдельных предметов в чувственном мире? Можно согласиться, что, например, есть эйдос человека вообще, а есть ли эйдос конкретного человека, например, Сократа?
— Если не считать повторений великих мировых периодов, то в данном периоде недостаточно эйдоса человека вообще для образца нескольких людей, которые отличаются друг от друга не только материей, но и бесчисленными видовыми различиями. Таким образом, есть не только эйдос человека вообще, но и эйдос (как душа) Сократа, и любого другого человека. И не надо бояться бесконечного количества в умственном мире. Эта не дурная бесконечность, ведь все это в неделимом.
…И вновь я в потоке света… Беззвучно несусь… Словно какая-то сферическая, светящаяся поверхность… Вдруг тишина… я словно проваливаюсь… падаю… Я в каком-то помещении… Дом Зефа… Я вижу себя, сидящего в углу… тусклый свет… поздний час… Я знаю… Слова Гермеса Трисмегиста, обращенные ко мне:
— Разумей Бога, как имеющего в Себе Самом все Свои Мысли, весь мир в целом. Если ты не можешь стать подобным Богу, ты не можешь Его понять. Подобное понимает подобное. Возвысь себя на высоту бесконечную, возвышающуюся над всеми телами, проходящую через все времена, сделайся вечностью, и ты поймешь Бога. Ничто не мешает тебе сознать себя бессмертным и знающим все: искусство, науки и чувства всего живого. Возвысься над всеми высотами, снизойди ниже всех глубин, сделайся подобным в себе всем чувствованиям всех вещей сотворенных: воде, огню, сухому и влажному. Представь себе, что ты сразу повсюду, на земле, в море, в небе, что ты никогда не родился, что ты еще эмбрион, что ты молод, стар, мертв и по ту сторону смерти. Познай все сразу; времена, разделения, вещи, качества, количества, и ты познаешь Бога..
…Я смотрю откуда-то сверху на самого себя, обдумывающего указания Гермеса, и вдруг, совершенно неожиданно, но столь ясно, приходит ко мне понимание того состояния, в котором я пребываю. Мое тело умирает, и я это ясно осознаю сейчас. Умирание включает один, очень важный, момент для души — она должна особым, весьма специфическим образом сконцентрироваться, а это означает, что она должна для прорыва собрать всю ту силу, которая хранится в воспоминаниях о неких важных ступенях ее данного человеческого воплощения. Я не просто переживаю эти воспоминания, я их в последний раз поглощаю — после этого их уже не будет…
Я вновь смотрю вниз — я, Плотин, пишу. Я смотрю, как двигаются мои пальцы, я чувствую, как напряжены мои больные глаза, но как-то я уже не осознаю их как мои, что-то разделяет их сейчас — мои глаза, мои пальцы и то, что ощущается мной как «я». Но рука, одинокая, опухшая рука выводит строчки, которые написаны уже давным-давно. Зачем я здесь? Чтобы увидеть что-то новое в моем тогдашнем ответе Трисмегисту?..
…Итак, представим разумом, что этот Космос, каждая его часть пребывает тем, что она есть, и не сливается с другой, так чтобы при проявлении чего бы то ни было одного, как бы шара вовне, тотчас же последовало и представление о солнце и других светилах, и стали видны и земля, и море, и все живые существа, как бы на прозрачном шаре, и все на деле стало бы созерцаться. Отсюда пусть и в душе составится некое световое представление шара, все в себе содержащее, подвижное или покойное, или одно подвижное, другое же покоящееся. Сохраняя это представление, возьми у себя другое с исключением телесной массы. Отбрось пространственные определения. И, воззвав к Богу, создавшему телесную массу, чьим представлением ты обладаешь, молись, чтобы Он пришел сам. И Он, возможно, придет, неся свой собственный космос со всеми богами в нем, будучи одним и всеми, когда и каждый бог есть все боги, соединенные в одно. И они различаются потенциями, но, с точки зрения этой единой и многократно проявляющейся потентности, все они — один, лучше сказать, один здесь есть все боги.
И ведь действительно сам Он не убывает, когда те все возникают. Они — вместе, и, в свою очередь, каждый порознь в непротяженном покое, без всякой чувственной формы. В последнем случае один был бы в одном месте, другой же — где-нибудь в другом, и каждый был бы в самом себе не весь. Не имеет он, мир Нуса, и разных самостоятельных частей в других или самом себе. И каждое в отдельности целое не есть тут раздробленная потенция и такая по величине, сколько в ней измеренных частей. И она, умная реальность, настолько велика, что и части ее стали беспредельными.
Потенция Нуса имеет только чистое бытие, и только чистое бытие в качестве прекрасного. Да и где может быть прекрасное, если лишить его бытия? С убылью прекрасного оно терпит ущерб и по сущности. Потому-то бытие и вожделенно, что оно тождественно с прекрасным; и потому-то прекрасное и любимо, что оно и есть бытие. Зачем разыскивать, что для человека является тут причиной, если здесь одна природа?..
* * *
…Я чувствую, как все замирает и отдаляется от меня — и внутреннее — ощущения, чувства, мысли, и внешнее — я перестаю слышать, что происходит рядом, замолкают звуки бесконечной ночи и даже тихий треск свечи.
Все мои силы, все мои энергии направлены туда, в глубь, где пульсирует нечто новое, величественное, живое… Причем все эти потоки споено уже не подчиняются мне — я только слабо вижу это.
Но вот уже и другое: я совсем перестаю чувствовать. Я не чувствую ночной прохлады и гари свечи, я не чувствую боли в глазах и стука сердца — я ничего не чувствую, споено в каком-то мощном коконе, серебристом яйце.
Я — внутри, я выхожу из тела, оно не нужно. Я выхожу из тела, для этого я сжимаю без всяких усилий все мышцы, я словно выталкиваюсь вверх. Меня несет вверх… но это не точно… Я сам хочу вверх… через этот кокон… это яйцо.
И встреча — я встречаю себя, каким я буду перед окончательным прорывом. И это восхитительно: Я в свободном, неудержимом полете в нежной голубизне Пустоты.
И как-то незаметно вокруг меня появляются образы — они кружатся, то соединяясь, то разъединяясь друг с другом. Иногда кто-то из них входит в меня, и я чувствую, что я не изменился, но стал другим. Постепенно кружение усиливается, и я не знаю, что это, но что-то говорит, что это и есть красота чистого бытия.
Вращение все возрастает. И я — один из Них. Мы становимся одним светящимся кругом. Он резко сжимается в точку. Я — точка. Во мне вся сила и энергия. Я разрываюсь, от меня двигаются лучи, как молния. Я — Все в тот миг, когда я перехожу в иное…
Я — знаю, Я — вижу, Я — есть, Я — буду. Я не хочу возвращаться…
IX Невыразимый… бесконечно родной… Единый
Высшее назначение человека — через нравственное, волевое интеллектуальное совершенствование не только стать похожим, подобным Добру, но слиться, стать самим Благом, Единым
Предположением и сомненьем До истин не дошел никто. Кто истину узнал, тот знает — В предположения не вмещусь. Я — самый тайный клад всех кладов, Я — очевидность всех миров, Я — драгоценностей источник, В моря и недра не вмещусь. В меня вместятся оба мира, Но в этот мир я не вмещусь. Я суть, я не имею места, И в бытие я не вмещусь.…Кто же Единое, от которого все множественное и многообразное? Можно ли что-либо знать о Нем, если Оно превыше этого «все»?
— Единое везде в этих множествах, поскольку нет нигде ни одной точки, где бы Его не было. Оно все наполняет. Однако Оно еще и нигде. Потому что Единое должно быть раньше всего. Оно должно все наполнять и все создавать и не быть всем тем, что создает.
— И все возникает через Него, так как Оно везде. Но возникает все через Него как различное с Ним, поскольку Единое — нигде.
…Единое есть абсолютный принцип всего. Единое есть абсолютно сконцентрированное в полном, непоколебимом покое бесконечно-творческое многообразие всего. Единое есть принцип любой силы, есть бурлящая, неимоверно грандиозная ритмика динамической напряженности всего.
…Страстная, всепоглощающая любовь к Единому — только это и есть истинная, действительная любовь. Все остальное — подражание этой великой, единственной любви.
…Когда я проходил через ад пыток, у меня, как и у многих, требовали: назовите имена! Назовите — и мы вас отпустим, пощадим ваши семьи. Но я знал, что этого нельзя делать. И когда после допросов я возвращался в камеру полуживой, никого не назвав, я был счастлив. И думал: почему я счастлив? Разве я терплю ради единомышленников? Нет, ради них, допускающих такое, я мучиться не мог. Близких у меня не было. Но я явно чувствовал ответственность — перед кем? Перед идеей? Но я не думал об идее, которой уже не было. Перед человечеством? Но что знало обо мне человечество? Значит, я чувствовал ответственность перед тем, кто все знал, все понимал, — перед Ним. Это Он сохранил меня, помог выстоять, совершить чудо…
…Благословен тот и счастлив воистину, кто достигнет! Счастье совершенного в том только и состоит, что беспредельная ширь раскрывается его взору, он видит простор и свободу. И в этот священный миг ты должен ясно осознать, что весь твой путь совершенствования — это давать, вечно давать другим, ничего взамен не получая. Но знай, что, сколько бы ты ни давал, сокровищница не опустеет, она будет расти бесконечно, и, только потеряв все, ты всего достигнешь! Движение вперед и вверх есть беспрерывная и беспредельная жертва!..
…Эта любовь к Единому в последнем всплеске требует невероятного, сверхчеловеческого напряжения. И тогда-то человек становится золотистым светом, в котором исчезает все, потому что все — это тени золотистого таинственного света.
…Соединяясь с Единым, душа сбрасывает с себя всякое определение и всякое наименование. Свет можно увидеть, только будучи светом…
…Это даже не видение, но другой способ созерцания, восторг, опрощение, отказ от самости, жажда осязательного прикосновения, успокоение, устремление ума к возможно более полному слиянию, когда жаждешь узреть святая святых…
…И тогда ты достигнешь абсолютной свободы — свободы от самого себя…
…Шепот; тихий, ясный, словно оттуда:
— Если что-нибудь существует после первого, то необходимо, чтобы оно или непосредственно, или при помощи посредствующего звена было связано с первым, восходило к нему и стояло бы в отношении порядка на втором месте и на третьем. Таким образом, второе восходило бы к первому, а третье — ко второму. Ведь и на самом деле, должно же что-нибудь предшествовать всему, будучи притом простым и другим в отношении всего того, что следует после него и им объемлется.
Это первое не смешивается с тем, что от него исходит. И совсем в ином смысле присутствует в этом другом, будучи единым по самой своей сущности и не будучи этим другим. Ведь если бы оно не было простым и не было бы по самому своему существу Единым, то оно не было бы и принципом всего. Но оно как раз является максимально самодовлеющим и первичным в отношении всего. Ведь не будучи первичным, оно нуждалось бы в таком простом, чтобы состоять из него. Будучи таковым, Единое должно быть единым в исключительном смысле.
Но Единое не есть первое тело. Ведь никакое тело не является простым. Всякое тело есть становящееся, а не принцип, потому что принцип лишен становления. Раз он не телесен, но по самому своему существу один, то это Единое, надо полагать, является первым.
Поскольку сущность Блага является простой и первичной (так как все непервичное не является простым) и так как оно ничем в себе самом не обладает, но является чем-то единым, а также поскольку сущность Единого, о котором сейчас идет речь, та же самая, что и сущность Блага (так как Единое не является чем-то одним, а потом единым, как и Благо не является чем-то одним, и потом благом), то всякий раз, когда мы говорим о Едином, и всякий раз, когда мы говорим о Благе, следует полагать, что они являются одной и той же сущностью и нужно считать эту сущность единой, не предицируя о ней ничего.
Люди забыли то, к чему они стремятся с начала до настоящего времени. Ведь все влечется к Благу по необходимости природы, как бы предугадывая, что без него оно не может и существовать. Ибо восприятие прекрасного и изумление от него бывает у тех, кто уже имеет знание и пребывает в бодрственном состоянии; и это пробуждение — от Эроса. Благо же, поскольку оно является естественным предметом стремления, присуще и тем, кто спит. Оно никогда и не изумляет созерцающих его, потому что оно соприсутствует всегда и никогда не является воспоминанием. Эрос же к красоте, всякий раз как он присутствует, создает мучения, потому что тем, кто увидит красоту, необходимо стремиться к ней. Поэтому, будучи вторичным и принадлежа тем, кто уже понимает больше других, этот Эрос показывает, что прекрасное — вторично.
Именно Благо — древнее и раньше прекрасного. И само Благо не нуждается в прекрасном, прекрасное же в нем — нуждается. При этом Благо — ласково, приятно, более нежно, и, насколько кто хочет, оно у него наличествует. Красота же вызывает изумление, ошеломленность и удовольствие, смешанное со страданием. Кроме того, незнающих она отвлекает от Блага, как предмет любви отвлекает детей от отца. Ведь красота — юнейшее. А Благо — старше, не по времени, конечно, но по истине, имея и силу более раннюю. Оно ведь все имеет. А то, что после него, не имеет его все, ведь оно — после него и от него.
Поэтому Благо и над силой господин. Оно не нуждается ни в чем, из него происшедшем, но, целиком и полностью отбросив происшедшее, так как оно не испытывало нужды ни в чем из порожденного, существует тем же самым, что и до порождения этого. Его не озаботило бы, если бы оно и совсем не появилось. И если было бы возможно произойти из него другому, то оно не испытало бы зависти. Теперь же невозможно, чтобы ничто не произошло. Ибо нет ничего, что не произошло, если произошло все.
Само же Единое не было всем, чтобы не испытывать в этом нужды. Превосходя же все, Оно в состоянии и создать это и предоставить ему существовать самому по себе, но само Оно — превыше созданного…
…Я внезапно вновь ощущаю свое холодеющее тело. Точнее, даже не тело, а острую боль, которая, как жгучая молния, пронзила меня и вынудила очнуться. Мне вдруг захотелось пить, — но уже не могу высказать даже себе о своем желании: опухший, огромный язык не может произнести ни одного звука. А даже если бы мог: вокруг никого — я чувствую это. А где же Евстохий? — почему я его жду?
Я пытаюсь улыбнуться: странное желание защекотало виски — захотелось увидеть свое тело, сейчас, здесь, в полутемной комнате, в этой жизни, может быть, в последний раз… Что-то происходит в сознании: зал, огромные, потерявшие обычную форму, больные ноги, истонченное, желтое лицо… Но я уже не приглядываюсь: так же внезапно я потерял ко всему что-либо похожее на интерес.
Я знаю и чувствую, что я неотвратимо ухожу из этой жизни, — остается немного. Тело начало разрушаться — даже иногда, словно все это вне меня, со стороны, вижу, как происходит некое быстрое разрушение. Но я спокоен: какая-то туманная, необычная отстраненность давно охватила меня. Мгновениями появляется ощущение, что я уже оставил тело, что я двигаюсь несколько впереди него, а оно бредет где-то там, сзади, шатаясь, и пытается не отстать. При этом я одновременно ощущаю, что некая сила быстро выходит из тела как прозрачное невесомое облачко, растворяясь — везде — как-то очень незаметно. Любопытства ради я возвращаюсь к «своему» телу, пытаясь вроде даже что-то сделать или в чем-то ему помочь. Но все это не нужно — так ощутимо я вижу это «не нужно».
Я знаю, что умираю в этой прекрасной жизни; здесь все — постоянное испытание, и особенно то, что зовут смертью. Последние долгие часы или минуты передо мной в мельчайших подробностях проносится вся моя жизнь. А может, это были не часы, а дни или минуты — мне все равно. Я вновь слышу беззвучный голос даймония, я пишу свои трактаты, пытаясь вновь все уяснить. Я вижу все свои закаты и восходы солнца, я опять слушаю все то, что обсуждали мы у Аммония. Я опять разговариваю с Малхом, Рогацианом, Зефом, Амелием. Передо мной проносятся места, люди, книги, сны, — и я знаю, что все это сейчас имеет для меня предельно важное значение. Это, возможно, и есть последнее, самое последнее испытание. Но я непоколебимо спокоен, я понимаю, что в этот миг, это значение, это испытание и я сам — одно и то же.
Мне показалось, что я застонал. Дрожь прошла — я вновь это ощутил! — по дряблому, бессильному телу, которое растворялось постепенно в небытии. Но я абсолютно уверен, что тончайшие нити все еще будут связывать меня с призрачной жизнью, пока не пройдет через мой принцип сознания и жизни все то, чем и был я здесь, Плотин.
…Вновь появляется мерцающий свет. Он начинает медленно кружиться, постепенно увеличивая скорость. Но это только кажется: на самом деле свет такой же спокойный и теплый. Кружатся световые волны, исходящие от центра, в каком-то невероятном танце. И этот «танец» становится все более напряженным, в нем слышится нарастающая мощь силы, которая рвется вовне. Затем в этом танце появится что-то похожее на пронзительный луч. И все, весь танец вольется в этот луч, — и я тоже буду в нем, я тоже буду лучом…
…Великая пирамида. Тень от огромной луны падает в направлении сфинкса. И когда эта медленно скользящая тень касается некой точки на левом боку каменного чудовища, оно или его светящийся призрак медленно и неслышно встает, потягивается и, чуть подняв бородатую голову, пристально всматривается в волшебные воды Нила, пытаясь увидеть в них сны божественной Матери-Земли. Затем оно беззвучно поворачивается к великой пирамиде. Тончайший луч дотрагивается до центрального камня на северной плоскости пирамиды. Сфинкс или его фантом спокоен: ключ к разгадке поразительнейшей тайны находится по-прежнему в великой пирамиде. Сфинкс поворачивает свой странный, мертвенно улыбающийся лик к прекрасному небосводу: пройдут тысячелетия, его камни сгорят и он исчезнет вместе с великой пирамидой в бурлящем, очистительном огне. И тайну поглотят звезды, которые всегда ждут, потому что и они питаются тайнами. Но даже потом, когда исчезнет все, и даже когда все звезды сольются в одну звезду и эта звезда уйдет в точку, которая взорвется новым цветком, — даже тогда сфинкс останется сфинксом.
Он медленно, удовлетворенно садится. Сотни небольших камней скатываются вниз. Но сфинксу все равно: он вновь в своих сновидениях спокойно продолжает созерцать то, что и делает его сфинксом.
В это время великая пирамида чуть вздрагивает. И на восточной плоскости пирамиды, в самом центре, появляется изображение. Оно медленно растет, становится все более ярким и четким. Словно что-то внутри пирамиды усиливает некий свет, из-за которого линии изображения становятся все более живыми, пластичными, движущимися…
…Раннее утро в пустыне. Красная поверхность: небольшие кусты на сложной мозаике мельчайших и причудливых трещин. Диск оранжевого солнца чуть приподнят на горизонте. Пространство колеблется в упругом красно-оранжевом свете. Все постепенно просыпается, медленно сбрасывая холодное, пахнущее тревожным покоем оцепенение зимней ночи в пустыне.
Мерно, спокойно, отрешенно, строго друг за другом идут по направлению к восходящему светилу несколько человек. Все они — в традиционных одеждах неприхотливых жителей пустыни. Головы у всех повязаны зелеными платками. Кроме того, кто идет первым. На нем иссиня-белая галабея, а на голове — такой же белый тюрбан. Он — среднего роста, плотно сложен, мускулист, с сильными руками и ногами. Большая голова имеет прекрасную форму, отображая одновременно величие и поразительное смирение. Лоб у него широкий и высокий, лицо продолговатое, выразительное, с резкими чертами, нос орлиный, глаза черные, окаймленные дугообразными, близко сходящимися бровями, рот широкий и выразительный, белые зубы несколько редкие, волосы черные, волнистые, ниспадающие кудрями на плечи, борода длинная и густая.
Он идет, с широко открытыми, не видящими и не мигающими глазами, глубоко отрешенный от всего окружающего, часто спотыкаясь на упругом, красном песке пустыни. Его тонкие губы постоянно колеблются и дрожат, словно он что-то вновь и вновь повторяет, стараясь не забыть и одновременно прислушиваясь к тому, как внутри него отдаются эхом, все глубже и глубже проникают слова, и скорее даже не слова, а то, что едва отражается, переливается, сверкает и прячется в словах.
Вдруг он резко, словно споткнувшись, останавливается. Люди, которые следуют за ним, на вздрагивающих от холода лошадях, держа в руках поводья, медленно окружают его. Но никто не пытается смотреть прямо на него, никто не говорит ни слова. Наступает какая-то странная тишина: люди замерли в тревожном ожидании, опустив глаза. И даже грациозные скакуны словно оцепенели в ожидании чего-то необычного.
Человек в белом начинает говорить. Его голос — вначале чуть слышный шепот. Но постепенно через слова пробивается глубокая внутренняя сила, пронзительная и парализующая:
— Он — Один, Единый. Он Один, ибо — Единственный. И нет ничего более, ибо он — Единственный. Он — не подобен никому в этом мире, но этот мир — от него и с ним. Он — не в этом мире, но и не вне его, но он есть то, что все связывает в этом мире и определяет все в нем. Он — Единый, Один, и Он — не этот мир. И все же Он ближе к вам, чем ваши сердца. Он — Один, Он ничего не рождал, и никто не родил его. Его нет в этом мире, но он всегда здесь. Ведь когда двое говорят, он — третий. Когда трое говорят, он — четвертый. Когда четверо говорят, он — пятый. Он — Один, Единый, и в этом Он поистине Величайший. Все в мире — от него, но ничто не ограничивает Его, и он не подобие себя. А потому Он есть Один. Он — Единый, и подобного не было и не будет. Ибо Он выше вечности и выше всех своих имен.
Люди вокруг него, уже спешившись и стоя на коленях, так же опустив взоры, повторяют, — кто громко, кто шепотом, кто про себя, — эти слова.
— Скажи: Он — велик. Он выше величием, чем все его подобия, которые есть и будут. Он — величайший, ибо никто из его подобий не является поистине Единым. Но каждое его подобие, каждая вещь — суть единые, ибо Он есть Единый. Ибо только Он — Один, Единый. Знайте только то, что Он — Один, Единый, а потому и вырезайте острием веры в любящих сердцах своих слова величайшей истины — нет Бога, кроме Него!
Человек в белых одеждах поднял руку — все затихли, даже ветер пустыни, играющий с красным песком. Вновь отчетливо, с напряженной силой теплой волной зазвучали его слова:
— Воистину наступит день и скажет Он: «О вы, внимающие Мне! Я был болен, и вы не посетили Меня». И они ответят: «Как мы могли посетить Тебя? Ведь Ты властитель мира, и болезнь не касается Тебя». И Он заявит: «Разве вы не знали, что один из служителей Моих был болен, а вы не посетили его!» И Он скажет: «О вы, внимающие Мне! Я просил у вас пищи, и вы не дали Мне?» И скажут эти люди: «Как могли мы накормить Тебя, зная, что Ты — Вседержитель мира и не можешь ведать голода?» И Он заявит: «Один из жителей Моих просил у вас хлеба, и вы не дали ему». И скажет Он: «Я просил у вас воды, и вы Мне не дали ее». Они ответят: «О, Покровитель наш! Могли ли мы дать воды, видя, что Ты властитель мира и жаждать не можешь?» И заявит Он: «Один из служителей Моих просил у вас воды, и вы не дали ему».
Человек в белых одеждах замолчал и опустил глаза. Все с напряжением ожидали, что он скажет дальше. И не поднимая глаз своих он вновь заговорил:
— Когда сотворилась земля, она колебалась и дрожала, пока не воздвигнуты были на ней горы, чтобы она стала непоколебимой. Тогда духи спросили: «О Боже! Есть ли в твоем творении что-нибудь крепче этих гор?» И Он ответил: «Железо крепче гор, так как оно разбивает их». — «А есть ли что-нибудь сильнее железа?» — «Да, огонь сильнее железа, потому что он расплавляет его». — «А есть что-нибудь из созданного Тобою сильнее огня?» — «Есть, вода, так как она тушит огонь». — «О, Боже! но есть ли что-нибудь сильнее воды?» — «Да, ветер сильнее воды, так как он заставляет ее двигаться». — «О, Вседержитель наш! Есть ли что-нибудь из созданного Тобой сильнее ветра?» — «Есть, добрый человек, подающий милостыню; если он скрывает от левой руки то, что подает правой, он преодолевает все».
…Каждый хороший поступок есть дело милосердия. Ваша улыбка есть милосердие. Побуждение ближнего делать добро равно милостыне. Указание путнику настоящей дороги есть милосердие. Ваша помощь слепому есть милосердие, очищение дорогих от камней, терний есть милосердие…
…И вновь беззвучный голос моего даймония впивается в меня, заполняет мою душу:
— Что же такое Единое? С одной стороны, Оно — начало всего, начало бытия, принцип всего. Но, с другой стороны, поскольку Единое — абсолютно трансцендентно, о нем ничего не известно и ничего не может быть известно. Но как же из этого абсолютно неизвестного проистекает конкретная множественность мира?
— Единое, переполняясь собой, своей избыточностью, как бы изливается в сущее, бытие… Бытие не есть Единое. Но бытие не только множественное. Оно — едино-множественное. А следовательно, бытие — эти и некие изначальные принципы, обусловливающие это множественное, с одной стороны, а с другой — определяемые Единым. Но тогда мы должны выявить и обосновать эти принципы рода сущего, то есть своего рода порождающие умственные категории…
Ясно, что умственное сущее само является родом, ибо в нем все. Но это все — отдельные сущности — эйдосы, каждый из которых, в свою очередь, охватывает некие субординированные виды (например, мудрый человек, злой человек и т. д.), а далее и индивидуумов. Но ведь все эти рода принадлежат к единой природе Нуса. А потому из них всех образуется соединение, называемое умственным сущим.
— Но в этом случае эти порождающие категории, поскольку из них проистекают эйдосы и индивидуумы, в то же время являются и начальными принципами. Ведь их целостность образует умственное сущее как целое. Таким образом эти принципы, эти категории, эта роды как бы предшествуют (но не по времени, ибо сущее вечно) по своей глубине, по своей силе, интенсивности, напряжению умственной реальности. Но они не только порождают эту реальность, но и составляют ее.
— Они вовсе не являются чем-то неподвижным и холодным. Эти роды, или начала, принципы именно бурлят вечным порождением всего как чего-нибудь осмысленного, оформленного, пластичного и конструктивного.
— Итак, существуют некие, несводимые друг к другу начала умственной реальности. Но они только мысленно делимы, поскольку образуют собой единую сущность. Отношение единого к множественному в Нусе аналогично отношению мышления к бытию: определяя части этой сущности, мы приписываем мысленно каждой из них отдельное существование. И отделенное мы считаем единством, а части — целым. Так получается целое — сущность — из отдельных родов, первопринципов.
Когда мы исследуем некое тело — любое чувственное тело, мы выделяем в нем субъект, его количественные и качественные параметры, и, добавив сюда движение (поскольку любое тело движется), из этих четырех частей образуем тело, именно как нечто единое. Точно так же, вероятно, мы должны поступать и по отношению к вечному умственному миру, умственной реальности, но, конечно, абстрагируясь от развития, протяженности и чувственного восприятия, которых нет в этой высшей реальности.
— Но Нус, умственная реальность, — едино-множественное. И любое чувственное тело тоже своего рода едино-множественное.
— Тело, как воплощенная материальная структура, обладает неким уровнем единства. Но в то же время оно — множественно, поскольку может беспредельно делиться. Однако и душа, то есть уже умственная сущность, умственная реальность, — обрати внимание, — едина, и хотя не обладает величиной и протяженностью, также и множественна. Ведь тело — множественно, поскольку беспредельно делимо, в соответствии со своими величинами, фигурами, цветами и т. д. А все это разнообразие тела исходит от единого, и этим единым для тела является душа как множественно-единое. Множественность же души — Мировой и индивидуальной — это ее логосы, то есть рассудочные, дискурсивные образы умственного эйдоса (ведь и душа есть умственный эйдос). Логос вещи есть ее смысл, но смысл непосредственно, конкретно отличающий данную чувственную вещь от другой вещи и производящий различия внутри самой вещи. Будучи осмысляющей силой вещи, логос есть как бы ее семя, из которого она вырастает в материи как максимальной неопределенности.
— Иначе говоря, логосы души суть ее активности вне ее самой. А сущность души есть потенция логосов. Таким образом, душа есть множество и единое: она едина в себе именно потому, что она созерцает высшую умственную реальность и множественна по отношению к своим потенциям.
— Итак, едино-множественным является и чувственный мир, и душа, и Нус, умственная реальность. Но душа — это активность ума вне самого ума. А чувственный мир является результатом активности души как отражения умственной реальности. То есть мы видим различную напряженность одной и той же силы. Сила эта проявляется по-разному и в Абсолютном Уме. Но каковы же те ключевые категории, или роды сущего, которые как бы обусловливают целостность едино-сущего, то есть умственной реальности, и в то же время порождают множественное? Ведь эти принципы, эти роды — как бы зона особой напряженности, высшей активности в самом Уме.
— Душа как специфическая умственная реальность определяет единство чувственного мира. Следовательно, созерцая душу, и можно выделить эти предельные категории, начала.
Что мы видим? Душа прежде всего есть жизнь, то есть она не есть небытие. «Есть жизнь» — это сущность. Таким образом, мы мысленно в реально-едином, умственном мире различаем сущность, которая есть бытие. Но «есть жизнь» предполагает движение, то есть активность сущего. И почему движение есть второй ключевой принцип? Потому что сущее и активность несводимы друг к другу.
— Но так как бытие всегда пребывает в движении, то, следовательно, мы выделяем третий принцип — неподвижность…
— Почему, если бытие всегда пребывает в движении?
— Дело в том, что неподвижность отлична от сущего. Ведь если бы неподвижность не была отлична от бытия, то она не отличалась бы и от движения. Между тем ясно в то же время, что покой и движение образуют единое с сущим.
— Далее, раз ум различает эти три стороны умственной реальности, то они и существуют раздельно. Но ведь реально они образуют тождество. Так мы получаем еще два новых рода, начала — тождественность и различность. И еще раз повторю: эти принципы не являются эйдосами сущего, то есть они не компоненты бытия. А, в свою очередь, сущее, бытие им не подчинено.
— Таким образом, пять ключевых, основополагающих категорий: сущность, движение, неподвижность, тождественность и различность. Вечно сущее, умственная реальность — едино-множественно уже и с этой точки зрения.
— А разве не является такой категорией Единое?
— Нет, Единое вне этих родов. Почему? Единое не допускает различий в себе, а соответственно не имеет эйдосов. Единое неделимо, а это также аргумент против Его зачисления к абсолютным категориям сущего.
Единое, в отличие от выделенных родов, не отождествляется с сущим, ибо Оно абсолютное первоначало. Единое относится к единому в сущем как к своему образу. А всякое, не абсолютное единство есть лишь «нечто единое».
В отношении каждого выделенного рода можно утверждать, что оно и единое и не единое. В отношении же Единого такого предположения высказать нельзя. И из этого следует, что Единое не род сущего, как выделенные нами принципы. Единое лишь абсолютное начало.
— Но любое явление, любая вещь есть некое единство именно как явление, вещь. В этом смысле оно, единство, вездесущно, а следовательно, сущностно.
— Из того, что вещи, предметы могут рассматриваться как единства, еще не следует, что Единое есть родовой принцип. Ведь и точка, например, не есть род для линий, хотя точка имеется в каждой линии. Родом может быть лишь дифференцирующееся общее.
Кроме того, в различных умственных и чувственных вещах различно и единство. И в этом смысле Единое, безусловно, отлично от бытия. Хотя, например, толпа или армия менее едины, чем дом, но одинаково реальны, то есть бытийны. Единое не есть сущее, а лишь абсолютное, трансцендентное от всего начало.
— Таким образом, эти пять порождающих рода не только взаимно-тождественны и взаимно-раздельны, но и проистекают из более общего для них принципа. И он уже не является для них родовым понятием, но абсолютным, порождающим принципом.
— Выделенные категории порождают эйдосы. Это пока предположение. Для того чтобы это доказать, необходимо допустить в этих порождающих родах реальные различия. Не так ли? Ведь множественное не может произойти из абсолютно однородного. Но вот здесь возникает одна опасность — допуская такие различия в порождающих категориях, можно вообще уничтожить род в эйдосах, сведя эти категории к предикатам.
— Проблема отношения рода к эйдосам аналогична проблеме отношения Абсолютного Ума к отдельным умам или проблеме отношения науки к своим понятиям. Наука потенциально есть все ее понятия. Но и каждое отдельное понятие есть потенциально вся наука в том смысле, что каждое понятие может быть развернуто во всю науку. Точно так же Нус, снабжающий понятиями отдельные умы, есть потенциально все эти умы. Он, Универсальный Ум, потенциально есть все умы и актуально — каждый в отдельности. В то же время отдельные умы актуально суть отдельные умы, а потенциально каждый отдельный ум есть всеобщий Ум — Нус. Вот так же, по этой же схеме, каждый род есть потенциально все возможные эйдосы.
— Следующая проблема заключается в том, чтобы выделить роды чувственного мира. Ведь таковые также должны существовать, поскольку чувственный мир также едино-множествен.
— Телесный, чувственный мир — это аналог, образ умственной реальности. Отсюда следует, что сущность тел только образ вечной сущности. Поэтому-то природа тел текуча, они постоянно находятся в процессе изменения.
— Таким образом, пять выделенных начальных родов умственного мира имеют свои аналоги в чувственной реальности.
— Да, но действительные роды чувственного бытия своеобразны. Как же их обнаружить? Наиболее общий анализ бытия позволяет выделить следующие элементы, среди которых необходимо искать эти категории: материя, эйдос, смешанное из материи и эйдоса, относящееся к смешанному, которое, в свою очередь, делится на предицируемое и акциденциальное. Причем акциденции делятся на содержащиеся в теле, на те, в которых содержится тело, и на действия, аффекции и последствия.
— Материя, разумеется, не является порождающей категорией, родом, поскольку она не может дифференцироваться сама в себе. А эйдос также не род, поскольку он, во-первых, сущность умственной реальности, а не чувственной, а во-вторых, он не может абсолютно отождествляться с чувственной реальностью. Следовательно, первым таким родом, первой такой предельной категорией является лишь составное тело.
— Все чувственные тела обладают предикатами и акциденциями. Предикаты состоят в отношении к чему-нибудь, например, «есть причина», «есть элемент» и т. д. Отсюда вторым родом является отношение. Акциденции же, содержащиеся в телах, суть количественное и качественное. Это наши третий и четвертый роды. Наконец, всякие действия и аффекции суть движения, а последствия — место тел и время движения. Таким образом, пятый чувственный род — движение.
— Таким образом, пять общих категорий чувственного бытия — чувственная сущность (тело), отношение, качественное, количественное, движение. Вся множественность подлунного бытия может быть объяснена, интерпретирована посредством этих пяти принципов. Более того, если доказать, что качественное, количественное и движение суть отношения (а это так и есть), то тогда мы получим всего два рода: сущности (тела) и отношения.
— В чем же своеобразие этих родов чувственного мира?
— В том, что они «составные», не абсолютно взаимотождественные. Действительно, взгляни на тело. Здесь материя, как принцип неопределенности, словно некая «подпорка» для эйдоса. Само тело, как составное, «подпорка» для качеств, движения и т. д. В этом смысле в чувственном мире именно тело и есть субъект аффекций, эйдосов, состояний, действий и т. д.
— Только тело «есть» в чувственной реальности. Правда, и о качествах и количествах говорится, что они существуют, но их бытие и бытие сущности лишь омонимы. Бытие качеств, например, лишь акциденциальное бытие, а с другой стороны, качества сущности лишь акциденции для нее, а существенным в ней является именно «бытийность», заимствуемая не от материи, а от умственной реальности. При этом все тела одинаково реальны, и таким образом, все они связаны с Нусом. Но поскольку они образы умственной реальности, чувственные сущности (тела) не есть подлинные сущности.
…Я внезапно вновь вижу, словно откуда-то сверху и сбоку, пишущего Порфирия. Как он постарел! Он пишет сейчас обо мне, но думает все больше о себе, — да, ведь я давно уже умер, как считает он. И прошло уже десять? двенадцать? зим. И я медленно приближаюсь к нему — беззвучно, совсем беззвучно. Но он оборачивается — без страха вглядывается в меня, пытается уловить нечто. Я смотрю на красивый округленный почерк Малха:
«Он отказывался принимать териак, говоря, что даже мясо домашних животных для него не годится в пищу. В бани он уже не ходил, а вместо этого растирался каждый день дома. Когда же мор усилился и растиравшие его прислужники погибли, то, оставшись без этого лечения, он заболел еще и горлом. При мне никаких признаков этого еще не было.
Когда я, Порфирий, однажды задумал покончить с собой, Плотин почувствовал это и, неожиданно, даже будучи больным, явившись ко мне домой, сказал мне, что намерение мое — не от разумного соображения, а от меланхолической болезни и что мне следует уехать. Я послушался и уехал в Сицилию… это и спасло меня от моего намерения, но не позволило мне находиться при Плотине до самой его кончины.
Когда я уехал, болезнь его усилилась настолько, что и голос, чистый и звучный, исчез от хрипа, и взгляд помутился, и руки и ноги стали подволакиваться. Об этом мне рассказал по возвращении наш товарищ Евстохий, единственный остававшийся при нем до самого конца. (Евстохий был родом из Александрии и познакомился с Плотином уже в его старости. Занимался он только Плотиновыми предметами и вид имел истинного философа.) Остальные же друзья избегали встреч с Плотином, чтобы не слышать, как он не может выговорить даже их имен.
Тогда Плотин уехал из Рима в Кампанею, в имение Зефа, старого своего друга, которого уже не было в живых. В этом имении хватало для него пропитания, да еще кое-что приносили от Кастриция из Минтурн, где у Кастриция было поместье».
…И снова меня зовет этот беззвучный, близкий и спокойный голос:
— Итак, мы начали рассуждать о родовых категориях, чтобы, во-первых, уже новым путем преодолеть последние остатки дуализма между ними, и во-вторых, обосновать всеобщий монизм, то есть доказать, что все — из Единого, в Едином и к Единому…
— Нус — это пять родов: сущность, неподвижность, активность, тождественность и различность. При этом в умственной реальности — единство родов, то есть, например, активность есть различность, тождественность есть сущность, неподвижность есть активность и т. д.
— С другой стороны, чувственный мир также подводится под пять родов: сущность или субъект, количество, качество, движение и отношение. Сделаем здесь еще шаг: почему количество, качество, движение суть отношения. Известно: величины сводятся к числам, а числа выражают отношения. Качества же определяют случайное отношение вещи к другим вещам. Время и место относительны. Все предикаты относятся к сущности, а активность относится к душе. Таким образом, в чувственном мире реально всего два рода: сущности (тела) и отношения. Или, иначе говоря, чувственный мир — это всего лишь различные отношения различных тел. Что же тогда является единством как предпосылкой чувственного мира?
— Но мы уже знаем здесь ответ — Универсальная, Мировая Душа. В свою очередь, принцип абсолютного единства является предпосылкой Нуса. Тогда Душа, как известное умственное единство, соединяет чувственное с умственной реальностью, а Единое покрывает собою все.
— Чувственный мир есть образ, подражание Нусу. Что это значит? Только мир Абсолютного Ума, умственное бытие обладает самодовлеющей реальностью, а наш, чувственный мир зависит от него как от своей основы. И если реальность Нуса везде, это значит, что она в самой себе. Если чувственный мир в том, это значит, что он смысловым образом находится в непосредственной близости к нему и причастен к его бытийности.
— То есть, не имея возможности охватить умственную реальность и проникнуть в нее, чувственный мир, находясь в непосредственной близости к нему, движется вокруг него и в своем движении как бы каждой своей частью касается всегда умственного мира во всей его целости.
— Таким образом, присутствие вечной, умственной реальности должно восприниматься в виде своего рода бурлящей динамической картины: наш чувственный мир реален только постольку, поскольку проникнут исходящими из Нуса силовыми потенциями. Они-то и есть индивидуальные души и эйдосы, а точнее даже, логосы как образы эйдосов. И все эти потенции в своей совокупности и образуют умственную реальность.
— Понимаемая именно как негеометрическое и неделимое, Мировая, Универсальная Душа вездесуща, так как иначе каждая ее часть была бы связана со строго определенным местом. Как индивидуальная душа едина в теле при множестве ее сил и потенций, так едина и Мировая Душа, то есть динамически. Множественность же Души означает лишь то, что она повсюду проявляет по-разному свою активность.
— Итак, вездесущность Мировой Души предполагает сведение к ее единству множественности тел космоса. Вездесущность этой Души есть отношение прозрачности (Космоса) к свету (умственного мира). Как сила руки держит, например, палку, не будучи связана с частями палки и величиной руки, так и душа. Она подобна озаряющей воздух солнечной световой энергии. Мировая Душа, как множественно-единое, многоаспектна. По аналогии, например, один и тот же предмет воспринимается различно одним и двумя глазами. Один и тот же предмет может иначе отражаться в одном и том же зеркале или различных зеркалах. Таким образом, принципом единства для чувственного мира является диалектика Универсальной Души. И именно этот базовый диалектический принцип определяет то, что Бог в каждом из нас как бы един и тот же самый. А потому глубочайшее убеждение, что мы не отдалены от сущего, но существуем в нем, является важнейшим для народов и во все времена.
— Но здесь есть свое «но». Дело в том, что, мысля сущее материально, ум человеческий часто приходит к отрицанию единства.
— Это логическая ошибка. Люди представляют себе сначала пространство на манер хаоса. Затем они вводят в это пространство Первоначало, рожденное в их воображении. А затем, естественно, они оказываются в тупике, исследуя, как это Первоначало появилось и попало в это пространство. А ошибка в том, что, мысля пространственно, люди приходят к дуализму: хаос воспринимается как некое тело, в котором возникает Первоначало фактически тоже как тело.
— Но ведь родом сущего в чувственном мире является чувственное тело…
— Чувственное тело является сущим в чувственном мире потому и только потому, что приобщено к умственной реальности, то есть что оно — некое единство. Понятие истинно сущего, неизменного и непротяженного, указывает, что истинно сущее пребывает в самом себе и неделимо, а следовательно, во всей своей целости пребывает в себе и во всем, что приобщено к нему, в том числе и в чувственном бытии. То есть чувственное бытие иллюзорно в той степени, в какой оно воспринимается в отрыве, в противопоставлении к Нусу. Оно реально потому (как и любое чувственное тело), в какой мере действительно отражает истинную реальность Нуса.
— Таким образом, все объединяется через силовую, динамическую, живую, пульсирующую иерархию уровней единств, и высшим, абсолютным единством является вездеприсутствующее Единое, беспредельное и вседовлеющее, то есть присутствующее во всем существующем, и в чувственном и умственном бытии. Единое таким образом есть общий центр, из каждой точки которого исходят радиусы — силовые потенции, образующие единый центроподобный круг Нуса, периферия которого образует мир Универсальной Души, соприкасающийся с чувственным миром.
— Потому-то в умственной реальности множественное — в едином, и единое — при множественном, и вместе все. И именно от этого единства другое, ослабленное, но единство и в чувственном мире. Таким образом, все мы единое. Принцип единства — начало познания — есть одновременно начало и конечная цель всех феноменов, всей жизни.
— Но как мыслить непосредственно, зримо это единство?
— Прежде всего необходимо отказаться от пространственного восприятия: есть, мол, обособленный мир эйдосов, есть отделенная материя, и есть излучаемый в материю свет из умственной реальности. Это пустая картина. Нельзя полагать, что, поскольку, мол, эйдос существует пространственно обособленно, он отражается затем в материи, словно в воде. Нет, материя, отовсюду как бы касаясь и, с другой стороны, не касаясь эйдоса, отовсюду, благодаря близости, имеет его столько, сколько может взять. Причем посреди, между ними нет ничего. Эйдос при этом не расходится по всей материи и не изливается по ней, но пребывает в себе самом.
— Следовательно, и термин «излияние» надо понимать образно.
— Конечно, здесь и речи быть не может о каком-то вещественном излиянии. На самом деле «излияние» надо интерпретировать в смысле зависимости космоса от Единого таким образом, что одна и та же единая жизнь охватывает шар как Космос. И далее, все, что в этом шаре, устремлено к единой жизни. И затем все души — единая душа, столь же единая, как, с другой стороны, и беспредельная.
— То есть всеобщее единство мира должно мыслиться как внутренняя бытийная, смысловая связь, а не пространственно-временное отношение.
— Правильно, и можно определить эту внутреннюю бытийную зависимость чувственного от умственной реальности как присутствие во Вселенной единой жизни, которая безгранична и не может делиться как атомы. Эта жизнь во всей ее целости присутствует и в нас.
— Иначе говоря, поскольку сущее едино, а мы бытийно зависим от сущего, следовательно сущее, как единое, присутствует в нас.
— И тем не менее, что же такое «избыточность» Единого, которое изливается как умственная реальность, как бытие? И чем вызывается эта «избыточность» абсолютно-трансцендентного — его свободой, желанием, волей или необходимостью?
— Итак, множественность вообще есть некое отступничество от Единого. Множественное импотентно пребывает в самом себе, оно растекается в неопределенности. Беспредельность же как бесчисленная множественность есть абсолютное отступничество в неопределенность. Но ведь глубочайший принцип заключается в том, что каждый элемент бытия в конечном счете ищет, стремится не к другому, а к самому себе. Ведь смысл этого каждого в нем самом, а не вне его. Следовательно, каждое скорее существует не тогда, когда становится множественным или большим, но когда принадлежит самому себе, то есть когда оно — единство.
— В чувственном мире — безобразная, бесформенная, беспредельная неопределенность, не-сущее — противостоит сущему, бытию прежде всего, глубинным образом как отсутствие числа. И действительно, с одной стороны, чувственные предметы не беспредельны, они имеют определенную форму тела. В этом смысле каждый такой предмет есть некое единство, определенность, определенное число. С другой стороны, субъект в этом чувственном мире, который нечто исчисляет, не исчисляет беспредельности. Даже если он создает удвоенное, утроенное и т. д. многократное, то есть какими бы величинами он ни оперировал, тем не менее он определяет его, это число. Иными словами, каждое число есть всегда и прежде всего некая первоначальная определенность, которая и обусловливает его включенность в сферу бытия, сущего.
— Тогда, в противоположность этому, беспредельное, неопределенное, бесчисленное, не имеющее предела и границы, а следовательно, не имеющее числа, исключается из области сущего. Оно как бы постоянно бежит от эйдоса предела. Причем опять это бегство нельзя понимать в смысле пространственного движения.
— Да, так вот, беспредельность, неопределенность как нечто не имеющее числа, будет одновременно противоположным и непротивоположным, большим и малым, недвижным и движущимся, словом, и тем и другим, а точнее даже, ни тем ни другим определенно.
— Тем самым роль, которую играет число в чувственном мире, есть символ, манифестация образа Единого.
— А теперь обратимся к числам в умственной реальности. Как они соотносятся с эйдосами: существуют ли они после эйдосов, или же вместе с ними, или при них?
— Дело в том, что числа на первый взгляд вроде бы существуют после эйдосов. Действительно, можно сказать, что есть эйдос коня (один), есть эйдос меча (два), есть эйдос человека (три) и так далее. В этом случае мы как бы примысливаем числа к эйдосам. Но числа существуют и при умственных реальностях.
— Каким образом?
— А вот каким. Умственная реальность — это единство мыслимого и мысли. Вот это единство и есть единица. Но вместе с тем мы в уме различаем мыслимое и мысль, — а это уже двойка. Далее, мы уже знаем, что умственная реальность — это едино-множественное (то есть десятка как множественное).
— Таким образом, числа при эйдосах — это единица, двойка и десятка. Но что такое число само по себе и в этом смысле — раньше или позже оно всего остального, в том числе и Нуса?
— В чувственном мире понятие числа у людей возникло вследствие ритмики дня и ночи. Это значит, что исчисляемые предметы благодаря различности создают число. Иначе говоря, число составляется во время перехода души, последовательно проходящей один предмет за другим, то есть возникает тогда, когда душа считает.
— Но это означает, что глубинное понятие числа в душе как умственной реальности уже существует.
— Конечно, число уже есть некая субстанция, которая возбуждается в душе вследствие смены в области чувственного понятия числа. Иными словами, числа не только возникают «после», но и сопутствуют эйдосам.
— Тогда можно говорить, что число есть спутник эйдоса и как бы присозерцаемое при каждой сущности. Но тогда получается, что число как умственная субстанция отличается от эйдоса как умственной сущности.
— Да, и можно определенно утверждать, что принцип числа существует еще до умственной реальности. Десятка существует до того, о чем предицируется. И это будет само-десятка, то есть нужно, чтобы сперва десятка как чистая потенция множественности существовала сама при себе, будучи ничем, как только самодесяткой.
— И вот здесь ответ на вопрос — что есть избыточность Единого. Мы видим, что сперва даны «без предметов» единое (как единица) и множественное (как десятка) как таковые. Затем уже в Нусе выступают умственные предметы как единицы, двойки и тройки. А уж от них, как их подобия, существуют чувственные количества.
Уже до умственной реальности сущность существовала как единое и множественное, как единица и десятка. Это и есть избыточность Единого — абсолютная числовая потенциальность умственной реальности. Иначе говоря, Единое как единица предшествует сущему, умственной реальности, а число — сущим, то есть эйдосам.
— То есть всякое число существовало до сущих, до эйдосов, как таковых, но если оно существовало до них, то оно не было сущим в умственной реальности. Именно потенция числа, как субстанциальная, разделила умственное сущее и как бы заставила родить множественность как таковую.
— Таким образом, число существует в сущем, вместе с сущим и до сущих?
— Число как субстанция есть ритмика силы, неотделимой от Единого. А потому число как сущность и активность есть ум, а эйдосы суть единства и числа. Поэтому начало и источник субстанции для сущих — первое и истинное число. Число, опять повторяю, существует до всякого живого существа, даже совершенного… И даже не в Нусе существует первоначальное число. И в этом смысле число является той избыточностью Единого, которое, не умаляя Единого, создает все, в том числе Нус и Универсальную Душу.
— Как?
— Число, понимаемое как энергия Первоединого, как самосозидание смысла, сводится к конструкции, оформлению живых категорий — сущего, различия, тождества, покоя и движения. Число требует перехода и порождения эйдосом самого себя; оно есть энергия первобытно-единичной сущности, Единого. Число требует порождения, созидания, кроме Единого, еще и иного: оно есть энергия различия в Едином. Число требует, чтобы порождение было тождественно с Единым: оно есть энергия тождества множественного в Едином. Число требует, чтобы созидание эйдоса не ограничивалось выделением только двух моментов из Единого «этого» и «иного», но чтобы в «ином» было какое угодно количество «эйдосов» (в этом ведь смысл всего числа): оно есть энергия подвижности Единого. Число требует, чтобы порождаемое тождество в различии, несмотря на всю свою смысловую подвижность, все-таки пребывало само в себе как Единое, не выходило бы из себя самого. Ибо, если бы Единое только выходило из себя и в то же самое время не оставалось пребывающим в себе, Оно рассыпалось бы, не будучи в состоянии обнять свои части: число есть энергия эйдетического покоя Единого. Наконец, число, устанавливая категории тождества, различия, покоя и движения, тем самым очерчивает определенные линии в Едином, как бы набрасывая на Него смысловую сетку и соотносящие координаты: число есть энергия сущего, в которое превращается беспредельное Единое, оформляя и осмысляя себя, путем саморазделения, через соучастие в нем «иного».
Единое не есть число, но выше его, как и выше вообще всего сущего и мыслимого. Единое есть вечное самопорождение и самоутверждение. Единое порождает себя, прежде всего, как раздельность, оставаясь самим собой в каждой отдельной своей части; это и есть порождение себя как числа. Порождает оно числа путем смыслового, эйдетического очерчивания себя самого в том или ином пункте самовыявления. Все сущее подчинено этим числам и имеет их принципом своего осмысленного бытия.
Потому-то число и является символом бесконечной тайны. Древние, и среди них божественный Пифагор, утверждали, что единица равна нулю, двойка — единице, тройка — двойке, а четверка же равняется пятерке. А вместе они — единица, двойка, тройка и четверка — есть декада.
Единица как образ Единого равна нулю, ибо Единое одномоментно и бытие и небытие. Как нуль Оно есть абсолютная потентность, как единица Оно есть оформляющий принцип всего. Но единица равна нулю еще и потому, что единица порождается через саму себя, саму себя постоянно порождая.
Двойка как символ Нуса равняется единице, ибо Нус есть первая эманация Единого. Но двойка равна единице потому еще, что есть только один способ вечного появления Нуса — через Единое и его энергию, силу, которая и есть число. В этом смысле, строго говоря, первое число есть двойка.
Тройка как символ Мировой Души равняется двойке, ибо она есть вторая эманация Единого. Но она есть двойка и потому, что есть у нее два стремления — к Нусу и через него к Единому.
Четверка же — символ материальной инаковости — равна пятерке, как проявление стремления к открытой множественности. А декада (единица + двойка + тройка + четверка) символизирует иерархическую целостность мира.
— Каково отношение множества эйдосов к Единому? Какова суть этой смысловой множественности? Ведь, с одной стороны, в Нусе, умственной реальности, все существует вместе. В нем сразу дано в настоящем все будущее, включая сюда все актуальные и потенциальные индивидуальные явления, следующие одно после другого. С другой стороны, несмотря на это, «все вместе» и «все во всем», тем не менее мы говорим и доказываем наличие множества эйдосов. Как же мыслить эти эйдосы как одновременно данные сразу и цельно?
— В Нусе «что» и «почему» совпадают: ведь здесь все в Едином, поэтому одно и то же смысл, эйдос вещи и «почему» — эйдос вещи. В самом деле, если «что» есть эйдос, а эйдос — в Уме, то, так как «почему» также в этой реальности, «что» совпадает с «почему». Таким образом, можно говорить о беспричинной причинности в том смысле, что предсуществовало и сосуществовало почему, будучи не почему, но что, и следовательно, о существующем можно бы сказать, почему существует. Иначе говоря, давать причинное объяснение в сфере умственной реальности означает выводить данное отдельное явление не из предшествующего рассуждения Высшего Ума, а из целого.
— А теперь что касается…
— Дело в том, что умственная реальность, как Нус и жизнь, есть совокупность всего разумного и живого. Творя различное, Нус как Абсолютное Мышление создает различные умы и жизни, вплоть до самых низших, чем и достигается возможно большая полнота совершенства.
— Но если так, тогда все это множественное разнообразие существующего есть уже в Нусе…
— Конечно, в нем — «первое растение» как сущность растительной жизни. В нем земля как таковая, первая земля; им создается творческая природа земли, творческий вид земли. В нем огонь, жизнь и рассудок, одно и то же оба, некая огненная жизнь, огонь как таковой. В нем, в таком же смысле, вода и воздух. При этом все это содержится в Нусе, как живое, ибо он — начало жизни, единая живая сила.
— И все же, почему единый этот Ум создает разнообразие всего существующего?
— Ум есть активность, а активность есть движение. Совершенная активность — это всесторонняя, а не однообразная деятельность. Переходя от одного рода сущности к другой (тождественной первой), он необходимо создает две различные сущности. И далее, вследствие этого, Ум, движимый к разнообразию, создал из тождественного и иного (различного) единое третье. При этом новое возникшее обладает природой быть тождественным и другим. Таким образом, основной закон созидающего ума — делаться другим.
— Пояснить все это можно таким образом. В чувственном мире все вещи меняются и текут. Но судить об этом можно только в том случае, если мы одновременно понимаем, что всякое изменение предполагает и неизменчивость того, что изменяется. А текучесть предполагает нетекучую сущность того, что именно течет. А это и значит, что, кроме мира чувственных вещей, существует еще и мир Абсолютного Ума, Нуса.
Эта умственная реальность неразделима, пребывает в себе, потому что она ничем не аффинируется. Но так как этот Нус совершенен, то он бесконечно разнообразен: каждый момент в нем представляет собой все новое и новое. В каждом же своем моменте — а этот момент и есть вечность, — Абсолютный Ум присутствует целиком, так что в нем постоянно присутствуют тождество и инаковость. И если в Нусе решительно все разнообразно и в то же время все тождественно, то такой Абсолютный Ум является некоторого рода очерченностью и фигурой — ведь всякая фигура только потому и является таковой, что каждая ее точка находится в точнейшем соотношении со всякой другой ее точкой.
— Поэтому можно сказать, что чем больше в уме разнообразия, тем он совершеннее, причем это разнообразие доходит в Нусе до предельной малости. Поскольку он есть всецелость, постольку в нем содержатся также и все роды и виды живых существ, вплоть до, например, коня. Поэтому он не творит их в результате размышления, а они содержатся в нем и без всякого рассуждающего творения.
— Но это также определяет и то, что Нус и есть прекрасное само по себе. Ведь в чувственном мире все имеет свою причину. И всякая вещь отлична от той причины, в результате которой она появляется. Но с точки зрения диалектики, поскольку в Нусе каждый эйдос есть и всякий другой эйдос, то в нем сущность и причина есть одно и то же. Но, по истине, прекрасное есть то, где сущность и причина суть одно и то же. И поэтому Нус предполагает бесконечно разнообразную степень своего воплощения, оставаясь везде самим собой.
— Потому-то умственная реальность является таким кругом, в котором не один центр, но все точки являются центрами. Абсолютный Ум имеет в себе как бы единую схему или диаграмму, в которой внутренне начерчены и схематизированы его потенции и мысли. Так этот Универсальный Ум, универсальное живое существо объемлет в себе природы живых существ и, далее, другие природы у еще меньших живых существ, вплоть до самых последних потенций.
— Итак, все множественное и чувственное выводится из множественно-единого ума. Ум есть, точнее, даже не благо, но благовидное, как бы живой прозрачный радужный шар или озаряющая пирамиду чистых душ ее вершина. Единое, даже не творец множественного сущего. Творцом является Нус, который от него имеет потенцию для порождения, но не будучи в силах удержать в себе порожденное, разбил и сделал единое множественным. Благо, подобно свету, есть причина сущности и Ума.
Когда кто-нибудь увидит этот свет, тогда и жадно движется к нему и радуется. Ведь и в отношении здешнего, чувственного тела Эрос стремится не к телесному субстрату, а к представляемой в нем красоте. Ибо каждое есть то, что оно есть, только если оно берется само по себе. Предметом стремления оно является только тогда, когда Благо сообщит ему свои краски. Поэтому и душа, воспринимая на себя исходящее оттуда истечение, приходит в движение, ликует, наполняется неистовством и становится Эросом. До этого она не движется к Нусу, хотя он и прекрасен. Ведь его красота, до того как она воспримет свет Блага, бездеятельна. Когда же приходит к душе оттуда как бы теплота, она укрепляется, пробуждается, воистину окрыляется и хотя жадно стремится к тому, что рядом и близко, но все же поднимается к иному, как бы большему по воспоминанию.
— Благо, как абсолютно-трансцендентное, и является тем Первым, к чему стремится все и от чего, именно как от Единого, зависит все. Даже умственная реальность, Нус, еще не есть Единое. И абсолютная полнота бытия — именно в Благе, в достижении самого источника жизненных стремлений.
Благо можно считать эйдосом, но для этого надо представлять себе постепенное восхождение эйдосов, которое есть возрастающее отхождение от того, что не есть эйдос, то есть от бесформенности, неопределенности, от умственной материи.
Абсолют означает отсутствие вообще эйдоса как такового. В телах эйдос уже появляется, но он очень связан с материей, неопределенностью. В душе эйдос уже свободнее от неопределенности. А еще свободнее в Нусе. Но и в умственной реальности есть неопределенность, материя, хотя и внутренняя, хотя и прозрачная и ясная. Если теперь исключить даже эту красивую неопределенность из самого Нуса, то отпадает сама возможность всяких противопоставлений в умственной реальности. Ибо то, что в чувственном мире есть внеположность, в Уме есть только различенность. Однако с отпаданием различений, прозрачной неопределенности отпадает и сам эйдос в его форме, иначе говоря, пластичности. Поэтому эйдос, абсолютно свободный от всякой неопределенности, материи, есть эйдос, свободный от самого эйдоса. А это и есть Единое.
— Но дело вот в чем: если все зависит от Единого, которое притом мыслится как абсолютный, трансцендентный принцип, то можно ли говорить вообще о свободе? И в какой степени эта свобода не будет иллюзорной? Можно ли сказать, что ты свободен, если ты по необходимости, в конечном счете, стремишься к Благу, Единому?
— Давай сначала определим понятие свободы. Добровольно, свободно все, что не по принуждению, сознательно зависит от нас, то, что мы властны сделать. Что значит «зависит от нас»?
— Или иначе, чем обусловливается самоопределение?
— Да, стремлением или рассуждением? Если стремлением, например, желаниями или страстями, тогда самоопределение, то есть «власть над» нужно приписать и детям, и животным, и ненормальным.
— Ну а если все же некое желание — правильное, естественное, в соответствии с природой?
— Но это не дает действительного свободного самоопределения. Желание не дает самоопределения, поскольку не мы в этом случае владыки над своим телом, а наш телесный организм как часть материальной природы ведет, обусловливает нас.
Кроме того, природосообразность и свобода несовместимы еще и потому, что ведь в таком случае и неодушевленное сможет обладать свободой над чем-либо. Ведь, например, огонь действует так, как ему врождено природой.
— Таким образом, ни естественное желание, ни рассуждение в смысле правильного, природосообразного желания не является причиной свободы воли.
— Да, только рассуждение, мышление, как интеллектуальное знание, обусловливает нашу свободу.
— То есть, в конечном счете, свобода — в уме. Но свободен ли ум, который ведь неизбежно, по необходимости стремится к Благу?
— Стремление ума является следствием его сущности, как направленной к Благу активности. Нарушением свободы скорее являлось бы удаление от Единого. Но если ум действует в соответствии с Благом, то тем самым все более зависит от себя (то есть свободен), так как имеет стремление к нему из самого себя и в себе самом. А выражаясь проще, стремящийся к Благу ум стремится к единственному источнику своего стремления в самом себе.
— Таким образом, свободу в поступках и власть над вещами надо возводить не к внешнему, а к внутренней активности, мысли и созерцанию Единого как такового, как абсолютного, порождающего принципа. Свободно то, что не связано с неопределенностью, и именно с этим и надо определять нашу зависимую от самой себя волю… Воля есть сила мысли… мыслить же истинно значит быть свободным, быть во Благе.
— Итак, Плотин, все получает свою власть и свои потенции от Блага. Но свободно ли Единое? Не подчинено ли Оно своей судьбе и своей необходимости — необходимости быть Единым?
— Говорить, что Благо не свободно, потому что Оно необходимо действует сообразно только со своей природой, значит утверждать, что свобода имеет место только в противоестественных вещах. Кроме того, нельзя придерживаться мнения, что Его активность определяется Его сущностью (то есть что он необходимо действует в соответствии со своей природой), так как Его активность и сущность сосуществуют и составляют одно и то же. Единое свободно, причем свобода — это не Его особенность, качество, но само Оно, Единое. Точнее даже, как трансцендентное, Единое выше и свободы. Потому что свобода, как логос, существует для людей, демонов и богов лишь постольку, поскольку есть несвобода. А Единое выше любой дуальности по определению.
Кроме того, у Единого и нет ничего случайного. Относительно Него вообще-то должны употребляться выражения «нужно» или «должно». Единое исключает всякую случайность.
— Ты имеешь в виду, что тот, кто допускает «случилось», отрицает начальный принцип смысла, порядка и определенности?
— Да, случайность может быть госпожой над многим, но не госпожой ума, смысла и порядка. Поэтому истинно то, где нет места случаю.
Мы постоянно повторяем, что Единое выше сущности, но если допустить в Нем составляющую Его сущность активности, тогда активности будут как бы волей Его, так как Оно действует без воли, активности — как бы сущность Его, а воля Его и сущность будут одним и тем же. Но если так, то, следовательно, Оно как захотело, так и существует.
— То есть в Благе воля, выбор и сущность сливаются, и в этом смысле Оно само создает себя.
— Да, Единое, будучи отцом ума, причины и причинной сущности, есть причина самого себя. Оно существует само от самого себя и через самого себя, поскольку и первично само и сверхсущно само. Благо есть начало, базис и корень всего существующего, существуя само от самого себя и через самого себя и творя самого себя.
— И в этом смысле Единое — абсолютное творчество и первая активность, если верно, что активность совершеннее сущности и есть самое первое.
— Более того, Единое — это такая активность, которая не служит сущности, бытию. И потому Оно — чистая свобода. В нем воля и долженствование, свобода и необходимость совпадают как Единое.
— Но ведь Единое не может делать зло. Разве это не ограничение его свободы?
— Нет, ведь иметь возможность делать противоположное есть признак бессилия пребывать при лучшем. А Единое есть абсолютная сила..
…Вдруг что-то меня отвлекло. Я чувствую всем своим телом, что где-то рядом, близко стоит Евстохий и, оцепенев, смотрит на мое недвижимое тело. Я вижу тонкие нити пульсирующих мыслей, исходящие от Евстохия. «Я знаю это… Почему так тоскливо и холодно… Я все понимаю… Но все равно — больно… Я не хочу… Как у него осунулось лицо… Натянулась кожа… Почему я чувствую такую боль, пронзительную и мучительную боль… Я словно умираю вместе с ним… Что мне сделать?.. Как мне облегчить его страдания в эти минуты?.. Но почему я не могу даже пошевельнуться… Почему… Словно некий прозрачный туман окутал его тело… Да, да… я вижу… Жизнь… так бурно и страстно клокочет в божественном Плотине… О, боги…»
— …И все же как несовершенна наша мысль! Мы говорим об Абсолюте — но это все «как бы». А Он совершенно трансцендентен. Он по ту сторону бытия и умственной реальности. Он не есть ни бытие, ни Абсолютный Ум, но выше и Ума, и бытия. О Нем нельзя сказать, что Он мыслит, и даже нельзя сказать, что Он есть. Ведь Единое — одно-единственное. Но если Оно действительно одно, то его никак нельзя охарактеризовать, мыслить. Ибо мыслить значит сравнивать. Если одно есть только одно — значит, нет ничего иного. Если нет ничего иного — значит, одно ни от чего не отличается. Если Оно ни от чего не отличается, Оно не есть нечто. Если Оно не есть нечто, Оно — ничто, которое ВСЕ.
Единое выше умственного мира эйдосов, Абсолют даже не красота, но выше красоты. Он выше жизни и активности. Он выше воли и свободы. Он выше причины и субстанции. Он даже не благо, даже не определенное единство, даже не бог. Он выше, Он абсолютно трансцендентен.
Ведь если есть что-нибудь пространственное, то есть и пространство, которое не сводится к пространственным предметам. Если есть что-нибудь красное, например красный цветок, то есть и сама краснота, которая ничего общего не имеет с цветком. Если есть что-нибудь свободное, то есть и Свобода сама по себе. Если есть что-нибудь истинное, то оно от Истины, которая сама в себе, и на истинное не разделяется. Если есть что-нибудь прекрасное, то есть Прекрасное и само по себе. И если имелись прекрасные моменты умственной реальности, то должна существовать и такая Красота, которая выше всякой эйдетической красоты, и есть ее источник…
…Золотистый переливающийся великолепием свет спросил у Него:
— Вы, Учитель, существуете или не существуете? — но не получил ответа. Вгляделся пристально в его облик, но всю вечность смотри на Него — не увидишь, слушай Его — не услышишь, трогай Его — не дотронешься:
— Совершенство! — воскликнул свет. — Кто мог бы еще достичь такого совершенства! Я способен быть или не быть, но не способен абсолютно не быть. А Он, как Он этого достиг — Абсолютно быть и Абсолютно не быть?..
…Он невыразим и абсолютно непознаваем. Все человеческие высказывания о нем лишь «как бы», лишь аналогии. Все человеческое знание, мудрость демонов и богов, недостаточны, чтобы говорить и мыслить о Нем: ведь Он — сверхсущный, сверхпрекрасный, сверхблагой. Он — не то, не то!..
…Порфирий устал: где-то там, на далеком востоке, начиналось утро. Все затихло в ожидании нового чуда. На мягкий пергамент ложились уже не столь ровные строки:
«О кончине его Евстохий рассказывал нам так (сам Евстохий жил в Путеолах и поспел к нему, лишь когда уже было поздно)…»
…Я чувствую, как изнутри все увеличивающимися и ускоряющимися толчками, бурля, пробивается Сила. Я ощущаю в этот последний миг — и я знаю, что это уже последний миг, — свое тело, свои покалывающие руки, опухшие свои ноги, свои веки. Я пытаюсь раскрыть свои глаза и неожиданно вижу свет, предутренний свет, он еще неустойчив, еще клубится в комнате ночной полумрак. Я вижу все предметы здесь, медленно поворачивая голову.
Евстохий, замерший, стоит невдалеке. У него сумрачное лицо, какая-то истинная человеческая печаль во всем его поникшем облике. Наши взгляды встречаются. И я ему говорю тихим, но ясным голосом, как слышится мне, а он содрогается, словно кто-то другой произносит эти слова:
— А я тебя все еще жду…
Он подходит ближе, и я не отвожу взгляда от него. Евстохий пытается что-то вытащить из своей врачебной сумки, но я отрицательно качаю головой… Потом я опять говорю:
— Тебе надо отдохнуть… Евстохий… Поезжай в Александрию…
Мои веки опускаются сами собой, и я чувствую, что тихая сонливость охватывает меня вновь. Я стараюсь сопротивляться, и сила мне помогает. Я вновь открываю глаза:
— Я ухожу, Евстохий. И… попытаюсь слить то, что божественно во мне, с тем, что есть божественного… во Вселенной…
…«О кончине его Евстохий рассказывал нам так: умирающий сказал ему: „А я тебя все еще жду“, потом сказал, что сейчас попытается слить то, что было божественного в нем, с тем, что есть божественного во Вселенной. И тут змея проскользнула под постелью, где он лежал, и исчезла в отверстии стены, а он испустил дыхание».
Произошло это весной 270 года, на втором году царствования императора Клавдия…
Порфирий задумался: он был в нерешительности. Через несколько лет Амелий предложил ему совершить путешествие в Грецию и в Дельфах вопросить светоносного Аполлона о душе Плотина. Надо ли писать здесь о том, что они услышали тогда. Слова вещей пифии запечатлены у него в душе до сих пор. И все же что-то заставило его писать дальше, отбросив какие-либо колебания:
«Но если уже приводить свидетельства, полученные от мудрых, то, кто мудрее, чем бог, тот бог, что истинно молвил: „Числю морские песчинки и ведаю моря просторы, внятен глухого язык и слышны мне речи немого“. Так вот, этот самый Аполлон, молвивший некогда о Сократе „Мудрее нет Сократа меж людей“, теперь на вопрос Амелия, куда переселилась Плотинова душа, дал о Плотине вот какой божественный ответ:
Се начинаю бессмертную песнь на хвалительной лире, В честь любезного друга медвяные звуки сплетая Струн сладкозвонной кифары, златым обегаемых плектром. Музы, вас призываю возвысить согласное пенье, В стройной ладов череде ведя ваши стройные клики, Как выводили вы их об Ахилле, Эаковом внуке, В древних песнях Гомера, в божественном их вдохновенье. Ныне же, Музы, священный ваш хор со мной да содвинет В каждый песенный вздох пределы всего мирозданья, А в середину взойду я, Феб Аполлон длиннокудрый. Даймоний, некогда муж, а ныне живущий в уделе Высшем, чем даймониям дан, сбил узы ты смертельного рока, Стал над сменой телесных приливов, телесных отливов И укрепившимся духом достиг последнего брега В плаванье дальнем сквозь море сует, прочь от низменной черни, Чтобы в душевной своей чистоте встать на путь прямолетный, Путь, озаренный сиянием божеским, путь правосудный, В чистую даль уводящий от дольней неправедной скверны. Было и так, что, когда боролся ты с горькой волною Жизни кровавой земной, вырываясь из гибельных крутней, На середине потока грозивших нежданной бедою, Часто от вышних богов ты знаменье видел спасенья, Часто твой ум, с прямого пути на окольные тропы Сбитый и рвавшийся вкривь, лишь на силы свои уповая, Вновь выводили они на круги бессмертного бега, Ниспосылая лучи своего бессмертного света Сквозь непроглядную тьму твоему напряженному взору. Не обымал тебя сон, смежающий зоркие очи, — Нет, отвеяв от век пелену тяжелую мрака, Ты проницал, носимый в волнах, вперяясь очами, Многую радость, которую зреть дано лишь немногим Смертным из тех, кто плывет, повивая высокую мудрость. Ныне же тело свое ты сложил, из гробницы исторгнув Божию душу свою, устремляешься в вышние сонмы Светлых богов, где впивает она желанный ей воздух, Где обитает и милая дружба и нежная страстность, Чистая благость царит, вновь и вновь наполняясь от бога Вечным теченьем бессмертных потоков, где место любви, И сладковейные вздохи, и вечно эфир несмутимый, Где от великого Зевса живет золотая порода — И Радаманф, и Минос, его брат, и Эак справедливый, Где обретает приют Платонова сила святая, И Пифагор в своей красоте, и все, кто воздвигли, Хор о бессмертной любви, кого провожает по жизни Высших божеств хранительный сонм; и в небесных застольях Их веселится душа. О, какого достиг ты блаженства, По совершении стольких трудов отойдя к вековечным Чистым сонмам божеств, наделенный сверхжизненной жизнью! Так поведем же запев хоровой в ликующем круге, Музы, о нашем Плотине, который отныне причастен Вечности, и подпоет вам моя золотая кифара.Напоминает бог, что Плотин был благ, добр, в высшей степени кроток и сладостен; что душа его была бодрственной и чистой, всегда устремленной к божественному, куда влекла его всецелая любовь. Все силы свои он напрягал, чтобы преодолеть горькие волны этой кровавой жизни. Так, божественному этому мужу, столько раз устремлявшемуся мыслью к первому и высшему Богу, являлся сам этот Бог, ни облика, ни вида не имеющий, свыше мысли и всего мысленного возносящийся, тот Бог, к которому и я, Порфирий, единственный раз на шестьдесят восьмом году приблизился и воссоединился. Плотин близок был этой цели — ибо сближение и воссоединение с Всеобщим Богом есть для нас предельная цель: он четырежды достигал этой цели, не внешней пользуясь силой, а внутренней и неизреченной.
Сами боги не раз в окольных его блужданиях ниспосылали ему лучи света, чтобы он узрел божественное и по видению этому написал то, что он написал. В созерцании своем, говорит Феб, изнутри и извне увидел ты многую радость, которую немногим дано видеть из занимающихся философией, — это потому, что человеческое умозрение хоть и выше людского удела, но при всей своей отрадности с божественным знанием сравниться не может, ибо не проникает в глубь вещей, как проникают боги. Вот что совершил Плотин и что с ним совершилось, пока был он в смертном теле, говорит Феб, а избавляясь от этого тела, взошел он в божественные сонмы, где обитают дружба, страстность, радость, любовь божественная и где обретаются так называемые судьи над душами — божьи сыны Минос, Радаманф и Эак, к которым он идет не на суд, а для беседы, подобно иным высочайшим богам. И беседу эту ведут вместе с ними Платон, Пифагор и все остальные, кто воздвигал хор о бессмертной любви. Вот где родина блаженнейших божеств; такова будет и его жизнь, завидная самим богам».
* * *
…И вдруг так стало беспредельно ясно: Он создает теперь мир точно так же, как Он всегда делал и как всегда будет делать. И я — это Он, и Я — этот Мир, и Я — это Делаю, и Я — это Всегда…
* * *
Когда капля дождя стучится в окно — это Мой знак! Когда птица трепещет — это Мой знак! Когда листья несутся вихрем — это Мой знак! Когда лед растопляет солнце — это Мой знак! Когда волны смывают душевную скорбь — это Мой знак! Когда крыло озарения коснется смятенной души — это Мой знак!ИЛЛЮСТРАЦИИ
Статуя Рамзеса II в Луксоре.
Рельефы храма в Фивах.
Фреска в Луксоре.
Барка бога Ра. Фреска в гробнице Рамзеса I.
Пирамида Хеопса и Сфинкс. Гиза.
Панорама Александрии. Фото автора.
Роспись погребальной камеры, иллюстрирующая «Книгу мертвых». Сюжет: ежедневное умирание и воскресение бога Солнца. В данном случае его ладья изображена в полночь, когда бог и его свита должны войти в тело огромного змея, откуда выйдут утром, вновь став «детьми».
Рим. Арка Септимия Севера.
Рим. Храм Солнца. Реконструкция.
Рим. Руины дворца Септимия Севера.
Древнеримские монеты.
Рим. Колонны храма Венеры Прародительницы форуме Юлия Цезаря.
Плотин
Филипп I Араб. Мрамор. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж.
Пупиен. Мрамор. Рим. Ватиканские музеи.
Бальбин. Мрамор. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж.
Гордиан III. Мрамор. Париж. Лувр.
Отацилия. Мрамор. Англия. Частное собрание.
Деций. Мрамор. Рим. Капитолийские музеи.
Галлиен. Мрамор. Рим. Музей Торлониа.
Салонина. Мрамор. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж.
Рим. Арка Галлиена и Салонины.
Аппиева дорога.
Рим. Золотой Дом Нерона. Криптопортик.
Основу второй фототетради составили фрагменты картин С. Боттичелли, М. Чюрлениса, Р. Магритта, С. Дали и фотографии А. Маркелова, П. Тишковского, М. Киша.
Любовь к Единому есть действительное начало истинного бытия и истинного познания.
Все возникает через Единое, так как Оно везде. Но возникает все через Единое как различное с Ним, поскольку Единое — нигде…
И созерцание природы бесшумно, но все же оно достаточно сумрачно, словно бы во сне. Природа и творит потому, что не может удовлетвориться этим сонным, несовершенным созерцанием.
Человек в той степени мужественен, в какой он не разделяет события, происходящие в жизни, на несчастливые или счастливые. Он не ищет сочувствия, поскольку является подлинным бойцом духа.
Когда люди, существа смертные, в стройном порядке сражаются, обращая друг против друга оружие, они… обнаруживают, что все человеческие заботы — забавы детские. И в смерти их ничего нет страшного: то есть, кто погибнет на войне или в сражении — немного раньше получит то, что случится в старости… И как будто на сцене театра, так следует смотреть на убийство, и все смерти, и захваты городов и похищения. Все это — лишь перестановки на сцене, перемены облика, плачи и рыдания актеров.
Ведь здесь, в отдельных проявлениях этой жизни, не внутренняя душа, но внешняя тень человека и рыдает и печалится. Таковы дела человека, который считает жизнью только то, что в этой низшей и внешней сфере. …Только с помощью того, что в человеке серьезно, следует серьезно же заботиться и о серьезных делах, а в остальном человек — игрушка.
И потому-то наш чувственный мир прекрасен, поскольку в нем отражается образ действительно реального и истинного умственного мира… Прекрасно то, где сущность и причина — одно и то же.
Число как субстанция есть ритмика силы и неотделимо от Единого… Число является той избыточностью Единого, которая, не умаляя Его, создает все.
Единое есть все и ничто… Оно одновременно везде есть и все его. Но в то же время Единое отсутствует везде и всюду и даже в себе самом.
…И тогда ты достигнешь абсолютной свободы — свободы от самого себя… Единое перестало быть для тебя другим. Оно для тебя и не внешнее и не внутреннее. Единое — есть все для тебя, который и есть Единое.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ ПЛОТИНА
204 г. — Рождение Плотина.
232 г. — Плотин уезжает из Ликополя в Александрию.
232–242 гг. — Плотин в школе Аммония Саккаса.
243 г. — Плотин присоединяется к армии императора Гордиана.
244 г. — Плотин прибывает в Рим.
244–253 гг. — Плотин преподает в Риме.
246 г. — Амелий становится учеником Плотина. Он начинает записывать лекции Учителя.
263 г. — Прибытие Порфирия в Рим.
266 г. — Сенатор Сабинилл, слушатель Плотина, избран консулом на этот год.
268 г. — Убийство Галлиена. Усиливается последняя болезнь Плотина.
269 г. — Плотин уезжает из Рима в имение Зефа в Кампании.
270 г. — Смерть как важнейшее испытание Плотина.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Плотин. Сочинения. Плотин в русских переводах (серия «Античная библиотека»). СПб., 1995.
Антология мировой философии в 4-х тт., т. 1 Философия древности и средневековья, ч. 1. (библиотека «Философское наследие»). М., 1969, с. 536–554.
Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука. В кн.: Лосев А. Ф. Бытие — имя — космос. М., 1993.
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Поздний эллинизм. М., 1980. (В названных книгах А. Ф. Лосева содержится значительное количество наиболее адекватных плотиновскому тексту переводов отдельных книг «Эннеад».)
Порфирий. Жизнь Плотина. — В кн.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979.
Блонский П. П. Философия Плотина. М., 1918.
Шичалин Ю. А. Образное конструирование мира в трактате Плотина «О трех начальных субстанциях». — В кн.: Из истории античной культуры. М., 1976.
Джохадзе Д. В. Диалектика Плотина. — В кн.: Джохадзе Д. В. Диалектика эллинистического периода. М., 1979.
Гарнцев М. А. Плотин. — В кн.: Гарнцев М. А. Проблема самосознания в западноевропейской философии. М., 1987.
Адо П. Плотин, или Простота взгляда. М., 1991.
* * *
В книге использованы поэтические фрагменты из произведений Франсуа Вийона и Насими.






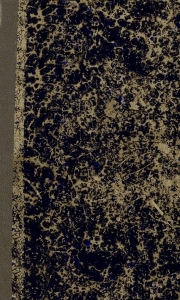
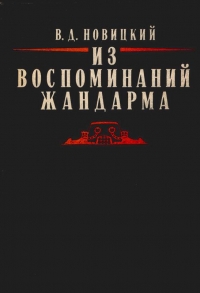


Комментарии к книге «Плотин. Единое: творящая сила Созерцания», Шамиль Загитович Султанов
Всего 0 комментариев