«Молодая гвардия», 2012
Глава первая. КОРНИ ДУБА
«Корнетские дети»
В 1840-х годах Россия вступила в железнодорожный век: развернулось строительство первой крупной железной дороги, которая должна была соединить Петербург с Москвой. На этой огромной стройке трудились десятки тысяч человек, в подавляющем большинстве — крепостные крестьяне, посланные на строительство «чугунки» своими владельцами. «Издали такие места работ, — вспоминал участник строительства инженер А.И. Штукенберг, — были похожи на встревоженный муравейник, в котором усердные насекомые копошатся, хлопочут, напрягая силы; но в каждом этом муравье билось человеческое сердце, покорное судьбе муравья. Непогода не останавливала рабочих, разве на ночь и в проливные дожди загоняли их в свои норы»[1]. Тяжкую участь рабочих-землекопов на строительстве этой магистрали отобразил Н.А. Некрасов в стихотворении «Железная дорога»:
Мы надрывались под зноем, под холодом, С вечно согнутой спиной, Жили в землянках, боролися с голодом, Мерзли и мокли, болели цингой.В 1843 году на самый сложный участок строительства — на Валдайскую возвышенность — был прислан молодой инженер-путеец Николай Ильич Миклуха, ставший отцом знаменитого путешественника и исследователя.
Род инженера Миклухи более или менее достоверно прослеживается с середины XVIII века. Его сын Михаил, младший брат ученого, в своих неопубликованных заметках сообщает, что «у отца были документы, из которых можно было проследить более древних представителей рода, но так как у нас в семье не придавали большого значения происхождению, то об этих отдаленных предках я ничего не знаю»[2].
Сам ученый в предсмертной автобиографии, написанной в 1887 году от третьего лица, так отозвался о своем прадеде, с которого начинается реальная генеалогия рода Миклух: «Потомственное дворянство было дано прадеду его Степану, который, состоя хорунжим в одном из казацких полков, отличился при взятии Очакова в 1772 г.»[3].
Тактично опуская или исправляя хронологическую неточность (Очаков был взят русскими войсками в 1778 году), биографы ученого, в том числе представители рода Миклух, безоговорочно приняли приведенную версию и расцветили ее новыми подробностями. Некоторые итоги подвел в 1997 году Д.С. Басов в сборнике с удачным названием «Человек из легенды»: «При штурме (Очакова. — Д. Т.) отличился хорунжий, т. е. подпоручик, реестрового стародубского казачьего полка Степан Миклуха, который первым ворвался в крепость. За это он был удостоен указом Екатерины II потомственным дворянством»[4].
Но вот незадача: в специальных подробных исследованиях об осаде и штурме Очакова не только не говорится о подвиге Степана Миклухи и оказанной ему монаршей милости, но вообще не встречается такая фамилия. Что же касается Стародубского казачьего полка, то он не входил в войска князя Потемкина, овладевшие после длительной осады турецкой крепостью Очаков. Впрочем, Степан Миклуха — личность отнюдь не легендарная. Материалы о нем обнаружены в Государственном архиве Черниговской области (ГАЧО) Украины. Согласно исповедным и метрическим книгам конца XVIII века, Степан Михайлович Миклуха (род. ок. 1750 г.) с семьей жил в городе Стародубе[5]. Этот город, один из старейших на Руси, до 1782 года был центром Стародубского полка — одной из десяти военно-административных единиц, на которые была разделена Левобережная Украина. Полк активно участвовал в русско-турецких войнах 1768-1774 и 1787-1791 годов (но, как уже отмечалось, не во взятии Очакова). Рядовой казак Степан Миклуха дослужился до чина хорунжего, а когда его переформированный полк включили в регулярную армию, был произведен в первый обер-офицерский чин корнета (соответствует пехотному подпоручику). Но получил ли Степан потомственное дворянство?
По Табели о рангах, введенной Петром I в 1722 году, уже первый обер-офицерский чин (XII класс) давал право на потомственное дворянство. Ввиду развития армии и флота и разрастания государственного аппарата численность дворянства быстро возрастала. К концу XVIII века в одной только Украине насчитывалось до ста тысяч дворян, значительную часть которых составляли «плебеи по крови, бедняки по состоянию»[6]. Поэтому верховная власть стала ограничивать доступ в дворянское сословие, повышая ранги, необходимые для получения «столбового» дворянства. В жалованной грамоте дворянству, подписанной в 1785 году, Екатерина II повелела лиц, имеющих чины ниже VIII класса, причислять не к потомственному, а к личному дворянству, не распространявшемуся на потомков. Так появилась новая сословная группа — личное дворянство.
«По некоторым правам, — писал известный историк и правовед А.В. Романович-Славатинский, — личное дворянство примкнуло к потомственному: оно было свободно от телесных наказаний, отличных податей и рекрутчины, но лишенное существеннейших прав дворянства потомственного — крепостного права и полного участия в его корпоративной жизни — оно не совсем было благородным. <…> Бедное материальными средствами, но богатое искусственными потребностями, личное дворянство боялось запачкать свои благородные руки какими-нибудь мещанскими занятиями и предавалось темным, неопределенным профессиям. <…> Личными дворянами общества потомственных дворян замещали иногда должности по земской полиции, особо низко стоящей во мнении сословия»[7].
Нам не удалось установить, когда Степан Миклуха был произведен в корнеты. Если это произошло до 1785 года, он, по-видимому, промедлил с оформлением соответствующих документов или допустил иную оплошность. В Новгородсеверском наместничестве процветали кумовство, взяточничество и беззаконие. В связи с изданием жалованной грамоты дворянству местные власти — по невежеству или по злой воле — причислили Степана к личному дворянству, хотя из текста грамоты следовало, что введенные в ней ограничения касаются лишь гражданских чинов. Лица, получившие на действительной военной службе обер-офицерское звание, сохраняли право на получение потомственного дворянства до 1845 года, когда были подняты планки доступа в дворянское сословие как для гражданских, так и для военных чинов.
Неизвестно, пытались ли Степан Михайлович или его сыновья оспорить допущенную несправедливость, после того как Стародуб по административной реформе вошел в Черниговскую губернию. Но факт остается фактом. «В архивном фонде Черниговского губернского депутатского собрания, — сообщила в ответ на наш запрос директор ГАЧО Р.В. Воробей, — документов о пожаловании дворянства роду Миклух и описания герба не имеется»[8]. Более того, в материалах архива, относящихся к первой половине XIX века, про сына Степана Миклухи, тоже Степана, прямо сказано, что он происходит из «личных дворян». В некоторых документах он и его сын Илья Степанович дипломатично обозначены как «корнетские дети»[9]. Мы сознательно остановились на этом сюжете, так как сомнительное дворянское происхождение Миклухо-Маклая, -в дальнейшем, как увидим, узаконенное стараниями его матери, — в какой-то мере повлияло на его социально-психологические установки и на некоторые его поступки.
Как установил писатель-краевед Г.В. Метельский, в XIX веке в Стародубе имелся Миклухин переулок, где обитали многие представители рода Миклух[10]. В известных нам архивных материалах отсутствуют сведения о том, владел ли отставной корнет Миклуха какой-либо недвижимостью. Но можно смело утверждать, что он не обладал значительным состоянием. Своих сыновей, оканчивавших уездное училище, он определял на службу писарями, преимущественно в суд и полицию; продвигаясь по службе, они становились чиновниками XIV-X классов, то есть достигали положения, которое до 1845 года давало им право на личное дворянство.
Более подробные сведения имеются у нас о внуке корнета — Илье Степановиче Миклухе, который дослужился до чина коллежского секретаря (X класс). Он был женат на Александре Диомидовне (урожденной Кожановской) и имел от нее шестерых сыновей и трех дочерей[11]. Как видно из его формулярного списка, составленного в 1836 году, ни у него, ни у его отца Степана Степановича не было никакого «недвижимого имения»[12]. Илья со своей многодетной семьей проживал либо на съемной квартире, либо у кого-то из родственников.
Старший сын Ильи Степановича Николай — отец знаменитого путешественника — родился 24 октября 1816 года[13]. Обладая недюжинными способностями и тягой к знаниям, он не захотел пойти по пути отца и «дядьев». В 1829 году, по окончании уездного училища, Николай уговорил отца отправить его на учение в Нежинский лицей, содержавшийся на средства екатерининского фаворита князя А.А. Безбородко и его брата графа И.А. Безбородко, которые желали дать «приличное» образование потомкам «неимущих» дворян и лиц, примыкавших к «благородному» сословию. В 1821 — 1828 годах здесь учился Н.В. Гоголь. Не раз менявшее на протяжении XIX века название и направленность, это учебное заведение в 1830-х годах имело физико-математический уклон. Такая специализация соответствовала склонностям Николая, который, как он сам писал, предпочитал «науки точные», но вместе с тем был усердным книгочеем и с детства пристрастился к рисованию.
Выпускникам Нежинского лицея при поступлении на гражданскую службу сразу присваивался чин XIV класса (коллежский регистратор). Но, вернувшись в 1835 году в Стародуб после успешного окончания лицея, Николай не пожелал стать «канцелярской крысой». Юноша узнал, что в Петербурге существует Институт Корпуса инженеров путей сообщения, который готовит специалистов по проектированию, строительству и эксплуатации каналов, шоссейных дорог и мостов, и решил стать инженером-путейцем. Отец одобрил выбор сына. Но как добраться до Петербурга? В семье, где считали каждую копейку, не нашлось денег на проезд в дилижансе. С котомкой за плечами Николай отправился в столицу пешком, как некогда Ломоносов в Москву.
Юноша добрался до Петербурга осенью 1836 года, когда занятия на первом курсе института уже начались. Поэтому он устроился на работу в артиллерийский департамент Военного министерства и стал готовиться к вступительным экзаменам будущего года. Сохранилось письмо Николая главноуправляющему путями сообщения и публичными зданиями графу К.Ф. Толю. Ссылаясь на свое стремление «посвятить себя инженерному искусству» и стать полезным отечеству на этом поприще, он просил «допустить меня к испытанию в Институте Корпуса инженеров путей сообщения и, по экзамену, зачислить меня казенным воспитанником того заведения»[14]. Просьба Миклухи была удовлетворена. Выдержав экзамен, он в сентябре 1837 года приступил к занятиям в желанном институте.
Институт Корпуса инженеров путей сообщения, основанный в 1809 году, был единственным в России учебным заведением, где готовили инженеров-путейцев. В то время в российских правящих кругах еще только велись дебаты о целесообразности введения в стране железнодорожного сообщения. Но уже с середины 1830-х годов в институте преподавали основы железнодорожного дела. Ведущую роль играл профессор П.П. Мельников (впоследствии генерал и министр путей сообщения) — большой знаток и энтузиаст железнодорожного строительства. Николай получил основательную подготовку в области проектирования, строительства и эксплуатации не только каналов, шоссейных дорог и мостов, но и рельсового пути.
Успешно сдав выпускные экзамены, Николай Миклуха был произведен в чин инженер-поручика и в мае 1840 года, как сказано в его формулярном списке, «назначен на действительную службу <…> к работам по соединению рек Волги и Москвы»[15]. Среди его бумаг, хранящихся в одном из петербургских архивов, находятся сделанные им чертежи и расчеты каналов, шлюзов и т. д. Между тем 13 февраля 1842 года, после долгих раздумий, Николай I подписал указ о строительстве железной дороги между Петербургом и Москвой. Немедленно начались проектно-изыскательские работы по начертанной самим царем трассе будущей магистрали, а в 1843 году на отдельных участках приступили к сооружению железнодорожного полотна. Общее руководство строительством дороги было возложено на графа П.А. Клейнмихеля, который сменил умершего К.Ф. Толя. Граф пользовался у современников дурной славой. Ближайший сподвижник покойного Аракчеева, превзошедший по жестокости своего патрона, интриган и самодур, он вместе с тем был ревностным служакой, не лишенным организаторских способностей, привыкшим беспрекословно, любой ценой выполнять возложенные на него обязанности. Клейнмихель привлек к строительству железной дороги множество инженеров-путейцев, отозвав их с других работ. Неудивительно, что подготовка к «соединению рек Волги и Москвы» была прекращена (канал Москва — Волга будет сооружен почти столетие спустя, в 1932 — 1937 годах).
В феврале 1843 года по приказу Клейнмихеля Николай Ильич Миклуха был переведен в Северную дирекцию Петербургско-Московской железной дороги, ведавшую работами от Петербурга до Бологого. Начальник этой дирекции П.П. Мельников поручил своему ученику руководить одной из дистанций пути, прокладываемого через Валдайскую возвышенность. Молодой инженер вскоре отбыл к месту назначения. Он тщательно изучил особенности трассы на вверенной ему дистанции, наблюдал за прибытием и размещением рабочих-землекопов, следил за качеством начавшихся работ. В декабре 1843 года его произвели в инженер-капитаны. В начале следующего года, зимой, когда земляные работы не производились, Николай Ильич взял месячный отпуск для устройства семейных дел: в Москве его ждала невеста.
«Смесь элементов»
Екатерина Семеновна — так ее звали — родилась 15 октября 1826 года в Москве, где ее отец С.И. Беккер служил в губернском приказе общественного призрения. В уже знакомой нам предсмертной автобиографии знаменитый путешественник не без пафоса рассказал о своих ближайших предках по линии матери: «Мать его, дочь подполковника С. Беккера, сделавшего кампанию 1812 г. в "Низовском" полку, приходилась внучкой д-ру Беккеру, присланному королем прусским к последнему королю польскому, при котором он состоял лейб-медиком. Жена подполковника Беккера — полька, Л.Ф. Шатковская. Таким образом, Ник. Ник. (так в тексте. — Д. Т.) представляет собой смесь элементов: русского, германского и польского»[16].
Впоследствии представители рода Миклух в своих записках и публикациях в основном придерживались сведений, сообщенных Н.Н. Миклухо-Маклаем. Но в их стане обнаружились и разногласия. Приемный сын (фактически — внук) Екатерины Семеновны, которого в семье называли Михаил-младший, — читатель в дальнейшем узнает его драматическую историю, — утверждал, что ее матерью была «урожденная Кшивоблоцкая — литвинка». Он писал об этом в 1938 году академику И.Ю. Крачковскому[17]. Михаил-младший воспитывался Екатериной Семеновной, прожил бок о бок с ней многие годы, но его версия не находит подтверждения в других источниках. Как и в сведениях о хорунжем Степане Миклухе, мы встречаемся здесь с вариативностью фактов и различными версиями, характерными для жизнеописания легендарного персонажа, каким еще при жизни стал Миклухо-Маклай. Этот культурный феномен сполна проявился в рассказах о его предках.
Впрочем, сведения ученого о его деде по линии матери во многом подтверждаются достоверными фактами. Документальные публикации позволяют пролить свет на последние годы жизни доктора Иоганнеса Беккера, в том числе на обстоятельства его приезда в Россию. Накануне третьего раздела Польши, когда А.В. Суворов в октябре 1794 года штурмом овладел Варшавой, последний польский король Станислав Август Понятовский по указанию Екатерины II был перевезен в Гродно. Здесь он жил на широкую ногу, но под неослабным надзором. Среди его приближенных был лейб-медик (по документам — «главный доктор») Иоганн Беккер, который не только лечил Станислава Августа и его придворных, но и пользовал генерал-губернатора князя Н.В. Репнина. Вскоре по восшествии на престол Павел I «пригласил» Понятовского в Петербург. В январе 1797 года тот выехал из Гродно и через месяц прибыл в Северную столицу. Беккер с семьей сопровождал бывшего короля, который умер год спустя[18].
В России доктор Беккер занялся медицинской практикой, а его сын, которого на русский лад стали именовать Семеном Ивановичем, избрал военную карьеру. Во время Отечественной войны 1812 года он служил в Низовском казачьем полку, был ранен и вышел в отставку в чине подполковника. Возможно, по протекции друзей отца С.И. Беккер поступил на службу в московский приказ общественного призрения, где проработал на разных должностях несколько десятилетий. В мае 1844 года он был назначен смотрителем Старо-Екатерининской больницы «для чернорабочего класса людей». С.И. Беккер оставался на этом посту до конца своих дней (он умер в апреле 1854 года). Луиза Флориановна на много лет пережила своего супруга.
У Семена Ивановича была большая семья — три сына, три дочери. Он старался дать им хорошее образование. Сыновья ходили в гимназию, дочери, по обычаю тех лет, обучались на дому. Гувернантка, дочь итальянского архитектора Кампорези, научила Катю свободно говорить по-французски. Сам С.И. Беккер, по-видимому, не любил рассуждать о «высоких материях» и был человеком «строгих правил». Но его дети общались с сослуживцами и знакомыми отца, среди которых встречались люди примечательные. К ним относился прежде всего знаменитый врач и филантроп Ф.П. Гааз (1780 — 1853), который посвятил свою жизнь облегчению участи арестантов, отправляемых из Москвы на каторгу в Сибирь. Нравственный подвиг Гааза не мог не повлиять на юную Катю. Михаил-младший вспоминает, что Екатерина Семеновна до глубокой старости вспоминала о «святом докторе» и бережно хранила подаренную им книгу[19].
К своему коллеге Беккеру часто заезжал доктор Н.Ф. Кетчер, который медициной занимался скорее по обязанности и увлеченно переводил на русский язык сочинения Шиллера и Шекспира, писал статьи для журналов. Подрастающим детям Беккера он привозил не только «конфекты», но и — тайком от родителей — сочинения А.И. Герцена и другие «вольнодумные» публикации. Катя с интересом слушала «вольтерьянские» рассуждения Кетчера и читала привозимую им литературу.
К семнадцати годам Екатерина Беккер превратилась в миловидную, начитанную, отнюдь не «кисейную» барышню, обладавшую твердым характером и определенными взглядами на жизнь.
Как и где познакомились Екатерина и Николай? Можно предположить, что это произошло в 1840 — 1842 годах, когда молодой инженер подолгу жил в Москве, участвуя в подготовительных работах по «соединению рек Волги и Москвы». Выше уже упоминалось, что С.А. Беккер во время войны 1812 года служил офицером в одном из казачьих полков. Возможно, у него и у Николая Миклухи оказались общие знакомые из казаков, которые привели инженера-путейца в дом подполковника. Однако это всего лишь догадки. Несомненно одно: брак Николая и Екатерины не был скоропалительным. Николай не раз встречался со своей будущей невестой, наблюдал, как она расцветает и хорошеет, знакомился с ее привычками и взглядами и нашел в ней, как тогда выражались, родственную душу. Не исключено, что еще до отъезда на строительство железной дороги Николай сделал Екатерине предложение и получил ее согласие, так как вскоре по приезде отпускника в Москве сыграли свадьбу.
Венчались они 14 апреля 1844 года в Воскресенской церкви, что при Екатерининском богадельном доме на Сретенке[20]. Николаю Ильичу исполнилось тогда 25 лет, Екатерина Семеновна была на восемь лет моложе супруга. Н.И. Миклуха привез жену к месту своей службы, в деревню Языково Боровичского уезда Новгородской губернии. Здесь он снял комнаты в доме помещика Н.Н. Евстифеева — владельца усадьбы Рождественское, расположенной в этой деревне[21]. Деревня Языково раскинулась по берегам карстовой речки Шегринки (притока Меты), в холмистой местности, в окружении полей, болот, хвойных лесов и холодных голубых озер. Жизнь текла здесь спокойно и неторопливо. Но всего лишь в нескольких верстах от Языкова, в районе будущих станций Окуловка и Угловка, развернулось строительство железной дороги. Там сотни рабочих вручную копали и перемещали землю для устройства железнодорожного полотна, сооружали отводные канавы на заболоченных участках, прорубали просеки сквозь дремучие леса. Дотоле непуганые звери — медведи, олени, лоси, дикие козы — постепенно отступали от человека подальше в чащобу, над строительством кружили растревоженные орлы…
2 июля 1845 года у молодой четы родился первенец, названный Сергеем. А год спустя, 17 июля 1846 года, на свет появился их второй сын — герой нашей книги[22]. Благодаря этому событию скромная усадьба оказалась вписанной в энциклопедии всего мира. При крещении в церкви Николая Чудотворца, расположенной на погосте Шегрина Гора, младенца нарекли Николаем[23]. Его восприемником был тесть Евстифеева — боровичский помещик генерал-майор А.Н. Ридигер из известного в России дворянского рода. В наши дни к этому роду принадлежал патриарх Алексий II (Алексей Михайлович Ридигер), умерший в 2008 году.
Глава вторая. С ОТЦОМ И БЕЗ ОТЦА
Инженер-романтик и его семейство
Жители Окуловского района Новгородской области (сюда по современному районированию входит деревня Языково) справедливо считают Н.Н. Миклухо-Маклая своим земляком и ежегодно празднуют день его рождения. Но Коля недолго жил в усадьбе Рождественское. Уже 10 августа 1846 года его отец был назначен помощником начальника опытного пути от центра Петербурга до пригородного Александровского механического завода, где сооружались локомотивы и подвижной состав для прокладываемой магистрали. К осени семья Н.И. Миклухи переселилась в столицу на казенную квартиру.
В мае 1847 года опытный путь был продлен до села Колпина. Если вначале его использовали главным образом для испытаний и обкатки локомотивов, вагонов и платформ, то теперь стали также перевозить пассажиров и грузы. 18 марта 1848 года граф Клейнмихель предписал «капитану Миклухе заведовать С.-Петербургскою станциею и двенадцатью верстами пути от станции до Колпино»[24]. Так Николай Ильич стал первым начальником вокзала, возводимого тогда по проекту архитектора К.А. Тона.
Между тем у Миклухи произошло очередное прибавление семейства. 11 мая 1849 года у него родилась дочь Ольга. В августе Николай Ильич был переведен в Южную дирекцию Петербургско-Московской железной дороги и назначен начальником опытного пути между Вышним Волочком и Тверью протяженностью 112 верст. Несмотря на недостроенность объектов, он сумел наладить на этом участке товарное, а затем и пассажирское сообщение. Под бдительной опекой матери трехлетний Коля и четырехлетний Сережа наблюдали удивительное, пугавшее тогда многих зрелище — приход и отправление поездов. «Был очень здоров до трех лет, — вспоминал о своем раннем детстве герой нашей книги, — но после лихорадки, полученной в СПб. весной, остался хворым. Неохотно, но скоро выучился грамоте у матери»[25].
В октябре 1850 года случилось событие, которое, возможно, назревало уже давно: инженер-капитан Миклуха прогневил чем-то начальника Южной дирекции генерал-майора Н.О. Крафта. Не вникнув в суть дела, Клейнмихель тотчас же отстранил строптивого инженера от должности и отправил его в резерв, в распоряжение 1-го (Петербургского) округа путей сообщения.
Около года Николай Ильич ожидал нового назначения. Куда пошлет его грозное начальство? Не вынудит ли подать в отставку? Несколько успокаивало то обстоятельство, что вместе с группой инженеров он в декабре 1850 года — возможно, по инерции — был награжден орденом Святой Анны 3-й степени. Но Клейнмихель был способен на любую выходку. Из-за его грубости, невежества и самодурства ушел, например, в отставку и оставил карьеру путейца «сосед» Миклухи на строительстве железной дороги инженер-капитан А. Поссе.
Чтобы отогнать тревожные мысли, Николай Ильич усердно штудировал новые руководства по специальности, читал и перечитывал русскую, французскую и немецкую художественную литературу, книги о путешествиях, занялся живописью. У него появилось больше времени для общения с детьми.
Сооружение рельсового пути между Петербургом и Москвой тем временем приближалось к концу. Сослуживцы Н.И. Миклухи, начинавшие службу, как и он, в чине инженер-поручика или инженер-капитана, за годы строительства дороги превратились в майоров, подполковников, даже полковников Корпуса инженеров путей сообщения. Однако Николай Ильич так и не дождался производства в следующий чин, хотя был квалифицированным и толковым специалистом, которого назначали на все более ответственные должности. Более того, по сообщению историков железнодорожного дела М.И. и М.М. Ворониных, «ученик Мельникова, инженер Н.И. Миклухо (так в тексте. — Д. Т.) разработал меры борьбы со снежными заносами на железной дороге. Он впервые в России посадил "живой заборник" из елок на участке Тверь — Вышний Волочек. <…> Таким образом, Н.И. Миклухо является пионером устройства живой изгороди, обеспечивавшей нормальную эксплуатацию железной дороги в зимнее время»[26].
Полагаю, что Николай Ильич не дождался производства в следующий чин и умер инженер-капитаном потому, что к нему испытывали неприязнь сам всесильный граф Клейнмихель и окружавшая его чиновная камарилья. Миклуха заступался иногда за бесправных рабочих-землекопов, не боялся говорить начальству правду в глаза, а главное — он не брал взяток и потому не вписывался в систему тотальной коррупции, процветавшей на строительстве железной дороги. Бюрократы-мздоимцы и прочие хищники, наживавшиеся на этой стройке, по-видимому, считали Миклуху чужаком, белой вороной.
По сведениям Михаила — младшего сына Николая Ильича, — у жителей сел, расположенных близ железной дороги в районе Твери, «сохранилась светлая память об отце, как о человеке гуманном, честном и справедливом»[27]. «Человек он был строгий и требовательный, — узнал Михаил у матери и старших братьев, — но из-за строгости выступала его мягкая натура». Художественно одаренный от природы, Николай Ильич, как многие люди такого склада, был мечтателем. Уже упоминалось, что он с детства начал рисовать, позднее самостоятельно освоил технику живописи. Инженер отводил душу, рисуя «романтические» пейзажи далеких стран, где ему так и не довелось побывать, делая зарисовки античных статуй, наброски парусных судов и т. п. В петербургских архивах, в фондах его знаменитого сына, сохранилось несколько десятков рисунков и акварелей инженера Миклухи, выполненных умелой рукой[28].
«Мать хотя была значительно моложе отца, — сообщает Михаил Николаевич, — имела на него большое влияние и всегда могла его уговорить и сделать так, как сама хочет»[29]. Муж отдавал ей все свое жалованье. Еще недавно молоденькая девушка, выпорхнувшая из родительского гнезда, Екатерина Семеновна оказалась рачительной, экономной хозяйкой. Она так составляла и исполняла семейный бюджет, что обеспечивала все потребности семьи, выкраивала деньги, которые муж посылал своим неимущим родственникам в Стародуб, да еще делала сбережения.
Петербургско-Московская железная дорога (Александр II в 1855 году назвал ее Николаевской в память о своем августейшем родителе) была официально объявлена открытой 13 ноября 1851 года, хотя движение поездов началось как минимум на полгода раньше. Для бесперебойного функционирования этой сложной системы требовались опытные специалисты, которые хорошо знали особенности создания и поддержания в порядке рельсового пути и всей железнодорожной инфраструктуры и к тому же имели навыки управления. В этой новой для России сфере такие специалисты были буквально наперечет. Тогда-то и вспомнили об опальном Миклухе, который не только познал на практике все тонкости сооружения железнодорожного полотна, но хорошо проявил себя как начальник опытного пути между Вышним Волочком и Тверью. 9 октября 1851 года инженер-капитан Миклуха был назначен начальником VI отделения дороги — от станции Спировской до Клина с центром в Твери — протяженностью 152 версты[30]. Таким образом, в его ведении оказалась примерно четверть всей магистрали (ее общая длина — 604 версты, или 644 километра).
Как видно из служебной переписки, Николай Ильич, будучи начальником отделения дороги, жил в Твери. С ним находилась его семья. 31 мая 1853 года у супругов родился еще один сын, названный Владимиром.
Руководство большим отделением дороги — с многочисленными станциями, полустанками, локомотивными депо, складами, мостами и т. п. — требовало постоянного напряжения сил, а для такого добросовестного человека, как Николай Ильич, означало работу на износ. «Тогда должность эта, — вспоминал начальник «соседнего» отделения дороги А.И. Штукенберг, который в отличие от Миклухи за годы строительства магистрали проделал карьерный путь от поручика до подполковника Корпуса инженеров путей сообщения, — была весьма тяжела, так как заведование дорогой <…> заключало в себе все части вместе, т. е. ремонт дороги, тягу по ней, подвижной состав, кассирскую часть, даже администрацию — только были отделены телеграф и товарное движение»[31].
Николай Ильич хорошо справлялся со своими обязанностями. В 1853 — 1855 годах он получил несколько высочайших благодарностей и медаль за «отлично усердную службу», за образцовый порядок при перевозке войск во время Крымской войны. Казалось, перед ним открывались широкие перспективы. Но 24 октября 1855 года, как раз в день рождения инженер-капитана Миклухи (ему исполнилось 39 лет), он был освобожден от занимаемой должности и откомандирован в распоряжение XII (Прибалтийского) округа путей сообщения[32].
Откомандирование не было связано с упущениями по службе или происками недоброжелателей. Александр II, вступив на престол в марте 1855 года, вскоре сделал символический жест — отстранил от должности ненавистного Клейнмихеля, что вызвало, как записала в своем дневнике фрейлина А.Ф. Тютчева (старшая дочь поэта), ликование в обеих столицах[33]. Преемником Клейнмихеля был назначен генерал К.В. Чевкин, не испытывавший неприязненных чувств к Миклухе. Дело было в другом: здоровье Николая Ильича серьезно пошатнулось, и он, возможно, сам попросил освободить его от обременительной должности.
В дошедших до нас воспоминаниях и черновых записях ближайших родственников названа лишь болезнь, от которой умер Н.И. Миклуха, — туберкулез легких. Ввиду отсутствия в этих биографических материалах указаний на длительный характер болезни можно предположить, что туберкулез проявился у Николая Ильича или, во всяком случае, начал серьезно угрожать его здоровью, когда он заведовал отделением железной дороги.
К концу 1855 года Николай Ильич с семьей обосновался в Петербурге в большой квартире на Сергиевской улице, около Таврического сада. Здесь у супругов 12 апреля 1856 года родился «последыш» — сын Михаил, которому волею судеб довелось впоследствии стать собирателем и хранителем семейного архива Миклух, а в какой-то мере и историком этого семейства[34].
Вопреки назначению в распоряжение XII округа путей сообщения Н.И. Миклуха, как следует из архивных документов, в 1856 году ведал Александровским механическим заводом при Николаевской железной дороге, расположенным в нескольких верстах от столицы. А в декабре этого года, после официального перевода в 1-й (Петербургский) округ, он получил новое назначение — руководить строительством Выборгского шоссе, которое должно было пройти от Петербурга по Карельскому перешейку до административной границы с Финляндией. Как тогда считалось, туберкулезному больному полезно пребывание на свежем воздухе, в напоенных ароматом хвои сосновых лесах. Именно через такие леса пролегала трасса Выборгского шоссе.
Но состояние здоровья Николая Ильича продолжало ухудшаться. Истощенный болезнью организм больше не мог сопротивляться грозному недугу… Передо мной фотокопия объявления в траурной рамке: Екатерина Семеновна Миклуха извещает о смерти мужа, последовавшей 20 декабря 1857 года (по старому стилю) «в четыре часа пополуночи», и покорнейше просит почтить память покойного. Вынос тела состоится из дома на Сергиевской, отпевание — на Волковом кладбище[35]. Там нашел вечное упокоение потомок стародубских казаков, талантливый инженер-путеец, решительный и твердый на работе, мягкий и деликатный в быту, художник-самоучка, мечтатель, проникавший силой воображения в далекие страны, в неведомые миры.
Гимназист Миклуха
После кончины Николая Ильича бремя забот о четырех сыновьях и дочери легло на плечи Екатерины Семеновны. Материальное положение семьи серьезно ухудшилось, так как инженер-капитан, умерев на сорок втором году жизни, не выслужил пенсии. К счастью, супруги в 1853 году вложили свои небольшие сбережения в акции только что созданной волжской пароходной компании «Самолет». Компания успешно развивалась, ее акции быстро росли в цене, и акционеры (пайщики) ежегодно получали высокие дивиденды. Но к концу 1850-х годов платежи по акциям стали неуклонно сокращаться. Товарищи покойного мужа нашли вдове заработок — вычерчивать на дому географические карты и планы местностей. Но эта работа плохо оплачивалась. Пришлось переехать на более дешевую квартиру, продать часть мебели и вообще сократить расходы.
Екатерина Семеновна с детьми поселилась в доме Глазунова на Большой Мещанской (позднее Казанской) улице, вблизи от Невского проспекта. Михаил пишет, что мать стоически перенесла перемену в своей судьбе и в дальнейшем не делилась ни с кем своим горем и неприятностями. «Рано овдовев, — вспоминает он, — на нее пала трудная задача воспитания в тот критический момент, когда переоценивались все ценности и потому надо было иметь большую нравственную силу, чтобы сохранить свое влияние на детей. <…> Отличительной чертой в ее способе воспитания было то, что она предоставляла полную свободу своим детям, таким образом не чувствовалось никакого гнета, вследствие чего у нас у всех образовались цельные характеры. В нашей семье не было квасного патриотизма, мы были воспитаны в уважении всех национальностей, в уважении личности»[36]. Н.И. Миклуха хотел дать своим детям хорошее образование. В последние годы жизни он приглашал домашних учителей для обучения старших сыновей Сережи и Коли общеобразовательным предметам, а гувернантка учила их и Олю немецкому и французскому языкам. Рисунок преподавал художник Ваулин. Поэтому Коля, который унаследовал многие черты богатой творческой натуры отца, уже в детские годы смог развить свои способности к рисованию.
После смерти главы семьи дальнейшее домашнее образование детей стало непозволительной роскошью. В 1858 году старших сыновей отдали в училище с программой гимназии при лютеранской церкви Святой Анны (Анненшуле). Коля, как и Сережа, посещал третий класс и, по его собственным словам, «хорошо занимался, но очень шалил»[37]. Братьям не нравилось, что преподавание велось на немецком языке, да и плата за обучение, по мнению Екатерины Семеновны, была чрезмерно высокой.
Е.С. Миклуха решила отдать сыновей в казенную гимназию, где плата за обучение была значительно ниже. К заявлению о приеме следовало приложить несколько справок, в том числе документ о сословной принадлежности. Вдова обратилась в Черниговское дворянское депутатское собрание с просьбой прислать соответствующую выписку из родословной книги местного дворянства. Но в эту книгу, как уже упоминалось, не был внесен род Миклух, а потому она нужной выписки не получила. Тогда, по совету сведущих людей, Екатерина Семеновна подала в Петербургское дворянское депутатское собрание прошение о внесении ее и детей в родословную книгу дворянства Петербургской губернии. «Покойный мой муж капитан Николай Миклуха, — писала она, — состоял на службе в Корпусе инженеров путей сообщения в чине <…> капитана с 1843 года, приобрел право на потомственное дворянство, которое по сим существующим узаконениям сообщается мне и законным детям нашим»[38]. Просьба вдовы была удовлетворена. При рассмотрении ее прошения, по-видимому, учли дату получения ее мужем чина капитана, дававшего в то время право на потомственное дворянство.
Летом 1859 года Коля с Сережей подготовились к поступлению в четвертый класс гимназии. Их подготовкой руководил студент юридического факультета Петербургского университета Валентин Миклашевский, который стал воспитателем в семье Е. С. Миклухи. В те времена молодые вдовы нередко вступали в близкие отношения с воспитателями своих детей. Не исключено, что Екатерина Семеновна тоже не устояла перед таким искушением. Разумеется, это только гипотеза. Но она высказана с учетом того положения, которое Валентин занимал в течение трех лет в семье Миклухи. Он не только ведал учением и воспитанием детей, но и принимал деятельное участие в решении других важных семейных проблем, причем, как видно из нескольких сохранившихся его писем, высказывал свои суждения решительно и безапелляционно[39]. Воспитатели вообще играли важную, порой трагическую роль в жизни Екатерины Семеновны и ее семейства, о чем будет сказано в последующих главах книги.
16 августа 1859 года братья были зачислены в четвертый класс Второй Петербургской гимназии, расположенной поблизости от их дома, угол Большой Мещанской улицы и Демидова переулка. Она могла бы называться и Первой, так как была старейшей в столице (основана в 1805 году). Николаю не понравилось это учебное заведение. «В гимназии плохо учился и даже избегал ходить в классы», — признавался он позже[40]. Такое отношение Николая к «альма матер» вполне понятно. Для казенных гимназий дореформенного периода, как пишет историк образования Р. Ш. Ганелин, были характерны «схоластика, формализм, сухость и мертвенность обучения, казарменный режим, фельдфебельский подход к ребенку»[41]. «Жандармские шпоры и окрики гулко раздавались и в обширных коридорах 2<-й> С.-Петербургской гимназии», — справедливо отмечает А.Г. Грумм-Гржимайло, один из биографов нашего героя[42]. Воспитанный в семье в духе уважения к личности и свободы выбора, в духе справедливости и гуманности, Николай с трудом выносил гнетущую казенную атмосферу, царившую в гимназии. Активное неприятие этой чуждой ему обстановки дополнялось у будущего ученого постоянным недомоганием, особенно простудами — последствием, как он считал, сильной «лихорадки», перенесенной в трехлетнем возрасте[43].
Четвертый класс растянулся для Николая на два года, в 1859/60 учебном году он почти не посещал гимназию, а в следующем бывал на занятиях только в сентябре, октябре, феврале и марте, но и за эти месяцы пропустил 414 уроков. В итоге у него было «хорошо» по французскому языку, «удовлетворительно» по немецкому языку и естественной истории, а остальные отметки — «худо» и «посредственно» (что соответствует современному «плохо»). Однако, выдержав переэкзаменовку, Николай осенью 1861 года был переведен в пятый класс.
Впрочем, не только учеба — или увиливание от нее, — и лечение недугов занимали в те годы юного Миклуху. Екатерина Семеновна общалась с двоюродным братом покойного мужа Федором Егоровичем Миклухой, который, поселившись в Петербурге, служил бухгалтером в Главном управлении путей сообщения, и его супругой Александрой Васильевной. 14 августа 1860 года эта дама в письме сенатору В.А. Половцеву (Миклухи познакомились с ним в связи с ревизией, проведенной этим высокопоставленным чиновником в Черниговской губернии) сообщала, между прочим, следующее: «Ф[едор] Егор[ович] встретил Николю Мик[луху] со студентом на Невском»[44]. Это мимолетное наблюдение приоткрывает завесу над увлечениями и помыслами нашего героя.
Студент в России больше, чем студент
Отрочество и юность Николая Миклухи протекали в переломный период в истории России, связанный с отменой крепостного права. И в годы подготовки этой реформы, и после ее провозглашения в 1861 году на условиях, выгодных помещикам, в стране происходили крестьянские восстания, вспыхивали студенческие волнения, активизировали свою деятельность революционеры-демократы. «Это было удивительное время, — вспоминает известный революционер Н.В. Шелгунов, — время <…> когда каждый, у кого было что-нибудь за душой, хотел высказать это громко. Спавшая до того мысль заколыхалась, дрогнула и начала работать. Порыв ее был сильный и задачи громадные»[45].
Мощный демократический подъем не обошел стороной и Вторую Петербургскую гимназию. «Тогда и в обществе, и в среде учащейся молодежи, — писал консервативно настроенный преподаватель гимназии А.В. Курганович, — усиливалось то брожение умов, которое сказалось в теориях Чернышевского и Писарева, в разглагольствованиях о бесполезности эстетики, в предпочтении идеальному грубого утилитаризма <…> — все это более или менее коснулось и учащегося поколения, на которое притом специально обращено было умышленное внимание со стороны с целью вербовать будущих нигилистов. Между учениками стали появляться личности, подбивавшие товарищей на разного рода выходки против требований заведения. <…> Некоторые ученики старших классов собирались вместе у одного из товарищей и читали "Колокол" и другие сочинения Герцена»[46].
Нет оснований утверждать, что Курганович имел в виду именно Миклуху. Но известно, что тот читал и обсуждал со своими школьными друзьями, прежде всего с Василием Суфщинским (будущим присяжным поверенным) и Константином Поссе (сыном сослуживца Николая Ильича, ставшим профессором математики, а с 1916 года академиком) запрещенные произведения Герцена и издаваемый им за рубежом «Колокол», а также сочинения Чернышевского и Добролюбова. Возможно, на их встречи приходил знакомый студент, так как в те годы революционно настроенные студенты Петербургского университета в пропагандистских целях устраивали воскресные школы и разные кружки, в том числе для гимназистов старших классов. Именно это подразумевал Курганович, говоря о вербовке «будущих нигилистов».
В сентябре 1861 года, с началом учебного года, вспыхнули волнения в Петербургском университете. Студенты протестовали против новых, «путятинских» (по фамилии министра народного просвещения) правил, предусматривавших усиление надзора за студенчеством, запрещение сходок, всех форм корпоративной деятельности (создание на выборных началах библиотек, читален, касс взаимопомощи и т. д.), почти полную отмену стипендий для неимущих. Многолюдные сходки с темпераментными выступлениями нередко антиправительственного содержания сначала происходили в университетских аудиториях, но затем нарастающий вал протестов выплеснулся за стены университета.
7 октября студенты устроили грандиозное шествие от университета через Дворцовый мост, Невский и Владимирский проспекты на Колокольную улицу, к дому попечителя учебного округа генерала Г.И. Филипсона. По пути к колонне студентов университета, растянувшейся на целую версту, присоединялись слушательницы женских курсов, студенты-медики, студенты-технологи, воспитанники военно-учебных заведений, гимназисты. Петербуржцы никогда не видели ничего подобного. На Невском французы-парикмахеры выбегали из своих заведений и, весело потирая руки, восклицали: «Революсьон! Революсьон!» Будущий знаменитый химик Д.И. Менделеев, тогда молодой приват-доцент университета, занес в свой дневник: «История встающей России началась. Этот день запишут и долго, долго будут помнить»[47].
Массовые студенческие сходки проходили и в следующие дни на улице и набережной, примыкающих к главному зданию университета. Несмотря на начавшиеся аресты, поддержать студентов сюда приходили толпы горожан. Среди них были и братья Миклухи. Михаил сообщает, что «братья, извещенные старшими товарищами, участвовали в студенческих беспорядках»[48].
14 октября возле университета были арестованы сразу 35 человек, в том числе Сергей и Николай. Их препроводили в Петропавловскую крепость и заключили как «секретных арестантов» в Кронверкскую куртину. Тюремный быт был очень тяжелым. Характерно, например, донесение коменданта крепости генерал-лейтенанта А.Ф. Сорокина петербургскому военному генерал-губернатору Н.Н. Игнатьеву об условиях, в которых содержались арестованные гимназисты: «В покои, где помещаются арестованные, для ночного освещения ставится ночник из конопляного масла, которое в продолжении ночи производит такую копоть, что у арестованных делается чернота в ноздрях, ушах и даже наружно, на лице, белье грязнится в короткое время, комнаты чернеют, воздух в оных заражается и разрушительно действует на здоровье лиц, в оных заключенных, потому что они не выходят из комнат даже "для естественной надобности", имеющейся же форточки для освещения комнаты слишком недостаточно, да и не всегда могут быть таковые раскрыты»[49]. Никакие свидания и передачи с воли не допускались. Юные арестанты были полностью изолированы от внешнего мира.
К счастью, заключение в крепости оказалось непродолжительным. Судьбу братьев Миклух и нескольких других гимназистов решило прежде всего то, что они были учащимися средних школ. Кроме того, на допросе братья преуменьшили свой возраст. Шестнадцатилетний Сергей сказал, что ему 15 лет, а пятнадцатилетний Николай — 13. Гимназисты дали следующие письменные пояснения: «Второго октября (старого стиля. — Д. Т.), проходя по надобностям нашим мимо здания университета в то самое время, как полициею забирались студенты, мы были захвачены без всякого с нашей стороны повода к беспорядкам, потому что на сходках студентов никогда не были и в делах их никакого участия не принимали». В числе подписавшихся был и «сын инженер-капитана Николай Миклуха». Следственная комиссия признала их «взятыми по ошибке», и утром 18 октября гимназисты были отпущены[50].
Как показали дальнейшие события, заточение в крепость по-разному повлияло на братьев Миклух. Если Николай, несмотря на пережитое потрясение и очередное ухудшение здоровья, не отказался от своих взглядов и продолжил контакты с радикально настроенными студентами, то более прагматичный Сергей решил отныне держаться подальше от политики и избегать столкновений с властями.
Правительство ответило на продолжающиеся волнения усилением репрессий. В октябре более трехсот студентов было арестовано и помещено в Петропавловскую крепость и Кронштадтскую цитадель. Нескольких студенческих вожаков отправили в ссылку в места не столь отдаленные. Остальных арестованных освободили в декабре, но при этом большинство иногородних выслали из столицы. Всего за участие в беспорядках были исключены из университета 683 студента. 1 января 1862 года Александр II распорядился закрыть Петербургский университет «вплоть до пересмотра университетского устава».
Студенческое движение в Петербурге не прекратилось и в 1862 году, только стало менее массовым и приняло иные формы: печатались и распространялись прокламации, велась устная пропаганда среди молодежи, соблюдая конспирацию, продолжали собираться кружки, на основе которых начала формироваться тайная организация «Земля и воля». Николай Миклуха с увлечением читал прокламации и проникавшие из-за кордона новые выпуски «Колокола». Но наибольшее влияние на впечатлительного юношу произвел роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?», опубликованный по недосмотру цензуры в журнале «Современник».
В наши дни нелегко понять тот поистине огромный интерес, который вызвал роман в русском обществе, особенно в передовой его части. Современники восприняли роман Чернышевского не столько как художественное произведение (его чисто литературные достоинства едва ли велики), а как своего рода манифест, в котором в завуалированной форме проповедовались идеи переустройства общества, преимущественно на началах утопического социализма, предлагались для подражания идеальные образы «новых людей». Николай с негодованием воспринял известие о том, что Чернышевский заточен в Петропавловскую крепость. Как сообщает Михаил, роман «Что делать?» стал для его брата настольной книгой на многие годы[51].
Конечно, гимназист Николай Миклуха читал в 1861 — 1863 годах не только «Что делать?», милый его сердцу «Колокол» и разнообразные статьи в русских журналах, ставших значительно более интересными в связи с цензурными послаблениями. Ему приходилось корпеть над латинской грамматикой, заучивать математические формулы, углубляться в античную историю. В небольшом архивном фонде инженер-капитана Миклухи сохранились невесть как попавшие туда школьные тетрадки его сына по этим предметам. Николай по-прежнему тяготился учебой в гимназии, частенько хворал и не упускал ни малейшей возможности «не ходить в классы».
При подведении итогов 1861/62 учебного года Николай Миклуха получил «хорошо» по латинскому и французскому языкам, «удовлетворительно» по русскому и немецкому языкам, естественной истории, географии, истории, физике и «посредственно» по математике[52]. Пересдав последний предмет, он с трудом перешел в следующий класс.
В 1862/63 учебном году, будучи учеником шестого класса, Николай перенес, по его словам, «воспаление в легких»[53]. Гимназию он посещал только в октябре, декабре и марте. В результате ему выставили «хорошо» по французскому языку, «удовлетворительно» по истории, немецкому языку и физике, «посредственно» по русскому, латинскому языкам и естественной истории, а по математике и географии он вообще не аттестовался. Средний балл равнялся 2 7/9, и Николай был оставлен на второй год в шестом классе.
«Это постоянное стеснение», постоянное насилие способностей не может не иметь дурных влияний на ученика, — писал в 1860 году педагог А.Н. Робер, призывая к реформе школьного образования. — Многие, очень многие природы не могут выносить семи лет такой жизни, постоянно находясь в борьбе, питают чувство вражды к воспитателям, беспрестанно подвергаются наказаниям, делаются дурными учениками, наконец принуждены бывают выйти из гимназии, не кончив своего курса»[54]. Именно так решил поступить Николай. 27 июня 1863 года он подал заявление о выходе из гимназии.
Многие биографы Миклухо-Маклая, прежде всего его брат Михаил и другие родственники, утверждают, что Николай был исключен из гимназии по политическим мотивам, а формально за «малоуспешность». Приемный сын Екатерины Семеновны Михаил-младший предложил в качестве объяснения и вовсе фольклорный сюжет. «Окончательным поводом к исключению, — уверял он, — послужила следующая шалость: он ошибся в склонении слова "гапа" (лат. «лягушка». — Д. Т.). Раздраженный замечанием учителя, он нарисовал лягушку и приколол к фалдам вицмундира преподавателя. Конечно, разразился скандал и его исключили»[55]. Б.Н. Комиссаров, опираясь на архивные документы, в 1983 году восстановил действительный ход событий, но в 1994 году пресловутая лягушка появилась вновь в статье, написанной внуком младшего брата нашего героя[56]. Правда, нельзя сбрасывать со счетов сообщение Михаила о том, что брат любил «заводить с учителями разговоры на политические темы», что экспансивный юноша «высказывал без всякой утайки свои мысли в разговорах с учителями»[57]. Это могло серьезно осложнить дальнейшее пребывание Николая в гимназии.
Уйдя из гимназии, Николай Миклуха был полон решимости продолжить образование. По словам Михаила, «брат в душе был художник и любил природу и прекрасное»[58]. На школьной скамье он мечтал поступить в Академию художеств, но отказался от этого намерения, вняв, как он сам писал, тактичным уговорам матери. Николай решил воспользоваться существовавшей тогда возможностью без окончания гимназического курса стать вольнослушателем Петербургского университета. Но какой факультет предпочесть? 24 сентября 1863 года он подал прошение о зачислении его вольнослушателем на отделение естественных наук физико-математического факультета. Такой выбор был не случаен. В те годы у образованной части русского общества, особенно у молодого поколения, возник своего рода культ естествознания, так как считалось, что поразительные успехи естественных наук способны преобразить всю жизнь человечества. «Эта мода, — вспоминает известный литератор и педагог Е. Н. Водовозова, — подчинила тогда такое множество интеллигентных людей, что нередко талантливые музыканты, художники, певцы и артисты забрасывали искусство ради изучения естественных наук и вместе с другими бегали на ботанические, зоологические и минералогические экскурсии, работали с микроскопом, определяли тщательно собираемые камешки — все были загипнотизированы великим значением естествознания»[59].
Но Николай не просто поддался всеобщему увлечению. Среди узколобых формалистов, буквоедов, интриганов и злобных невежд, которые составляли большинство в педагогическом коллективе Второй Петербургской гимназии, выделялся своими познаниями и педагогическими способностями учитель естествознания Карл Карлович Сент-Илер. Он совмещал преподавание в гимназии с работой в Зоологическом институте Петербургской академии наук и сумел пробудить у любознательного, хотя и редко приходящего на занятия ученика интерес к естествознанию. Определенное влияние на будущее Николая мог оказать и учитель географии Матвей Семенович Кобылин, который, выходя за рамки школьной программы, рассказывал на уроках о новейших открытиях и исследованиях. В сочетании с книгами о путешествиях, в изобилии имевшимися в библиотеке отца, эти рассказы привлекли внимание Николая к экзотическим странам и населяющим их народам.
Семнадцатилетний вольнослушатель сразу же окунулся в студенческую среду с ее высокими порывами и повседневными заботами. «Он усердно занялся естественными науками и даже с товарищем намеревался издавать записки», — сообщает Михаил, а в черновом наброске уточняет: брат хотел «издавать лекции, что ему было легко… так как он хорошо рисовал».
Не ограничиваясь записыванием лекций, Николай Миклуха усердно штудировал книги по естественным наукам. В его записной книжке за 1863 год даны лаконичные, но очень выразительные оценки прочитанных книг — от «дельно, очень дельно» до «весьма плохо, дрянь». Так, его увлекли труды выдающихся русских ученых — «Рефлексы головного мозга» И.М. Сеченова и «Обновление и превращение в мире растений» А.Н. Бекетова, но разочаровала пользовавшаяся тог да большой известностью в кругах радикальной русской интеллигенции книга немецкого естествоиспытателя К. Фогта «Естественная история мироздания»[60].
В 1863 году у Николая появился новый приятель — князь Иван Тарханов (Тархнишвили), который, сдав экстерном экзамены на аттестат зрелости во Второй Петербургской гимназии, стал студентом естественного отделения физико-математического факультета университета. Приятели выкраивали время, чтобы бегать в Медико-хирургическую академию на лекции И.М. Сеченова. Тарханов — красавец грузин очень знатного происхождения, потомок великого полководца Георгия Саакадзе, — придерживался, как и Миклуха, демократических убеждений.
В том же году университетскую кафедру зоологии возглавил выдающийся ихтиолог-дарвинист К.Ф. Кесслер. Он настоял на разделении зоологических и анатомо-физиологических дисциплин на физико-математическом факультете. Уже в конце 1863 года была учреждена новая кафедра анатомии человека и физиологии животных. Руководить ею был приглашен Ф.В. Овсянников, до того преподававший в Казанском университете и в год переезда в столицу избранный экстраординаторным членом Петербургской академии наук. При Овсянникове в Петербургском университете впервые началось преподавание физиологии. 3 февраля 1864 года, в начале нового семестра, Миклуха подал следующее прошение ректору: «Имея желание слушать лекции 1-го курса г. профессора Овсянникова, прошу о выдаче мне нужного для этого свидетельства». Прошение было удовлетворено, «с взысканием 8 рублей»[61]. На лекции Овсянникова записался и И. Тарханов. Но приятелям не довелось стать его учениками: молодой князь ходил на лекции Овсянникова не более трех месяцев, а нашего героя уже в конце февраля 1864 года изгнали из университета.
Новый университетский устав, принятый в июне 1863 года, предоставлял значительную автономию профессорской корпорации и ее выборному органу — совету университета. Вместе с тем в уставе и правилах, составленных на его основе в каждом университете, по существу, повторялись многие «путятинские» правила, которые привели к студенческим волнениям. Новый устав не дал студентам никаких корпоративных прав.
Запрещались любые их коллективные действия — сходки, подача адресов, жалоб и прошений, выбор депутатов для объяснений с начальством, устройство в университетских зданиях касс взаимопомощи, библиотек, читален, концертов, выражение одобрения и неодобрения преподавателю. Доступ посторонних в университеты разрешался только по «билетам», то есть пропускам.
Неудивительно, что студенчество, в отличие от профессуры, было недовольно уставом 1863 года. Нарушения новых правил начались вскоре после того, как в сентябре возобновились занятия в Петербургском университете. Так, студенты вопреки запрету аплодировали одному из профессоров, пытались втайне от начальства создать кассу взаимопомощи. Тайный агент Третьего отделения, действовавший в студенческой среде, сообщал, что студенты, осуждая новый устав, многозначительно вспоминают события осени 1861 года. Живой и общительный Миклуха, откровенно высказывавший свои мысли, едва ли уклонялся от участия в этих разговорах и потому, скорее всего, попал на заметку инспектору студентов Н.В. Озерецкому, его помощникам и тайным соглядатаям.
Серьезное влияние на обстановку в стране оказывало восстание в Польше, начавшееся в январе 1863 года. Полякам, борющимся за независимость, сочувствовала не только значительная часть студенчества, но и отдельные офицеры. Дядя Николая Сергей Семенович Беккер, командовавший батареей во время Крымской войны, в 1863 году был вынужден уйти в отставку из-за ссоры с офицерами, едва не окончившейся дуэлью: он заступался за поляков, а их полк получил приказ отправиться на усмирение восстания. Выйдя в отставку, Сергей Семенович приехал в Петербург и поселился у сестры[62]. Учитывая демократические взгляды, которых придерживался в то время будущий путешественник, его польские корни по линии матери и демонстративный поступок дяди, нетрудно догадаться, на чьей стороне были его симпатии в «польском вопросе». Но не эти симпатии, — если даже он их выражал публично, — послужили непосредственной причиной изгнания из университета вольнослушателя Миклухи.
«Причиной его увольнения из университета, — писал Михаил-младший, — послужило то, что он привел на сходку своего приятеля не студента. Когда они уходили, то педель (надзиратель за студентами. — Д. Т.) отказался выдать пальто приятелю, желая его задержать; но Н[иколай] Николаевич] так на него прикрикнул, что тот немедленно выдал пальто и сейчас же донес о поступке Н.Н. по начальству. Этим, конечно, воспользовались и исключили из университета»[63]. В воспоминаниях Михаила-младшего встречаются домыслы и неточности. Но на сей раз он оказался недалек от истины. «Вольнослушателю Миклухе, — доносил 9 марта 1864 года анонимный осведомитель Третьего отделения, — воспрещено посещать лекции за то, что он наговорил Инспектору и Секретарю Правления дерзости по поводу желания его провести в аудиторию, для слушания лекции, постороннее лицо»[64]. Фамилия «постороннего лица» в архивных документах отсутствует, но можно со значительной долей уверенности утверждать, что это был Василий Суфщинский — школьный друг Николая, разделявший его убеждения и продолжавший с ним часто встречаться после ухода Миклухи из гимназии. Как мы увидим, их дружба продолжалась вплоть до смерти «белого папуаса».
Примечательна обстановка, в которой Николай Миклуха провел или пытался провести в университет своего друга. 26 февраля там — впервые с осени 1861 года — начались волнения. Студенты обвиняли в «шпионстве» одного из своих товарищей, а тот путано оправдывался. Началась сходка, которая, то затухая, то разгораясь, продолжалась несколько часов. На следующий день волнения вспыхнули с новой силой, причем теперь студенты критиковали университетские порядки и громко требовали убрать ненавистного им помощника инспектора по фамилии Пальмин. Именно в этот день Николай явился в университет с Суфщинским. Похоже, он хотел не провести друга на некую лекцию, как сообщал тайный осведомитель, а познакомить его, гимназиста выпускного класса, с университетскими порядками, со свободолюбивыми настроениями и требованиями студентов.
В тот же день, 27 февраля 1864 года, инспектор студентов Н.В. Озерецкий отправил отношение петербургскому обер-полицеймейстеру генерал-лейтенанту И.В. Анненкову. «Дворянин Николай Миклуха, — говорилось в письме, — состоя в числе вольнослушателей С.-Петербургского университета, неоднократно нарушал во время нахождения в здании университета правила, установленные для этих лиц». Поэтому инспектор счел нужным «воспретить г. Миклухе <…> дальнейший вход в университет». Озерецкий просил «препровождаемые при сем документы, а именно: метрическое свидетельство за № 599, копию с протокола о дворянстве и свидетельство о привитии оспы выдать ему и при этом взять с него подписку в том, чтобы он не являлся более в университет к слушанию лекций»[65]. Через две недели Николай пришел в полицию, получил свои документы и дал требуемую подписку. В письме Озерецкого привлекают внимание слова о том, что вольнослушатель Миклуха «неоднократно нарушал» правила. Они подкрепляют гипотезу, согласно которой Николай и ранее находился на плохом счету у университетского начальства.
В предсмертной автобиографии знаменитый путешественник писал, что был «исключен <…> без права поступления в русские университеты»[66]. Эту версию повторяли все авторы, писавшие о Миклухо-Маклае в конце XIX — начале XX века. Версию о «волчьем билете», якобы полученном будущим путешественником, в 1923 году поставил под сомнение Д.Н. Анучин — первый серьезный биограф, исследователь и публикатор научного наследия Миклухо-Маклая[67]. Однако это ошибочное представление прочно утвердилось в научной и научно-популярной литературе советского периода.
В 1983 году полную ясность в этот вопрос, казалось, внес Б.Н. Комиссаров, который не только восстановил хронологическую канву событий, но и показал юридическую несостоятельность рассматриваемой версии. «Исключение с воспрещением вступать в какой-либо из университетов, — писал он, — являлось мерой наказания студентов, причем самой суровой. Решение о ее применении выносил университетский суд, а затем по представлению совета университета утверждал попечитель учебного округа. <…> В отношении вольнослушателей университетскими властями могла быть применена только одна санкция — не сопровождавшийся особой бюрократической процедурой запрет на вход в университет»[68].
Студенческие волнения в университете продолжались, причем одной из причин недовольства стало изгнание вольнослушателя Миклухи. Чтобы прекратить волнения, университетский суд 12 марта исключил шесть «беспокойных голов», будораживших других студентов. Вообще такая карательная мера, как исключение из университета, довольно широко применялась начальством, которое опасалось повторения «студенческой истории», происшедшей осенью 1861 года. В апреле за участие в «политическом деле» был исключен и приятель Николая Иван Тарханов. Но у молодого князя нашлись настолько высокие покровители, что в решении об исключении подлинная причина была заменена на мнимую — «невзнос платы за учение». Тарханову разрешили остаться в столице и поступить в Медико-хирургическую (с 1881 года — Военно-медицинскую) академию. Мы не раз встретимся с ним на страницах книги.
После изгнания из университета Николай оказался на распутье. Как характерного представителя русской демократической молодежи 1860-х годов, его нетрудно вообразить и участником нарождавшегося «хождения в народ», и членом подпольной революционной организации. Но если такие планы и приходили на ум Миклухе, он хотел совместить их с получением высшего образования. Для этого необходимо было засесть за учебники, сдать экстерном экзамен на аттестат зрелости и поступить в одно из высших учебных заведений, но не в Петербургский университет, куда путь ему был заказан на ближайшие годы. Николай не был уверен, что ему удастся без затруднений стать студентом, ибо бывший вольнослушатель, как теперь говорят, «засветился» в полиции. Не эти ли опасения к концу жизни ученого трансформировались в его предсмертной автобиографии в необоснованное утверждение, будто он был исключен без права поступления в русские университеты?
Тут подоспело письмо от В.В. Миклашевского. Окончив юридический факультет Петербургского университета, Валентин Валентинович уехал в Гейдельберг, чтобы подготовиться там к преподавательской деятельности в области юриспруденции. Узнав о крупной неприятности, постигшей Николая, он рекомендовал своему воспитаннику поступить в Гейдельбергский университет, где, как и в других немецких университетах, российским подданным не требовалось предъявлять никаких документов об образовании. Ввиду того что Николай интересовался экономическими и политическими теориями и участвовал в студенческом движении, Миклашевский посоветовал ему сосредоточиться на общественных науках; если же увлеченность юноши естественными науками окажется непреодолимой, — что ж, в Гейдельберге существуют прекрасные возможности и для изучения естественных наук[69]. После некоторых размышлений Екатерина Семеновна согласилась с доводами Миклашевского и, несмотря на трудное материальное положение семьи, поддержала появившееся у сына желание отправиться для учебы в Германию. Но как получить заграничный паспорт? В связи с восстанием в Польше власти ввели жесткие ограничения на выезд за границу, особенно для молодежи. Однако вышло по пословице: не бывать бы счастью, да несчастье помогло.
Как вспоминает Михаил, брат ходил тогда в одеянии, популярном у неимущего студенчества, — рубашке-косоворотке, шароварах и полушубке. В таком наряде он пришел на французскую оперу, которая давалась в Михайловском театре, разумеется на галерку. В жаркой и душной атмосфере галерки Николай, не снявший полушубка, изрядно вспотел, а после спектакля, выйдя во влажной одежде на улицу (дело было в начале марта!), продрог, простудился и заболел воспалением легких, осложнившимся плевритом. Семейный врач Миклух П.И. Боков — друг и соратник Н.Г. Чернышевского — сумел вылечить молодого человека. Но организм Николая серьезно ослабел, в его легких и плевре сохранились остаточные очаги болезни. На этом основании Екатерина Семеновна обратилась к петербургскому генерал-губернатору с просьбой выдать сыну заграничный паспорт для лечения на немецких курортах. После освидетельствования в полицейском управлении комиссией из девяти врачей, признавшей обоснованным прошение Е.С. Миклухи, Николай получил нужный паспорт. 21 апреля 1864 года он выехал поездом в Германию[70].
В активе Николая Миклухи были хорошее знание немецкого и французского языков, большая, хотя и несколько беспорядочная начитанность и, главное, огромная сила воли, унаследованная, очевидно, от матери. Что станет на чужбине с непрактичным, болезненным юношей, уезжающим почти с пустым кошельком? Не совершает ли Екатерина Семеновна ошибку, отправляя сына за рубеж? Об этом говорили родные и друзья, провожавшие его на Варшавском вокзале.
…Почти через два десятилетия газета русских революционных эмигрантов «Общее дело», издававшаяся в Женеве, заявив, что Н.Н. Миклухо-Маклай уехал в 1864 году в Германию, «спасаясь от ревнивого надзора охраны», высказала предположение, что, «не сделай он вовремя этого отступления», его жизнь приняла бы драматический оборот: он подвергался бы на родине преследованиям и в конечном итоге угодил бы в ссылку на какую-нибудь северную или сибирскую окраину[71]. Учитывая свободолюбивые устремления будущего ученого, его прямой и открытый характер, проявившийся уже в гимназические годы, это предположение едва ли можно считать беспочвенным. Примечательно, что его младшие братья, Владимир и Михаил, как мы увидим ниже, были близки к революционным народникам, причем первый даже состоял в военной организации «Народной воли».
Глава третья. ГОДЫ ВОЗМУЖАНИЯ
Гейдельберг и Лейпциг
Весной 1864 года Гейдельберг встретил Николая Миклуху в радостном белом наряде — цвели яблоневые и вишневые сады. Расположенный в юго-западной части Германии, там, где река Неккар выходит из горного района Оденвальд на верхнерейнскую равнину, Гейдельберг поразил юношу своей удивительной живописностью. Над городом доминировал полуразрушенный средневековый замок, окруженный огромным парком. Узкие улочки, застроенные старинными домами, вели к главному зданию университета. В начале 1860-х годов в Гейдельберге насчитывалось около пятнадцати тысяч жителей, из которых более трех тысяч учились или преподавали в университете. В городе постоянно находилось 400 — 500 иностранцев, преимущественно студентов[72].
Гейдельберг вначале показался Николаю островком тишины и спокойствия, с простыми и добросердечными обитателями. Но первое впечатление оказалось не совсем правильным: и здесь велись жаркие споры. Германия была тогда раздроблена на множество государств — королевств, княжеств, герцогств, «вольных городов». «Немцы, стар и млад, богатый и бедный, в университетской аудитории и за кружкой пива, думали одну крепкую думу о единой Германии <…>, — вспоминает Григорий Де-Воллан, который учился в Гейдельберге вместе с Николаем, а впоследствии стал путешественником, публицистом и дипломатом. — Объединительное движение носилось в воздухе, как идея, готовая воплотиться в реальную жизнь. Читались публичные лекции в пользу общегерманского флота»[73]. Но как произойдет объединение Германии, на каких основах должно быть создано общегерманское государство? Оживленные дискуссии по этим вопросам происходили в Гейдельберге в студенческих «кнайпах» (пивных), в квартирах профессоров и почтенных бюргеров. Не всех немцев, особенно в маленьких южногерманских государствах, — включая великое герцогство Баденское, где находился Гейдельберг, — радовала перспектива создания новой Германской империи под верховенством милитаристской Пруссии, программа объединения «железом и кровью», которую провозгласил Отто фон Бисмарк, возглавивший в сентябре 1862 года прусское правительство.
Но гораздо более жаркие и эмоциональные споры происходили среди русских, поселившихся в Гейдельберге. В те годы и на променадных аллеях, и на табльдотах в гостиницах, и среди руин графского замка, да и просто на улице частенько звучала русская речь. В городе жили несколько помещичьих семейств с чадами и домочадцами. Приезжали и уезжали путешественники-любители, которых россияне начали тогда на французский лад называть туристами. Но подавляющее большинство среди русских гейдельбержцев составляла учащаяся (и неучащаяся) молодежь.
Уже в 1859 — 1860 годах здесь совершенствовали свои познания молодые выдающиеся ученые из России — Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, С.П. Боткин, А.О. Ковалевский и др. Но наплыв русских студентов пришелся на 1861 — 1862 годы. «Первые грандиозные студенческие беспорядки 1861 г. имели следствием изгнание из университетов сотен студентов, — писал известный историк и публицист С.Г. Сватиков, специально изучавший историю русского студенчества в Гейдельберге. — Молодежь, прошедшая через тюрьму, изгнанная из университетов, бросилась за границу. Гейдельберг стал "научной Меккой" и первым заграничным центром, где русская молодежь свободно знакомилась с произведениями Герцена, Огарева, Бакунина и органами вольной русской прессы»[74].
В русском студенческом землячестве в Гейдельберге, насчитывавшем около 130 человек, как в микрокосме, отражались взгляды и настроения политически активной части российского (преимущественно петербургского и московского) студенчества. Местом сбора для этих студентов стала русская читальня, открывшаяся в октябре 1862 года в двух задних комнатах кондитерской фрау Гельверт. Здесь к услугам читателей, за скромную помесячную плату, были произведения А.И. Герцена, Н.П. Огарева, Н.Г. Чернышевского, Д.И. Писарева и других кумиров тогдашней молодежи, широко представлены были «Колокол» и иная русская бесцензурная периодика, печатавшаяся за рубежом; сюда поступали также газеты и журналы из России, ведущие немецкие и французские издания. Читальня быстро превратилась в политический клуб, который, как вспоминает студент-гейдельбержец Ю.С. Кашкин, стал «постоянной ареной для тех бесконечных русских споров, в которых в конце концов каждый из споривших забывает самый предмет и суть темы и цепляется только за последние слова противника»[75].
Пока, по словам одного из участников событий, спорили в основном «о разных возвышенных предметах, оставаясь более в области различных философских систем и теорий», мир в землячестве внешне удавалось сохранить. Но когда в январе 1863 года началось восстание в Польше, русские студенты в Гейдельберге раскололись на два лагеря, как это произошло в Петербургском и Московском университетах. Начались шумные многочасовые сходки, на которых звучали яростные обвинения и контробвинения. Дело дошло до вызовов на дуэль, причем не на рапирах, что допускалось немецким студенческим обычаем, а на пистолетах, что было категорически запрещено. Вмешалось университетское начальство, которое посадило в карцер, а затем удалило из Гейдельберга трех возмутителей спокойствия. Эта полицейская мера способствовала «восстановлению мира» в студенческом землячестве.
Такова была обстановка, когда в Гейдельберг прибыл восемнадцатилетний Николай Миклуха. Разумеется, он принял сторону «герценистов», выступавших за поддержку восставших поляков, и включился в споры, которые велись как в читальне, так и в жилых помещениях, которые снимали студенты. «Мы все были охотники до споров <…>, — вспоминает Григорий Де-Воллан, почти одновременно с ним приехавший в Гейдельберг. — Каждый из нас, так сказать, на свободе не признавал никакой нормы, желая облагодетельствовать не только всю Россию, но и целый мир»[76]. Михаил, собирая материалы к биографии брата, сделал выписку из недатированного письма Де-Воллана Николаю: «Я еще не забыл наших бесед в вашей комнате, где каждый из нас опровергал и признавал. Вы опровергали чувства, злость и т. д., но признавали трихину (круглый червь, паразитирующий в теле некоторых животных и человека. — Д. Т.) и другое. Мне очень приятно воспоминание о Гейдельберге»[77]. Комментируя это письмо, Михаил полагает, что его брат разделял тогда некоторые взгляды студента-нигилиста Базарова — персонажа романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»[78].
Среди горячо обсуждавшихся мировоззренческих вопросов была и проблема космополитизма. Об этом свидетельствует письмо Василия Суфщинского Николаю Миклухе, которое Михаил предположительно датировал декабрем 1864 года. Молодежь, придерживавшаяся революционно-демократических или либеральных воззрений, позитивно трактовала это понятие. Такой подход преобладал в кругах русской интеллигенции на протяжении всего XIX века. Любопытно, как восемнадцатилетний Николай связывал космополитизм с еврейским вопросом. В недатированной записке, относящейся к его пребыванию в Гейдельберге, говорится: «Евреи — учителя космополитизма, и весь мир — их школа. И потому что они учителя космополитизма, они также апостолы свободы»[79]. Насколько нам известно, Николай больше не высказывался по этому вопросу.
До начала восстания в Польше в Гейдельберге училось немало поляков, примыкавших к русскому студенческому землячеству. Большинство из них отправилось на родину, чтобы принять участие в вооруженной борьбе. Вместо них, по мере подавления восстания, в Гейдельберг стали прибывать польские эмигранты, преимущественно молодежь. Желая обеспечить благосклонное отношение или хотя бы нейтралитет России в вопросе объединения Германии, Бисмарк заключил с царским правительством конвенцию о совместном подавлении восстания в Польше и приказал не допускать на территорию Пруссии польских инсургентов. Поэтому поток польских эмигрантов устремился в южногерманские государства, включая великое герцогство Баденское, где власти относились к повстанцам с большей симпатией.
Валентин Валентинович Миклашевский (теперь он предпочел именоваться Валентием Мыклашевским) по приезде Николая в Гейдельберг познакомил его с некоторыми польскими эмигрантами и попросил оказывать им посильную помощь. Вскоре, защитив докторскую диссертацию, Миклашевский уехал в покоренную Варшаву, надеясь получить кафедру на юридическом факультете местного университета, а Николая фактически сделал своим «почтовым ящиком», пересылая через него письма и деньги полякам, поселившимся в Гейдельберге. «По некоторым письмам я могу заключить, — писал Михаил, — что квартира [Николая Николаевича] представляла как бы центр сборищ для эмигрантов»[80]. Юный Миклуха, и ранее сочувствовавший польскому освободительному движению, горячо проникся идеями и помыслами эмигрантов и даже решил изучить польский язык. Однако Екатерина Семеновна — полька по матери, — при всей ее полонофилии, выступила против этой затеи. «Ты пишешь, что берешь уроки польского языка, — говорилось в ее письме, скопированном Михаилом. — Да зачем тебе этот язык, лучше английский <…> а польский все равно ты не будешь хорошо знать»[81]. Мать мечтала, чтобы сын по примеру отца стал инженером, а потому неоднократно призывала его изучать прежде всего математику.
Вовлеченность Николая в общественную жизнь русского студенческого землячества и в дела польской эмиграции не способствовала углубленным занятиям в университете. Между тем в Гейдельберге — старейшем немецком университете, основанном в 1386 году, — собралось поистине созвездие выдающихся ученых: физик и физиолог X.Л. Гельмгольц, химики Р.В. Бунзен и Г.Р. Кирхгоф, историк Л. Гейссер, специалист по государственному и международному праву И.К. Блюнчли, криминалист К. Миттермайер и др. Поступив на философский факультет, Николай в летний семестр 1864 года записался по настоянию матери на курсы лекций по геометрии и тригонометрии. Но одновременно с изучением постылой математики он, как свидетельствуют сохранившиеся документы, прослушал лекционные курсы по политической экономии, новейшей истории, истории современного государства и права. Такой набор курсов вызвал упреки со стороны матери. «Ты слушаешь много побочных предметов, которые берут у тебя много времени, — писала она сыну в сентябре 1864 года, — но не знаю, принесут ли тебе когда-нибудь существенную пользу»[82]. Через два месяца Екатерина Семеновна высказалась еще определеннее: «К чему тебе политическая экономия, это не занятие <…> Я желала бы видеть тебя дельным человеком, а не любителем просвещения»[83].
Миклуха жил в Гейдельберге в крайне стесненных материальных условиях. Присылаемых из дому денег едва хватало на взнос платы за обучение, скудное пропитание и оплату жилья. Одежда, привезенная из Петербурга, изрядно обветшала. «С тех пор как я за границею, я решительно ничего не покупал, не делал относительно моего гардероба <…>, — писал он матери в сентябре 1864 года. — Мой черный сюртук почти совсем разлезается; оказывается, что, зашивая какую-нибудь дыру, нитка крепче сукна, и зашивать — это увеличивать дыру»[84]. Михаил Люце, гейдельбергский сотоварищ Миклухи, ставший впоследствии крупным государственным чиновником, вспоминает, что будущий путешественник «очень нуждался». «Узнав как-то, что одно яйцо равняется по своей питательности одному фунту мяса, — утверждает Люце, — он одно время питался одним яйцом в день»[85].
Николай скучал по родным, по Петербургу и очень хотел съездить домой на каникулы. Но мать предупредила, что, если он появится в Петербурге, его «очень легко могут вместо Гейдельберга послать в Вятку»[86], то есть отправить в ссылку. Такого же мнения придерживался его гимназический друг Василий Суфщинский. Он задал вопрос, стоит ли променять возможность получить за границей хорошее образование на месячное свидание. «Хорош промен, нечего сказать», — писал он Николаю[87].
Вместо поездки домой Миклуха отправился на экскурсию по горам и долинам Шварцвальда, чтобы, как он писал, «немного поправить глаза и грудь, особенно глаза, которые в последнее время моего пребывания в Гейдельберге довольно сильно болели»[88]. Николай исходил почти весь южный Шварцвальд, поднимался на наиболее высокие горы. «Чуть было не забрался в Швейцарию, — сообщал он, — но побоялся дороговизны и вернулся»[89].
У нас нет точных сведений, на какие лекционные курсы записался Николай Миклуха в зимнем семестре 1864/65 года. Но из его предсмертной автобиографии следует, что он изучал тогда в Гейдельберге физику, химию, геологию, философию, уголовное и гражданское право. Это означает, что юноша все еще колебался в выборе своего жизненного пути и пытался сочетать выполнение настойчивых пожеланий матери с изучением общественных наук, на время приглушивших его увлечение естествознанием.
Записи лекций, которые он вел в Гейдельберге, и выписки из прочитанных книг свидетельствуют о том, что Николая тогда интересовали идеи социалистов-утопистов, особенно Р. Оуэна и А. Сен-Симона. Но властителем его дум, по-видимому, оставался Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?», привезенный им из Петербурга, был в те годы его настольной книгой. Примечательно также, что Николай попросил мать прислать ему труд Дж. Ст. Милля «Основания политической экономии», изданный на русском языке в вольном переводе, с предисловием и примечаниями того же Чернышевского[90]. В этих текстах содержались важные соображения по политической экономии, философии и некоторым естественным наукам.
Летом 1864 года Николай узнал из письма матери о гражданской казни Чернышевского и его отправке на каторгу в Сибирь. Это известие потрясло впечатлительного юношу. Он попросил прислать ему портрет Чернышевского, срисовал его и, хотя сам испытывал материальные лишения на чужбине, пытался помочь деньгами своему кумиру[91].
Между тем в русском студенческом землячестве в Гейдельберге не осталось незамеченным изменение обстановки в России. Расправа над Чернышевским и его ближайшими соратниками, постепенное успокоение в деревне, упадок студенческого движения свидетельствовали об относительной стабилизации режима, временном спаде революционной борьбы. После отмены крепостного права правительство Александра II продолжало, пусть медленно и непоследовательно, политику реформ (земская, судебная и др.), создававших предпосылки для модернизации страны. Крах романтических надежд на скорую народную революцию стал очевиден.
Многие русские студенты-гейдельбержцы, переболев юношеской болезнью революционности, вернулись на родину, где завершили университетское образование и, превратившись в умеренных либералов, поступили на государственную службу. Со временем некоторые из них достигли высоких должностей и чинов, но и эти сановники не без сентиментальности вспоминали о своих «юношеских безумствах» в Гейдельберге.
Николай Миклуха, как мы уже знаем, в 1864 — 1865 годах не смог приехать в Россию даже на каникулы. Он и далее оставался за рубежом, но не как политический эмигрант, а для углубленного постижения наук. Дело в том, что перемены в России и фактический распад русского студенческого землячества в Гейдельберге оказали глубокое влияние на умонастроения Николая. Он решил прекратить активную политическую деятельность, посвятив себя отныне только науке.
Прослушав в Гейдельберге лекции по широкому спектру научных дисциплин, юноша принял решение вернуться к своей «первой любви» — естествознанию, культ которого еще более окреп в России к середине 1860-х годов[92]. Престиж естественных наук был тогда очень высок и в Западной Европе, особенно в Германии, так как передовые круги в этих странах — подобно русским революционным демократам — видели в успехах естествознания необходимую предпосылку для преобразования человеческого общества. Миклуха разделял эти воззрения. Решив стать натуралистом, он не отказался от общественной деятельности, а лишь избрал такую ее форму, какую счел для себя подходящей в тогдашних условиях. Позднее это свое кредо Николай выразил в афористической форме: «Единственная цель моей жизни — польза и успех науки и благо человечества»21.
Ввиду продолжающихся уговоров матери, которая желала, чтобы сын получил за границей приносящую материальный достаток специальность, предпочтительно в области «механики», Николай не сразу осуществил свое намерение. Летний семестр 1865 года он провел в Лейпциге, где — вопреки сведениям, содержащимся в его предсмертной автобиографии, на которой основываются биографы, — поступил не на медицинский, а на камеральный факультет. Такие факультеты, существовавшие в XIX веке в некоторых немецких университетах, готовили специалистов для работы в органах управления, сельском хозяйстве, лесоводстве, горной промышленности, торговле и т. п. Проведя разыскания в архиве Лейпциге кого университета, автор этих строк обнаружил материалы о том, что «Николай Миклухо» (так он обозначен во всех документах) был зачислен 19 апреля 1865 года на камеральный факультет[93]. Здесь он оплатил и прослушал четыре курса лекций: «1. Физическая география (проф., д-р Науманн). 2. Теория национальной экономии, сравнительная статистика и государствоведение Германии (проф., д-р Рошер). 3. История греческой философии (проф., д-р Зайдель). 4. Учение о костях и сухожилиях (проф., д-р Вебер)»[94]. Поначалу создается впечатление, что Николай, поступив по желанию матери на «прикладной» факультет, продолжал расширять свой кругозор и «зондировать» разные науки. Но привлекает внимание курс «Учение о костях и сухожилиях»: похоже, уже тогда юноша обдумывал возможность получить медицинское образование, которое давало «надежную» профессию и в то же время открывало путь к изучению большого цикла естественных наук.
Впрочем, Николай недолго пробыл в Лейпциге. В октябре 1865 года он перебрался, по его собственным словам, «из шумного Лейпцига в маленькую Йену, лежавшую тогда еще в стороне от железных дорог»[95]. Но не только тишиной и спокойствием, да к тому же дешевизной сравнительно с Лейпцигом, привлекла Йена будущего ученого: местный университет стал центром пропаганды и развития дарвиновской теории, и туда потянулась молодежь, желающая приобщиться к учению, которое бросило вызов господствующему мировоззрению.
Любимый ученик Геккеля
Приехав из Лейпцига поездом на станцию Апольда, Николай Миклуха пересел в омнибус, который доставил его до цели путешествия. Молодой человек увидел город, раскинувшийся по левому берегу реки Зале в узкой живописной долине, окаймленной невысокими горами. Улочки, застроенные старинными домами, вели к центру, где находились базарная площадь и ратуша. На многих домах красовались памятные доски с именами живших там знаменитых людей, установленные в 1858 году, когда торжественно отмечалось трехсотлетие Йенского университета. Такие люди исчислялись десятками, начиная с Мартина Лютера и других деятелей Реформации. От городского замка осталось несколько строений, которые теперь использовал университет, а от укреплений, некогда опоясывавших Йену, — несколько башен и ворот. Крепостной ров, благоустроенный и изящно озелененный, был превращен в место для прогулок. Многие обыватели совмещали чисто городские занятия с виноградарством и землепашеством. В середине 1860-х годов в Йене насчитывалось около семи тысяч жителей, в том числе 350 — 400 студентов[96].
Расцвет Йенского университета пришелся на конец XVIII — начало XIX века, когда им фактически руководил великий Гёте, который, как известно, был не только прославленным писателем и поэтом, но и крупным государственным деятелем, философом и натуралистом. Йена входила в состав великого герцогства Саксен-Веймар-Эйзенахского со столицей в Веймаре, расположенном вблизи от Йены. Гёте — министр и личный друг герцога Карла Августа, способствовал тому, чтобы в Йене сосредоточилась интеллектуальная элита Германии. В те годы здесь преподавал историю знаменитый поэт и драматург Фр. Шиллер, читали лекции выдающиеся философы Г. Гегель, Й. Фихте, Фр. Шеллинг, «отцы» немецкого романтизма братья Шлегели, известные врачи, юристы и естествоиспытатели.
После 1815 года, в период реакции, Йенский университет пришел в упадок, как и большинство других немецких университетов. Однако преследования, которым подвергались свободомыслящие профессора и студенты, умерялись здесь либеральными гётевскими традициями, сохранявшимися при веймарском дворе. Новый подъем университета начался в середине XIX века при герцоге Карле Александре, который уделял много внимания развитию наук и искусств. Благотворную роль сыграл куратор университета М. Зебек. Он эффективно и дальновидно использовал скромные средства, которые выделяли веймарские власти на содержание университета. В 1850 — 1860-х годах здесь было построено несколько зданий, открылись новые институты и лаборатории. Зебек приглашал на невысокие оклады профессоров, изгоняемых из других университетов, не боялся предоставлять кафедры молодым талантливым ученым, только начинавшим научную карьеру. Так, в Йенском университете появились К. Гегенбаур и Э. Геккель, ставшие учителями Николая Миклухи.
Карл Гегенбаур (1826-1903) — приват-доцент, а с 1855 года — профессор зоологии и сравнительной анатомии в Йене. До 1860 года он занимался преимущественно изучением морских беспозвоночных, затем сосредоточился на сравнительной анатомии позвоночных. Фактический материал в трудах Гегенбаура по анатомии был истолкован с позиций дарвиновской теории, но сам он не занимался широкими теоретическими обобщениями. Убежденный дарвинист, он поддерживал своего друга Э. Геккеля — защитника и пропагандиста эволюционного учения. Гегенбаур пользовался признанием у специалистов, но оставался как бы в тени харизматической фигуры Геккеля, труды которого не только получили громкую известность в ученом мире, но использовались в идейно-политической борьбе на протяжении нескольких десятилетий.
Эрнст Геккель (1834 — 1919) уже на школьной скамье увлекся изучением живой природы, но по настоянию отца окончил медицинский факультет Вюрцбургского университета и в 1858 году успешно выдержал государственный экзамен на «врача, военного хирурга и акушера». Однако практическая медицина не привлекала Геккеля. В студенческие годы он углубленно изучал зоологию и сравнительную анатомию, причем заинтересовался низшими морскими животными — полипами, медузами и кораллами, выезжал для их сборов и исследования в среде обитания на остров Гельголанд, в Ниццу и Мессину. В 1861 году по совету Гегенбаура Геккель принял приглашение Зебека занять должность приват-доцента в Йенском университете, в 1862 году стал экстраординарным, а в 1865 году — ординарным профессором зоологии. Геккель читал лекционные курсы по зоологии и палеонтологии, проводил практические занятия по изучению гистологических препаратов под микроскопом. Капитальные монографии о радиоляриях, известковых губках и медузах сделали его одним из крупнейших зоологов второй половины XIX века.
Не желая ограничиваться разработкой конкретных научных проблем, Геккель решил создать всеобъемлющую историю миротворения — от сгустков неорганической материи до человека. Интеллектуальным толчком для него послужило знакомство с теорией Чарлза Дарвина. В 1860 году Геккель приобрел немецкий перевод книги Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» (впервые опубликованной в 1859 году на английском языке) и после длительного и кропотливого ее изучения стал горячим приверженцем дарвиновской теории. Уже в 1862 году в монографии «Радиолярии» он предсказал, что дарвинизм (термин, предложенный А. Уоллесом) станет одной из самых важных и плодотворных научных теорий XIX века, и ожесточенные нападки на него объяснил тем, что Дарвин опроверг «укоренившиеся предрассудки и господствующие догмы»[97]. С зимнего семестра 1862/63 года Геккель начал читать курс лекций об эволюционной теории, ежегодно пополняя его новыми аргументами и фактами, защищающими и подкрепляющими дарвиновское учение.
Геккель пошел дальше Дарвина. Как отмечает биолог Н.Н. Воронцов, Геккель в отличие от Дарвина не чурался философии, не боялся умозрительных гипотез, наоборот — сам их создавал и активно проповедовал[98]. Дарвин в «Происхождении видов» допустил акт творения при возникновении первых простейших организмов и уклонился от ответа на вопрос о происхождении человека. Геккель же в своем программном труде «Общая морфология организмов» проследил естественно-исторический процесс возникновения органической материи из ее неорганических форм, эволюцию растительного и животного мира, происхождение человека от обезьяноподобных предков. В этой эволюционной схеме не осталось места творцу и актам творения. Тем самым Геккель выступил с открытым забралом против религиозных догматов и основанных на них креационистских теорий. В своем программном труде Геккель сформулировал ряд основополагающих понятий и гипотез, сыгравших важную роль в развитии наук биологического цикла. Именно здесь он ввел в обиход термин «экология» для обозначения нарождавшейся науки, ставшей в наши дни одной из ключевых для человечества.
Один из бывших учеников Геккеля, Ю.Ю. Шаксель, писал, что его учитель «штурмовал небо», прокладывая новые пути для развития науки[99]. Такой безудержный натиск оборачивался порой поспешностью, отдельными скороспелыми выводами. Не будучи расистом, Геккель прибегал к расистской по существу трактовке различий между расами, стараясь обосновать непрерывность процесса эволюции от обезьяны к человеку. Эти особенности его теоретических работ отмечали высокочтившие его ученые-дарвинисты. Но демократически настроенное студенчество и прогрессивная интеллигенция 1860 — 1870-х годов видели в Геккеле мыслителя и трибуна, который раскрывал истинную историю миротворения, бесстрашно боролся с мистицизмом и религиозными догматами.
В 1977 году, во время научной командировки в ГДР, мне довелось побывать в Йене. Я проводил там разыскания в университетском архиве и на вилле «Медуза». Так назвал Э. Геккель жилой дом, построенный им в 1883 году на холме в тихом районе Йены, у небольшой речки, впадающей в Зале. Еще при жизни ученый решил сосредоточить здесь свой архив, библиотеку, картины (он был неплохим живописцем) и завещал все это университету. После смерти владельца вилла была официально переименована в Дом Эрнста Геккеля и стала не только мемориальным, но и исследовательским центром по истории биологических наук. Если в университетском архиве обнаружились документы, касающиеся, так сказать, внешней стороны жизни Николая Миклухи в Йене (тематика лекционных курсов и практикумов, выбранных будущим путешественником, адреса, по которым он жил, и т. д.), то эпистолярные источники, сосредоточенные в Доме Эрнста Геккеля, позволяли попытаться понять логику и эмоциональный фон взаимоотношений Мастера и Миклухи, причины их охлаждения, а затем и полного разрыва.
Как видно из архивных документов, Николай фон Миклухо (так именовался он в этих документах, включая подписанные им самим) 19 октября 1865 года подал заявление и через месяц был зачислен на медицинский факультет Йенского университета[100]. Уже сделав свой выбор, он решился сообщить об этом матери: «Не зная, останетесь ли Вы довольны, я записался на медицинский факультет. <…> Окончив <нрзб> по этой части, я человек обеспеченный, потому что где бы я ни был, больные всегда найдутся. Притом, занимаясь медициной, я буду и должен заниматься наукой, к которой я всегда имел склонность»[101]. Ответ был предсказуем. «Прочитавши твое письмо (оно меня очень огорчило), — писала Екатерина Семеновна 19 декабря, — мне досадно было на тебя, что взялся не за свое дело; где тебе лечить больных, когда ты сам болен, у тебя не будет ни терпения, ни сил, а быть дилетантом доктором не следует, это бесчестно <…> будь механик, здесь ты никому не вредишь, а напротив приносишь пользу. Нынешний семестр ты оставайся на медицинском факультете, а там подумай хорошенько, обсуди со всех сторон и тогда напиши мне»[102].
Однако Николай не захотел сворачивать с избранного пути, хотя при поступлении в Йенский университет — вероятно, по инерции или для расширения своего кругозора — оплатил наряду с четырьмя лекционными курсами по медицинским дисциплинам лекции по основам сельского хозяйства, астрономии и телеграфии. В дальнейшем он перестал отвлекаться на «непрофильные» предметы и за три года прослушал основные курсы, предназначенные для будущих врачей; проходил он и соответствующие практикумы, в том числе стажировку в университетской больнице.
Впрочем, Николая мало интересовала практическая медицина. С первых же месяцев пребывания в Йене он увлекся сравнительной анатомией и анатомией человека — дисциплинами, которые преподавал К. Гегенбаур, а также зоологией и проблемами эволюции живых организмов, о чем читал лекции Э. Геккель. Кроме стандартного набора курсов для студентов-медиков будущий путешественник, как видно из архивных документов, прослушал лекции по довольно широкому спектру биологических наук, например «История развития человеческого тела» К. Гегенбаура, «Естественная история кишечнополостных» Э. Геккеля и, конечно, ежегодно обновлявшиеся чтения «йенского еретика» о дарвиновской теории. Большое внимание уделял Николай практическим занятиям — анатомированию трупов, а также препарированию и консервации биологических объектов, изучению гистологических препаратов под микроскопом. Эти навыки, как, впрочем, и медицинские познания, в дальнейшем пригодились ученому во время его дальних экспедиций.
Заметив интерес Николая к науке, глубину и оригинальность его мышления, Геккель сделал его своим ассистентом. В письмах родителям, датированных мартом 1866 года, он называет юношу «моим усердным и полезным помощником», «одним из любимейших моих учеников»[103]. Как сообщил наш герой в краткой автобиографии, «от усиленных занятий микроскопом и анатомиею» он получил «легкий паралич левой стороны лица» и был помещен на излечение в университетскую больницу[104]. Несмотря на всю свою занятость (чтение лекций он совмещал со всепоглощающей работой над монографией), Геккель навещал Николая в больнице. «Так как у него здесь никого нет, — писал он родителям 22 марта, — я должен о нем позаботиться»[105].
Работа ассистента не оплачивалась, но она сблизила Николая с профессором, выделила русского студента среди других учеников Геккеля. Николай помогал в подготовке и проведении лекций: расставлял в аудитории стеклянные банки с заспиртованными препаратами и другие наглядные пособия, изготавливал вместе с Геккелем и развешивал по стенам крупномасштабные рисунки и чертежи, в том числе воспроизводящие мельчайшие детали, различимые только в микроскоп. В зимнем семестре 1865/66 года Геккель читал свои лекции с огромным успехом, в переполненной аудитории. Как вспоминает М. Фюрбрингер, ставший впоследствии профессором анатомии, лица слушателей пылали от воодушевления, а то, что они слышали, мало походило на обычную лекцию: это был мощный поток интеллектуальной информации, в котором, словно искры, вспыхивали все новые и новые обобщения и гипотезы[106]. Вблизи от кафедры неизменно находился ассистент профессора Николай Миклуха.
Студенческая жизнь в Йене
В середине 1860-х годов в Йенском университете и связанном с ним Агрономическом институте учились 20 — 30 русских студентов (точные данные отсутствуют), но они не составляли землячества. В связи с изменением обстановки в России оттуда в немецкие университеты, включая Йенский, стали, как правило, приезжать не политически ангажированные студенты, которые думали прежде всего о преобразовании своего отечества, а политически более инертные «господа студиозусы», которые хотели получить престижную специальность. У российских студентов в Йене не было центра наподобие русской читальни в Гейдельберге, да они и не очень-то стремились обсуждать с соотечественниками острые социально-политические проблемы.
Увлеченный занятиями в университете, чтением научной литературы, работой и общением с Геккелем, Николай не водил компании со студентами из России. Но уже вскоре по приезде в Йену он подружился со студентом камерального факультета местного университета князем Александром Мещерским, который стал его лучшим другом[107]. С летнего семестра 1866 года молодые люди сняли комнаты в одном доме — «пекаря Хуфельда за кладбищем»[108].
Не исключено, что Николай и Александр познакомились еще в Гейдельберге, куда молодой князь, как и наш герой, приехал учиться в апреле 1864 года. Но в его регулярных письмах матери, в которых подробно рассказывается о жизни в Гейдельберге, о русской читальне и т. д. и встречаются десятки русских фамилий, ни разу не упоминается студент Миклуха. Поэтому, скорее всего, их знакомство было поверхностным, «шапочным». На летний семестр 1866 года Миклуха переехал в Лейпциг, а Мещерский — в Иену. Утверждение некоторых биографов нашего героя, будто именно Александр посоветовал Николаю перебраться в Йену, не находит подтверждения в доступных нам источниках. Несомненно одно: об их дружбе уже в начале 1866 года стало известно семейству Миклух, ибо его сестра Ольга в письме от 27 марта расспрашивала брата о Мещерском[109].
В Йене Николай поближе познакомился с жизнью немецкого студенчества. Одной из важных ее особенностей была активная деятельность студенческих корпораций (буршеншафтов), именовавшихся по латинским названиям германских племен. Так, в Йенском университете корпоранты тогда делились на «саксов», «тевтонов», «германцев», «тюрингцев», «саксонцев» и «франков». Буршеншафты отличались друг от друга сочетанием цветов на корпорантских знаменах, шапочках и лентах, носимых через плечо. Они регулярно устраивали «коммерсы» — праздники с речами, тостами и обильной выпивкой, прежде всего поглощением несметного количества пива. Пожалуй, наиболее одиозной формой деятельности буршеншафтов были мензуры — поединки на рапирах, чаще всего между членами разных корпораций, проводившиеся с соблюдением определенного ритуала, в присутствии секундантов, судей и многочисленных болельщиков. Чем больше шрамов и свежих порезов красовалось на лице корпоранта (туловище во время поединка защищали кожаные доспехи), тем выше был его авторитет среди «цветных» студентов[110].
Бурши неохотно допускали в свою среду чужаков, особенно иностранцев, да Николай и не пытался сблизиться с этими прожигателями жизни и в большинстве своем отъявленными националистами. «Цветные» составляли примерно половину студентов в Йене. Остальных бурши презрительно называли «зябликами». Это были дети менее обеспеченных родителей, не имевшие денег на попойки, всевозможные праздники, пристойную одежду и довольно высокие членские взносы в кассы корпораций, либо те студенты, которые приехали в Йену получать знания и отвергали по принципиальным соображениям образ жизни корпорантов. Среди «зябликов» у Николая появилось несколько знакомых (но не друзей), прежде всего ученик Геккеля женевец Герман Фоль, который с 1864 года изучал в Йене зоологию и сравнительную анатомию.
Студенты, не входившие в буршеншафты, любили собираться в кофейне или пивной, чтобы почитать газеты, сыграть в бильярд, выпить чашечку кофе или кружку пива. Они охотно записывались в певческие и гимнастические объединения (ферайны), большими группами совершали дальние пешеходные прогулки по окрестностям Йены. У Николая не было ни времени, ни желания бражничать, заниматься хоровым пением или гимнастикой. Но он очень любил пешеходные прогулки. Профессор зоологии Мюнхенского университета Р. Гертвиг в конце XIX века рассказывал Михаилу-младшему, что в молодости, когда он учился в Йене, «Щиколай] Щиколаевич] будил их (студентов. — Д. Т.) рано утром, стуча в окошко, заставляя принимать участие в разных экскурсиях»[111].
Йенские обыватели жили тихой, размеренной, во многом патриархальной жизнью. Даже бурши, с их немецкой приверженностью к порядку и законопослушанию, почти не нарушали внешнего спокойствия: пристойно вели себя на улицах, коммерсы устраивали в корпоративных пивных, для мензур арендовали помещения в окрестностях Йены. Николаю, еще не отвыкшему от горячих политических дебатов и сходок 1863 — 1864 годов, жизнь в Йене — за пределами университетских аудиторий и лабораторий — могла показаться пресной и скучной, его раздражало сытое самодовольство местных бюргеров, и он, согласно преданию, решил хотя бы ненадолго вывести их из равновесия.
«Йена была маленьким университетским городом, в стороне от железной дороги. Патриархальный уклад жизни был освящен традициями, — пишет П.А. Аренский, сын известного композитора. — 24 июля разодетые горожане с чинными песнями отправлялись всем городом на соседнюю горку для празднования Иванова дня. Маклай заранее забрался, вымазал одежду красной краской и распростерся поперек дорожки. Наткнувшись на окровавленное тело — столь редкое явление в почтенном городке, публика с воплями устремилась за полицией, но по возвращении не обнаружила ни трупа, ни его следов. Маклай же целую неделю потом забавлялся толками и газетными статьями о таинственном убийстве и исчезновении мертвого тела»[112].
Можно спорить, насколько этот поступок соответствовал психологическим установкам Николая, и задаваться вопросом, была ли у него вторая, пусть ветхая, пара верхней одежды, которую он не пожалел испачкать красной краской. Но важнее другое: Аренский, автор научно-популярной биографии нашего героя, сообщает, что об этом «сумасбродстве» будущего путешественника «рассказывал его однокурсник по университету, профессор Н. Зограф»[113]. На самом деле биолог Н.Ю. Зограф (1851 — 1919) учился в Петербургском университете в 1868 — 1872 годах, и если посещал Йену, то не ранее середины 1870-х годов. Это наводит на мысль, что перед нами одно из преданий, если хотите — анекдотов, в изобилии возникавших в конце XIX — первой половине XX века по мере мифологизации образа «белого папуаса».
В Гейдельберге, а потом в Йене будущий ученый перенял не только привычку к дальним пешеходным экскурсиям, но и некоторые другие обычаи немецкого студенчества. Речь, в частности, идет об отношениях с прекрасным полом. Многие студенты охотно переписывались с иногородними девицами, давшими соответствующие объявления в газетах. Обмен письмами нередко приводил к очному знакомству, встречам и, если стороны нравились друг другу, оканчивался со временем законным браком. Николай воспользовался этим обычаем. Но он вступал в переписку главным образом ради развлечения, а в первое время и для того, чтобы совершенствоваться в немецком эпистолярном жанре. Сохранилось несколько черновиков писем Николая девушкам и их посланий, которые, во всяком случае, свидетельствуют о том, что они серьезно относились к переписке с «господином фон Миклухо». Николай писал свои письма в ироническом тоне, с едва скрываемым чувством превосходства. Но иногда в них встречались высказывания, которые ярко характеризовали его мировоззрение. «Я всегда испытываю большую симпатию к бедным и тем, кто находится в плохих социальных и политических условиях, — писал он неизвестной нам барышне в январе 1865 года. — У меня гораздо большая симпатия к бедным и бесправным, чем к богатым и полноправным. В вопросе отношений между мужчинами и женщинами в мужчине я вижу богатого и полноправного, а в женщине — бедную и бесправную»[114].
Как только корреспондентки становились назойливыми и начинали требовать от него немедленных встреч и т. п., Николай решительно и бесцеремонно выходил из игры. Так случилось, например, с Августой Зелигман, приславшей в январе 1868 года письмо из Франкфурта-на-Майне, в котором были такие строчки: «Уже три дня я с нетерпением жду каких-либо известий от Вас. Вы же получили мое письмо, так почему же не отвечаете? Я жду в ближайшие дни Вашего ответного письма с указанием времени, когда Вы предполагаете посетить меня, что Вы мне обещали. На этот раз одного лишь обещания мне недостаточно. Вы должны приехать и скоро прийти. Я жду Вас с нетерпением. Напишите мне сейчас же»[115]. В ответном письме Николай постарался развеять ее иллюзии и, чтобы окончательно отвадить бедную фройляйн, изобразил себя жутким мизантропом: оказывается, он — «скучающий эгоист, совершенно равнодушный к стремлениям и образу жизни других добрых людей, и их еще осмеивает; который послушен лишь собственному желанию, стремясь каким-нибудь способом унять свою скуку; который добро, дружбу, великодушие считает лишь прекрасными словами, приятно щекочущими длинные уши добрых людей»[116].
Но в Иене жила девушка, к которой Николай испытывал большое уважение и, возможно, симпатию, — Аурелия Гильдебранд, дочь профессора политической экономии и статистики Иенского университета Бруно Гильдебранда, учителя Александра Мещерского. Их, вероятно, и познакомил Александр, вхожий в дом своего профессора. В бумагах нашего героя сохранилось лишь одно небольшое письмо Аурелии, из которого видно, что она состояла в переписке с матерью и сестрой Николая. В этом письме, написанном по-французски, встречается несколько русских слов, старательно выведенных кириллицей, — свидетельство того, что она изучала русский язык[117]. Поэтому об их отношениях приходится судить по письмам Аурелии Мещерскому. Мне удалось обнаружить 32 таких письма в одном из московских архивов[118]. Письма Николая дочери Гильдебранда, возможно, отложились в каком-то немецком архивохранилище, но мне их выявить не удалось.
Судя по обнаруженным письмам, Аурелия была по тем временам хорошо образованной и начитанной барышней, не желавшей, чтобы ее жизнь свелась к традиционным немецким «трем К» — Kirche, Kinder, Kuche (церковь, дети, кухня). В одном из писем Мещерскому она писала, что хочет узнать побольше о людях и окружающем мире, чтобы «вести не совсем бесполезное существование»[119]. В декабре 1867 года Аурелия с радостью сообщила Александру, находившемуся в Италии, что Миклуха приходит по вечерам слушать ее игру на фортепьяно; в этом письме есть приписка, сделанная Николаем. Во время экспедиционных работ молодого ученого в 1868 — 1869 годах девушка с неподдельным беспокойством писала о плохом состоянии его здоровья и изнурительных условиях, в которых ему приходилось проводить исследования. Эти сведения она получала из первых рук: Николай, по ее словам, неоднократно писал ей из Мессины, с Красного моря, из Саратова, Москвы и Петербурга. Аурелия с нетерпением ожидала возвращения Николая, несколько раз запрашивала о точной дате его приезда. Похоже, она надеялась, что уставший и нездоровый молодой человек захочет отдохнуть в маленьком городе, уютно расположенном среди холмов в долине Зале, что он надолго останется в Йене, и тогда… Но в Йену приехал ученый и путешественник, охваченный почти маниакальным стремлением отправиться в далекую и опасную экспедицию, которая прославит его имя и принесет большую пользу науке. Матримониальные узы и тихая университетская карьера могли тогда присниться ему разве что в страшном сне.
Разумеется, отношения Николая с прекрасным полом — как в студенческие годы, так и в дальнейшем — имели не только платонический характер. В окрестностях Йены жили одиночные «жрицы любви» и существовало несколько борделей, обслуживавших преимущественно студентов. Посещал ли Николай эти злачные места? Мы этого не знаем. Среди десятков фотографий йенского периода, сохранившихся в бумагах ученого, встречаются довольно откровенные фотооткрытки с изображениями обнаженных женщин. Такие открытки продавались в газетных киосках и имелись едва ли не у каждого студента. Но мое внимание привлек снимок, не наклеенный на паспарту, лишенный указания на название фотоателье или фамилию фотографа, что было весьма необычно для того времени. На снимке изображена совершенно нагая пышнотелая женщина лет тридцати, стоящая во весь рост с поднятыми за голову руками[120]. Не сохранил ли Николай это фото на память о мимолетной подружке?
Во время прохождения практики в университетской больнице «господину фон Миклухо» поручили наблюдать молодую девушку, и — как это случается и в наши дни — молодой лекарь и его пациентка влюбились друг в друга. Неизвестно, как долго продолжался этот больничный роман, но через некоторое время состояние больной ухудшилось и, несмотря на все усилия, спасти ее не удалось. Будучи при смерти, девушка попросила, чтобы Николай взял на память ее череп. Молодой человек выполнил ее последнюю волю и нашел черепу необычное применение. Как сообщают его брат Михаил, а также Михаил-младший, который ссылается на очевидца — профессора Гертвига, — Николай соорудил диковинную лампу: поверх дубовой подставки на скрещенных локтевых костях был установлен череп, над которым возвышался небольшой масляный резервуар с фитилем, а над ним — зеленый абажур. «Свет лампы, отражавшийся от абажура, — пишет брат ученого, — рельефно оттенял впадины глаз, носа, освещал зубы»[121].
В отличие от проделки Николая в Иванов день, которая скорее является фольклорным сюжетом, его больничный роман и изготовление лампы из черепа возлюбленной не вызывают сомнений, так как подтверждены независимыми источниками. Помимо двух Михаилов об этом рассказал известный датский литературный критик Георг Брандес. Посетив осенью 1887 года в Петербурге тяжелобольного исследователя, датчанин видел лампу с черепом на столике у его ложа и услышал из его уст связанную с ней историю. Ученый сказал Брандесу, что всегда имел при себе эту лампу и пользовался ею и в экспедициях, и во время пребывания в Австралии[122]. Значит, он не расставался с этим печальным сувениром на протяжении двух десятилетий.
С Геккелем на Канарах
В конце марта 1866 года Э. Геккель передал издателю фундаментальный труд «Общая морфология организмов», который он, работая как одержимый, написал за восемь месяцев. Преисполненный сознания своей исключительности, 33-летний профессор предсказал в письме родителям, что эта книга принесет ему «большое влияние в науке»[123]. Желая отдохнуть от лекций и, главное, от кабинетного теоретизирования, Геккель решил совершить поездку в Мессину, чтобы продолжить изучение средиземноморской морской фауны. Он пригласил участвовать в этой поездке приват-доцента Боннского университета Рихарда Грефа, который уже проводил вместе с ним подобные исследования на Гельголанде, а также двух своих любимых студентов — Германа Фоля и Николая Миклуху. Неожиданное приглашение во многом предопределило научное будущее нашего героя. Выезд в «поле», изучение морских организмов в среде их обитания из предмета мечтаний начало превращаться в реальность.
Обстановка в Европе не благоприятствовала задуманной поездке. В июне 1866 года, после длительных политических баталий, вспыхнула австро-прусская война. Она почти не затронула великое герцогство Саксен-Веймар-Эйзенахское, так как оно вступило в союз с Пруссией. Но войска нескольких германских государств, принявших сторону Австрии, были быстро разгромлены хорошо вооруженной и обученной прусской армией, которая перенесла затем боевые действия на территорию своего главного противника. Уже 3 июля при чешской деревне Садова пруссаки наголову разбили австрийцев; дорога на Вену была открыта. В августе состоялось подписание мира, предусматривавшего создание Северо-Германского союза под главенством Пруссии. В течение следующих трех месяцев к ней были присоединены Ганновер, Нассау и курфюрство Гессенское, а Вюртемберг, Бавария, Баден и Гессен-Дармштадт были принуждены подписать с ней конвенции о союзе.
Но едва смолкли пушки, как перед Геккелем и его спутниками возникло новое серьезное препятствие. В Южной Европе началась очередная эпидемия холеры, и местные правительства стали воздвигать преграды на пути ее распространения: создавать карантины на границах и в портах, ограничивать пароходное сообщение и т. д. Как узнал Г. Фоль, наиболее решительно были настроены как раз власти Мессины — они приказали палить из пушек по любому судну, которое осмелится приблизиться к этой гавани.
Геккелю пришлось изменить место своих полевых исследований. Вместо Мессины он решил отправиться со своими спутниками на Канарские острова, расположенные в субтропической зоне Атлантического океана, недалеко от западного побережья Африки, так как он счел интересным сравнить их морскую фауну с организмами, обитающими в Северном и Средиземном морях.
Когда профессор принимал это решение, оба студента, которых он включил в состав участников экспедиции, уже находились в Швейцарии, на родине Фоля, куда последний пригласил нашего героя, чтобы тот полюбовался местными красотами и пришел в себя после болезни, перенесенной весной. Николаю по-прежнему нездоровилось. «Миклухо еще со мной, — сообщил Фоль Геккелю 29 сентября 1866 года. — Вероятно, он с нами не поедет, хотя его здоровье лучше, чем было при его приезде в Женеву»[124]. Но Николай не захотел упустить свой шанс. Усилием воли он поборол — или перестал замечать — болезненные симптомы. Через три недели, 18 октября, он написал Геккелю: «Я решился отправиться с Вами и Фолем <…> и надеюсь в самом скором времени встретиться с Вами на Мадейре или в Лиссабоне», Николай добавил, что, по наведенным им справкам, сохраняется пароходное сообщение между Лиссабоном и островом Мадейра, откуда недалеко до Канарских островов[125].
В конце октября молодые люди приехали поездом в Бордо, откуда на пароходе перебрались в Лиссабон. Пройдя карантин, Герман и Николай в ожидании Геккеля и Грефа не теряли времени даром. Они знакомились с достопримечательностями португальской столицы, любовались архитектурой средневековых замков и храмов в гористых местностях этой маленькой страны. Благодаря сохранившемуся рисунку Николая, на котором изображен знаменитый замок в Синтре, мы узнаем, что они посетили эту летнюю резиденцию португальских королей.
Геккель и сопровождавший его Греф отправились в Лиссабон через Англию. Такой маршрут они выбрали не только потому, что оттуда легко было добраться морем до Лиссабона: йенский профессор желал лично познакомиться и обсудить научные проблемы со своим английским единомышленником — выдающимся биологом-дарвинистом Томасом Хаксли (Гексли) и навестить самого «даунского отшельника», как нередко называли тогда Чарлза Дарвина, который жил почти безотлучно в своем имении в Дауне. «Дарвин, как и Хаксли, — писал Геккель своим родителям в конце октября 1866 года, — оказались именно такими, какими они представлялись мне по нашей переписке; они были в высшей степени любезны, и я чувствовал себя у них как дома. Особенно много времени провел я с Хаксли»[126]. Рассказывая Хаксли об участниках экспедиции, Геккель похвально отозвался о своем талантливом русском студенте.
Отбыв карантин, обязательный для всех прибывавших в Португалию, Геккель и Греф отправились прогуляться по Лиссабону и почти сразу наткнулись на «господ студентов», уже неделю ожидавших профессора и его спутника. Через два дня, 15 ноября, участники экспедиции отплыли на португальском пароходе на Мадейру.
Геккель предполагал пробыть на этом восхитительном острове пару недель, чтобы ознакомиться с местной пелагической и литторальной фауной, а уже затем отправиться на Канары. Но оказалось, что пассажирское сообщение между португальской Мадейрой и Канарскими островами, принадлежавшими Испании, прекратилось несколько месяцев тому назад в связи с эпидемией холеры. Правда, раз в месяц к их главным гаваням подходил английский почтовый пароход, следовавший из Ливерпуля к африканскому побережью. Но ему запрещено было принимать или высаживать пассажиров; разрешалось лишь доставлять и забирать почту, через которую не передавалась эта грозная болезнь. Геккель и его спутники приуныли, но им помог случай. На рейде Фуншала, главного города Мадейры, стоял прусский парусный фрегат «Ниоба», совершавший учебное плавание по маршруту Мадейра — Канары — острова Зеленого Мыса — Куба. Его капитан — племянник профессора Батша, преподававшего во времена Гете ботанику в Йенском университете, — любезно согласился доставить в Санта-Крус на острове Тенерифе группу зоологов во главе с йенским профессором. Пробыв в Фуншале только два дня, наши путешественники совершили на фрегате переход до Тенерифе и 22 ноября высадились в Санта-Крусе.
Задолго до высадки путешественники увидели главную достопримечательность острова — вулкан Пико де Тейде, гордо возвышавшийся гигантской серебристо-серой пирамидой на фоне темно-синего неба. В 1799 году эту вулканическую гору (3718 метров над уровнем моря) покорил известный немецкий путешественник и естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт. Геккель решил последовать его примеру и тем самым, как он писал, исполнить свою давнюю мечту. Но Гумбольдт совершил восхождение в июне, когда весь вулкан был свободен от снега, а теперь, в ноябре, вершина и прилегающие к ней склоны были покрыты снегом и льдом, что делало восхождение более трудным и, главное, опасным. Сведущие люди, включая проводников, не раз водивших путешественников на штурм Пико де Тейде, пытались отговорить Геккеля от этой затеи. Но профессор был непреклонен. Из города Оротава к подножию вулкана отправились все члены экспедиции, но до вершины добрались только Геккель и согласившийся его сопровождать директор местного ботанического сада швейцарец Вильдпрет. Греф и Фоль отказались продолжить восхождение после привала. Что касается Николая, то он, несмотря на недомогание, попытался и далее следовать за профессором, взобрался еще на несколько сотен метров, но, почувствовав полнейший упадок сил, вынужден был вернуться на привал, кляня себя за проявленную слабость.
В следующие дни Геккель и его спутники совершили несколько экскурсий по северному побережью Тенерифе, любуясь его великолепной субтропической растительностью. «Ни одно место на земле не способно так легко изгонять тоску и возвращать покой страждущему сердцу», — писал Гумбольдт об этом острове[127]. Но путешественники недолго пробыли на Тенерифе: французский консул С. Вертело — натуралист, написавший книгу «Естественная история Канарских островов», — сказал йенскому профессору, что задуманные им исследования целесообразнее проводить в гавани Арресифе на Лансароте, самом восточном из Канарских островов.
Участники экспедиции отправились туда на маленьком парусном судне, набитом пассажирами, быками, свиньями и ящиками с фруктами. Обычно плавание до Арресифе занимало около тридцати часов, но из-за встречного ветра и сильного волнения на море оно продолжалось на сей раз четверо суток. Суденышко бросало и раскачивало на волнах, словно на гигантских качелях. По сообщению Геккеля, на протяжении всего перехода Греф и Миклуха жестоко страдали от морской болезни[128]. «Прикачивание» — морское словечко, означающее процесс адаптации организма к постоянной качке. По-видимому, наш герой «прикачивался» плохо; командир корвета «Витязь», доставившего его к берегам Новой Гвинеи, вспоминал, что путешественник мучился от морской болезни на всем протяжении длительного плавания[129].
9 декабря путешественники высадились в гавани Арресифе на острове Лансароте, расположенном примерно в 100 километрах от пустынного африканского побережья. Близость Африки повлияла на климат и растительность этого острова. Большую часть его поверхности — в отличие от цветущего Тенерифе — занимали бесплодные поля застывшей лавы. Пейзаж оживляла лишь цепь вулканических конусов, пересекающая остров. Только в небольших долинах, защищенных от иссушающих ветров с Африканского континента, росли смоковницы и финиковые пальмы, располагались огороды и плантации местных жителей. На Лансароте, лишенном речек и родников, дожди были единственным источником пресной воды, которую собирали и хранили в цистернах. Но случались годы, когда вообще не выпадало осадков, и тогда питьевую воду приходилось привозить с других островов архипелага, расположенных к западу от Лансароте.
Большинство домов в Арресифе, построенных из лавовых блоков, имело плоскую крышу и единственное отверстие, которое служило и дверью, и окном. Двухэтажные жилища более зажиточных горожан были снабжены окошками, но они не были застеклены и закрывались лишь деревянными ставнями. С большим трудом Геккелю удалось арендовать дом, одна из комнат которого имела два застекленных окна. Там зоологи оборудовали лабораторию.
Унылые, бесплодные окрестности Арресифе не располагали к прогулкам, да на них и не оставалось времени. С раннего утра и до позднего вечера кипела работа. На рассвете Геккель со своими сотрудниками отправлялся на лодке в бухту, омывающую Арресифе. Они собирали сачками и тут же помещали в большие сосуды с морской водой обитающих в поверхностном слое медуз, рачков, радиолярий и других маленьких животных, а иногда специальной сетью доставали придонных обитателей океана. Свой улов они незамедлительно доставляли в лабораторию, где подвергали его тщательному изучению, обычно под микроскопом, анатомировали интересующие их организмы, зарисовывали их и потом помещали в консервирующие растворы. Вечерами исследователи записывали полученные за день результаты, обсуждали их, причем Геккель нередко посвящал коллег в свои новые научные идеи и гипотезы, и это вызывало оживленные дискуссии.
Лаборатория помещалась на втором этаже, куда вела крутая, покосившаяся лестница. По ней приходилось таскать наверх ведрами воду и тяжелые стеклянные сосуды с уловом. Тут проявилась природная сметка нашего героя. Как сообщает его брат Михаил, Николай «приспособил блок и с помощью его поднимал воду»[130].
Каждый участник экспедиции занимался одной или несколькими группами морских организмов. По поручению Гек-келя «студент фон Миклухо» изучал на Лансароте морских губок и рыб, главным образом акул. Он часами бродил во время отлива по обнажавшимся участкам скалистого дня бухты, собирая между покрытыми илом камнями скопления желтых, красных, фиолетовых и голубых губок. Тщательное изучение этих разнообразных крохотных существ позволило сделать открытие. Николай обнаружил новый, неизвестный зоологам вид известковой губки и назвал ее Guancha blanca, в память о гуанчах, почти полностью истребленных колонизаторами коренных жителях Канарских островов[131].
Только что выловленных рыб приходилось покупать непосредственно у рыбаков или на местном весьма скудном базаре. Так молодой ученый собрал материал для своих будущих работ о плавательном пузыре и мозге акул.
Один из регулярных выходов в море для сбора морской фауны едва не закончился для Николая трагически. Внезапно налетевшая большая волна обрушилась на лодку, которая набрала воды и начала тонуть. Геккель записал в своем дневнике, что «особенно беспокоился за Миклухо, единственного из всей компании, кто не умел плавать», но тот — в отличие от истошно вопившего Грефа — сохранял «полную невозмутимость» и, не произнося ни слова, вместе с другими усердно вычерпывал воду[132]. Ученым удалось удержать лодку на плаву и благополучно вернуться в гавань.
В этой непростой ситуации впервые проявились такие особенности личности нашего героя, как умение сохранять хладнокровие в минуту опасности и удивительное бесстрашие. Николай, который, по его собственным словам, так и не научился плавать, в дальнейшем серьезно рисковал жизнью, совершая дальние переходы на небольших парусных судах, используя шлюпки и туземные каноэ. Не страшила его, как мы уже знаем, и приверженность морской болезни.
Подавляющее большинство обитателей Лансароте составляли испаноязычные метисы, некоторые — с примесью крови древних гуанчей. Встречались здесь и негры. Местные жители с недоверием и опаской относились к четырем зоологам. Одни считали их немецкими шпионами, готовившими захват Канарских островов Пруссией, другие полагали, что подозрительные чужеземцы — колдуны, и приходили к ним с просьбами об исцелении и предсказании будущего. Николай впервые увидел население, столь смешанное в этническом и антропологическом отношениях, и заинтересовался его историей и традициями.
Арендованный Геккелем дом — один из лучших в Арресифе — кишмя кишел клопами, блохами, москитами и др. По комнатам днем и ночью сновали крысы, мыши и большие тараканы, поедающие все съестное. Особенно досаждало натуралистам невообразимое множество блох. Гигиенические меры и порошки-репелленты не помогали. Геккель с немецкой дотошностью подсчитал, что только в январе 1867 года он и его сотрудники истребили более шести тысяч блох. «Из-за их ненасытной кровожадности, — писал он о блохах в статье об экспедиции на Канары, — эти насекомые превратились для нас в настоящее бедствие»[133]. Между тем наступил сезон штормов, и работы в бухте стали еще более опасными. В середине февраля Геккель принял решение сократить пребывание на Лансароте с запланированных четырех до трех месяцев и при первой же возможности вернуться в Европу через Марокко. Как признавался профессор, именно блохи, а не штормы вынудили его досрочно покинуть остров.
Раз в месяц английский пароход «Грейтхэм-холл» совершал рейс по маршруту Лондон — Кадикс — Канары (с заходом в Арресифе) — марокканские порты, а оттуда через Гибралтар и Лиссабон возвращался в британскую столицу. В связи с ослаблением карантинных ограничений ему было разрешено высаживать и принимать пассажиров на Канарах. 2 марта «Грейтхэм-холл» появился на рейде Арресифе. Натуралисты быстро перевезли на него заранее упакованные пожитки, научное оборудование и контейнеры с биологическими материалами, и уже через 40 часов корабль доставил их в марокканскую гавань Могадор. Здесь экспедиция разделилась. Геккель и Греф посетили на пароходе основные порты Марокко, а затем перебрались в испанскую гавань Альхесирас (вблизи от Гибралтара), где две недели знакомились с местной морской фауной. Отсюда, делая в пути остановки, они пересекли на поезде всю Испанию и, осмотрев в Париже Всемирную выставку, вернулись в свои университетские города — Йену и Бонн.
Что же касается «господина фон Миклухо», то он уговорил Фоля совершить путешествие по султанату Марокко, хотя это было тогда отнюдь не безопасно. Облачившись в арабские одежды и наняв переводчика, студенты добрались до тогдашней столицы страны, города Марракеш, пробыли там несколько дней, а затем невредимыми вернулись в Могадор. Николай жадно впитывал новые впечатления. Его живо интересовали особенности жизни арабских и берберских племен, их жилища, мечети, караванная торговля. Посетив на пароходе несколько марокканских портов, Миклухо и Фоль прибыли в Испанию. Здесь они побывали в ее основных историко-культурных центрах — Малаге, Гранаде, Кордове, Севилье и, конечно, в Мадриде. Как и во время путешествия по Марокко, Николай сделал в Испании много зарисовок, часть которых сохранилась до наших дней.
По словам его младшего брата, Николай в Мадриде решил подвергнуть себя серьезному испытанию. «На другой стороне реки, — сообщает Михаил, — располагался цыганский табор, и редко возвращался смельчак, который желал переночевать в таборе». Николай оставил в гостинице ценные вещи и деньги, за исключением нескольких монеток, и отправился поздно вечером в табор. Цыгане не тронули бедного студента, который вывернул перед ними все карманы, и разрешили переночевать в «облюбованном месте». На следующее утро он спокойно вернулся в гостиницу[134].
Никаких других подробностей Михаил не приводит. Но известно, что после ночевки в таборе Николай серьезно простудился. Все еще больной, он приехал из Мадрида в Париж, а оттуда в начале мая 1867 года вернулся в Йену. 10 мая Геккель сообщал родителям: «Мой ассистент Миклухо опять на своем старом месте»[135]. Однако недолеченная болезнь дала о себе знать, и Николаю пришлось несколько дней отлеживаться в комнате, снятой им на летний семестр в трактире Форста. 22 мая он написал Геккелю, что чувствует себя «намного лучше», собирается «завтра или послезавтра» прийти в университет и благодарит профессора «за проявленную обо мне заботу»[136].
Так завершилась первая экспедиция, в которой участвовал наш герой. По возвращении в Йену он твердо решил стать не кабинетным ученым, а путешественником-исследователем.
Снова в Йене
Пока Геккель семь месяцев отсутствовал в Йене, там накалились страсти вокруг его монографии «Общая морфология организмов», опубликованной летом 1866 года. Похоже, немногие полностью осилили этот двухтомный капитальный труд, который изобиловал новыми научными терминами и понятиями, в большинстве своем предложенными самим автором, и поднимал как узко специальные вопросы, так и сложнейшие теоретические проблемы мироздания. Но книга приобрела громкую, даже скандальную известность, так как достаточно было беглого ознакомления, чтобы понять, что она написана в основном с позиций естественно-научного материализма и имеет неприкрытую антиклерикальную направленность. Профессора и студенты теологического факультета и многие другие консервативно настроенные представители университетского сообщества недружелюбно встретили возвратившегося Геккеля и за глаза называли его «обезьяньим профессором». Впрочем, среди профессуры были и такие, кто подобно К. Ге-генбауру и Б. Гильдебранду демонстративно поддерживали «еретика», хотя не всегда понимали и не во всем принимали его учение. Однако наибольшую поддержку Геккелю оказывала университетская молодежь — молодые приват-доценты и студенты. К ним принадлежал, разумеется, и наш герой. «Он теперь вдвойне привязан ко мне, — писал Геккель родителям о русском студенте, — и проявляет такую любовь, которая меня поистине трогает»[137].
Николай опять ассистировал Геккелю, возобновил слушание лекций на медицинском факультете, но главное внимание уделял обработке материалов, собранных в Арресифе, чтобы подготовить на их основе первые публикации. В Йену вернулся другой «господин фон Миклухо». Геккель по-прежнему относился к нему как к любимому студенту, но Николай больше не хотел быть всего лишь студентом Геккеля. После экспедиции на Канары у него выросла самооценка, появилась вера в свои силы, возникло желание приобрести известность в ученом мире.
Теперь Николаю было уже недостаточно досконального знания научной литературы по разрабатываемой им проблематике. Перед началом зимнего семестра 1867/68 года, снабженный рекомендательными письмами Геккеля и Гегенбаура, он отправился из Йены в поездку по Европе, чтобы ознакомиться с зоологическими коллекциями в крупнейших музеях, получить консультации у специалистов по губкам и селахиям (акулам, скатам и химерам). 22-летний исследователь не вел дневник, но из отрывочных упоминаний в его статьях известно, что он побывал в Дании, Норвегии, Швеции и Франции. Так, в Париже он посетил знаменитый Jardin des Plants — старинный ботанический сад, который к середине XIX века превратился в многопрофильный научный центр, включающий Музей естественной истории, зверинец, виварий и т. д. По мере возможности Николай знакомился с достопримечательностями этих стран. На его рисунках, сделанных во время поездки, — средневековые крепости, замки, гавань со стоящими в ней судами.
Осенью 1867 года в «Йенском журнале медицины и естествознания» появилась статья «Рудимент плавательного пузыря у селахий» — первая публикация Николая[138]. Как указано в конце статьи, она поступила в редакцию еще 6 июля, но молодой ученый вносил в нее уточнения и дополнения. С позиций дарвиновской теории автор рассмотрел в статье значение и функции «кармана» в пищеварительном канале акул, которых он вслед за Гегенбауром считал исходной формой для остальных рыб и амфибий. Николай счел этот «карман» рудиментом плавательного пузыря. Геккель и Гегенбаур дали высокую оценку статье. В письме Хаксли, отправленном в январе 1868 года, Геккель писал, что работа «талантливого молодого русского <…> представляется важной для изучения филогении позвоночных и обоснования раннего происхождения плавательного пузыря»[139]. Однако следующие поколения исследователей не согласились с гипотезой Николая и приурочили возникновение плавательного пузыря у рыб к появлению у них тяжелого костного скелета, еще отсутствующего у акул. В наши дни эта статья, как и другие работы Николая по зоологии и сравнительной анатомии, заслуживает внимания главным образом с точки зрения истории науки. Для нас же наиболее примечательно то, что статья была подписана двойной фамилией — Миклухо-Маклай (Miklucho-Maclay), которой с этого времени начал пользоваться Николай, и так мы будем впредь его называть.
Вопрос о происхождении второй части фамилии до сих пор не может считаться решенным. В конце XIX — начале XX века докопаться до истины попытался Д.Н. Анучин. Он обратился за разъяснениями к секретарю РГО А.В. Григорьеву и барону Ф.Р. Остен-Сакену, который службу в Министерстве иностранных дел сочетал с активной деятельностью в РГО и, как мы увидим ниже, на протяжении двух десятилетий поддерживал тесные контакты с Миклухо-Маклаем. Григорьев отыскал «сведущее лицо» — библиотекаря РГО Ю.В. Бруннемана, который был гимназическим приятелем Николая, — и в 1898 году сообщил Анучину, что, по словам Бруннемана, будущий путешественник «и в гимназии <…> был известен под двойной фамилией»[140]. Теперь уже не только автор, но и читатели этой книги могут оценить обоснованность этого утверждения.
Остен-Сакен обратился к Г.Ф. Штендману, который сыграл серьезную, притом трагическую роль в истории семейства Миклух. В 1901 году Штендман пояснил, что «прибавка "Маклай" совершенно произвольная: сокращенное малороссийское Миколай (Николай), поставленное после фамилии священником в церковной книге»[141]. Эта версия показалась мне сомнительной при первом же ознакомлении с ней. Но на всякий случай я обратился в 1982 году в архив Новгородской области с просьбой прислать копию записи о крещении Миклухо-Маклая. Ответ был неутешительный: метрические книги Шегринской церкви за 1846 год погибли в войну. Однако сравнительно недавно мне стало известно, что выписку из них перед началом Отечественной войны сделал племянник ученого Д.С. Миклухо-Маклай. В этой выписке, как и в свидетельстве, выданном в 1857 году Новгородской духовной консисторией по запросу Е.С. Миклухи, говорится о рождении и крещении Николая и его родителях[142]. Имени «Маклай», якобы поставленного священником после фамилии Миклуха, в этих документах нет да и не могло быть при строго соблюдавшейся формуле записи. Удивительно, что эту явную небылицу сообщил как непреложный факт не кто иной, как Штендман, известный историк-источниковед и публикатор архивных документов[143].
Новый всплеск интереса к происхождению второй части фамилии пришелся на послевоенные годы, когда резко возрос интерес к жизни и деятельности Миклухо-Маклая, развернулась подготовка пятитомного собрания его сочинений. Директор Боровичского краеведческого музея С.Н. Поршняков, который первым установил точное место рождения путешественника и собирал материалы о его жизненном пути, обратился к его племяннице Серафиме Михайловне (дочери его младшего брата) с просьбой прокомментировать легенду о шотландских корнях рода Миклух. Эта легенда иногда мелькала в прессе, особенно в Великобритании и ее колониях, еще при жизни ученого. 28 сентября 1948 года Поршняков получил такой ответ:
«Что же касается "шотландской легенды", то о ней я в детстве слышала. Не подтвержденная никакими официальными документами, "шотландская легенда" существовала в семье Николая Ильича (отца путешественника. — Д. Т.) в таком виде: как известно, в польской армии, боровшейся с Богданом Хмельницким, были отряды наемной шотландской пехоты. Шотландец, по имени Микаэль Маклай, был тяжко ранен и попал в битве при Желтых Водах в плен к казакам. В те "варварские времена" к раненым пленникам относились снисходительно. Взявший его в плен казак вылечил Микаэля; у казака была единственная дочка; Микаэль принял православие, женился на дочери своего победителя и из Микаэля превратился в Миклуху. Этот рассказ я слышала неоднократно и от отца и от тетки, вдовы Сергея Николаевича. <…> Конечно, эта легенда не может быть популярной (намек на развернутую властями кампанию борьбы с космополитизмом, «преклонением перед иностранщиной» и т. п. — Д. Т.). <…> Я сообщаю об этом только лично вам, а не для распространения»[144].
Более «политкорректную» версию Серафима Михайловна изложила Н.А. Бутинову, готовившему биографический очерк для собрания сочинений ее дяди. «Слово "Маклай", по словам живущей ныне его внучатой (явная неточность. — Д. Т.) племянницы С.М. Миклухо-Маклай, — писал Бутинов, — происходит, возможно, от "Махлай" — фамилии, которую носил один из предков в разветвленном роде Миклухо»[145]. Эта версия допускает достаточно широкое толкование, а само слово «Махлай» заставляет предполагать скорее казацкий, малороссийский, но отнюдь не шотландский след. «Махлай» можно трактовать, например, как видоизмененную форму слова «малахай» (треух, шапка-ушанка).
Возможно, «шотландская легенда» родилась не в семейном кругу российских потомков инженер-капитана Миклухи, а была привнесена туда извне, из конгломерата легенд, преданий, анекдотов и других фольклорных текстов, возникавших по мере мифологизации образа «белого папуаса».
В письме Преснякову Серафима Михайловна признавала: «Документов, подтверждающих это («шотландскую легенду». — Д. Т.), по-моему, никто из семьи не имел»[146]. Не существует и исторических свидетельств о пленении в сражении при Желтых Водах (1648) шотландского наемника «Микаэля Маклая» и его растворении в казачьей среде. Зато имеются достоверные факты иного рода, уже известные читателям: прадед, дед и отец нашего героя носили фамилию Миклуха. Выйдя замуж, эту фамилию приняла и сохраняла до конца своих дней его мать Екатерина Семеновна, как и ее старший сын Сергей. Другой сын, Владимир, судя по архивным документам, вплоть до своей героической гибели в Цусимском сражении официально именовался Миклухой, хотя со временем стал известен как Миклухо-Маклай. Лишь сестра путешественника Ольга и младший брат Михаил после отправления Николая в экспедицию на Новую Гвинею стали все чаще называть себя Миклухо-Маклаями, хотя, во всяком случае на первых порах, это не было официально санкционировано. Характерно, что из четырех детей Сергея Николаевича Миклухи лишь Дмитрий стал Миклухо-Маклаем, тогда как его братья Сергей и Юрий и сестра Майя до самой смерти сохраняли отцовскую фамилию[147].
Ввиду явной недостоверности или фольклорного характера рассмотренных нами версий происхождения второй части фамилии Миклухо-Маклай определенного внимания заслуживает гипотеза, предложенная в 1998 году Н.А. Бутиновым, много лет изучавшим эту проблематику: Миклуха обнаружил на Канарских островах новый вид губок, назвал его Guancha blапса и по традиции добавил к этому названию сокращенную фамилию первооткрывателя (Mcl); из этих трех букв он составил себе новую фамилию, которую присоединил к исконной[148]. Добавим, что Николай тяготился своей непрестижной казацкой фамилией и худородством своей семьи, с трудом добившейся причисления к потомственному дворянству. Двойные же фамилии были характерны для многих известных дворянских родов (Грумм-Гржимайло, Лаппо-Данилевские, Доливо-Добровольские и др.).
Поселившись в 1865 году в Йене, Николай распускал или во всяком случае не опровергал слухи о своем княжеском достоинстве. Херберт Вотте, немецкий биограф Миклухо-Маклая, считает, что юноша старался таким образом сохранить уважение студентов и обывателей Йены: заношенный донельзя сюртук и другие признаки крайней бедности они воспринимали как блажь богача-аристократа. Но, оказывается, Николай не раскрыл мистификации и перед своим учителем Э. Геккелем, так как профессор в письмах родителям называл его в 1866 году «русским князем» и «князем из Киева»[149]. Мы не знаем и едва ли когда-нибудь узнаем, как объяснил Николай Геккелю внезапное «удвоение» своей фамилии. Но если в мае 1867 года, сразу по возвращении из экспедиции, Геккель все еще именовал своего ассистента Миклухой, то уже через несколько месяцев в статье о поездке на Канары, опубликованной в том же номере журнала, где появилась первая статья Николая, профессор написал, что его сопровождал «студент-медик Николай Миклухо-Маклай»[150].
На этом не заканчивается история с изменением фамилии Миклухо-Маклая. Став видным путешественником и исследователем, Николай вдали от родины нередко предпочитал пользоваться только второй частью своей фамилии, звучащей «по-английски». Более того, с 1874 года бывший «князь» стал известен за рубежами России, особенно в Британской империи, как «барон Маклай». Д.Н. Анучин, который в отличие от большинства биографов Миклухо-Маклая стремился сохранять объективность, снисходительно отнесся к этой «слабости» нашего героя, указав, что «в этом отношении Н.Н. представлял аналогию со знаменитым ученым и путешественником А. фон Гумбольдтом, которому также, еще со времени путешествия в Америку, придавали нередко титул барона, хотя в действительности он им никогда не был»[151]. Можно понять снисходительность мудрого и многоопытного Дмитрия Николаевича. В жестко стратифицированном британском обществе, с четко выраженными сословными предрассудками и привилегиями, титул барона не просто удовлетворял тщеславие Миклухо-Маклая, а помогал ему добиваться своих целей — не личной выгоды, а исполнения благородных научных и общественных замыслов.
Врач без диплома
К лету 1868 года Николай завершил обучение на медицинском факультете Йенского университета, прослушав три последних обязательных курса лекций — «Растения-паразиты у человека», «Учение о лекарственных средствах», «Специальная патология и терапия». В те годы в Германии студенты-выпускники медицинских факультетов должны были сдавать государственные экзамены для получения диплома врача. Миклухо-Маклай решил не тратить время и силы на подготовку к этим экзаменам, так как не собирался быть практикующим врачом, а медицинские познания могли пригодиться и без диплома во время дальних экспедиций, о которых он все более настойчиво мечтал.
Продолжая ассистировать Геккелю, Николай в то же время углубился в разработку двух больших проблем — морфологии и систематики губок и эволюции нервной системы животных, от древнейших рыб до млекопитающих. Летом 1868 года в «Йенском журнале медицины и естествознания» появилась его вторая публикация — статья «Материалы к познанию губок», в которой молодой автор рассказал о новом их виде, обнаруженном им в Арресифе[152]. Открытие Николая прочно вошло в науку. Согласно принятой в настоящее время классификации известковых губок вид Guancha blanca относится к роду Clathrina и именуется Clathrina blanca Mel. Нужно, однако, учитывать, что Миклухо-Маклай выделил в статье четыре сильно отличающиеся друг от друга формы этой губки. Лишь одну из них последующие исследователи отнесли к данному виду, тогда как другие — как заявил уже в 1870 году Э. Геккель — следует рассматривать в качестве самостоятельных родов.
В июле 1868 года Николай завершил и принес в редакцию того же журнала свою третью статью — «К сравнительной анатомии мозга (Предварительное сообщение)»[153]. В ней он не только использовал собственные полевые материалы по мозгу акул, но и подверг критическому анализу концепции ведущих сравнительных анатомов того времени, включая идеи петербургского академика К.М. Бэра. 22-летний исследователь смело выступил против наиболее распространенного тогда истолкования морфологического значения отделов мозга различных позвоночных. Влияние Геккеля проявилось в статье в том, что Николай воспринял его метод «мозгового штурма». Работа изобилует широкими теоретическими обобщениями и смелыми, порой скоропалительными гипотезами. Некоторые ведущие сравнительные анатомы, в том числе Гегенбаур и Бэр, вначале с симпатией отнеслись к новаторской высокоинтеллектуальной статье начинающего ученого, но ее основные положения — как о значении различных отделов мозга, так и его версия теории дифференциации — не удержались в науке.
Между тем Эрнст Геккель решил опубликовать более популярное изложение своих идей, впервые сформулированных в 1866 году в трудночитаемом двухтомном труде «Общая морфология организмов». На протяжении зимнего семестра профессор прочитал в переполненной университетской аудитории расширенный курс лекций о дарвиновской теории. В январе 1868 года он сообщил Хаксли, что на лекциях регулярно присутствуют до двухсот человек, четверть из которых — теологи[154]. По поручению Геккеля два студента стенографировали его лекции. Эти стенограммы были положены «йенским еретиком» в основу книги «Естественная история миротворения», опубликованной в Берлине осенью 1868 года. Книга неоднократно переиздавалась — с уточнениями и дополнениями — в Германии, была переведена на многие европейские языки и принесла автору поистине мировую известность. Как и предполагал Геккель, «Естественная история миротворения» привлекла внимание не только ученых разных специальностей, но и широкой публики, особенно молодежи.
Всегда нуждаясь в деньгах, Миклухо-Маклай еще до выхода в свет первого немецкого издания книги Геккеля вознамерился перевести ее на русский язык и запросил своего школьного приятеля Василия Суфщинского, найдется ли в России издатель, готовый уплатить вознаграждение за перевод. Само письмо Николая не сохранилось, зато известен ответ, датированный 28 апреля 1868 года. Суфщинский сообщил, что издатель отыщется, и попросил прислать на пробу перевод одного из разделов книги[155].
В 1938 году, когда в нашей стране широко отмечали пятидесятилетие со дня смерти «белого папуаса», его племянница Серафима Михайловна передала в архив Географического общества реликвию, которая долгие годы хранилась в ее семье, — пробный перевод, присланный дядей из Иены. И вот перед нами 11 страниц, исписанных убористым, легкоузнаваемым почерком Миклухо-Маклая. Николай выбрал для перевода начало «Первого чтения» (первой главы) книги, где Геккель сформулировал основное содержание и значение дарвиновского учения и изложил свои мировоззренческие позиции. Приведем несколько отрывков из этого перевода.
«Истинное познание самых общих законов природы, высочайшее торжество человеческого ума должно не оставаться частною собственностью привилегированной ученой касты, но стать общим достоянием всего человечества. <…> Необходимо выводить происхождение человеческого рода сперва от обезьянообразных млекопитающих, а далее от низших позвоночных животных. <…> Естествознание считает материю вечною и неувядаемою. <…> Представление о нематериальной силе, творящей материю, будет членом веры, не имеющим ничего общего с человеческою наукою. Где начало веры, там конец знанию. Обе эти деятельности человеческого духа надобно резко отделять друг от друга. Происхождение веры коренится в поэтической силе воображения, знание же, напротив, — в познающем разуме человека»[156].
Полагаю, что Миклухо-Маклаю были близки и понятны мысли, которые содержатся в этом тексте. Его сравнение с немецким оригиналом показывает, что Николай достаточно точно передал содержание, хотя стиль местами неряшлив. Неизвестно, как был принят пробный перевод в Петербурге — скорее всего, ответ был благоприятный. Но молодой ученый едва ли всерьез взялся бы за такую кропотливую, требующую затраты уймы времени работу, как перевод шестисотстраничной книги: к лету 1868 года, говоря словами поэта, «им овладело беспокойство, охота к перемене мест».
Импульсивный, устремленный в будущее, порой распылявший свои силы работой сразу в нескольких отраслях знаний, Миклухо-Маклай, как увидит читатель, не всегда доводил до конца свои начинания. Но в данном случае вышло к лучшему, что он не «впрягся» в перевод: книга Геккеля «Естественная история миротворения» была неприемлема для российских властей. В 1873 году ее русский перевод, выполненный А. Гердом и напечатанный в типографии В. Демакова, был уничтожен «за колебание основ религии» по представлению Главного управления по делам печати, утвержденному Комитетом министров. В отличие от других сочинений Геккеля «Естественная история миротворения» смогла появиться в переводе на русский язык лишь в 1908 — 1909 годах.
В апреле 1868 года Миклухо-Маклай посетил Готу, расположенную вблизи от Йены. В этом городе находилось знаменитое картографическое предприятие Пертеса, которое не только выпускало карты и атласы, но и издавало географический журнал, известный во всем мире по фамилии своего редактора Аугуста Петермана. В журнале публиковались статьи и обзоры, а также обильная информация о только что проведенных, продолжающихся и находившихся в стадии подготовки экспедициях во все регионы земного шара. Петерман — видный географ и картограф, не путешествуя сам, выступал в роли организатора и вдохновителя многих, преимущественно немецких научных экспедиций. Познакомившись с высокочтимым редактором, Николай попросил рассказать ему о перспективных направлениях географических исследований и наименее изученных регионах мира, где возможны крупные открытия.
В Йене возвращения Николая с нетерпением ожидал Александр Мещерский. «Я на днях — не сегодня, так завтра — жду сюда Миклуху, — писал он матери 26 апреля 1868 года, — и для меня приезд его будет большим праздником, потому что, откровенно говоря, я этого человека люблю больше всех на свете»[157]. Друзья снова поселились вместе, в доме Бёме при кирпичном заводе, затем переехали в более дешевое жилище — в дом Вернера в предместье Камсдорф.
Личный архив А. Мещерского, лишь недавно ставший доступным исследователям[158], позволяет составить о нем значительно более полное представление, чем то, которое сложилось у биографов нашего героя главным образом по письмам Миклухо-Маклая. Александр получил прекрасное домашнее образование, хорошо знал отечественную и зарубежную художественную литературу, увлекался концертами, оперными спектаклями (и оперными певицами), регулярно выписывал ноты с новыми произведениями известных композиторов того времени, часами музицировал на фортепьяно. Не чуждый светских условностей, молодой князь вместе с тем ценил дружбу с интересными, незаурядными людьми и готов был протянуть им руку помощи. Нерешительность, граничащая с безволием, неумелость в житейских делах уживались в нем со склонностью к авантюрам. Мария Валериановна, мать Александра, писала ему в 1868 году: «Не может не быть грустна твоя совершенная бесхарактерность, а в последнее время даже и непрямота»[159].
Как мы уже упоминали, революционный настрой исчез у Мещерского после 1863 года. Мать неоднократно призывала его вернуться в Россию, чтобы завершить там высшее образование, подчеркивая, что ему больше не грозят преследования. Но сын всячески оттягивал возвращение, предпочитая полубогемную студенческую жизнь в Германии, хотя ему порой приходилось несладко из-за нерегулярных денежных поступлений от живших врозь родителей.
Получив деньги от дяди, крупного государственного чиновника, Александр по окончании летнего семестра 1867 года отправился в путешествие по Европе. Он посетил Париж, побывал в Бельгии и Голландии, проехал на пароходе вверх по Рейну через всю Германию до Швейцарии, откуда предполагал вернуться в Йену. Но вместо этого — как-то неожиданно для самого себя — перебрался через горы в Италию и почти на полгода застрял во Флоренции. Объясняя матери причины своей «флорентийской зимовки», Александр писал, что изучает итальянский язык, знакомится с памятниками архитектуры, посещает «русские кружки разного свойства»[160]. Но подлинная причина была иной: он познакомился с Наталией (Татой) Герцен — дочерью писателя, 23-летней умницей и красавицей, которая жила во Флоренции в принадлежавшей ее семье «Вилле Герцен». Во время дальних прогулок Александр обсуждал с Татой интересующие ее политические и научные проблемы, рассказывал о своей жизни, особенно выделяя кратковременное заключение в Петропавловской крепости. Между молодыми людьми возникла симпатия, переросшая в серьезное чувство. Мещерский пропустил зимний семестр 1867/68 года. Уезжая в Йену к началу очередного летнего семестра, он загадочно и неопределенно говорил Тате об ожидающем их будущем.
Встретившись в Йене после восьмимесячной разлуки, во время которой они обменивались лишь короткими записками, друзья откровенно рассказали друг другу о своих чаяниях: Александр — о глубоком чувстве к Наталии Герцен, которое он скрывает от своих консервативно настроенных родителей, Николай — о желании расстаться с Йеной и отправиться при первой же возможности в научную экспедицию в неизведанные районы земного шара. К этому времени у Николая уже появилась привычка многократно повторять на полях своих рукописей и корректурах статей некие ключевые слова или важные для него имена. В бумагах, относящихся к весне и лету 1868 года, наряду с отработкой разных вариантов подписей «Миклухо-Маклай», «N. de Maclay» и «N.M. Maclay» встречается риторический вопрос «Куда?», написанный то «под готику», то славянской вязью чернилами, тушью и акварельными красками[161]. Действительно, этот вопрос был тогда ключевым для Миклухо-Маклая.
Николаю была знакома история изучения Арктики, овеянная суровой романтикой и включавшая немало трагических страниц — вынужденных зимовок, гибели отдельных путешественников и целых экспедиций. Когда Петерман в Готе рассказал ему о подготовке первой немецкой полярной экспедиции, Миклухо-Маклай решил: «Вот мое призвание!» — и принялся уговаривать почтенного географа включить его в состав участников этого плавания. Но Петерман остудил пыл молодого ученого: мореходы отправляются на маленьком парусном судне, на котором не найдется места для русского зоолога[162].
Однако Николай не отказался от внезапно вспыхнувшего желания связать свою судьбу с Арктикой, так как романтика подвига уже свила гнездо в его сознании. Из сообщений газет и информации в журнале, выпускаемом Петерманом, он узнал, что известный полярный исследователь Адольф Эрик Норденшельд готовит новую экспедицию, на сей раз на пароходе «София», предоставленном в его распоряжение шведским правительством, и собирается взять с собой восемь ученых разных специальностей. Миклухо-Маклай написал Норденшельду письмо с просьбой принять его на борт «Софии» в качестве специалиста по морской фауне. Текст письма нам неизвестен, но ответ сохранился в бумагах Миклухо-Маклая. «Мне очень приятно узнать, с каким интересом было встречено Вами наше предприятие, — писал Норденшельд 11 июня 1868 года, — но, к сожалению, штат нашей экспедиции уже укомплектован. <…> Поэтому я не имею чести принять Ваше предложение»[163].
Говорят, что у истории нет сослагательного наклонения. Но если бы Петерман или Норденшельд положительно откликнулись на просьбу Миклухо-Маклая, он, возможно, был бы теперь известен не как этнограф и антрополог, первым начавший стационарное изучение коренного населения тропических стран, а как ученый-полярник, основавший первую научную станцию за полярным кругом.
Двойная осечка не изменила долговременных устремлений Миклухо-Маклая. Но пока не было возможности отправиться в дальнюю экстремальную экспедицию, он решил продолжить изучение морской фауны в более комфортных условиях — в облюбованной зоологами сицилийской гавани Мессина, где из-за эпидемии холеры ему не удалось поработать вместе с Геккелем в 1866 году. Инициатором этой поездки был один из учеников «йенского еретика» зоолог-дарвинист Антон Дорн (1840 — 1909), который уже имел опыт биологических изысканий в Балтийском и Северном морях. После защиты докторской диссертации о строении и развитии членистоногих Дорн весной 1868 года стал приват-доцентом Йенского университета.
Миклухо-Маклай был готов выехать «из Йены, где мне нечего было делать»[164], уже в середине июля, сразу после сдачи в журнал рукописи статьи «К сравнительной анатомии мозга». Однако у него не было денег не только для поездки в Италию (университет не финансировал эти исследования), но и на уплату долгов, на удовлетворение элементарных жизненных потребностей. От безденежья страдал и Мещерский.
Не получая от матери ответа на свои настоятельные просьбы о присылке денег, Николай отправлял письмо за письмом старшему брату Сергею, умоляя его повлиять на Екатерину Семеновну. «<…> Более недели у меня нет ни гроша, — сообщал он Сергею 24 июля. — Мещерский тоже в том же положении»[165]. «Если надо, напиши еще матери, что пришел последний срок к высылке денег, — писал он брату 15 августа. — Я нахожусь в очень незавидном положении. Постоянно нездоровится, каждый день присылают новые счета, хочу выехать и нет давно ни гроша»[166].
Наконец в конце августа 1868 года Николай получил долгожданный перевод и отправил матери благодарственное письмо: «Спасибо за деньги, благодаря им я выеду на днях из Йены. <…> Почти весь присылаемый капитал я раздам завтра, останется у меня maximum 30 тал., так что я около месяца смогу пробыть вне Йены и где-нибудь, где житье недорогое. <…> Напишите мне, может, я трачу слишком много, живу не по нашим средствам, пожалуйста, напишите! Я такой человек, которому надо много, но который может стеснить свои потребности. Я думаю, что Вы скоро узнаете результаты моих работ и увидите, что я не трачу даром время и деньги (выделено автором письма. — Д. Т.). Зиму я должен быть в Италии, опять Вам новый расход. <…> Но об этом буду писать подробнее»[167].
Миклухо-Маклай едва ли знал общий размер своей задолженности, а потому не мог судить, хватит ли для ее погашения присланных денег (точная сумма перевода нам неизвестна). К тому же Николай решил оставить себе больше, чем 30 талеров, зная нерегулярность финансовой помощи, поступающей от Екатерины Семеновны. Как предупредил свою мать Александр Мещерский, друзья решили улизнуть из Йены, не расплатившись с кредиторами. По подсчетам студента К.Н. Модзалевского, которому Николай и Александр после отъезда из Йены поручили вести свои финансовые дела, Мещерский остался должен 504 талера (около 450 рублей серебром), а Миклухо-Маклай — 463 талера, из которых половину он задолжал самому Мещерскому. Модзалевский сумел удовлетворить кредиторов после того, как от родителей обоих беглецов поступили деньги для оплаты их долгов.
В конце августа или самом начале сентября Мещерский тайно перебрался на некую «конспиративную квартиру», а затем уехал в Берлин, чтобы прослушать курс статистики в тамошнем университете, а Миклухо-Маклай отправился в Италию.
Полгода в Италии
Антон Дорн мог приехать в Мессинулишь в октябре 1868 года, по окончании летнего семестра в Йенском университете. Поэтому сентябрь Николай посвятил знакомству с Италией. Он посетил местных спонгиологов (специалистов по губкам), в частности Дж. Нардо-старшего, осмотрел естественно-научные коллекции в университетах и музеях. Наука пока что оставалась у него на втором плане. Переезжая из города в город, пока еще не кончились деньги, присланные излому, Миклухо-Маклай знакомился с природными красотами и античными руинами, любовался всемирно известными образцами итальянского зодчества, картинами и скульптурой в художественных галереях. Посмотреть на все это мечтал его отец инженер-капитан Миклуха, который срисовывал памятники культуры из книг, создавал собственные композиции на итальянские темы. Пораженный богатством и разнообразием увиденного, Николай запечатлевал его в своей памяти, но не на бумаге — нам известна лишь пара набросков, сделанных им в Венеции.
«Я очень хорошо использовал этот месяц, — сообщал Миклухо-Маклай Геккелю 2 октября, — провел 10 дней в Венеции, 2 дня во Флоренции, 1/2 дня в Пизе (до этого 21/2 дня в Виченце), 5 дней в Риме, 8 дней в Неаполе. Здесь я обегал довольно много, побывал на <о.> Искья, на <о.> Прочида, в Сорренто, на <о.> Капри, носился вверх и вниз по Везувию. <…> В Венеции я посетил Нардо-старшего. <…> Он уговорил меня отправиться на съезд естествоиспытателей в Виченцу, куда я действительно поехал и где познакомился со многими людьми. О науке говорилось немного. Зато мы совершили довольно прелестные экскурсии по окрестностям, посещали различные виллы, нас встречали музыкой и т. д.; кроме того, мы имели свободный доступ в театр»[168].
2 октября Миклухо-Маклай перебрался из Неаполя в Мессину, расположенную на северной оконечности Сицилии. Хорошо отдохнув и набравшись впечатлений, молодой ученый снял комнату в третьеразрядном отеле и с радостью принялся за работу. Он часами бродил во время отлива по обнажившемуся морскому дну, собирая среди камней и расщелин маленьких морских губок, и приносил их в стеклянном сосуде в свою не приспособленную для научных исследований комнату. Добыча была довольно скудной, но Николай обнаружил, как ему показалось, новый вид известковых губок и назвал его в честь своего йенского учителя Astrospongia Heckeli.
В середине октября в Мессину прибыл Антон Дорн. В отличие от Миклухо-Маклая он происходил из состоятельной семьи, не испытывал недостатка средств и потому снял две большие комнаты в старинном дворце палаццо Витале, расположенном на набережной. Увидев, в каких стесненных условиях находится его коллега, Дорн пригласил Миклухо-Маклая переселиться к нему во дворец. Николай принял это предложение, так как ему нравился Дорн — человек творчески одаренный, увлекавшийся музыкой и театром, притом свободомыслящий, называвший себя «безудержным и беспощадным республиканцем»[170]. Дорн, в свою очередь, благоволил к Миклухо-Маклаю, хотя не одобрял его юношескую нетерпимость. «Мой русский товарищ, — писал он друзьям 17 октября 1868 года, — отнюдь не плох, но он развит не по летам, будучи двадцати одного года от роду (на самом деле двадцати трех. — Д. Т.), как и другие люди в прошлом, очень категоричен, очень скор в суждениях. <…> Не смейтесь надо мною, что я критикую те самые недостатки, от которых сам едва избавился»[171].
Зоологи оборудовали в одной из комнат подобие лаборатории и начали интенсивные исследования, причем Дорн занимался излюбленными им ракообразными, а Миклухо-Маклай вел изыскания по двум избранным ранее направлениям — морфологии и систематике морских губок и сравнительной анатомии мозга рыб. Прослышав, что «синьоре руссо э пруссиано» изучают рыб, раков и других обитателей моря, местные рыбаки стали приносить на продажу множество нужных и ненужных зоологам морских животных. Однако выбор был невелик и не мог удовлетворить исследователей, а в штормовую погоду поступление нового материала вообще прекращалось. К тому же Дорн и Миклухо-Маклай все более ясно сознавали, что недостаточно фиксировать, высушивать или препарировать полученный материал с целью его более глубокого изучения в университетских и иных лабораториях: для прогресса зоологической науки необходимы длительные наблюдения за живыми организмами в среде их обитания.
Дорн попытался частично решить эту проблему. По его чертежам был изготовлен большой аквариум с проточной морской водой, который установили в комнате, превращенной в лабораторию. Вскоре Дорн сумел найти ответ на вопрос, вызывавший разногласия среди зоологов: создав в аквариуме условия, близкие к естественным, он проследил в нем процесс возникновения лангуст из личинок — маленьких прозрачных плоских рачков.
Этот успех заставил Дорна и Миклухо-Маклая задуматься о новых формах организации исследований. Они пришли к выводу о необходимости создания зоологических (морских биологических) станций, желательно с аквариумами, на берегах Средиземного, а затем и других морей для наблюдения за морскими организмами в среде их обитания и углубленного изучения на месте собранных материалов.
В дальнейшем друзья по-разному подошли к выполнению этой задачи. Дорн — человек более практичный, приземленный и целеустремленный, чем его русский коллега, — основал в 1873 году зоологическую станцию в Неаполе. На первом этаже ее нарядного, похожего на дворец здания разместился большой морской аквариум, привлекавший тысячи туристов; плата за осмотр стала одним из основных источников финансирования станции. На втором этаже находились рабочие кабинеты и лаборатории[172].
Миклухо-Маклай — мечтатель, устремленный в будущее, путешественник, который, по его собственным словам, на протяжении многих лет вел «кочевой образ жизни», — ограничивался в основном призывами основывать морские биологические станции в России и других странах мира. Две его попытки начать создание такой станции в Юго-Восточной Азии были предприняты как бы экспромтом, попутно с проведением других исследований, имели сомнительные юридические и финансовые основания и окончились неудачей. Как мы увидим, лишь в 1881 году Миклухо-Маклай смог осуществить свой замысел, основав морскую биологическую станцию в окрестностях Сиднея.
Николай препарировал и исследовал в Мессине мозг химеры — хрящевой рыбы, относящейся, как и акулы, к подклассу селахий. Свои соображения о строении мозга химеры он сообщил письмом Гегенбауру. Известного анатома настолько заинтересовали эти соображения, что он поместил их в виде краткого сообщения в «Йенском журнале медицины и естествознания»[173]. Так у молодого ученого появилась четвертая публикация.
В Мессине Миклухо-Маклай познакомился с соотечественником, в биографии которого отразились некоторые существенные черты российской истории второй половины XIX века. Егор Иванович Барановский (1821-1914) достиг высоких ступеней в чиновной иерархии, имел чин тайного советника, был саратовским губернатором. В знак протеста против жестокого подавления Польского восстания 1863 года Барановский подал в отставку и уехал с семьей за границу. Такой шаг был вызван, по крайней мере отчасти, тем обстоятельством, что его мать и жена были польками. В Мессине Егор Иванович являлся представителем русской судоходной компании — Общества пароходства и торговли. Барановские радушно приняли Николая, который разделял их взгляды по польскому вопросу, имел бабушку-польку и много друзей среди поляков. Миклухо-Маклай ввел в дом Барановских Антона Дорна. Молодой немец понравился этому семейству своим свободомыслием, учтивостью, веселым нравом, увлеченностью музыкой и театром. В 1874 году Мария, старшая дочь Егора Ивановича, вышла замуж за Дорна. Мы еще встретимся с Е. И. Барановским в тех главах книги, где говорится о пребывании Миклухо-Маклая в России.
Для развлечения и отдыха Дорн и Миклухо-Маклай совершали экскурсии по северной части Сицилии. В нескольких часах езды от Мессины находится Этна — самый высокий вулкан Европы (3340 метров над уровнем моря). 7 января 1869 года друзья решили взобраться на ее вершину. Если для Антона это было просто интересное приключение, то для Николая покорение Этны имело символическое значение: он не забыл неудачного восхождения на Пико де Тейде, которое нанесло сильный удар по его самолюбию, и хотел реабилитировать себя в своих собственных глазах. Между тем время года для восхождения на Этну было столь же неблагоприятно, как тогда на Тенерифе. В разгар зимы вершина и прилегающие к ней части склонов были покрыты снегом и льдом. Проводники отказывались сопровождать двух неопытных молодых людей, не имевших даже простейшего альпинистского снаряжения, и тогда друзья с присущей им самоуверенностью решили совершить восхождение самостоятельно. Поначалу подъем происходил успешно, и они почти достигли верхнего плато, откуда до вершины (жерла вулкана) оставалось не более 300 метров. Но Николаю и Антону надоело взбираться по лавовым полям, и они решили сократить свой путь, вскарабкавшись по крутому заснеженному скалистому склону. Тут произошло несчастье. Антон поскользнулся и скатился на несколько десятков метров вниз по ледяному, усеянному скалистыми выступами полю. Он отделался сравнительно легко — получил многочисленные ссадины и ушибы, в том числе лица. Спустившись к товарищу и осмотрев его, Николай уговорил пострадавшего подняться на ноги и, бережно поддерживая его, помог добраться до подножия вулкана. Здесь Дорну оказали первую помощь и в экипаже отвезли на железнодорожную станцию. Лечение, занявшее несколько недель, происходило вне Мессины, о чем свидетельствует письмо Дорну, отправленное Миклухо-Маклаем из этого города. В письме, в частности, говорилось, что Николай отчаянно мерзнет в неотапливаемых апартаментах палаццо Витале и почти не получает материал для исследований. «Добыча ничтожна, — жаловался Миклухо-Маклай в январе 1869 года, — совсем ничего не приносят»[174].
Между тем в европейских газетах и журналах появилось множество статей и корреспонденции о подготовке к открытию Суэцкого канала. Этот канал протяженностью в 161 километр, соединив Средиземное и Красное моря, сократил почти на месяц — при тогдашней скорости пароходов — путь из Западной Европы в Южную и Юго-Восточную Азию. Сооружение канала продолжалось десять лет и стоило жизни многим тысячам египетских крестьян-феллахов, которых власти принуждали участвовать в этой огромной стройке, но самому Египту принесло не благосостояние, а усиление зависимости от англофранцузского капитала. Как сообщали газеты, строительные работы были завершены в марте 1869 года, а торжественное открытие канала ожидалось в ноябре того же года.
Сообщения о завершении строительства Суэцкого канала не укрылись от внимания Миклухо-Маклая. Морская фауна Красного моря — в частности, губки — оставалась в то время очень слабоизученной, и молодой ученый вознамерился один безотлагательно предпринять «научную экскурсию» на Красное море, чтобы изучить его животный мир до того, как он начнет подвергаться воздействию средиземноморской фауны[175]. Впрочем, не одни лишь губки и другие низшие морские животные влекли Николая на берега Красного моря; другим стимулом к этому путешествию была проснувшаяся в нем страсть к опасным предприятиям. Конечно, это была не та большая экспедиция в незнаемое, которой грезил наш герой, но здесь, в экстремальных условиях, он мог испытать свою выносливость и силу воли, а исследование будет вкладом в науку и, возможно, принесет ему известность в ученом мире.
Миклухо-Маклай собирался выехать из Мессины в Египет уже в феврале 1869 года, но мешало полное отсутствие денег, которые ему, как школьнику, приходилось выпрашивать у матери. Зная отрицательное отношение Екатерины Семеновны к его ученым занятиям, Николай снова попытался заручиться поддержкой старшего брата. «Я опять прошу мать о деньгах, — писал он Сергею в начале января, — не более, чем я уже писал, но только о высылке их сразу к концу января. Я не очень доволен фауной Мессины и хочу для некоторых исследований перебраться к Красному морю. <…> Мне надо около 500 руб. (minimum). Если бы поездка была бы только фантазия туриста, то я бы не заикнулся об деньгах, но я знаю, что я там должен найти объекты, которые очень важны для моих исследований»[176]. Не получив ответа, Николай через три недели снова послал Сергею письмо с просьбой повлиять на мать. «Поездка моя очень важна для моих исследований, — писал он, — и поэтому прошу тебя очень помочь, чем и как можешь, чтобы она состоялась бы»[177].
Наконец в начале марта Екатерина Семеновна прислала сыну деньги, но не 500, а 300 рублей (тысячу франков). «Конечно, при последней присылке, — сообщил он 6 марта Мещерскому, — не обошлось без негодования на мои занятия, которые стоят деньги, портят глаза и не приносят никому пользы. Но все же спасибо матери, что прислала столько, что можно рискнуть — что я и сделаю»[178]. Поблагодарив Екатерину Семеновну за полученные деньги и предупредив, что их не хватит на задуманную поездку, Николай с достоинством ответил на ее нотации: «Я убежден, что докажу когда-нибудь Вам, что Вы очень ошибаетесь, считая мои работы бесполезными; доказывать словами не буду»[179].
Простившись с Дорном, Миклухо-Маклай 12 марта 1869 года выехал пароходом из Мессины в египетский порт Александрию.
«Научная экскурсия» на Красное море
Прибыв в середине марта в Александрию, Миклухо-Маклай выехал в египетскую столицу, где задержался на несколько дней. Похоже, только в Каире, из разговоров с живущими там европейцами, он полностью осознал, сколь трудным и рискованным будет задуманное им предприятие.
«Я уже около недели или более в Египте, — писал он Сергею из Каира 21 марта. — Завтра еду в Суэц, а оттуда в Джедду (на Аравийском берегу), где останусь недели 2, оттуда отправлюсь в Суакин, что далее будет — не знаю. Путешествие не совсем безопасно. В Джедду (правильнее: Джидду. — Д. Т.) наезжает тьма арабов, отправляясь в Мекку (2 дня от Джедды). В это время они особенно фанатичны и, кроме того, приезжают из таких стран, которые обыкновенно не имеют и не терпят сношений с европейцами.
Другие две мои станции, Суакин и Массауа (на африканском берегу. — Д. Т.) отличаются страшною жарою (Массауа — самый жаркий город вообще) и нездоровым, особенно для новоприезжих, климатом <…> с прибавкой скверных и неверных путей сообщения, с моим незнанием арабского языка <…> все это делает мою экскурсию в высшей степени зависимой от случая (даже не рационального)». Поэтому Николай просил брата деликатно подготовить мать к тому, что с ним всякое может произойти[180].
По-видимому, Миклухо-Маклай заранее не знал, что неудачно выбрал время для посещения Джидцы: оно пришлось на месяц зу-л-хиджжа по мусульманскому календарю, когда совершается паломничество (большой хадж) и через этот порт в Мекку устремляются сотни тысяч паломников; в 1869 году зу-л-хиджжа пришелся на период с 15 марта по 13 апреля. В надежде обеспечить свою безопасность, наш герой выучил несколько арабских выражений, обрядился в белый арабский плащ с капюшоном, до блеска обрил голову, вымазал лицо коричневой краской, для вида исполнял мусульманские религиозные обряды[181]. Но эта наивная маскировка скорее создавала для него дополнительную угрозу, так как не могла не вызвать подозрительности у мусульман. Как отмечали европейские путешественники, «в Аравии гораздо доброжелательнее принимали тех, кто прямо заявлял о своем христианстве, чем тех, кто выдавал себя за мусульманина, притом неумело»[182]. И действительно, по крайней мере в одном случае — на египетском пароходе, переполненном паломниками, — романтический маскарад едва не стоил Николаю жизни.
«Один из спутников, — сообщает его брат Михаил, вспоминая, очевидно, устный рассказ самого путешественника, — узнав, что брат не мусульманин, стал проповедовать, что его присутствие оскверняет их святое паломничество, что его надо выкинуть вон с парохода; положение становилось критическим. Тогда брат обратился к капитану, который дал ему несколько матросов, которые были мусульманами. Брат, улучив момент, скинул агитатора в трюм и приказал закрыть его. Энергичное действие подействовало на остальных и возбуждение улеглось. Брат спустился к агитатору; оказалось, что он поломал при падении руку. Брат положил ему руку в лубки — и подружился с ним»[183].
Как видим, Миклухо-Маклая спасли выдержка и решительность в чрезвычайной ситуации, сопряженные с доброжелательным отношением к «туземцам», — черты характера, которые будут еще не раз выручать ученого во время его путешествий.
22 марта Миклухо-Маклай выехал из Каира к трассе Суэцкого канала и, продвигаясь на юг вдоль его берегов, прибыл в город Суэц, расположенный у выхода канала в Красное море. «Температура в полдень временами совсем ужасающая, — жаловался он Дорну. — <…> Несколько дней у нас хамсин (нечто вроде сирокко); этот ветер очень неприятен, в 10 шагах от пыли ничего не видно; устаешь, болит голова <…> из-за постоянного напряжения непривычных к этому глаз впадаешь в странное состояние, мысли исчезают из головы, чувствуешь себя ужасно усталым и ни о чем не хочется думать <…> 5 дней тому назад я почувствовал легкий приступ лихорадки, третьего дня и сегодня тоже — потеха начинается!»[184] Так Миклухо-Маклай заболел малярией. Учитывая инкубационный период болезни, можно предполагать, что он заразился еще на острове Сицилия, где в XIX веке малярия была широко распространена. В том же письме Николай сообщил, что у него уже кончаются деньги, и попросил выслать ему в Джидду 400 — 500 франков. Малярия — как и столь же хроническое безденежье — стала неразлучной спутницей путешественника на всю его оставшуюся жизнь.
На «мерзейшем», по выражению путешественника, египетском пароходе Миклухо-Маклай прибыл в начале апреля в Джидду, где оставался 18 дней. Город был переполнен паломниками, но бурлящий людской поток обтекал квартал добротных домов, где находились консульства, а также конторы и жилища богатых европейских и египетских купцов. В Джидде проявилось еще одно свойство Миклухо-Маклая, которое получило развитие в его дальнейших экспедициях, — в трудных условиях быстро знакомиться и завоевывать симпатии «добрых людей», которые, как писал сестре Николай, «готовы и за честь считают помочь ученому»[185]. Зажиточный французский негоциант пригласил поселиться в своем доме несколько странного молодого европейца в арабском одеянии, который готов был рисковать жизнью и здоровьем ради изучения каких-то морских тварей. Обретя, как он сообщил сестре, комфортабельное пристанище и получив денежный перевод от Дорна, Миклухо-Маклай смог приступить к своим исследованиям.
По утрам он нанимал парусную плоскодонку с лодочником и двумя ныряльщиками, обычно занимавшимися сбором жемчужных раковин, и отправлялся на коралловые рифы, которые тянулись параллельно берегу примерно в двух-трех километрах от гавани. «Великолепная вещь — коралловый риф, и лов здесь в высшей степени удобен», — сообщал он Дорну[186]. Поочередно ныряя, «живые машины» быстро доставляли в плоскодонку большие куски кораллов, облепленные губками и другими простейшими организмами, так что ученый едва успевал осмотреть добычу и поместить нужные ему образцы в стеклянные сосуды с морской водой. Вечерами в комнате, предоставленной негоциантом, Миклухо-Маклай консервировал и препарировал собранный материал, делал краткие записи. Исследователь работал с полной самоотдачей, ценой напряжения всех сил организма, несмотря на изнуряющий зной и регулярно повторявшиеся приступы малярии.
Из Джидды Миклухо-Маклай отправился на две другие намеченные им «станции» — Массауа и Суакин, посетив по пути несколько островов. Условия для работы здесь оказались еще более трудными, чем в Джидде. В Суакине ученый пользовался гостеприимством губернатора, «очень любезного египетского бея»[187], но чаще ему приходилось ночевать в убогих хижинах или под открытым небом. «Я принужден был проводить ночи под открытым небом с арабами, — писал он Дорну, — и очень часто страдал от голода, да еще лихорадка (малярия. — Д. Т.) и очень сильный конъюнктивит, температура ночью около 35°С (Суакин), насекомые, невозможно отдохнуть»[188]. Но именно в Суакине и Массауа Миклухо-Маклаю удалось за несколько дней обнаружить с помощью ныряльщиков несколько интересных разновидностей морских губок.
В конце апреля ученый вернулся в Джидду — истощенный, больной, без копейки денег. Все тот же сердобольный французский негоциант «одолжил» Николаю 200 франков, чтобы он мог добраться до Суэца, куда наш герой прибыл на пароходе, переполненном паломниками, возвращавшимися из Мекки. Здесь, вблизи от Суэца, Миклухо-Маклаю пришлось выдержать пятидневный карантин, во время которого он писал письма родным, друзьям и Геккелю и подводил первые итоги своей «научной экскурсии» на Красное море. «Мое путешествие в научном отношении удалось, — сообщал Николай сестре, — но я никак не ожидал всех трудностей и неудобств, которые пришлось встретить как необходимые аксессуары интересных исследований»[189].
Как уже упоминалось, Миклухо-Маклай задумал эту поездку главным образом для изучения красноморской фауны губок накануне соединения Красного и Средиземного морей. Экстремальные условия негативно повлияли на продолжительность и результативность проведенных работ. Однако путешественник все же сумел собрать интересную коллекцию роговых, кремневых и известковых губок, которая по сей день бережно хранится в Зоологическом музее Российской академии наук в Петербурге. Миклухо-Маклай считал, что ему удалось обнаружить во время этой экспедиции девять новых видов губок, но оставленные им описания настолько кратки, что их едва ли можно считать диагнозами. Современные ученые-спонгиологи не в состоянии установить, какие виды красноморских губок были действительно впервые описаны Миклухо-Маклаем.
Впрочем, Николай занимался на Красном море не только изучением губок. Молодой ученый, получивший медико-биологическое образование и специализировавшийся на проблемах зоологии и сравнительной анатомии, продемонстрировал необычайно широкий научный кругозор, сумев — несмотря на трудности и непродолжительность поездки — сделать интересные наблюдения физико-географического и страноведческого характера. Так, он провел измерения температуры морской воды на рифах между Суакимом и Массауа, пришел к выводу о недавнем и еще продолжавшемся поднятии обоих берегов Красного моря, дал краткую характеристику его важнейших портов и путей сообщения между ними. Но еще важнее было то, что в круг научных интересов Миклухо-Маклая прочно вошли условия жизни, культура и антропологический состав местного населения. Не случайно в протокольном отчете о его докладе, сделанном в РГО в сентябре 1869 года, отмечается, что к краткому очерку Красного моря и его берегов ученый прибавил «несколько любопытных замечаний касательно этнографии этой местности»[190].
Интерес к образу жизни и культуре неевропейских народов возник у Николая еще в 1867 году, когда, возвращаясь в Европу с Канарских островов, он посетил вместе с Германом Фолем столицу султаната Марокко. Теперь, по-прежнему считая своей главной задачей добычу и первичное изучение губок, ученый не упускал возможности поближе познакомиться с культурой и бытом арабов и других народов, населяющих берега Красного моря. Возможно, интерес Миклухо-Маклая к этнографической проблематике был подогрет пребыванием в Джидде, переполненной паломниками. «Джедда — один из самых оригинальных восточных городов, — подчеркивал он в докладе, сделанном в РГО, — в нем в одно время можно встретить всех представителей ислама, с особенностями их физиономий, костюмов, языка и обычаев. <…> Среди этого города можно встретить рядом жителя Индии и Марокко, Стамбула и Судана, Персии и Алжира; татарин с берегов Волги творит намаз с новообращенным негром с берегов озера Чад»[191].
Миклухо-Маклай не ограничился фиксацией этих наблюдений. Максималист по складу характера, склонный в те годы к самым широким обобщениям, он попытался вскрыть причины экономической и культурной отсталости местного населения. Она объяснялась, по его мнению, неблагоприятными климатическими условиями (преувеличение роли географического фактора было широко распространено в науке того времени) и негативным влиянием ислама, который «приучает смотреть на все, как на предопределенное свыше и изменить которое человек не в силах»[192]. Миклухо-Маклай забыл или не принял во внимание, что фатализм присущ не только исламу, но в той или иной мере почти всем религиям и их толкам, а потому едва ли правильно усматривать в исламе причину тогдашнего застоя арабской культуры. Свои суждения он почерпнул из разговоров с европейцами в Египте и красноморских портах, а также из книг нескольких европейских путешественников — тех, кто, как он признал в докладе, сделанном в РГО, «опирается в своих заключениях на незначительное количество дурно проверенных фактов и часто натягивает эти факты для доказательства каких-нибудь предвзятых идей»[193].
Но чего не было в этом первом, явно незрелом экскурсе молодого ученого в область этнографии и антропологии, так это расистского, высокомерного отношения к арабам и другим народам этого региона. Наоборот, Миклухо-Маклай подчеркивал, что в иных, более благоприятных климатических условиях арабы «представили ясное доказательство своей способности к умственному и культурному развитию», создав в Средние века в завоеванных ими Испании и Сицилии государства с высокой и богатой культурой[194].
Миклухо-Маклай тяжело переживал недостаточность своих познаний в области географии, этнографии и смежных наук. «Дорогой Дорн, — писал он вскоре после окончания «научной экскурсии» на Красное море, — когда я сейчас еще раз спокойно обдумываю свое путешествие, меня особенно поражает одно: это печальное открытие, которое, однако, ежедневно много раз повторяется и в самом деле становится кошмаром. <…> Это осознание недостаточности своих знаний (я не говорю о зоологии). <…> Мне всегда бросалось в глаза, что знаменитые путешественники (по Африке. — Д. Т.) Ливингстон, Бейкер, Спик, Грант, Рольфе, Маух и т. д. обладали столь незначительным научным образованием и что они так добродушно этого совсем не замечали. <…> Я сожалею об этих хороших людях, но прежде всего о себе самом, как-нибудь надо пытаться себе помочь»[195].
Путешествие на Красное море — важная веха в биографии Миклухо-Маклая. Здесь, в частности, впервые проявились некоторые характерные особенности деятельности будущего выдающегося путешественника: склонность работать в одиночку, предпочтение стационарных методов исследования (в упоминавшемся письме Сергею от 21 марта 1869 года он сообщал о намеченных «станциях»). Начался процесс превращения Миклухо-Маклая в натуралиста широкого профиля, поставившего в центр своих исследований человека и проявления его культуры в рамках географической среды.
Отбыв пятидневный карантин, ученый пересек Суэцкий перешеек и прибыл в Александрию. Здесь «агент Общества пароходства и торговли, некий Пашков» — сослуживец Е. И. Барановского, предоставил нашему герою бесплатный проезд на русском пароходе «Эльбрус» до Константинополя и Одессы. Выйдя 15 мая из Александрии, «Эльбрус» по пути заходил в Бейрут, а затем в Смирну (Измир). Из этой старинной гавани, центра Леванта, Миклухо-Маклай послал очередное письмо Дорну: «Довольно милый город, очень красивые девичьи лица, но некрасивые фигуры. Все время болен — лихорадка меня не оставляет»[196].
Путешественник сообщил родным, что возвращается в Россию и надеется вскоре их увидеть. Но в письме Геккелю, написанном во время прохождения карантина, он более неопределенно изложил свои планы: «Отправляюсь вдоль побережья Малой Азии в Константинополь, а куда дальше — пока не знаю»[197]. Загадочность была не случайной. Еще до отправления на Красное море Миклухо-Маклай узнал, что Петерман готовит вторую немецкую экспедицию в арктические моря. Знойными бессонными ночами, во время приступов малярии в его воспаленном лихорадкой воображении нередко возникало полярное сияние над нагромождениями ледяных торосов. В письме Николая Дорну, написанном из карантина, мы находим такие строки: «Кто отправится в экспедицию к Северному полюсу? Отправимся!»[198]
По прибытии из Суэца в Александрию Миклухо-Маклай сразу же послал письмо маститому географу. «Я прошу как можно скорее ответить, — писал он Петерману, — есть ли у Вас еще одно-единственное место для зоолога на борту какого-либо из судов Северной Полярной экспедиции. Я только вчера вернулся из Суакина, Массауа и Джедды, где находился ради своих работ, и готов немедленно пуститься в путь, чтобы сесть на судно. <…> В прошлый раз Вы мне отказали и не без причины, так как судно было слишком мало; в этот раз у Вас, как говорят, 2 или 3 судна, и зоологу было бы много работы в Вашей экспедиции». Миклухо-Маклай просил прислать ему ответ в дипломатическую миссию Северо-Германского союза в Константинополе[199].
Как видим, Миклухо-Маклай, усталый и больной, готов был, даже не заезжая в Россию, сразу же пуститься в новую, по-своему не менее изнурительную и опасную, но во всяком случае более длительную экспедицию. Прибыв в Константинополь, он тотчас же явился в немецкую дипломатическую миссию, где его ожидал ответ Петермана, датированный 22 мая 1869 года. Привожу в переводе основной текст этого письма:
«В ответ на Ваше почтенное послание от 12 сего месяца я должен, к моему сожалению, сообщить Вам, что уже все места в предстоящей экспедиции заняты, включая места обоих зоологов, один из которых — д-р Р. Буххольц из Грейфсвальда, который предлагал свою кандидатуру для участия в экспедиции уже четыре года тому назад. Третьего зоолога, который еще с прошлого года рассчитывал на то, чтобы участвовать в немецкой северо-полярной экспедиции, д-ра Эмиля Гемльса из Гейдельберга, мне удалось пристроить в частную экспедицию на принадлежащем господину Розенталю из Бремена пароходе "Альберт", который сегодня отбывает на север. Мне было бы чрезвычайно интересно узнать в скором времени подробности о Вашем путешествии на Красное море»[200].
Возникает вопрос: почему Миклухо-Маклай промедлил с заявкой на участие в экспедиции? Сказались ли тут его неорганизованность, непрактичность, возможно, излишняя самоуверенность или, как ему казалось, он мог надеяться на благоприятный ответ после встречи с Петерманом в Готе весной 1868 года? Не исключено, что прусские власти, финансировавшие экспедицию, предпочли, чтобы в нее отправились только немецкие ученые. Несомненно одно: после этого отказа мечты нашего героя об участии в покорении Арктики развеялись, говоря словами поэта, «как дым, как утренний туман», на сей раз — навсегда.
«Эльбрус» простоял трое суток на рейде Константинополя. Николай осмотрел главные городские достопримечательности. «Константинополь очень, очень, очень красив», — написал он Дорну[201]. Если верить не слишком достоверному преданию, записанному П.А. Аренским, Миклухо-Маклай выместил свою досаду на русском консульстве. Когда консул пожелал узнать, чем он может помочь путешественнику, тот «послал в консульство свое белье с просьбой его выстирать. Деликатное учреждение <…> было скандализировано и обижено»[202].
В начале июня 1869 года молодой ученый прибыл на «Эльбрусе» в Одессу. После пятилетнего отсутствия в Россию вернулся не студент-бунтарь Миклуха, а натуралист и путешественник Миклухо-Маклай.
Глава четвертая. ПОДГОТОВКА К ПУТЕШЕСТВИЮ
Трудные дни в Поволжье
В 1869 году финансовое положение Екатерины Семеновны Миклухи несколько улучшилось, так как пароходное общество «Самолет» после многолетнего перерыва снова начало выплачивать дивиденды. Получив в Одессе от матери денежный перевод, Николай на пароходе посетил Южный берег Крыма, пересек Азовское море и несколько дней провел на Дону, откуда посуху, в кибитке или дилижансе, перебрался в низовья Волги. Целью его путешествия был Саратов, вблизи которого находилось имение родных Екатерины Семеновны. Здесь ученый намеревался встретиться с матерью и сестрой, но — вопреки предварительной договоренности — их там не застал. Наши сведения о пребывании Миклухо-Маклая в Поволжье исчерпываются несколькими фразами в его письмах Антону Дорну, написанных в июне — июле 1869 года. Из них следует, что он поселился «в деревне недалеко от Самары» — очевидно, в имении, принадлежащем другим родственникам матери[203].
Ученый решил воспользоваться пребыванием в этих краях, чтобы приобрести и подвергнуть предварительному изучению образцы широко представленных здесь ганоидных рыб (осетров и стерлядей), которые были ему нужны для продолжения исследований по сравнительной анатомии мозга. Но непрекращающиеся приступы малярии изнуряли его и серьезно мешали работе. «Я нахожусь в очень, очень печальном положении, лежу почти весь день в постели, — писал он Дорну. — Лихорадка, лихорадка и снова лихорадка, не могу избавиться. Работаю, насколько это возможно, урывками и когда почти что глупею от головной боли. Прежде всего я хочу подготовить мою работу о мозге»[204].
Миклухо-Маклай отвык от российской действительности. Его раздражали люди, с которыми он встречался в Саратове и Самаре. «Поверхностное образование, <приходится> слушать скучные банальные фразы при любом случае, — жаловался он Дорну. — Дамы особенно кричат, курят чрезмерно и болтают о своих правах и воспитании. При этом иногда становится мерзко на душе»[205]. Николаю пришла в голову мысль попытать счастья в Англии. Зная о близком знакомстве Дорна с Томасом Хаксли, он попросил Антона оказать ему содействие в осуществлении этого замысла: «Если будете писать Хаксли, поклонитесь ему глубоко и спросите от моего имени, смогу ли я получить в Британском музее какую-нибудь должность с умеренной оплатой… Но я хочу иметь много времени, чтобы работать»[206]. Находясь в Поволжье, Миклухо-Маклай напоминал Дорну о своей просьбе, но тот, по-видимому, не принял всерьез этот спонтанный порыв своего страждущего русского друга.
Не дождавшись приезда матери и сестры, Миклухо-Маклай решил выехать им навстречу в Москву. Саратов и Самара тогда не были еще соединены с Москвой железной дорогой. Поэтому он отправился на пароходе вверх по Волге, рассчитывая, очевидно, пересесть на поезд в Нижнем Новгороде. О дальнейшем мы узнаем из его письма Дорну, написанного в июле 1869 года: «Возле Самары на корабле у меня начались такие сильные приступы лихорадки, с такой температурой, бредом, обмороками, что капитан испугался, где-то остановился. <…> Наконец меня спасли льдом, горчичниками, кровососными банками и т. д., но ужасная слабость осталась, еле мог шевелиться. В настоящее время еще лежу, правда, уже 5-й день в Москве. Добрые пассажиры привезли меня сюда, я не очень представляю, как это происходило. <…> Вчера, после месяца поисков моей матери, я получил телеграмму, что завтра <она> приедет из Петербурга <…> мне предстоит опять поездка (с моей матерью), устал и должен действительно отдохнуть пару недель!! Мерзко… мерзко! Я опять еду в Самару»[207].
На сей раз, похоже, Николай поселился с Екатериной Семеновной под Саратовом в имении ее родных. Во всяком случае, в бумагах ученого сохранился сделанный им рисунок деревеньки с пометой: «Саратовская губ. Авг. 1869»[208]. Заботливый уход и радость от встречи с близкими ему людьми помогли Николаю восстановить душевное равновесие и в какой-то мере окрепнуть физически. Впрочем, дело было не только в уходе. Рискну предположить, что в Москве или Саратове больного осмотрел квалифицированный врач, который, распознав малярию или, как ее тогда называли, перемежающуюся лихорадку, прописал прием хинина. Это лекарство не избавило нашего героя от малярии, но предотвращало или смягчало «пароксизмы» болезни. Сам Миклухо-Маклай впервые упомянул о хинине в письме, датированном октябрем 1870 года: «При помощи большого количества хинина и небольшой дозы терпения я надеюсь отделаться от лихорадки, но еще не достиг этого»[209]. Из письма видно, что прием хинина стал к тому времени для ученого обычным делом.
Дебют в русском научном сообществе
Около месяца Николай прожил с матерью и сестрой под Саратовом, где по мере сил совмещал отдых и лечение с подготовкой труда по сравнительной анатомии мозга рыб. В конце августа он покинул Поволжье: в Москве должен был состояться Второй съезд русских естествоиспытателей, и молодой ученый, разумеется, не желал пропустить столь важное событие.
Как и Первый съезд русских естествоиспытателей, проведенный в декабре 1867 года в Петербурге, этот форум, заседавший с 1 по 11 сентября 1869 года, стал генеральным смотром сил быстрорастущей отечественной науки. Председатель съезда профессор-натуралист Г.Е. Щуровский во вступительной речи подчеркнул, что созыв съезда диктовался насущными потребностями развития естествознания в России, ставившего такие вопросы, которые уже не могли быть «решены иначе, как общими силами».
В съезде участвовали как корифеи (А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, П.Л. Чебышев и др.), так и «середнячки» и ученая молодежь, в том числе студенты университетов и других высших учебных заведений. Список участников насчитывал 427 человек, из них 167 иногородних. Но пленарные заседания дополнительно посещали сотни москвичей — учителя, студенты, курсистки, газетчики, любопытствующие дамы из общества. Большинство приезжих участников съезда были размещены в Московском складочном подворье (бывшая гостиница Кокорева), где им предоставили номера со значительной денежной скидкой и организовали питание по общедоступным ценам. В списке участников мы находим такую запись: «Миклуха-Маклай Николай Николаевич, ассистент профессора зоологии в Йенском университете. — Гост. Кокорева. № 147»[210]. Примечательно, что в материалах съезда неоднократно встречается именно такое написание его фамилии; лишь однажды он назван Миклухо-Маклаем.
Николай записался в секцию «Зоология и сравнительная анатомия», которая объединилась с секцией «Анатомия и физиология». В объединенной секции насчитывалось 69 человек. Ее костяк составили такие известные ученые, как академик Ф.В. Овсянников (осенью 1863 года Николай начал слушать его лекции по физиологии, но вскоре был изгнан из Петербургского университета), профессора А.П. Богданов, Н.П. Вагнер и С.А. Усов, прославленный путешественник и исследователь Н.А. Северцов. Большинству членов секции Миклухо-Маклай был уже известен по публикациям в «Йенском журнале медицины и естествознания», который внимательно читали русские специалисты в области естественных наук. Спонгиолог В.И. Чернявский в докладе о губках Черного моря с пиететом говорил о «замечательной Guancha blanca Миклухи-Маклая»[211]. Интерес к трудам и личности молодого ученого подогревался тем обстоятельством, что он был ассистентом «обезьяньего профессора» — знаменитого Эрнста Геккеля. Председатель и секретарь менялись на каждом заседании секции. На первом заседании председателем был выбран Овсянников, а секретарем — его несостоявшийся ученик «Миклуха-Маклай».
Николай Николаевич — не пора ли начинать так именовать нашего героя? — развил на заседаниях секции большую активность. Он выступил с двумя докладами, высказал важные соображения по докладу профессора Медико-хирургической академии Ф.П. Ландцарта о развитии мозга в человеческом плоде и у новорожденных, подчеркнув в духе эволюционной теории общие закономерности развития центральной нервной системы в животном мире — от низших позвоночных, в частности рыб, до человека. Этой же проблематике был посвящен первый из докладов Миклухо-Маклая — о строении мозга химеры[212]. Наиболее интересна вступительная часть доклада, в которой ученый изложил свою точку зрения на широко дебатировавшийся тогда вопрос о происхождении и значении различных частей мозга рыб. Докладчик сообщил, что готовит большую работу, в которой собранные материалы будут исследованы «с эмбриологической точки зрения, единственно могущей решить вопрос»[213]. Как записано в протоколе заседания, он «показывал рисунки, относящиеся к изложенному, и атлас, по большей части фотографический, к первому тому своего сочинения о сравнительной анатомии мозга позвоночных»[214]. Эта запись позволяет предположить, что у молодого исследователя, склонного к выдвижению далекоидущих планов, возник замысел посвятить со временем второй том сравнительному изучению мозга высших позвоночных, включая человека.
Если первый доклад Миклухо-Маклая привлек внимание главным образом специалистов по этой проблематике, то второй получил самый широкий резонанс — сначала на съезде, а потом и за его пределами. В этом докладе Миклухо-Маклай рассказал о подготовительной работе по созданию зоологической станции, проделанной им и Дорном в Мессине. В связи с этим он подчеркнул необходимость учреждения приморских зоологических станций, охарактеризовав их как «одно из самых необходимых средств для успешного развития научного естествознания»[215].
Помимо прямой ссылки на теорию Дарвина мировоззрение Миклухо-Маклая проявилось в демократических принципах, которые он предложил положить в основу деятельности станции: «1) каждый зоолог без различия национальности может пользоваться для своих научных занятий всеми оставленными приборами; 2) за потерянную или разбитую вещь должно быть уплачено по цене, определенной в описи вещей; 3) для развития средств станции просят оставлять необходимые инструменты, книги и другие полезные вещи»[216]. Завершая свое взволнованное выступление, ученый резюмировал: «Зоологические станции представляют выгоды, удешевляя ученому исследование у моря, а также сохраняя ему время для занятий».
Пять дней предложение Миклухо-Маклая оживленно обсуждалось в кулуарах съезда, а его руководители — по российскому обычаю — постарались тем временем выяснить отношение к проекту властей предержащих. Очевидно, отношение было положительным. 9 сентября на очередном заседании секции профессор Санкт-Петербургского земледельческого института Э.Э. Баллион полностью поддержал соображения Миклухо-Маклая и предложил создать комиссию во главе с А.П. Богдановым для определения места и способов учреждения таких станций «на берегах нашего обширного отечества»[217]. Через день комиссия рекомендовала: основать «на первое время» две станции — в Севастополе и Сухум-Кале, открыть подписку для сбора средств на открытие станции в Севастополе, просить содействия у Морского министерства, обратиться к Обществу любителей естествознания, археологии и этнографии, которым фактически руководил Богданов, с просьбой взять на себя заботы по организации приморских зоологических станций. Вопрос, поднятый Миклухо-Маклаем, показался руководителям съезда настолько важным, что на его последнем пленарном заседании, состоявшемся 11 сентября, было принято специальное постановление, воспроизводившее основные рекомендации комиссии[218].
Николай Николаевич встретился на съезде со своим приятелем князем И.Р. Тархановым. После исключения в 1863 году из Петербургского университета Тарханову удалось, как уже упоминалось, по протекции поступить в Медико-хирургическую академию, которую он окончил с отличием как раз в 1869 году. Еще на студенческой скамье князь занялся исследованиями в области физиологии и на съезде — в той же секции, что Миклухо-Маклай, — сделал два доклада о своих опытах на лягушках. Молодым людям, не встречавшимся шесть лет, было о чем поговорить, поделиться планами на будущее.
На съезде Миклухо-Маклай познакомился с учеными, в дальнейшем сыгравшими немаловажную роль в его научной карьере в России, — профессором А.П. Богдановым, путешественником и исследователем Средней Азии, основоположником отечественной зоогеографии Н.А. Северцовым. Если знакомство с Богдановым пригодилось в 1880-х годах, то встреча с Северцовым помогла молодому ученому установить контакт с важными персонами и уже осенью 1869 года поднять вопрос о большой экспедиции, о которой он страстно мечтал все последние годы.
Судьбоносная осень в Петербурге
После покушения Д.В. Каракозова на Александра II в апреле 1866 года в России начался поворот к реакции. Реформаторские инициативы власти постепенно угасали. Огромные полномочия получила тайная полиция. Противников режима и просто неблагонадежных арестовывали и ссылали в места не столь отдаленные. Символом возврата к консерватизму в области образования, науки и культуры стало назначение обер-прокурора Святейшего синода графа Д.А. Толстого министром народного просвещения. Многие либеральные интеллигенты, в начале 1860-х годов бравировавшие знакомством с Герценом, Чернышевским, Писаревым и другими революционными демократами, теперь забывали прежние симпатии и отдавались карьере и погоне за «золотым тельцом», которая приобрела в стране характер эпидемии. Но освободительное движение в России не прекратилось. В подполье действовали радикальные кружки и целые организации. Начиналась эпоха революционного народничества с «хождением в народ».
О положении в стране рассказывал Миклухо-Маклаю, приехавшему по окончании съезда естествоиспытателей в Петербург, его гимназический товарищ В.Ф. Суфщинский, ныне присяжный поверенный. Но Николай Николаевич, который избрал в качестве своего общественного призвания служение науке, теперь держался в стороне от политики. Сразу по приезде в Северную столицу он отправился к академику Ф.Ф. Брандту, директору Зоологического музея Петербургской академии наук.
Брандт не участвовал в московском съезде естествоиспытателей, но был хорошо осведомлен о его работе, в том числе о блистательном дебюте на нем Миклухо-Маклая, читал его йенские публикации. Федор Федорович радушно принял молодого ученого и предложил ему обработать и опубликовать коллекции губок, собранные академиками К.М. Бэром и А.Ф. Миддендорфом, а также хранителем Зоологического музея путешественником И.Г. Вознесенским на берегах Северного Ледовитого океана и северных морей Тихого океана. Коллекции десятилетиями хранились в чердачных помещениях здания академии.
Миклухо-Маклай быстро справился с этой работой и подготовил на ее основе два сообщения, опубликованных на немецком языке в изданиях Петербургской академии наук[219]. Преувеличив значение полиморфизма — изменчивости форм организмов под влиянием внешней среды, он объявил вариантами одного вида губки, которые на самом деле принадлежали не только к разным видам, но и к разным родам. Несколько видов губок, представленных Николаем Николаевичем как новые, уже были описаны исследователями под другими наименованиями. Но известковая губка Baeria ochotensis, названная им в честь К.М. Бэра, и теперь рассматривается спонгиологами как «хороший вид». Подчеркнув необходимость исследования губок, как и других живых организмов, в местах их обитания, в тесной взаимосвязи с окружающей средой, ученый высказал мнение, что сходные виды губок встречаются в южной части Тихого океана. С этого времени научные интересы Миклухо-Маклая оказались навсегда связаны с Тихоокеанским регионом.
Некоторая поспешность, с которой написаны сообщения о северных губках, объясняется тем, что в период обработки коллекций и подготовки этих публикаций внимание ученого было приковано к замаячившей перед ним перспективе отправиться в дальний и опасный вояж под эгидой Русского географического общества (РГО).
Основанное в 1845 году РГО занималось землеведением в самом широком значении этого термина и в интересах государства, причем охватывало своими исследованиями громадную территорию России и сопредельных стран — Китая, Афганистана, Персии, Азиатской Турции и Балкан. Фактически РГО было придатком государственного аппарата. Руководящие посты в нем занимали крупные военные и гражданские деятели — генералы, адмиралы, высокопоставленные чиновники и дипломаты. РГО и его отделения, созданные во многих регионах страны, проделали огромную работу по изучению природы, хозяйства и населения Российской империи. Во второй половине XIX века особое внимание уделялось территориям, недавно присоединенным к России или служившим объектом экспансии, в том числе стратегически важным районам некоторых азиатских государств. Туда РГО направляло экспедиции, которые прямо или косвенно финансировались из казны и возглавлялись офицерами Генерального штаба — Н.М. Пржевальским, П.К. Козловым, В.И. Роборовским, М.И. Венюковым и др.
Председателем РГО вплоть до своей смерти в 1892 году был брат Александра II великий князь Константин Николаевич — либерал-западник, жуир, большой любитель прекрасного пола, имевший, как и его августейший брат, вторую семью. Будучи главным начальником флота и морского ведомства (на правах министра и в чине генерал-адмирала), Константин Николаевич мало вникал в дела РГО. Обществом фактически руководил вице-председатель, престарелый адмирал Ф.П. Литке — в прошлом мореплаватель-кругосветник. Большим влиянием в совете РГО уже в те годы пользовался П.П. Семенов (1827 — 1914).
Миклухо-Маклаю довелось общаться и сотрудничать с ним около двух десятилетий, вплоть до своей кончины. Поэтому небесполезно познакомить читателей с этим незаурядным человеком.
Зимой 1848/49 года Петр Петрович посещал собрания революционного кружка, руководимого М.В. Петрашевским, сторонником утопического социализма, но избежал репрессий после ареста петрашевцев. Радикальные убеждения быстро сменились у него на умеренно-либеральные, которых он придерживался до конца своей жизни. В 1856 — 1857 годах Семенов первым из европейских ученых исследовал горные отроги центрального Тянь-Шаня. После этого активно участвовал в подготовке Крестьянской реформы, будучи членом-экспертом и управляющим делами редакционных комиссий, причем искусно лавировал между либералами (мнения которых разделял) и помещиками-крепостниками. В те годы он приобрел значительное влияние и связи в придворных и правительственных кругах.
Петр Петрович был исследователем широкого профиля. Выдающийся географ, он плодотворно работал также в области статистики, геологии, ботаники и энтомологии, занимался историей искусств. Научную деятельность Семенов совмещал с административной карьерой: многие годы был директором Центрального статистического комитета, стал сенатором и членом Государственного совета. Но основным делом своей жизни Петр Петрович считал содействие развитию и процветанию РГО. Вступив в общество еще в 1849 году, он в 1860 году был избран председателем отделения физической географии, а в январе 1873 года сменил Литке на посту вице-председателя РГО. На этом посту он оставался более сорока лет, как тогда выражались, до последнего издыхания. Человек всеобъемлющих познаний, мудрый и благожелательный, хотя не без оглядки на власти предержащие, Петр Петрович собрал вокруг себя лучших российских географов. Обладая огромными организаторскими способностями и связями в высших сферах, он стал «отцом» многих знаменитых экспедиций. «Успех экспедиции делал счастливым Петра Петровича, точно этот успех был его собственным успехом», — писал известный путешественник Г.Е. Грум-Гржимайло[220]. В 1906 году, когда исполнилось полвека с начала его исследований на Тянь-Шане, Николай II повелел именовать его Семеновым-Тян-Шанским. Под этой двойной фамилией Петр Петрович вошел в историю науки.
Воплощением тесных связей РГО с российскими властями был также барон Ф.Р. Остен-Сакен (1832 — 1912), который совмещал активную деятельность в обществе со службой в Министерстве иностранных дел. Работая в Азиатском департаменте МИДа, Федор Романович участвовал в 1867 году в одной из экспедиций в Среднюю Азию и в дальнейшем проявлял большой интерес к природе, населению и политическому устройству зарубежных стран — но не как ученый, а как чиновник, собиравший и анализировавший информацию, которая поступала из разных источников, в том числе по секретным каналам. В 1875 — 1897 годах Остен-Сакен занимал ответственный пост директора Департамента внутренних сношений МИДа, который обеспечивал взаимодействие министерских департаментов с российскими посольствами и миссиями, курировал некоторые дела деликатного свойства. При этом Федор Романович был секретарем РГО, а позже — помощником председателя РГО великого князя Константина Николаевича. Как увидит читатель, Миклухо-Маклаю пришлось контактировать с Остен-Сакеном столь же долго, как с Семеновым.
Инициатором обращения Миклухо-Маклая в РГО был, по-видимому, Николай Алексеевич Северцов, который, как вспоминает его ученик М.А. Мензбир, «шел навстречу каждому, кто, казалось ему, действительно любил науку»[221]. Северцов снабдил молодого ученого рекомендательным письмом к Остен-Сакену, который, будучи тогда секретарем РГО, ведал всеми текущими делами общества. «Податель сего, г. Маклай, — говорилось в письме, — зоолог и неутомимый путешественник, желает вступить в сношения с Географическим обществом <…> при своих путешествиях он и обществу может быть полезен»[222].
Рекомендация Северцова, хорошо известного Остен-Саке-ну, открыла перед Миклухо-Маклаем двери РГО, размещавшегося тогда в здании Министерства народного просвещения у Чернышева моста. «С первого же раза, — вспоминал Остен-Сакен, — он живо заинтересовал меня своими рассказами, а также смелой оригинальностью всей своей maniere d'etre (манерой держаться. — Д. Т.)». 5 октября 1869 года Николай Николаевич выступил на совместном заседании отделений физической и математической географии РГО с уже упоминавшимся в предыдущей главе докладом о своем путешествии на Красное море. Информацию страноведческого и этнографического характера он предварил соображениями о новых перспективах, которые открываются перед зоологией в связи с постепенным переносом исследований «из кабинетов, музеев, зоологических садов в естественные обиталища животных, где они могут быть наблюдаемы в естественной обстановке»[224]. Послушать молодого ученого пришли вице-председатель, секретарь и многие члены общества. По воспоминаниям Остен-Сакена, доклад им понравился[225]. Окрыленный успехом, Миклухо-Маклай спустя три дня представил через Остен-Сакена в совет РГО проект длительной экспедиции на Тихий океан.
Как раз в эти дни он встретился с князем П.А. Кропоткиным, будущим революционером-эмигрантом и теоретиком анархизма, который, оставив службу в армии, учился тогда на физико-математическом факультете Петербургского университета и был секретарем отделения физической географии РГО. «Миклуха-Маклай, — читаем мы в его «Записках революционера», — <…> был маленький нервный человек, постоянно страдающий лихорадкой. Когда я познакомился с ним, он только что возвратился с берегов Красного моря»[226]. Кропоткин был одним из разработчиков проекта большой полярной экспедиции, родившегося в недрах РГО, но этот замысел не нашел поддержки ни в Морском министерстве, ни в Министерстве финансов. Из разговора с Кропоткиным Николай Николаевич понял, что российская экспедиция в Арктику едва ли состоится в ближайшем будущем, а потому задумал отправиться в южную часть Тихого океана, чей островной мир таил неисчислимые опасности, но сулил смельчаку крупные научные открытия. Миклухо-Маклаю было известно, что по уставу сфера деятельности РГО ограничена Россией и сопредельными территориями. Поэтому он решил действовать исподволь, лишь постепенно раскрывая свое намерение сосредоточиться на исследованиях в южной части Тихого океана.
«Занимаясь в настоящее время в музее Императорской академии наук разработкой части материалов, собранных в путешествиях академиков Бэра и Миддендорфа и в кругосветном плавании Вознесенского и состоящих преимущественно из морских животных, собранных по берегам Восточного океана, — говорилось в его проекте, представленном в совет РГО, — <…> я успел прийти к некоторым весьма интересным результатам. <…> Эти результаты, которые желательно проверить на месте, а также и другие соображения, окончательно убедили меня избрать для моих будущих исследований Восточный океан». Николай Николаевич ходатайствовал «о содействии со стороны Географического общества для доставления ему возможности летом будущего года переехать на какой-нибудь пункт Восточного океана на русском военном судне, с тем чтобы впоследствии возвратиться на одном из обратно следующих в Россию судов». Из тактических соображений он допускал возможность «совершить обратное путешествие через Амурский край и Сибирь, если бы Географическое общество пожелало возложить на него в тех странах какое-нибудь поручение»[227].
Главной целью дальнего путешествия в проекте провозглашалось продолжение «исследований морской фауны и всех научных вопросов, непосредственно к этим исследованиям примыкающих». Ученый заявил, что этнографическими и антропологическими проблемами он будет заниматься «по возможности», «в свободное от специальных занятий время»[228]. Однако уже тогда Миклухо-Маклай проявлял серьезный интерес к этой проблематике. В первоначальном варианте проекта он просил «определительного ответа», чтобы иметь достаточно времени «к постановке разных, сюда касающихся вопросов по антропологии и этнографии», и для консультаций «с разными по этой части специалистами»[229].
Остен-Сакен одобрительно отнесся к проекту Миклухо-Маклая. Он рекомендовал внести в проект некоторые уточнения и дополнения и, возможно, сам редактировал текст, чтобы сделать его более приемлемым для совета РГО. Мне довелось обнаружить в бумагах ученого письмо Остен-Сакена, которое проливает свет на причины его энергичной поддержки замысла Миклухо-Маклая. Сделав замечания по тексту, он обратил внимание на геополитическое значение проекта: «Это будет особенно кстати, потому что Тихий Океан со временем должен быть Русским Океаном»[230].
Процитированная фраза отражает сокровенные взгляды Остен-Сакена. Он был единственным сотрудником МИДа, кто открыто выступал в декабре 1866 года против подготавливаемого решения о продаже Русской Америки. Узнав о созыве секретного совещания с участием царя для решения этого вопроса, молодой сотрудник Азиатского департамента представил записку, в которой доказывал, что Аляска в будущем принесет большую пользу России, и в завершение заявил: «Казалось бы, что нынешнее поколение имеет святую обязанность сохранить для будущих поколений каждый клочок земли, лежащий на берегу Океана, имеющего всемирное значение»[231]. Федор Романович решил споспешествовать, как тогда выражались, исполнению проекта Миклухо-Маклая прежде всего потому, что многолетние исследования русского путешественника на островах Южной Пацифики могли способствовать — пусть в отдаленной перспективе — упрочению позиций России на Тихом океане.
Остен-Сакен ознакомил с проектом Миклухо-Маклая Семенова и заручился его поддержкой. В недатированной записке, также находящейся в бумагах Миклухо-Маклая, Федор Романович рекомендовал ученому «на днях утром» навестить Семенова на дому. «Он очень заинтересован нашим делом, — многозначительно добавил Остен-Сакен, — и будет содействовать»[232].
Готовясь к рассмотрению этого вопроса на совете РГО, Остен-Сакен запросил мнение академика Брандта о Миклухо-Маклае. В отзыве академика содержалась весьма высокая оценка деятельности молодого ученого как «очень талантливого и ревностного молодого человека, предпринявшего два путешествия», уже обогатившего науку своими исследованиями, «столь деятельного и даровитого»[233].
Однако предстояло еще преодолеть довольно упорное сопротивление самого вице-председателя РГО графа Литке. «Он опасался, — вспоминает Остен-Сакен, — что планы Миклухи завлекут нас слишком далеко, и долгое время не хотел даже с ним лично объясняться. Наконец удалось, однако, уломать графа и я привел к нему однажды утром М., который на этот раз сумел отрешиться от своих обычных беззастенчивых манер и весьма ловко распространился о давнишних этнографических и физических исследованиях графа Литке в Тихом океане, так что последний, казалось, отрешился на время от своей врожденной сухости и подозрительности ко всем первым проявлениям таланта и самостоятельности»[234].
19 октября 1869 года в газете «Санкт-Петербургские ведомости» был напечатан слегка отредактированный доклад Миклухо-Маклая о важности создания морских биологических станций, который он прочитал двумя месяцами раньше на московском съезде естествоиспытателей. Публикация доклада в официозной влиятельной газете за несколько дней до рассмотрения проекта Николая Николаевича на совете РГО, призванная повысить его авторитет в петербургском научном сообществе, была, конечно, не случайной. Мне не удалось установить, кто содействовал этой публикации — Семенов и Остен-Сакен или петербургские друзья ученого.
Заседание совета РГО под председательством Литке состоялось 28 октября. Как видно из протокола, Остен-Сакен ознакомил присутствующих с ходатайством Миклухо-Маклая и отзывом академика Брандта. Началась дискуссия. Опасаясь, что совет отвергнет проект молодого ученого, Семенов — по предварительному согласованию с Остен-Сакеном[235] — прибег к тактической уловке. Петр Петрович предложил не обсуждать проект по существу, а передать его на рассмотрение отделения физической географии, которым он руководил, заявив, что «избранная г. Маклаем специальность исследования низших морских животных представляет особенный интерес в отношении физико-географическом, так как подобные исследования по необходимости должны находиться в самой тесной связи с наблюдениями над морскими течениями, температурою воды, глубинами, распределением животных и растительного царства и т. п.». Совет согласился с предложением Семенова и «просил его представить в ближайшее время свои соображения относительно поручения и средств, которые могли бы быть даны г. Маклаю от Географического общества». Однако уже на этом заседании совета было постановлено «войти в сношение с морским ведомством касательно доставления г. Маклаю возможности воспользоваться отправлением наших военных судов в Тихий океан для совершения путешествия туда и обратно»[236].
Убедившись, что делу дан, как тогда говорили, надлежащий ход, Миклухо-Маклай в ноябре 1869 года отправился в Йену, чтобы доработать и издать свою монографию, посвященную сравнительному изучению мозга рыб, а также подготовиться к экспедиции на Тихий океан.
В Йене и Лондоне
Не найдя в Йене другого подходящего жилья, Николай Николаевич поселился на третьем этаже дома, который принадлежал профессору Б. Гильдебранду. Его дочь Аурелия, с нетерпением ожидавшая приезда русского ученого, обнаружила, что он ее не замечает, погруженный в текущие работы, а главное — в подготовку к дальней экспедиции.
Миклухо-Маклай спешил завершить работу над монографией «Материалы по сравнительной неврологии позвоночных», которую он посвятил «моему глубокоуважаемому учителю и другу Карлу Гегенбауру»[237]. Искусный рисовальщик, он успешно подготовил к печати многочисленные таблицы с иллюстрациями и другой графический материал. В феврале 1870 года ученый отвез первую часть работы («Мозг селахий») своему лейпцигскому издателю В. Энгельману, а через четыре месяца передал ему вторую часть работы («Средний мозг ганоидов и костистых рыб»). Опираясь на предложенную им интерпретацию строения и функций различных отделов головного мозга рыб, ученый пришел к далекоидущим выводам об основных направлениях развития животного мира: «В отношении строения мозга селахий представляют исходную форму, ведущую, с одной стороны, к амфибиям (а через них — или к рептилиям и птицам, или к млекопитающим), а с другой стороны — к ганоидам и, через них, к костистым рыбам. Формы мозга костистых рыб представляют особо дифференцированный ряд, который не обнаруживает прямой связи с направлением развития мозга высших позвоночных»[238]. Однако, как отмечал 85 лет спустя известный географ и зоолог П.И. Пузанов, «проводимое <…> в неврологических работах Миклухо-Маклая "новое истолкование" отделов головного мозга рыб в науке не удержалось, да и во времена М.-М. почти не имело сторонников. То, что М.-М., вопреки мнению всех анатомов, считал у рыб средним мозгом, есть их мозжечок, а то, что он называл промежуточным мозгом, — есть средний мозг, или двухолмие»[239]. Гегенбаур, одобрительно встретивший эту монографию, вскоре присоединился к хору ее критиков.
Параллельно с работой над монографией Миклухо-Маклай принялся усиленно штудировать литературу об Австралии и Океании, прежде всего сочинения путешественников и труды о народах этого региона. «Как рассказывали в семье, — вспоминает младший брат ученого Михаил, — он сам читал, а отчасти приглашал лектрисе, которые ему читали про путешествия в Тихий океан. Так же тщательно он изучал маршруты этих путешествий, а равно и торговые пути»[240]. В записной книжке Николая Николаевича 1869 — 1870 годов, которую он называл «Ethnologia», имеется много выписок из трудов К.М. Бэра и А. Уоллеса, а также список прочитанных им книг — путешественников Ф.П. Литке, Дж. Кука и У. Маринера, этнолога Т. Вайца, антрополога Дж. К. Причарда и др.
Но, пожалуй, наибольшее влияние на Миклухо-Маклая оказала в эти месяцы публикация, которая до сих пор ускользала от внимания его биографов, включая автора этих строк, — большая статья А. Петермана «Новая Гвинея. Немецкие призывы от антиподов», которая появилась в середине ноября 1869 года в редактируемом им географическом журнале. В начале статьи Петерман привел письма двух немцев, поселившихся в Австралии, — пастора и купца. Они призывали Германию — точнее, Северо-Германский союз, возглавляемый Пруссией, — аннексировать огромный, сказочно богатый природными ресурсами остров Новую Гвинею и расположенные поблизости от него крупные меланезийские острова. Косвенно поддержав их аргументы, маститый географ дипломатично воздержался от прямого призыва к аннексии: «Пусть другие займутся овладением и колонизацией Новой Гвинеи, мы же должны ограничиться заявлением, что полнейшее исследование этой части земли — один из наиболее актуальных вопросов географии». «Когда посылают экспедицию за экспедицией в покрытые льдами полярные регионы, — продолжал Петерман, — когда для исследования <…> Африки беспрестанно тратят миллионы и жертвуют множеством драгоценных человеческих жизней <…> <…> не следует ли наконец обратить внимание на эту великолепную островную страну, вглубь которой еще не проникал белый человек и чьи берега кое-как описаны лишь в некоторых местах, хотя она была открыта еще в 1526 году»[241]. Полагаю, что именно эта статья, привлекшая внимание путешественников, географов и чиновников правительственных канцелярий ряда государств, побудила Николая Николаевича сделать окончательный выбор — поставить в центр своих намечаемых исследований на Тихом океане огромную и таинственную Новую Гвинею.
В феврале 1870 года Миклухо-Маклай решил, что пора приподнять завесу над своими планами, и написал Остен-Сакену, что намерен остаться по меньшей мере три-четыре года на островах южной части Тихого океана, а «потом только подняться на Север»[242]. При этом Николай Николаевич позолотил пилюлю: «Я не только не отодвигаю на 2-й план исследование северных частей Тихого океана, — напротив, я положительно очень интересуюсь тою местностью и хочу по возможности ее исследовать. Мои будущие старания будут идти параллельно с желаниями Общества»[243]. Забегая вперед скажем, что в дальнейшем ученому так и не довелось приступить к изучению морей, омывающих русские дальневосточные берега.
Миклухо-Маклай серьезно рисковал, настаивая на первоочередных исследованиях в южной части Тихого океана. Но он правильно предугадал реакцию руководителей РГО. Доброжелательно относясь к молодому ученому и, главное, понимая важность намеченных им исследований, Семенов, Остен-Сакен, а под их влиянием и Литке предпочли «не заметить» его строптивости. 11 мая 1870 года совет РГО согласился с предложением отделения физической географии о назначении Миклухо-Маклаю пособия в размере 1200 рублей, а 21 мая управляющий Морским министерством адмирал Н.К. Краббе сообщил вице-председателю РГО, что «последовало Высочайшее разрешение естествоиспытателя Миклухо-Маклая принять на корвет "Витязь" для совершения путешествия к берегам Тихого океана, но без производства довольствия от морского ведомства, и ему позволено впоследствии вернуться на одном из судов, возвращающихся оттуда в Балтику». Краббе добавил, что корвет отправится из Кронштадта «приблизительно в сентябре месяце»[244]. Остен-Сакен оперативно информировал Миклухо-Маклая о принимаемых решениях, не поднимая больше деликатный вопрос о первоначальных исследованиях в северных морях.
В марте 1870 года Николай Николаевич посетил Готу, где имел подробный разговор с Петерманом. Неутомимый организатор экспедиций приветливо встретил русского ученого, снабдил его несколькими картами, обещал поддержку в будущем и живо интересовался его планами. Помня статью Петермана о Новой Гвинее, Миклухо-Маклай предпочел умолчать о своем выборе, ссылаясь на то, что маршрут экспедиции еще не определен. До осени ученый не сообщал об избранной им цели и другим своим западноевропейским собеседникам и корреспондентам[245].
При всей своей занятости Миклухо-Маклай совершил еще один кратковременный выезд из Йены, на сей раз не связанный с подготовкой к экспедиции. Он узнал, что в Веймаре находится писатель Тургенев со своей пассией Полиной Виардо, выступавшей в местном театре. 11 марта 1870 года Николай Николаевич сообщил сестре: «Познакомился с И.С. Тургеневым; он живет в Веймаре. На днях провел с ним целый день. Он был также у меня в Йене. Мы довольно скоро и хорошо сошлись. Жаль, что я по уши сижу за работой, чаще бы ездил в Веймар»[246]. Миклухо-Маклаю было очень интересно общаться с Тургеневым, много писавшим о русской молодежи, создавшим образ Базарова, который еще недавно привлекал студента Миклуху. Тургенева живо занимали рассказы ученого о его недавних путешествиях на Канарские острова и берега Красного моря, его планы на будущее. Так началось знакомство Миклухо-Маклая с Тургеневым, контакты с которым — очные и заочные — продолжались до самой смерти писателя в 1883 году.
Миклухо-Маклай был с уважением принят в Йенском университете. Студент Петр Аксельрод, нелегально уехавший из России без денег и паспорта, живший впроголодь и занимавшийся на медицинском факультете, что называется, на птичьих правах — благодаря тому, что профессора разрешали ему бесплатно посещать их лекции, — 14 декабря 1869 года написал в Берлин А.А. Мещерскому: «Что же касается г-на Миклухи, то прошу Вас, если найдете нужным, ему написать несколько слов обо мне. Знакомство с ним и его ласки, насколько можно требовать от человека занятого, могут меня возвысить в глазах многих и во многих отношениях быть полезными»[247].
Но сам Эрнст Геккель — при всей его внешней приветливости и учтивости — продолжал смотреть на «Николая Миклухо» несколько свысока, как профессор на своего ассистента, не в силах отрешиться от менторского тона, что раздражало честолюбивого молодого ученого с очень высокой — возможно, завышенной — самооценкой. У Геккеля, заболевшего звездной болезнью, вообще складывались непростые отношения с его учениками. Он не допускал никакой критики в свой адрес, не терпел возле себя молодых ученых, твердо вставших на ноги, получивших известность в научных кругах. Например, он поссорился с Антоном Дорном после того, как тот создал свою знаменитую морскую биологическую станцию в Неаполе[248].
Помимо причин личного характера, охлаждению, а затем и разрыву между Миклухо-Маклаем и Геккелем способствовали серьезные разногласия по научным вопросам. Поручив Николаю изучение известковых губок, Геккель в 1869 году неожиданно, не предупредив своего ученика, сам занялся этой проблематикой, — что обидело Миклухо-Маклая, как видно из его писем Дорну[249], — и пришел к иным выводам по систематике и морфологии этих простейших морских организмов. Уже в 1870 году Николай Николаевич выступил с критикой взглядов Геккеля в журнале Петербургской академии наук. Однако пропасть между двумя учеными возникла, на мой взгляд, не из-за разногласий в интерпретации губок, а из-за расхождений мировоззренческого характера. Молодой ученый осознал — раньше он не обращал на это внимание, — что Геккель, считая папуасов «недостающим звеном» между европейцами и их животными предками, относит их чуть ли не к «недочеловекам». Николай Николаевич не мог согласиться с такой постановкой вопроса. Он учел некоторые рекомендации Геккеля при составлении программы своей экспедиции, но с 1871 года до самой смерти больше не поддерживал с ним никаких контактов, а «обезьяний профессор» в 1877 году уничижительно отозвался о своем бывшем ученике[250].
Порвав с Геккелем, Николай Николаевич сохранил добрые отношения со вторым своим йенским учителем — Карлом Гегенбауром. Именно ему, как уже отмечалось, он посвятил монографию «Материалы по сравнительной анатомии позвоночных». В 1873 году Гегенбаур покинул Йену, став профессором анатомии Гейдельбергского университета. Но контакты между двумя учеными — пусть и нерегулярные — не прекратились. Сохранилось, например, очень любезное письмо Гегенбаура от 30 июля 1876 года, в котором он благодарит своего бывшего ученика за присланные оттиски статей и отвечает на его вопросы по зоологии[251].
Екатерина Семеновна, как и раньше, держала сына на голодном пайке. Ученый предпочитал общаться с ней через сестру Ольгу — натуру художественно одаренную, с широкими взглядами на жизнь, единственную в семье, кто понимал Николая Николаевича и верил в его славное будущее. Уже в декабре 1869 года он просил ее в письме сказать матери, что наделал в Йене много долгов, а через два месяца озабоченно подчеркивал: «Жду очень, очень денег»[252]. В апреле 1870 года, сдав в набор первую, основную часть монографии, Миклухо-Маклай решил съездить в Лондон для консультаций со специалистами и покупки экспедиционного оборудования. Ученый готов был отправиться в эту поездку, не дожидаясь окончательного решения совета РГО и Морского министерства, но выезд был невозможен из-за отсутствия денег. «Я пришел к очень неутешительному результату, — писал он Ольге 16 апреля, — что если я выеду потихоньку (не заплатив всех долгов) из Йены, то я тогда все-таки застряну почти сейчас же дорогой <…> прошу передать это матери»[253]. Николай Николаевич все же рискнул и на последние деньги добрался до голландского города Лейдена, чтобы по пути в Англию познакомиться с коллекциями местного музея. Здесь ученый получил денежный перевод от матери с предупреждением, что до возвращения в Петербург он не может больше рассчитывать «ни на какие деньги»[254]. Поблагодарив за перевод, Николай Николаевич горестно добавил, что присланных денег едва ли хватит на обратный путь из Лондона до Йены, а ведь он, кроме того, очень желал бы в Англии «многим запастись для путешествия»[255]. Поэтому он одновременно отправил письмо Ольге с просьбой снова повлиять на мать.
Миклухо-Маклай пробыл в Лондоне чуть более недели, но за это время многое успел. «Некоторые мои работы, — писал он 2 мая Остен-Сакену, — которые оказались более известными в Англии, чем в России, доставили мне без особенных рекомендаций очень легкий доступ ко всем и ко всему. В очень короткое время я познакомился со всеми представителями тех отраслей науки, которыми занимаюсь, и эти господа очень заинтересовались мною сделанным путешествием в Красное море, а также тем, которое, с Вашей помощью, надеюсь предпринять, и даже пожелали помочь мне, чем могут»[256].
Николай Николаевич тут немного покривил душой. Для доступа в Британский музей и состоящую при нем библиотеку, — ее усердным читателем многие годы был Карл Маркс, — действительно не требовались «особенные рекомендации». Но чтобы быть принятым в Адмиралтействе или другом правительственном ведомстве викторианской Англии, чтобы удостоиться аудиенции у руководителей главных научных обществ, чужестранец должен был придерживаться определенных формальностей — иметь солидные рекомендации или влиятельного ходатая и сопровождающего. В этой роли выступил профессор Томас Хаксли (Гексли) — выдающийся биолог, ближайший соратник Дарвина и популяризатор его учения. В 1846 — 1850 годах, будучи совсем молодым человеком, Хаксли участвовал в экспедиции на британском военном корабле «Ратлснейк», проводившей исследования у берегов Австралии, Юго-Восточной Новой Гвинеи и среди небольших островов архипелага Луизиады. «Ратлснейк» стал для Хаксли такой же школой, как «Бигль» для Чарлза Дарвина[257]. Судно подолгу стояло в австралийских портах, преимущественно в Сиднее, и с тех пор у Хаксли появились там влиятельные друзья.
Хаксли радушно встретил русского ученого, который был ему известен как по публикациям, так и по письмам Геккеля и Дорна. «Я много виделся с ним, — писал он Дорну о пребывании в Лондоне Миклухо-Маклая, — и он поразил меня как человек весьма значительных способностей и энергии»[258]. Хаксли поделился с Николаем Николаевичем своими воспоминаниями о плавании на «Ратлснейке», дал практические советы, обсудил с ним зоологические и антропологические проблемы, которые следовало бы включить в программу задуманной экспедиции.
По просьбе Хаксли Миклухо-Маклай был принят в британском Адмиралтействе. Главный гидрограф Адмиралтейства контр-адмирал Дж. Ричарде и ученый-океанограф У. Карпентер показали ему «аппараты, которые касаются исследования дна на больших глубинах». Эти аппараты были успешно испытаны в 1869 году в Северной Атлантике, причем удалось достать «образчики дна из глубин 26 тыс. фут»[259]. Интерес, проявленный Николаем Николаевичем к такому оборудованию, был не случаен: он решил использовать длительное морское путешествие к берегам далекой Океании для проведения в пути океанографических исследований. Интересные сами по себе, пользовавшиеся неизменным вниманием в ученом мире, эти изыскания могли бы снискать ему новых сторонников в отделении физической географии и в совете РГО.
Николай Николаевич выехал из Лондона 30 апреля. Ускорить отъезд ученого вынудили участившиеся приступы малярии, которые он приписывал местной «скверной погоде», и дороговизна проживания в английской столице[260]. Он составил список необходимого экспедиционного оборудования, но мало что смог приобрести из-за отсутствия средств.
На сэкономленные деньги Миклухо-Маклай вернулся через Брюссель в Йену, где, как он писал, «мне жизнь сравнительно очень, очень мало стоит»[261]. Он поспешил завершить работу над второй частью монографии, ограничившись в ней описанием только среднего мозга хрящевых (ганоидов) и костистых рыб. Автор обещал читателям «в ближайшее время разработать некоторые вопросы, касающиеся мозга ганоидов и костистых рыб и дать более подробное сравнение их с мозгом селахий», но — захваченный другими научными проблемами — не осуществил этого намерения.
Миклухо-Маклай начал готовиться к возвращению в Россию — сортировать книги и другие вещи, которые накопились у него за годы жизни в Германии: какие взять с собой, какие оставить на хранение в Йене[262]. Но денег на дорогу у него не было. «Можно было бы устроить это дело еще иным образом, — писал он Ольге 12 мая, — достать денег только на дорогу и скрыться из Йены в один прекрасный день (именно так поступили, как упоминалось выше, он и Мещерский летом 1869 года. — Д. Т.). Но как тогда устроить с вещами? Неудобно! Глупо зависеть от такой дряни, как от денег!»[263] Наконец Екатерина Семеновна сжалилась над своим непутевым — как она считала — сыном и прислала денег, за которые он поблагодарил ее в письме от 24 мая. Теперь появилась возможность пару раз съездить к издателю в Лейпциг, где Миклухо-Маклай консультировался также с известным физиологом профессором Й. Чермаком. Но главное, что оставалось еще предпринять Николаю Николаевичу до возвращения в Россию, — это посетить Берлин и установить там контакты с профессором Вирховым и его коллегами.
Рудольф Вирхов (1821 — 1902) — выдающийся врач, ученый и политик умеренно либерального направления, основатель современной патологической анатомии, профессор медицинского факультета Берлинского университета — в 1860-х годах увлекся науками о человеке. В 1869 году он основал Берлинское общество антропологии, этнологии и доистории (археологии), президентом которого оставался многие годы. Вирхов не принял учения Дарвина и спорил на различных съездах и конференциях с популяризатором этого учения Геккелем, утверждая, будто эволюционная теория и разработанный «йенским еретиком» философский монизм расчищают дорогу социализму. Миклухо-Маклаю едва ли были по душе эти воззрения Вирхова, но тот не пытался навязывать их молодому русскому ученому. Он с уважением принял Миклухо-Маклая, снабдил его методическими пособиями для проведения полевых антропологических исследований, пригласил печататься в изданиях общества.
Миклухо-Маклай отвез своему издателю выправленную корректуру второй части монографии и, не дожидаясь выхода книги в свет, 17 июля отправился пароходом — это было дешевле, чем поездом — из Штеттина в Петербург.
«Почему я выбрал Новую Гвинею»
Так начиналась статья Миклухо-Маклая, план которой, судя по сохранившимся черновикам и наброскам, он составил еще до отправления в экспедицию, начал ее на борту «Витязя», продолжил после высадки на Новой Гвинее, но по каким-то причинам не довел до конца[264]. Опираясь на содержание статьи, но привлекая и другие источники, а также учитывая широкий исторический фон, попытаемся ответить на вопрос, который содержится в заглавии этой незавершенной работы.
Уже известная нам статья А. Петермана с призывом безотлагательно приступить к исследованию Новой Гвинеи подстегнула Миклухо-Маклая. Ученый понял, что не следует терять время, если желаешь стать там одним из первопроходцев. Но стремление отправиться на Новую Гвинею появилось у нашего героя еще до публикации статьи Петермана.
Для Миклухо-Маклая, с 1867 года искавшего возможность отправиться в далекую и опасную экспедицию, которая обогатит науку важными открытиями и сделает его имя известным в ученом мире, а возможно — и за его пределами, Новая Гвинея представлялась идеальным выбором. Несмотря на то, что открытие Новой Гвинеи европейцами началось еще в XVI веке, в 1860-х годах она, по существу, все еще оставалась для них terra incognita: не было сколько-нибудь точных сведений ни о площади этого огромного острова, ни об очертаниях его берегов, а его внутренние районы оставались совершенно неисследованными. Сравнительно лучше были известны некоторые участки северо-западного побережья, но и здесь научные изыскания почти не выходили за рамки рекогносцировок. Фактически не было начато изучение коренного населения Новой Гвинеи — папуасов; отдельные достоверные наблюдения уживались с самыми нелепыми вымыслами и легендами. Эту «целину» надеялся поднять Миклухо-Маклай.
При подготовке статьи ученому не нужно было делать реверансы перед советом РГО, а потому он смог откровенно обозначить свои научные приоритеты. Величественна и непознанна природа Новой Гвинеи, в частности ее животный мир, среди которого «могут скрываться органические формы, вполне для нас новые». Но, «не занимаясь по зоологии систематикою и не имея склонности к собиранию коллекций, интересных зоологу и географу», он решил не делать упор на зоологические исследования, хотя не отказывался от проведения наблюдений по широкому спектру естественных наук. В центр внимания Николай Николаевич решил поставить человека: «Я план странствования своего подчинил антропо-этнографическим целям, при которых всегда останется у меня время для специальных анатомических исследований»[265].
Следует учитывать, что в период подготовки к экспедиции Миклухо-Маклай находился под несомненным влиянием академика Карла Максимовича (Карла Эрнста) фон Бэра (1792 — 1876) — основателя современной эмбриологии, выдающегося зоолога, географа и этнографа, одного из зачинателей антропологии в России. Николай Николаевич часто ссылался на труды этого ученого в статьях, опубликованных в йенском научном журнале, и свое понимание эволюции живых существ как процесса дифференциации отчасти заимствовал у Бэра. В 1867 году престарелый академик, удалившись от дел, переехал из Петербурга в Дерпт, но и там не прекратил занятий наукой, следил за ее успехами, вел обширную переписку. В один из приездов в Петербург, осенью 1869 года, Бэр встретился с Миклухо-Маклаем и одобрил его интерпретацию некоторых особенностей мозга рыб. По воспоминаниям П.П. Семенова, Бэр первым из патриархов РГО обратил внимание на многообещающего молодого исследователя[266]. Готовясь к экспедиции на Тихий океан, Миклухо-Маклай переписывался с маститым старцем и получал от него советы по антропологической проблематике.
Настольной книгой Миклухо-Маклая стала работа Бэра «О папуасах и альфурах», в которой были собраны накопившиеся к тому времени скудные и противоречивые сведения о папуасах и выдвинута гипотеза о двух расовых типах на Новой Гвинее. Подчеркнув, что это всего лишь гипотеза, нуждающаяся в проверке на месте, Бэр пришел к выводу: «Таким образом, является желательным и, можно сказать, необходимым для науки изучить полнее обитателей Новой Гвинеи»[267]. Миклухо-Маклай взял с собой эту книгу на Новую Гвинею, неоднократно ссылался на нее в своих работах, а приведенные слова сделал эпиграфом к своей первой большой статье о папуасах[268].
Однако книга «О папуасах и альфурах» привлекла Миклухо-Маклая не только рассмотрением конкретного антропологического материала. В заключительной части книги, как и в некоторых других работах, Бэр выступил последовательным сторонником видового единства человечества и осудил злодеяния «цивилизованных» малайцев и европейцев на побережье западной части Новой Гвинеи. Более того, в 1861 году на съезде антропологов в Геттингене Бэр, отрешившись от академической сдержанности, подверг резкой критике тех англо-американских антропологов, которые, опираясь на учение о неравенстве рас, оправдывали истребление коренного населения Америки и порабощение негров. «Не есть ли это учение, — заявил Бэр в Геттингене, — так мало соответствующее принципам естествознания, измышление части англо-американцев, необходимое для успокоения их собственной совести? Они с бесчеловечной жестокостью оттеснили первобытных обитателей Америки, с эгоистической целью ввозили и порабощали африканское племя. По отношению к этим людям, говорили они, не может быть никаких обязательств, потому что они принадлежат к другому, худшему виду человечества»[269].
Темпераментное осуждение Бэром подобных взглядов было, конечно, не случайным. В 50 — 60-х годах XIX века многие видные английские и американские антропологи (Дж. Хант, С. Мортон, Дж. Нотт, Дж. Глиддон и др.) пытались доказать, что человеческие расы неравноценны, что разница в культурном уровне народов объясняется их врожденными свойствами, что белые якобы самой природой предназначены господствовать, а цветные — подчиняться. Эти теории были взяты на вооружение рабовладельцами и их сторонниками, стали использоваться для оправдания колониальной экспансии[270]. Понятно, что против такого рода концепций выступал Н.Г. Чернышевский, который решительно отвергал деление человеческих рас на «высшие» и «низшие». «Мы убеждены, — писал Чернышевский еще в 1857 году, — что и негр отличается от англичанина своими качествами исключительно вследствие исторической судьбы своей, а не вследствие органических особенностей»[271]. Подтверждение и обоснование этих близких и понятных ему взглядов Миклухо-Маклай нашел в книге «О папуасах и альфурах» и в некоторых других трудах «Нестора российской антропологии».
Эти взгляды еще более окрепли у Николая Николаевича после встречи с Томасом Хаксли. В те годы английский профессор вел борьбу с расистскими установками Лондонского антропологического общества, которое возглавлял один из главных проповедников расизма Джеймс Хант. Положение осложнялось тем, что среди сторонников признания качественной неравноценности человеческих рас и сравнительной близости темнокожих людей к обезьянам оказались не только антропологи-расисты, но и те европейские ученые, которые ошибочно полагали, что такого рода концепции помогают обосновать дарвинизм, ибо направлены против учения о сотворении человека Богом и дают дополнительные аргументы в пользу происхождения человека от обезьяны. Папуасам, бушменам и другим культурно отсталым народам эти последователи Дарвина отводили роль «промежуточного звена» между европейцами и их животными предками. Как мы знаем, такую точку зрения отстаивал, в частности, Эрнст Геккель. Но Миклухо-Маклаю стала очевидной общественная опасность подобных концепций независимо от намерений их авторов. Отправляясь на Новую Гвинею, молодой ученый — в соответствии со сложившимися у него представлениями о высоком общественном предназначении науки — решил на неопровержимых фактах показать, что представляет собой в действительности папуасская раса.
Существовала еще одна причина, по которой Миклухо-Маклай решил сделать полем своих исследований Новую Гвинею. В те годы была довольно популярна гипотеза о Лемурии — материке, якобы существовавшем в древности на месте значительной части Индийского океана, от Юго-Восточной Африки и Мадагаскара до нынешних Зондских островов. Гипотезу об этом «затонувшем материке» впервые высказал в 1840-х годах французский исследователь Жоффруа Сент-Илер. Более подробно ее обосновал в середине прошлого века английский зоолог Ф. Склэтэр, который назвал этот гипотетический материк Лемурией (по роду полуобезьян, распространенному на Мадагаскаре). В 1860 — 1870-х годах гипотезу о Лемурии поддерживали такие выдающиеся ученые, как Геккель, Вирхов и Хаксли; некоторые из них полагали, что именно здесь находилась прародина человечества и что Новая Гвинея была каким-то образом связана с Лемурией[272]. Миклухо-Маклай довольно скептически относился к гипотезе об этом, по его выражению, «проблематическом материке», но полностью не отвергал ее в статье «Почему я выбрал Новую Гвинею полем моих исследований».
Однако независимо от обоснованности гипотезы о Лемурии «более изолированные и менее подверженные примеси с другими племенами» обитатели Новой Гвинеи могли, по мнению Миклухо-Маклая, стать «исходной группой» для сравнения с другими темнокожими народами Меланезии и Малайского архипелага. Отсюда две основные задачи, которые поставил перед собой исследователь: «во-первых, уяснить антропологическое отношение папуасов к другим расам вообще, которое еще почти не определено; во-вторых, по возможности и по собственным наблюдениям определить распространение этой расы» за пределами Новой Гвинеи[273].
Незадолго до отъезда из Йены Миклухо-Маклай получил письмо от помощника секретаря РГО Ф.А. Подгурского, который временно заменял Остен-Сакена. Подгурский, приятель командира «Витязя» капитана 2-го ранга П.Н. Назимова, сообщил ученому, со слов капитана, предполагаемый маршрут его корабля: обогнув мыс Доброй Надежды, пересечь Индийский океан, через Зондский пролив зайти в Батавию (ныне Джакарта), оттуда — в Сингапур, где «корвет будет ожидать приказаний» относительно следования в Гонконг и далее в Японию[274]. Иными словами, подход «Витязя» к берегам Новой Гвинеи не предусматривался. Ученому предстояло самостоятельно добираться туда из Батавии на торговой шхуне — предприятие трудное и рискованное да еще требовавшее расходования значительных денежных средств из не слишком большой субсидии, выделенной РГО. Но Николая Николаевича не смутило это известие. Он уже предвкушал высадку на таинственном острове и готов был преодолеть любые препятствия на пути к цели.
Три месяца перед отплытием
Миклухо-Маклай правильно рассчитал, что совет РГО не станет лишать его поддержки из-за того, что он решил начать свою многолетнюю экспедицию не с омывающих Россию морей, а с островов далекой Океании. Но ученому было невдомек, что как раз в те месяцы будущая политика России в южной части Тихого океана стала предметом обсуждения в канцеляриях Военного и Морского министерств. Испрашивая по просьбе Ф.П. Литке «Высочайшее разрешение естествоиспытателя Миклуху-Маклая принять на корвет "Витязь" для совершения путешествия к берегам Тихого океана», управляющий Морским министерством Н.К. Краббе заботился не только об интересах науки.
В архиве РГО сохранилась копия докладной записки действительного члена общества барона Н.В. Каульбарса о желательности русской колонизации на Тихом океане[275]. Копия не имеет адресата и датирована 22 мая (3 июня) 1870 года, но несомненно, что она предназначалась для высоких инстанций и как бы суммировала соображения, высказывавшиеся ранее автором.
Как и следовало ожидать, интерес к Новой Гвинее и расположенным неподалеку от нее крупным островам Меланезии проявился у Каульбарса после прочтения статьи Петермана «Новая Гвинея. Немецкие призывы от антиподов», на что он сам указывает в своей докладной записке. Ее цель — обратить внимание на то, «какие огромные выгоды могла бы приобрести Россия, если бы обратила взор на один или несколько из упомянутых островов». «Англия, например, вследствие искусно обдуманного плана, — подчеркивал Каульбарс, — сумела расположить свои колонии так, что почти все главные пути всемирной торговли примыкают или пересекаются на ее территории. Россия, как держава по преимуществу сухопутная, вследствие географического своего положения, не имела тех средств, а историческое ее развитие не позволило ей до сих пор думать о дальних странах. В настоящее же время и наша торговля достигла такого развития, что в очень недальнем будущем и она будет нуждаться в опорных пунктах. Таким опорным пунктом с пользою могли бы служить острова Соломонова архипелага, а еще лучше Новая Британия и Новая Ирландия»[276].
По словам Каульбарса, намеченные им острова обладают большими природными ресурсами и сравнительно здоровым климатом, а местные жители, «папуанцы», не столь свирепы и кровожадны, как считалось раньше. Колония в этих широтах обеспечит России большие политические и торговые преимущества, позволит наладить отсюда взаимовыгодные контакты с Китаем и Австралией. Каульбарс разработал план создания этой колонии, но предупредил, что предварительно нужно произвести «точное исследование на месте, а следовательно, должна быть снаряжена экспедиция, сопровождаемая людьми компетентными и учеными по всем отраслям естествознания»[277]. Для доставки членов экспедиции в место проведения исследований и их дальнейших перевозок можно использовать русские военно-морские суда, которые ежегодно посылают в Тихий океан для замены судов, возвращающихся на Балтику. К этому месту записки Каульбарс сделал примечание: «Так, например, нынешнею осенью отправляется в Восточный океан корвет "Витязь" под командою П.Н. Назимова; на этом же судне идет на остров Новую Гвинею русский зоолог Н.Н. Миклухо-Маклай»[278]. Автор записки подчеркнул, что «эти роскошно одаренные природой острова до сих пор даже номинально никому не принадлежат, а потому никто <не> был бы вправе препятствовать России утвердиться на них», и в заключение выразил надежду, что скоро в Меланезии появится остров Новая Россия[279].
Каульбарс не предлагал, по крайней мере на первых порах, овладеть огромной Новой Гвинеей, но считал необходимым ее всестороннее изучение. Поэтому он приложил к своей записке «Программу для исследования острова Новой Гвинеи», которая предусматривала широкомасштабные картографические, физико-географические, зоологические и этнографические изыскания, возможные лишь при использовании экспедиционного судна с учеными разных специальностей[280].
При ознакомлении с запиской Каульбарса бросается в глаза его хорошая осведомленность: он с уверенностью пишет о том, что Миклухо-Маклай отправляется на Новую Гвинею, хотя сам ученый до возвращения в Россию в июле 1870 года лишь самым доверенным лицам сообщал, какой именно остров в Тихом океане он решил сделать полем своих исследований. Разгадка проста: Каульбарс был не только действительным членом РГО, но и офицером Генерального штаба, который поддерживал тесные контакты с Остен-Сакеном как с сотрудником «смежного» ведомства. Военный зарубежник, или, проще говоря, разведчик, он снабжал высокое начальство информацией и проектами по военно-политическим вопросам[281].
Каульбарс выразил в своей записке мнение, что русская колония в Меланезии должна со временем получить права и привилегии, которыми обладала недавно ликвидированная Российско-Американская компания[282]. Это наводит на мысль, что он, как и Остен-Сакен, принадлежал к числу тех чиновников и офицеров, которые были недовольны продажей Аляски и выступали за усиление роли России на Тихом океане.
Нам не удалось обнаружить следы рассмотрения предложений Каульбарса в правительственных ведомствах. Но не подлежит сомнению, что с содержанием его записки был ознакомлен главный начальник флота и морского ведомства (на правах министра и генерал-адмирала) великий князь Константин Николаевич, который был также председателем РГО. В ближайшем окружении царя он был одним из главных сторонников продажи русских владений в Америке и выступал против приобретения далеких заморских территорий. Уже одно это предопределило судьбу амбициозного проекта Каульбарса. Но дело было не только в личной позиции всесильного генерал-адмирала. Продав Русскую Америку Соединенным Штатам, правительство Александра II продемонстрировало ограниченность сил и возможностей России на Тихом океане и, более того, продолжение курса на континентальный, а не морской путь расширения империи. В «высших сферах» Петербурга не помышляли тогда о колониальной экспансии на Тихом океане, а заботились об обеспечении надежной защиты дальневосточных окраин и закреплении в Приморье, недавно присоединенном к России.
В то же время царские сановники понимали, что для российских интересов в долгосрочной перспективе небесполезны длительные исследования Миклухо-Маклая в Океании и возможное появление на ее карте русских имен. Эти соображения в конечном счете и определили благожелательное отношение морского ведомства к экспедиции, задуманной Миклухо-Маклаем. Но консерватизм руководящих чиновников этого ведомства, в том числе престарелых адмиралов, мешал изменению утвержденного маршрута «Витязя» ради доставки путешественника непосредственно на Новую Гвинею. Корвету было предписано идти традиционным путем, которого придерживались русские военно-морские суда, следующие из Балтики на Тихий океан.
Необходимость самостоятельно добираться на Новую Гвинею из Батавии существенно увеличивала, как уже отмечалось, путевые расходы Миклухо-Маклая. Субсидия в 1200 рублей, выделенная путешественнику советом РГО, могла покрыть лишь часть ожидаемых затрат. По расчетам Николая Николаевича, на первые годы его путешествия нужны были пять тысяч рублей, которые требовалось взять с собой — наличными или в виде аккредитивов на иностранные банки. Убежденный в чрезвычайной важности своей экспедиции ученый, казалось, нашел выход из положения: предложил матери продать причитающуюся ему часть акций пароходной компании «Самолет», которая вновь начала платить высокие дивиденды. Не отказывая прямо сыну, Екатерина Семеновна ссылалась на то, что не сможет выгодно продать акции до отплытия «Витязя», хотя на самом деле Николай поднял этот вопрос заблаговременно, еще до возвращения из Йены. Подлинная причина ее мягкого, но решительного отказа заключалась в том, что Екатерина Семеновна — по совету брата, отставного артиллериста Сергея Семеновича Беккера — решила стать помещицей и копила деньги на покупку имения. Уже несколько лет брат разъезжал по России, подыскивая поместье, которое можно было приобрести по сходной цене, желательно в рассрочку.
Убедившись в непреклонности матери, давшей ему немного денег лишь на текущие расходы, Миклухо-Маклай попытался одолжить недостающие средства у М.С. Воронина — видного ботаника, приват-доцента Петербургского университета, — который владел несколькими промышленными предприятиями. Эти деньги, писал ему Миклухо-Маклай, «будут уплачены по векселю в течение следующих двух лет моей матерью или в течение 1871 г. моим товарищем, князем А.А. Мещерским, которому обстоятельства в настоящий момент не позволяют мне помочь»[283]. Однако Воронин в ответном письме выразил сочувствие намеченному путешествию, но в просьбе отказал, сославшись на только что начатые два крупных дела и на семейные обстоятельства[284].
Нуждаясь в деньгах, Николай Николаевич перед самым отплытием передал в зоологический музей свои коллекции губок, собранные на коралловых рифах берегов Красного моря, причем попросил директора музея академика Брандта возместить «издержки на собирание, хранение и провоз этих коллекций», составляющие 300 рублей серебром[285]. Некоторые члены совета РГО безвозмездно снабдили молодого путешественника научными приборами и инструментами. Так, помощник директора Главной физической лаборатории в Петербурге М.А. Рыкачев дал ему новейший анероид (прибор для измерения атмосферного давления), а директор гидрографического департамента Морского министерства вице-адмирал С.И. Зеленой — термометр для измерения океанских глубин. Но все равно имеющихся у Миклухо-Маклая средств было явно недостаточно для научного предприятия такого масштаба, и во время плавания ему пришлось одалживать деньги у командира судна.
Между тем на корвете «Витязь», стоявшем в гавани Кронштадта, заканчивались последние приготовления к дальнему вояжу. Николай Николаевич несколько раз съездил в Кронштадт, познакомился с офицерами и командиром корвета Павлом Николаевичем Назимовым, осмотрел отведенную ему каюту. «Своей каютой (сравнительно большой) и своими спутниками я более или менее доволен, — писал он профессору-индологу О. Бётлингку, с которым подружился зимой 1869/70 года в Йене, — и я рассчитываю, что эти отношения сохранятся и в дальнейшем, ибо я поставил себя так, чтобы поменьше общаться с офицерами»[286]. Отплытие, первоначально назначенное на сентябрь, несколько раз откладывалось — официально из-за задержки с ремонтом и перевооружением корвета, а фактически из-за обострения международной обстановки в связи с начавшейся в июле 1870 года Франко-прусской войной[287].
Пока «Витязь» готовился к отплытию, Миклухо-Маклай решил поработать над статьей о губках Красного моря, ибо, как он писал академику Бэру, «я все-таки не могу оставлять неопубликованными две трети до сих пор выполненных работ»[288]. В тесной квартирке в доме Колпаковой, расположенном на Малом проспекте Васильевского острова, ученый целыми днями сидел за микроскопом, изучая и описывая свою красноморскую добычу. «С.-Петербург начал становиться для меня неуютным, — жаловался он Бётлингку. — Мне не хватало зелени и вида из окна»[289]. Монотонное течение почти затворнической жизни было нарушено в начале сентября запиской, полученной от П.П. Семенова.
«В Ораниенбауме (т. е. при дворе вел. кн. Елены Павловны), — говорилось в записке, — очень интересуются и Вашим будущим, и Вашими прошедшими путешествиями, и Вашею личностью, а потому желают с Вами познакомиться. Если Вы согласны на такое знакомство, то приезжайте за мною в воскресенье поутру на дачу со вторым поездом и даже с первым; мы поедем вместе в Ораниенбаум, проночуем там во дворце и вернемся в понедельник, а если Вы не захотите ночевать, то уедете в воскресенье вечером. <…> Если Вы согласитесь и ночевать, то захватите свой Reisesack (саквояж. — Д. Т.). Если у Вас есть в запасе фрак, то захватите его с собою, если же нет, то и в этом надобности нет, потому что Ораниенбаумский Двор очень мало заражен этикетом»[290]. Разумеется, Миклухо-Маклай не преминул воспользоваться этим приглашением.
Великая княгиня Елена Павловна (вдова великого князя Михаила Павловича, брата Николая I) отличалась широкой образованностью и умом. Вокруг нее группировались либеральные государственные и общественные деятели, которые сыграли важную роль в отмене крепостного права и проведении других реформ 1860-х годов — братья Милютины, Я.И. Ростовцев, Ю.Ф. Самарин, князь В.А. Черкасский, К.Д. Кавелин и др. В эту группу входил и П.П. Семенов. Взгляды либеральных реформаторов разделял великий князь Константин Николаевич, который многие годы поддерживал тесные контакты с Еленой Павловной и ее окружением.
Елена Павловна много занималась благотворительностью, охотно выступала в роли мецената — покровителя наук и искусств. По воспоминаниям современников, она покровительствовала талантливой молодежи. «"Подвязать крылья" начинающему таланту, — писал А.Ф. Кони, — доставляло ей истинную радость; поддерживать развивающийся талант, в минуты уныния и упадка духа в его обладателе, она считала своей нравственной обязанностью»[291]. Салон Елены Павловны в Михайловском дворце посещали видные сановники, ученые, писатели, художники и музыканты. На лето ее двор перемещался в Ораниенбаум. На протяжении многих лет, вплоть до отъезда в Дерпт, постоянным посетителем ее салона был К.М. Бэр. Как утверждает младший брат нашего героя, именно Бэр рекомендовал его Елене Павловне.
Радушный прием и всеобщее внимание, особенно со стороны придворных дам, ожидавшие Миклухо-Маклая в Ораниенбауме, привели к тому, что он находился там не один день, а несколько недель. Живя во дворце, он продолжал свои ученые занятия, отдыхал в прекрасном парке и в то же время постигал обычаи и нравы высшего общества. «У меня комфортабельное жилище в главном дворце, — сообщал он Бётлингку. — В рабочей комнате находятся микроскоп, мои губки с Красного моря и книги, так что я могу спокойно продолжать свою работу. Пешеходные прогулки к морю и по парку, а по вечерам музыка (временами прекрасная: сюда был приглашен на несколько дней Антон Рубинштейн) превосходно заполняют весь день и создают весьма приятный и оригинальный контраст моей жизни в будущем году у папуасов. <…> Я в общем доволен моим здесь пребыванием, тем более что придворный этикет здесь отнюдь не строг и к тому же я, как будущий папуас, пользуюсь большей свободой в отношении всех этих мелочей, чем те, кто останутся европейцами. Но есть и теневая сторона: многочисленные разговоры (в которых мне приходится быть рассказчиком) о папуасах и Новой Гвинее, да и ежедневные бодрствования до 1 или 2 часов ночи мне положительно не по вкусу»[292].
Живя в Ораниенбауме, Миклухо-Маклай не только хорошо отдохнул и поработал, но завел полезные знакомства в высших сферах. Так, известный геолог граф А.А. Кейзерлинг написал по его просьбе письмо своему приятелю — русскому посланнику в Голландии Н.В. Кноррингу, в котором просил достать для Николая Николаевича открытое письмо от министра колоний управляющим голландскими владениями в Ост-Индии, чтобы они «оказали возможную для них помощь господину М. при его научных изысканиях»[293]. Более того, находясь в Ораниенбауме, Миклухо-Маклай сумел добиться решения важного вопроса — нужного ему изменения маршрута «Витязя».
Ближайшей сподвижницей Елены Павловны была ее фрейлина баронесса Эдита Федоровны Раден (1825 — 1885), которая «отфильтровывала» интересных людей, а также достойные поддержки прошения и идеи для Елены Павловны. Она живо заинтересовалась смелыми планами и неординарной личностью Миклухо-Маклая, решила помочь молодому путешественнику, а впоследствии покровительствовала его сестре Ольге. Вероятно, по ее инициативе Николай Николаевич составил меморандум для П.П. Семенова. В этом любопытном документе, черновик которого удалось обнаружить в одном из петербургских архивов, он обосновал целесообразность доставки его «Витязем» непосредственно на Новую Гвинею.
«Это отступление от маршрута, — писал Миклухо-Маклай, — повлечет за собою только небольшой объезд и очень незначительную трату времени и может иметь для научного успеха моей экспедиции большое значение, а именно: в Большой Новогвинейский залив (залив Папуа. — Д. Т.) на южном берегу Новой Гвинеи впадает река Aird (ныне Кикори. — Д. Г.); эта река известна только при одном ее впадении, весьма значительна, имея при устье четыре-пять английских миль и неся в море такую значительную массу воды, что на очень большом расстоянии делает верхние слои морской воды пресными. Вследствие этого можно рассчитывать, что эта река имеет большое протяжение и, таким образом, образует самое удобное <и> верное средство проникнуть вовнутрь острова. Этим обстоятельством можно воспользоваться, если будет разрешено корвету зайти на Новую Гвинею, так как на "Витязе" будет находиться маленький пароходик, который может с большим удобством употребляться в дело. <…> Эта экскурсия во внутреннюю Новую Гвинею может иметь полный успех и не задержит корвет, который отправится вдоль северного берега Новой Гвинеи и en passant высадит меня где-нибудь на северном берегу около залива Гумбольдта»[294].
Обсудив содержание меморандума с Семеновым, баронесса Раден убедила великую княгиню употребить свое влияние на то, чтобы добиться изменения маршрута «Витязя». 6 октября 1870 года Миклухо-Маклай сообщил Мещерскому: «На днях виделся я с вел. кн. Константином Николаевичем и успел устроить то, что хотел, т. е. "Витязь" отвезет меня в Новую Гвинею. Обо всем сообщу обстоятельно при свиданье»[295].
Романтический ореол, окружавший ученого в связи с намерением поселиться среди «дикарей» на Новой Гвинее, обеспечил симпатичному сероглазому шатену с тонкими чертами лица, окаймленного курчавой бородкой, большой успех у женщин. «Он легко покорял женские сердца, — вспоминает его брат Михаил, явно имея в виду месяцы, предшествовавшие отплытию «Витязя», — но я не припомню и не знаю, чтобы кто-нибудь из них покорил его сердце»[296]. «Без всякого сомнения он был расположен и симпатизировал некоторым девушкам и женщинам, — говорится в другом варианте воспоминаний Михаила, — но это чувство никогда не превозмогало его целей и оно было мимолетно»[297]. Как видно из сохранившихся черновиков его писем того периода, Николай Николаевич обменивался фотографиями с понравившимися ему барышнями и дамами, иногда дарил им свои рисунки. Но эти знакомства, по-видимому, не всегда ограничивались легким флиртом. В июле 1871 года, когда «Витязь» на пути к Новой Гвинее зашел на остров Таити, Миклухо-Маклай наблюдал эротические пляски островитянок. Одна из полуобнаженных танцовщиц напомнила ученому его приятельницу Н. В., и, как он пометил в записной книжке, его мужское естество пришло в крайнее возбуждение[298]. Примечательно, что инициалы Н. В., причудливо изображенные, неоднократно встречаются на полях черновика ораниенбаумского письма Миклухо-Маклая Бётлингку[299]. Раскрыть эти инициалы не удалось.
19 октября 1870 года Миклухо-Маклай выступил на общем собрании РГО с докладом о программе своей экспедиции. «Путешествие рассчитано лет на семь или восемь, — заявил ученый, — а потому план его может быть начертан лишь в кратких и неопределенных чертах. Первые годы думаю провести на берегах тропических морей, а затем продвигаться постепенно на север, до берегов Охотского моря и северных частей Тихого океана. Первым же полем моей деятельности будет Новая Гвинея»[300]. Сообщив, что «зоологические работы будут касаться преимущественно низших форм животных в их естественной обстановке»[301], он далее ограничился изложением рекомендаций, полученных — при личном общении или по почте — от двенадцати западноевропейских и трех российских ученых. Эти «desiderata» Миклухо-Маклай сгруппировал в три больших раздела (физическая география и метеорология; этнография и антропология; политическая экономия), снабдив отдельными дополнениями и комментариями.
Как вспоминает Остен-Сакен, «Программа предполагаемых исследований», доложенная Миклухо-Маклаем, была встречена с недоумением, так как члены РГО понимали, что выполнение разнообразных и многочисленных пожеланий европейской научной элиты явно не по плечу одному путешественнику[302]. Присутствовавшие, вероятно, не обратили внимания на предупреждение, которое Николай Николаевич сделал в самом начале своего доклада: «Многие из вопросов, предложенных для исследования, вряд ли будут мне по силам. <…> Тем не менее я считаю своим долгом сообщить здесь все эти вопросы, так как они составлены специалистами, известными знатоками дела, и обнаруживают те пробелы, которые предстоит пополнить»[303]. Сходную оговорку ученый сделал, завершая доклад: «Собирая эти научные desiderata, я хотел только выслушать все то, что могут от меня требовать специалисты по разным научным отраслям. Насколько и каким образом могут быть исполнены эти задачи — окажется на месте. Со своей стороны я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы мое предприятие не осталось без пользы для науки»[304].
Но помимо недоумения, вызванного необъятной широтой заявленных в докладе задач, многие присутствовавшие, по словам Остен-Сакена, сочли сам проект долголетних исследований в далеких тропических странах «чем-то диким», ненужным для России. Часть аудитории открыто потешалась над малопонятными ей специальными рекомендациями по антропологии и этнографии. Особое оживление вызвал совет Геккеля обратить внимание на длину мужского полового члена у разных рас. Преподаватель кадетского корпуса литератор Д.А. Кропотов разразился гневной тирадой: «Да что это такое, как ему не стыдно, это немцы над ним посмеялись, а он не понимает. Измерять длину полового члена — да, спрашивается, в каком состоянии его измерять, что за вздор!»[305] К счастью, по уставу РГО не требовалось одобрения программы общим собранием членов общества. Между тем еще за неделю до этого собрания ученый получил письмо от квартировавшего в Кронштадте командора «Витязя» П.Н. Назимова. Павел Николаевич сообщил, что на корвете завершаются последние приготовления к походу и вскоре судно будет переведено из гавани на внешний рейд.
В связи с подготовкой экспедиции Миклухо-Маклая вице-председатель РГО Ф.П. Литке обратился к заместителю министра иностранных дел В.И. Вестману с просьбой «снабдить означенного путешественника открытым рекомендательным письмом ко всем русским консулам в портах, находящихся на прибрежьях и островах Тихого океана»[306]. Откликаясь на эту просьбу, Вестман препроводил в совет РГО «открытый лист для естествоиспытателя Миклухо-Маклая». Через несколько дней — в ответ на аналогичную просьбу — Министерство внутренних дел прислало в РГО «заграничный паспорт на имя дворянина Н. Миклухо-Маклая, командированного с ученой целью»[307]. Так была фактически легализована двойная фамилия нашего героя.
Миклухо-Маклай все чаще приезжал из Петербурга в Кронштадт, чтобы постепенно освоиться на «Витязе» и обустроить свою каюту. 29 октября в Кронштадт прибыл великий князь Константин Николаевич, пожелавший осмотреть суда (корвет «Витязь», клипер «Изумруд», шхуны «Ермак» и «Тунгуз»), которым предстояло совершить вояж на Тихий океан. Как сообщила на следующий день газета «Кронштадтский вестник», во время пребывания генерал-адмирала на «Витязе» «не была также забыта просторная и удобная каюта, отведенная на корвете нашему известному ученому путешественнику г-ну Миклухо-Маклай, отправляющемуся в продолжительное и трудное путешествие для исследования внутренности острова Новой Гвинеи, некоторых других островов Тихого океана, острова Сахалина и Камчатки», причем «великий князь долго и весьма милостиво разговаривал с ним»[308].
«Во время этого разговора, — сообщалось в газете, — г-н Миклухо-Маклай передал великому князю письмо от <…> великой княгини Елены Павловны, которая просила, чтобы офицеры корвета "Витязь" <…> оказали некоторое содействие нашему ученому путешественнику, сделав в течение нескольких недель гидрографическое исследование устья и части русла до сих пор едва известной реки Айирд, протекающей, как полагают, почти через всю центральную часть Новой Гвинеи»[309]. По сообщению Назимова, Константин Николаевич передал ему эту записку, сказав: «Я убежден, что ты сделаешь все для него (Миклухо-Маклая. — Д. Г.), и потому поручаю тебе выполнить просьбу Ее Высочества»[310]. Ниже мы увидим, в какой мере удалось выполнить это поручение.
Вспоминая через 17 лет о своем разговоре с Константином Николаевичем на борту «Витязя», Миклухо-Маклай умолчал о замысле проникнуть во внутренние районы Новой Гвинеи по реке Эйрд (Кикори) и самом письме Елены Павловны, зато упомянул о некоторых других пожеланиях, высказанных им великому князю: «Ввиду того, что я не могу сказать заранее, как долго мне придется прожить в Новой Гвинее, так как это будет зависеть от местной лихорадки и от нрава туземцев, я принял предосторожность запастись несколькими медными цилиндрами для манускриптов разного рода (дневников, заметок и т. п.), которые могут пролежать зарытыми в земле несколько лет. Я был бы поэтому очень благодарен е.и.в., если бы можно было устроить таким образом, чтобы судно русское военное зашло через год или несколько лет в то место берега Новой Гвинеи, где я останусь, с тем чтобы, если меня не будет в живых, мои рукописи в цилиндрах были бы вырыты и пересланы имп. Русск. Географическому обществу»[311]. «Выслушав меня внимательно, — добавил Миклухо-Маклай, — е.и.в., пожимая мне на прощанье руку, сказал, что обещает не забыть ни меня, ни мои рукописи на Новой Гвинее».
Неизвестно, как проходило прощание путешественника со своей семьей, но едва ли оно было особенно сердечным. Единственное исключение — сестра Ольга, которая искренне печалилась долгой разлуке с любимым братом. По ее словам, Николай Николаевич попросил хранить все его письма в особом пакете «для своей будущей биографии»[312]. Похоже, он твердо верил в свое предназначение.
Наконец была назначена окончательная дата отплытия «Витязя». В этот день с борта корвета Миклухо-Маклай отправил два коротких письма: одно — матери и сестре, другое — Александру Мещерскому. В первом письме говорилось: «До свидания или прощайте. Держите обещания ваши, как я свои». Второе письмо, не имевшее, впрочем, юридической силы, свидетельствовало о непростых отношениях в семействе Е. С. Миклухи: «В случае, если я не вернусь из предстоящего путешествия, желаю, чтобы все, что мне следует или придется, перешло сестре моей Ольге»[313].
В полдень 8 ноября 1870 года корвет «Витязь» с 24-летним путешественником на борту вышел из Кронштадта в дальний вояж.
Глава пятая. К ОСТРОВАМ ДАЛЕКОЙ ОКЕАНИИ
Прощание с Европой
В период подготовки Миклухо-Маклая к экспедиции на Новую Гвинею в России была очень популярна книга И.А. Гончарова «Фрегат "Паллада"», в которой писатель красочно и вместе с тем достоверно описал свое путешествие на этом фрегате в Китай, Японию и на русский Дальний Восток в 1852 — 1854 годах. «Паллада», как и «Витязь», вышла из Кронштадта поздней осенью и сразу же попала в жестокий шторм, когда, по выражению писателя, «палуба вырывается из-под ног и море как будто опрокидывается на голову»[314]. Штормовые ветры с дождем и снегом обрушивались на фрегат и в Финском заливе, и в самом Балтийском море. Гончаров не был подвержен морской болезни, но и он при сильной качке не мог «ни читать, ни писать, ни думать свободно»[315].
В отличие от Гончарова Миклухо-Маклай не вел на «Витязе» — во всяком случае до выхода в Атлантику — путевого дневника, но из его краткого письма сестре, отправленного по прибытии корвета в Копенгаген 14 ноября 1870 года, видно, какие испытания пришлось пережить ученому в первую неделю плавания, когда «прикачивание» проявляется особенно остро: «Последние дни потерпели мы сильный шторм: утлегарь сломало, несколько парусов порвало в тряпки, руль тоже повредило. Ветер и море задали славный концерт. Во время плавания этого я страшно мерз, все белье мокро и холодно оказалось. <…> Холод, пробирающая до костей сырость и мороз, которые мешают всяким разумным занятиям, почти что не уменьшаются в Немецком (Балтийском. — Д. Т.) море»[316].
В Копенгагене Назимов и Миклухо-Маклай узнали из газет «о затруднениях, возникших между Россией и европейскими державами по поводу черноморского вопроса». После поражения Франции в войне с Пруссией и падения Второй империи Россия в октябре 1870 года объявила, что больше не считает себя связанной условиями Парижского трактата, запрещавшего ей иметь на Черном море военный флот. Это вызвало большое недовольство в правящих кругах Англии, пытавшихся даже угрожать русскому правительству войной. Эти сообщения встревожили командира «Витязя» и его пассажира. Назимов обратился за указаниями к русскому посланнику в Копенгагене Н.В. Кноррингу, но оказалось, что тот знаком с ситуацией только из газет, «с той разницей, — съязвил Павел Николаевич в письме ученому, — что я читал газетные известия всегда двумя днями раньше его». По просьбе Назимова посланник запросил телеграммой инструкции у канцлера Горчакова, но глава дипломатического ведомства счел за лучшее не спешить с ответом на этот деликатный вопрос. Тогда командир «Витязя» решил продолжить плавание по предписанному ему маршруту, но как можно скорее уйти от европейских берегов. 29 ноября он прибыл в Портсмут, а оттуда через восемь дней перешел в Плимут, расположенный на юго-западной оконечности Англии, чтобы пополнить запасы угля и свежей провизии и изготовить судно к длительному плаванию по Атлантическому океану.
Что касается Миклухо-Маклая, то он согласно предварительной договоренности покинул корвет в Копенгагене, чтобы совершить поездку по европейским городам и вернуться на борт в английском порту, откуда «Витязь» выйдет в океан. Четыре дня ученый пробыл в Копенгагене, а оттуда отправился в Германию, Голландию и Бельгию. В его записной книжке зафиксированы маршрут и график этой поездки: Гамбург (17-18 ноября), Берлин (19 — 24 ноября), Галле (25 ноября), Иена (26 — 27 ноября), Гота (28 ноября), Кёльн (29 ноября), Гаага (29 ноября — 2 декабря), Роттердам (2 декабря), Антверпен, Гент (3 декабря), Остенде (4 декабря). На следующий день Николай Николаевич прибыл пароходом в Лондон, а затем отправился к месту стоянки «Витязя».
Во время этой поездки Миклухо-Маклай посещал музеи и библиотеки, встречался с официальными лицами, учеными и предпринимателями, чтобы получить рекомендательные письма или дополнительные консультации по интересовавшим его научным проблемам, приобретал недостающее экспедиционное оборудование, причем счета за покупки нередко отправлял для оплаты в Петербург — старшему брату или А.А. Мещерскому.
Сам ученый в своих письмах сообщил мало конкретных данных об этой поездке, но по прибытии в Англию рассказал о ней командиру «Витязя». Летом 1872 года, когда распространился слух о смерти Миклухо-Маклая от «злокачественной лихорадки», П.Н. Назимов по приказу начальства составил подробную «Записку» о пребывании Миклухо-Маклая на «Витязе» от Кронштадта до Новой Гвинеи. В этом интересном документе мы находим и некоторые сведения о поездке ученого по европейским городам в ноябре — декабре 1870 года[317].
Однако поездка Миклухо-Маклая по городам Европы была предпринята не только в интересах дела, но и имела эмоциональную составляющую. Ученый прощался с друзьями и коллегами (например, с Дорном, встреченным в Йене) перед долгой разлукой, возможно — навсегда. Собеседники Николая Николаевича восхищались смелостью его планов, но считали их неосуществимыми. «Все они согласны, — писал он сестре, — что выбор мой совершенно удачен, что мое путешествие и задача очень важны, но вместе с тем опасны. Я не встречал ни одного порядочного дельного человека, который бы мне не позавидовал бы, но вместе с тем не прибавил какое-нибудь многозначительное: оо! аа! или aber etc.»[318].
Заботы и мрачные предчувствия, охватившие ученого во время поездки по Европе, не помешали проявлению такого свойства его личности, как внезапная, но обычно мимолетная влюбленность. В вагоне поезда на пути из Копенгагена в Гамбург он познакомился с голландским консулом в Киле Андреасом Шмидтом и его молоденькой дочерью, которая, как тогда выражались, затронула сердечные струны нашего героя. На вокзале в Гамбурге Николай Николаевич отправил буквально вдогонку удалявшемуся поезду письмо взволновавшей его девушке, имя которой не сохранилось на черновике: «Не могли бы Вы послать мне Вашу фотографию на память о сегодняшнем дне?! <…> Прошу в любом случае ответить, с фотографией или без нее… Ведь Вы не откажете будущему новогвинейскому отшельнику в этом маленьком датском воспоминании»[319]. Получил ли ученый ответ от дочери Андреаса Шмидта, установить не удалось. Но в 1873 году Петерман сообщил Миклухо-Маклаю, что «некая, увы, мне неизвестная, но во всяком случае весьма взволнованная дама» неоднократно справлялась о судьбе русского ученого и очень обрадовалась, когда узнала, что он жив и здоров[320]. Была ли это дочь Андреаса Шмидта или одна из йенских приятельниц Миклухо-Маклая? У нас нет ответа на этот вопрос.
В Лондоне, в доме Томаса Хаксли, Николай Николаевич встретился с Альфредом Уоллесом — известным английским путешественником и натуралистом, выдвинувшим одновременно с Дарвином теорию естественного отбора, одним из основателей зоогеографии. По словам Уоллеса, молодой русский исследователь произвел на него и Хаксли огромное впечатление смелостью и гуманистической направленностью своих замыслов. «Его идея заключалась в том, что вы ничего не сможете толком узнать о туземцах, если не поселитесь среди них и не станете почти что одним из них, — вспоминает Уоллес. — Самое главное — завоевать их доверие, а потому вы должны с самого начала полностью им доверять. <…> Хаксли и я сочли этот план крайне опасным, но он твердо решил попытаться его осуществить»[321]. Как видим, Миклухо-Маклай изложил новаторские для того времени принципы полевой этнографической работы. Их претворение в жизнь сделало его одним из предтеч этнологии XX века. Не случайно классик английской этнологии Б. Малиновский, который в 1915 — 1918 годах проводил исследования на Тробрианских островах, расположенных у восточной оконечности Новой Гвинеи, назвал Миклухо-Маклая «ученым нового типа»[322].
Хаксли пригласил русского ученого на заседание Лондонского этнологического общества, на котором он демонстрировал оттиски с двух деревянных табличек с таинственными значками, привезенных экспедицией И.Л. Ганы с острова Пасхи. Сам Хаксли «очень сомневался, чтобы на этих досках было изображено что-нибудь шрифтообразное, а предполагал, что эти доски могли служить как штемпеля при выделывании тапы». Между тем в Берлине Адольф Бастиан, тремя неделями раньше ознакомивший Николая Николаевича с публикацией упомянутых оттисков в немецком географическом журнале, считал, что это были «первые письмена, найденные у островитян Тихого океана»[323]. Столь решительное расхождение во мнениях двух признанных научных авторитетов еще более возбудило у Миклухо-Маклая интерес к острову Пасхи, о котором он, готовясь к своему путешествию, немало прочитал в книгах русских и западноевропейских мореплавателей, посещавших остров в конце XVIII — первой половине XIX века.
Прежде чем покинуть берега Туманного Альбиона, как нередко называли тогда Великобританию, Миклухо-Маклай собирался непременно посетить «даунского отшельника» — Чарлза Дарвина, который теперь интересовал его не только как выдающийся теоретик, но и как путешественник-натуралист, участвовавший в молодости в кругосветной экспедиции на корабле «Бигль», вошедшей в анналы мировой науки. «Каждый путешественник, — писал Дарвин, завершая свой труд об этой экспедиции, — должен помнить то яркое ощущение счастья, какое он испытал, впервые вдохнув в себя воздух чужой страны, где прежде редко бывал, а то и не ступал вовсе цивилизованный человек»[324]. Николай Николаевич приобрел эту книгу Дарвина и, по-видимому, хотел получить у прославленного ученого советы и практические рекомендации. Но встретиться им не довелось.
Вскоре после прихода «Витязя» в Портсмут его командир был вызван в Лондон к русскому посланнику Ф.И. Бруннову, который, как вспоминает Назимов, «хотя и выразил политическое положение в совершенно мирном духе, однако я понял, что терять время не следует»[325]. Бруннов вел тогда трудные переговоры с британским министерством иностранных дел о путях преодоления кризиса, вызванного денонсацией Россией Парижского трактата, и к началу декабря их исход еще не был очевиден. 19 декабря в Плимут, куда к этому времени перешел «Витязь», приехал морской агент (военно-морской атташе) русского посольства капитан 2-го ранга Н.И. Казнаков. Он «сообщил мне, — пишет Назимов, — особые секретные инструкции для предстоящего плавания, вследствие которых я телеграфировал Миклухе о немедленном прибытии на корвет и на другой день утром <…> снялся с якоря и вышел в океан»[326].
В своей «Записке» Назимов ничего не сообщает о содержании секретных инструкций (переданных ему, вероятно, устно), но их сущность мы узнаем из записной книжки Миклухо-Маклая: «Вследствие новой, полученной в Плимуте инструкции морского министерства "Витязь", изменив свой маршрут, идет вместо мыса Доброй Надежды вокруг мыса Горн и прямо в восточные порты Сибири»[327]. Изменение маршрута было вызвано желанием проложить его подальше от английских колониальных владений. Но исполнение указания следовать прямо в порты Восточной Сибири означало, кроме того, крах надежд Миклухо-Маклая. «Таким образом, — писал ученый, — весь мой план путешествия до Новой Гвинеи остается проектом; все старания касательно доставления меня в Новую Гвинею останутся совсем напрасными, если не окажется какой-нибудь возможности, разумеется в случае мира, изменить положение дел»[328]. Пожалуй, ни один человек на свете не желал так страстно мирного урегулирования «черноморского кризиса», как Миклухо-Маклай.
Переход через Атлантику
Выйдя из Портсмута, «Витязь» начал переход через Атлантический океан при свежем северном ветре, нередко крепчавшем до штормового. 29 декабря 1870 года, в темную бурную ночь, корвет столкнулся с трехмачтовым немецким барком, захваченным французами, который шел, не соблюдая мер предосторожности, без бортовых огней. Как доносил Назимов в Морское министерство, он «успел только принять через борт на палубу корвета капитана барка, его помощника и 8 человек команды, как пробитый в носовой части барк начал тонуть. Сцепления с корветом снастями не было, и корвет от столкновения не пострадал. <…> В темноте ночи и на большой зыби разбитый барк быстро скрылся, погрузившись на дно»[329]. Назимов немедленно приказал лечь в дрейф и принять меры для спасения оставшихся на барке. «При сборе и опросе спасенных оказалось, что погибло только двое. <…> Я все-таки остался лежать в дрейфе до рассвета, чтобы по возможности осмотреть горизонт». Утром, когда «оказалось, что на горизонте ничего не было видно <…> мы взяли курс на Мадеру (Мадейру. — Д. Т.), как ближайший пункт, чтобы высадить спасенных»[330].
Так по воле случая Миклухо-Маклай 31 декабря вновь оказался на рейде Фуншала — главного города португальского острова Мадейра, прославленного за природные красоты, плодородие почвы и целебный климат многими путешественниками. В 1866 году Геккель и его спутники провели на Мадейре два дня. Насей раз Николай Николаевич, по-видимому, вообще не сходил на берег. Через день «Витязь» вышел в открытое море и направился к островам Зеленого Мыса, также принадлежавшим Португалии.
8 января 1871 года корвет бросил якорь в гавани Порто-Гранде на острове Сан-Висенти. Этот гористый вулканический остров, как и весь архипелаг Зеленого Мыса, испытывает иссушающее влияние африканских пустынь. Здесь господствовала, по наблюдениям Гончарова, «грозная безжизненность от избытка солнца и недостатка влаги»[331]. «В Порто-Гранде, — рапортовал Назимов, — намерен остаться на две или три недели, во-первых, для получения европейской почты, а, во-вторых, для приведения корвета в должный вид по чистоте и окраске, которую до сих пор не мог произвести как следует по причине сырых погод в Англии»[332]. По словам судового врача Ф.К. Кролевецкого, стоянка в Порто-Гранде «оказала очень хорошее влияние на здоровье команды; часть людей ежедневно свозили на берег. <…> Для больных нанят был в городе большой частный дом»[333]. Больше всех был измотан трудным плаванием «пассажир» — Миклухо-Маклай.
Как писал ученый сестре по прибытии в Порто-Гранде, «сильно качало вообще все время так, что иногда трудно было удержаться в койке, и обедать и завтракать было не легкою задачею: все валилось, катилось, и иногда самого себя приходилось привязывать, чтобы не слететь с постели или со стула»[334]. В этом и других письмах Николай Николаевич умалчивает о своей приверженности морской болезни, но на нее недвусмысленно указывает Назимов, сообщая в «Записке» о пребывании ученого в Порто-Гранде: «На переходе до островов Зеленого Мыса Миклуха-Маклай большею частью страдал морской болезнью; по прибытии на остров Сан-Висент <…> он просил устроить ему на берегу моря палатку для различных наблюдений и собирания морских животных, но преимущественно губок». В свободное время, по словам Назимова, Миклухо-Маклай делал зарисовки «типов местных жителей <…> таких экземпляров у него было много и, должно сказать, все весьма удачно выполнены». Простудившись «в палатке, поставленной у самой воды», Николай Николаевич «поселился в наемной квартире на берегу»[335].
Из газет, доставленных в Порто-Гранде почтовым пароходом, командир «Витязя» и его пассажир узнали, что в январе 1871 года в Лондоне созывается международная конференция для пересмотра некоторых статей Парижского трактата; это предвещало мирное урегулирование кризиса, вызванного демаршем Горчакова. 11 января Назимов отправил в Петербург рапорт, который непосредственно касался участи Миклухо-Маклая. Павел Николаевич писал управляющему Морским министерством Н.К. Краббе: «Имею честь просить Ваше Высокопревосходительство разрешить мне в случае мирных отношений с другими державами, что узнается в Вальпарайзо (Вальпараисо. — Д. Т.), отправиться в Австралию для высадки на берег Новой Гвинеи имеющегося на корвете натуралиста Миклухи-Маклая, а оттуда уже идти на соединение с эскадрою, через Японию»[336]. Этот рапорт, отправленный, по-видимому, по просьбе ученого, и ободряющие известия из Европы явно улучшили настроение Миклухо-Маклая.
Еще до перехода через северный тропик «Витязь» вошел в зону пассатных ветров, которые дуют ровно и беспрестанно, при волнении моря не более двух-трех баллов. Сравнительно небольшая и ритмичная качка существенно не влияла на самочувствие Миклухо-Маклая. Если он и не вполне «прикачался», то во всяком случае смог возобновить работу над статьей о губках Красного моря, которую не успел закончить до отплытия из Кронштадта. Эта работа была завершена к прибытию корвета в Рио-де-Жанейро и отправлена оттуда в Петербургскую академию наук, но осталась тогда неопубликованной.
Продолжая движение на юго-запад, «Витязь» пересек зону пассатов и вошел в приэкваториальную штилевую зону. Море здесь едва колыхалось, не было видно ни одного всплеска. 3 февраля клипер совсем заштилел. Миклухо-Маклай воспользовался благоприятной обстановкой, чтобы с разрешения командира судна произвести долгожданный эксперимент — измерение температуры морских глубин с помощью приборов и приспособлений, полученных в Англии.
Отдельные океанографические наблюдения включались в программы морских экспедиций еще в XVIII веке, но океанография как особая научная дисциплина, изучающая океанские ветры и течения, глубины и рельеф дна, распределение температуры на поверхности и по вертикали, закономерности движения вод в океанских глубинах и т. д., во время плавания Николая Николаевича на «Витязе» находилась еще в младенческом состоянии. Как было заведено на флоте, измерения температуры на поверхности и на небольших глубинах регулярно проводились на «Витязе» и их результаты заносились в судовой журнал. Ученый переносил эти данные в свою записную книжку, а нередко самостоятельно проводил такие измерения. Но, как понимал Миклухо-Маклай, для создания сколько-нибудь обоснованных теорий или даже гипотез, раскрывающих особенности «климата океана» — похоже, он первым ввел этот термин в научный оборот, — необходимы были измерения температуры на больших глубинах в разных районах Мирового океана. Аппараты и приспособления для таких исследований были изобретены и испытаны английскими учеными в самом конце 1860-х годов.
Мы не станем описывать здесь ход эксперимента и употребленные технические средства: читатель, заинтересовавшись, сможет прочитать об этом в статье, написанной Миклухо-Маклаем на «Витязе» и уже осенью 1871 года опубликованной в «Известиях» РГО[337]. Отметим лишь, что успеху исследования способствовали дополнительные приспособления, которые, по сообщению командира «Витязя», придумал старший офицер корвета лейтенант П.П. Новосильский. Весь эксперимент занял три часа. Опущенный на прочном тросе на глубину 1000 саженей (1829 метров) аппарат со специальными термометрами и несколькими грузилами не достиг дна. На этой глубине термометры зафиксировали+3,5 градуса С, тогда как температура воды на поверхности достигала +27,56 градуса С. Миклухо-Маклай сознавал, что проведенное им глубоководное исследование — лишь кирпичик для построения будущей теории, но, «суммируясь с другими подобными же, поможет подтвердить какое-нибудь интересное научное обобщение»[338].
Воспользовавшись штилем, Николай Николаевич занялся излюбленным делом — изучением простейших морских организмов. Назимов вспоминает, что ученый исследовал под микроскопом мельчайшие существа, которые он добывал с помощью сеток и драг[339]. Обычно «Витязь» шел под парусами. Сберегая уголь, Назимов лишь в особых ситуациях (входя в гавань при противном ветре, в местах, опасных для мореплавания, при полнейшем безветрии) приказывал разводить пары. Именно так ему пришлось поступить для выхода из штилевой зоны. 7 февраля «Витязь» пересек экватор, и в тот же день матросы поймали голубую акулу. Хотя этот вид селахий был уже подробно описан в его труде «Материалы по сравнительной анатомии позвоночных», Николай Николаевич, как пишет Назимов, «анализировал и препарировал голову и мозг» пойманной акулы[340].
Небольшая ритмичная качка в пассатной зоне Южного полушария уже серьезно не мешала Миклухо-Маклаю. Поэтому к приходу корвета в Рио-де-Жанейро он смог выполнить свою программу-минимум: наконец завершил, как уже упоминалось, и переписал набело свою многострадальную статью о губках Красного моря и подготовил сообщение «Об исследовании температуры глубин океана». Одновременно он принялся усиленно штудировать книгу Чарлза Дарвина «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле "Бигль"», так как «Витязю» предстояло пройти вдоль тех берегов Южной Америки, где несколько лет проводил исследования великий натуралист.
У берегов Южной Америки
Утром 20 февраля 1871 года «Витязь» бросил якорь на рейде столицы Бразилии, и Миклухо-Маклай с первой же шлюпкой отправился на берег. «По прибытии в Рио-Жанейро, — вспоминает Назимов, — он проводил время преимущественно на берегу и, насколько мне известно, заботился только о приобретении <рисунков и фотографий> разных типов населения Бразилии и о редких рыбах, появляющихся на рыбных рынках, для анализа мозгов»[341].
Если Дарвин во время двукратного пребывания в Рио-де-Жанейро лишь изредка отвлекался от естественно-научных изысканий, чтобы занести в дневник, а потом в описание экспедиции свои чувства возмущения рабством негров и связанными с этим жестокостями, то Миклухо-Маклай — как в 1866 году в городах Красного моря — был поглощен наблюдениями над пестрым населением бразильской столицы, уделяя меньше внимания зоологическим штудиям.
«Улицы и рынки в Рио представляют для путешественника, интересующегося антропологией), обширное поле наблюдений, — писал ученый в своем незаконченном сообщении о пребывании у берегов Южной Америки. — <…> На каждом шагу встречаются представители разных рас или продукты их помеси. В двух третях низшего сословия здесь течет чистая африканская кровь или преобладает в нем. Первобытного населения — индейцев — здесь почти не приметно; изредка только попадается метис, которого неопытный еще наблюдатель только с трудом отличает от родившегося здесь европейца. <…> Чтобы иметь случай видеть вблизи большое количество цветного населения, я посетил больницу в Рио, где я имел полную возможность осмотреть несколько сотен объектов обоего пола»[342]. Часами бродил ученый по рынкам — не столько для того, чтобы приобрести экзотические образцы морской фауны, сколько для наблюдения за собиравшимися там людьми разных рас. Наиболее интересные «образчики» Николай Николаевич приводил к фотографу, который снимал их «без одежды, с трех сторон и в пяти положениях»[343]. Судьба этих фотографий, к сожалению, неизвестна.
Миклухо-Маклай с нетерпением ждал ответа из Петербурга на рапорт Назимова с просьбой разрешить «Витязю» зайти в Австралию и затем высадить ученого на Новой Гвинее. Зная, что кризис из-за демарша Горчакова уже миновал самую острую стадию, Николай Николаевич надеялся на благоприятное для него решение вопроса и в письмах из бразильской столицы просил направлять ему корреспонденцию в австралийский порт Мельбурн. 9 марта 1871 года Назимов ушел из Рио-де-Жанейро, здраво рассудив, что при тогдашних средствах сообщения ответ из Петербурга не скоро дойдет до Бразилии; он надеялся, что почтовый пароход с депешей из Морского министерства догонит «Витязь» в одной из южноамериканских гаваней вплоть до чилийского порта Вальпараисо. Павел Николаевич повел корвет на юго-запад, к Магелланову проливу, чтобы пройти через него в Тихий океан.
Морская стихия снова не баловала нашего героя, особенно после того, как корабль вошел в зону «ревущих сороковых». «Прошло уже две недели, как неблагоприятные бури и ветры носят нас взад и вперед, так что мы не можем попасть в Магелланов пролив, — писал Миклухо-Маклай Дорну 30 марта. — 3 ½ недели тому назад мы покинули Рио-де-Жанейро и сейчас находимся в промежутке между Фолклендскими островами и берегами Патагонии, южнее мыса Бланко, где нас качает из-за продолжения равноденственных бурь»[344]. Но и в этих неблагоприятных условиях ученый по возможности продолжал свои изыскания. Так, он сообщил в том же письме Дорну, что «хороший день, когда мало качало, позволил мне исследовать несколько голов моих любимых селахий, купленных на рынке в Рио»[345]. По сообщению Назимова, «на пути из Рио-Жанейро в Магел[л]анов пролив, идя на малой глубине в 70 и 60 сажень, иногда и менее, Миклуха бросал несколько раз драгу для получения морских животных со дна моря»[346]. Продолжал он и измерение температуры морской воды на малых глубинах.
Наконец 1 апреля корвет вошел под парами в Магелланов пролив и через три дня, преодолев все узкости, встал на якорь в гавани Пунта-Аренас — поселения, основанного в 1840-х годах и остающегося по сей день самым южным городом в мире. В связи с открытием поблизости угольных копей и золотых приисков поселок к тому времени превратился в небольшой город с военным гарнизоном в 30 человек; здесь поселился губернатор чилийской территории Магальянес. Как сообщил в Петербург Назимов, «быстрый переход от бразильских жаров в патагонский холод» отрицательно повлиял на здоровье команды «Витязя» и его ученого пассажира, но не сказался на их работоспособности[347].
В 1833 — 1834 годах в Магеллановом проливе проводила многомесячные исследования английская экспедиция на бриге «Бигль», и Николай Николаевич шел тут буквально по следам молодого Дарвина. Как и он, Миклухо-Маклай совершил экскурсии по покрытым густыми лесами холмам, посетил горное озеро, осмотрел береговую полосу и отвесные обрывы, позволяющие судить о чередовании геологических эпох, описал несомненные признаки процесса поднятия берега на патагонской стороне пролива. Однако его научные приоритеты изменились, как только в городок прибыли верхом несколько десятков пата-гонцев, мужчин и женщин. В Миклухо-Маклае проснулся этнограф. «Последние дни нашего пребывания в колонии (Пунта-Аренас. — Д. Т.), — писал ученый, — я посвятил исключительно патагонцам: рисовал их физиономии, рассматривал их вещи и хозяйственные принадлежности, которые они имели с собой, старался при помощи переводчика говорить с ними»[348]. Так в сообщении появились интересные наблюдения над внешностью и некоторыми обычаями патагонцев, их одеждой и украшениями, особенностями верховой езды, метательным оружием болас и т. д. Сохранилось несколько портретов патагонцев, сделанных ученым в Пунта-Аренасе. Благодаря необычайной выразительности и точности в воспроизведении деталей эти рисунки и сейчас могут служить этнографическим источником.
Патагонцы прибыли в Пунта-Аренас для меновой торговли. Шкуры гуанако они выменивали главным образом на ром и другие алкогольные напитки. «Не прошло и трех часов по их прибытии в Punta Arenas, — пишет Миклухо-Маклай, — как почти все индейцы были так пьяны, что большинство не могло стоять на ногах»[349]. Наблюдения ученого дополняет Кролевецкий, который отмечает в своем отчете, что патагонцы были до того пристрастны к спиртным напиткам, что «некоторые продавали даже те шкуры, которыми покрывались сами, а вместо них одевались в старые европейского покроя лохмотья». «Водку доставляют дикарям чилийцы, — подчеркивал Кролевецкий. — Вот с чего начинается цивилизация диких племен»[350].
В то время через Магелланов пролив два раза в месяц ходили английские почтово-пассажирские пароходы, поддерживавшие сообщение между Западной Европой и портами тихоокеанского побережья Южной и Северной Америки. (Панамский канал начал функционировать лишь в начале XX века.) Один из таких пароходов, следовавший из Англии, зашел в Пунта-Аренас во время стоянки там «Витязя». Миклухо-Маклай надеялся, что на нем прибудет адресованный Назимову пакет из Петербурга, но был обманут в своих ожиданиях. И хотя Павел Николаевич убеждал ученого, что долгожданные инструкции — неизвестно какого содержания — скорее всего догонят их в Вальпараисо, Миклухо-Маклай начал опять беспокоиться о судьбе своего предприятия. В письмах матери и Остен-Сакену, которые были отправлены из Пунта-Аренаса с пароходом, возвращавшимся в Европу, он сетовал на неопределенность своего положения («Не знаю, куда еду и как доберусь до Папуасии») и даже позволил себе не слишком уважительное высказывание в адрес августейшего руководителя морского ведомства: «Несдержание слова со стороны великого князя далеко не похвально»[351].
Впрочем, эта «проклятая неизвестность» и научные изыскания не помешали Николаю Николаевичу в очередной раз увлечься хорошенькой женщиной. «Сижу в комнате красивой перуанки из Кальяо, которая переселилась сюда со своим мужем (здешним губернатором), — писал он Дорну 10 апреля из Пунта-Аренаса. — <…> Синьорита Мануэла, чей портрет я только что сделал, мешает мне писать… Она бы очень хотела узнать, что я пишу! <…> Магелланов пролив красив, лошади превосходны, синьорита Мануэла очень мила…»[352] Зигмунд Фрейд, вероятно, обнаружил бы обостренную чувственность нашего героя в кратком описании двух юных патагонок, содержащемся в его записной книжке: «Были здесь две девочки, для своего возраста очень развитые; старшей, которой еще не исполнилось 14 лет, не хватало только мужчины с как можно большего размера пенисом; младшая, которой едва ли было 13 лет, имела красивую пышную грудь»[353].
Утром 11 апреля «Витязь» ушел из Пунта-Аренаса и вечером того же дня бросил якорь в заливе Сан-Николас. Здесь корвет простоял три дня. Как сообщал Назимов, «партия гардемарин под руководством старшего штурманского офицера капитана Бенземана произвела съемку и промер залива. С корвета производилась стрельба в цель»[354]. 14 апреля «Витязь» перешел в другой залив. В эти дни Миклухо-Маклай занимался придонной ловлей рыбы и простейших морских организмов, а также пытался завязать сношения с огнеземельцами, группы которых появлялись на берегу пролива. Непосредственный контакт с ними установить не удалось, но в записной книжке появились несколько зарисовок (хижины, раковинная куча, лодка) с краткими пояснительными подписями. 16 апреля «Витязь» вышел из Магелланова пролива в Тихий океан, который, как писал Николай Николаевич Дорну, оказался «вовсе не тихий»[355]. Однако, по словам Назимова, от Пунта-Аренаса до Вальпараисо «Миклуха уже не страдал морскою болезнью и казался физически здоровым»[356].
«Витязь» отправился на север вдоль побережья Республики Чили, которая вытянулась узкой полосой вдоль тихоокеанского побережья Южной Америки, от суровых высоких широт до тропической зоны. Значительных штормов не было, но отсутствие штилей помешало ученому повторить эксперимент по измерению температуры морской воды на больших глубинах. Однако Николай Николаевич не терял времени даром: проводил температурные измерения на поверхности и в прибрежных водах, а также работал над текстами сообщений об уже выполненных исследованиях.
27 апреля «Витязь» стал на якорь в заливе Консепсьон, а через пять дней перешел в крупнейший чилийский порт Вальпараисо — морские ворота столицы страны, города Сантьяго. «Вальпараисо лежит у подножия высоких, бесплодных гор, — писал Кролевецкий, — и построен заново в 1822 году после страшного землетрясения, которое до основания разрушило весь город и схоронило под его развалинами много сотен людей. В настоящее время город имеет 80 тысяч жителей. Идя с моря к городу, издали уже видны Кордильеры, покрытые снегом»[357].
Назимов оставался в Вальпараисо целый месяц, ожидая инструкций из Петербурга. Столь продолжительное пребывание в Чили позволило Миклухо-Маклаю собрать интересные сведения о стране, ее населении, природе, полезных ископаемых и т. д., поработать в музеях. В заливе Консепсьон он занимался океанографическими изысканиями, а съехав на берег, посетил близлежащий город Талькауано и его окрестности, где интересовался культурой и бытом обитавших здесь индейцев-арауканов. Среди сделанных зарисовок особо выделяются четыре прекрасно выполненных портрета представителей этого народа — мужчин и женщин.
Как вспоминает Назимов, в Талькауано Миклухо-Маклай приобрел у начальника тюрьмы «фотографические карточки всех содержимых в тюрьме арестантов, к ним список с соответствующими с картами нумерами и описанием преступлений и месторождения арестанта. Руководствуясь этим, он объяснил нам, можно сделать наблюдения над сложением форм головы. Таких карт он получил около 200»[358]. К сожалению, эти материалы не сохранились или до сих пор не обнаружены.
Человек живой и любознательный, восприимчивый ко всему новому, Николай Николаевич проявлял большой интерес ко всяким усовершенствованиям и изобретениям. «В порту Талькахуано, — написал он в Берлин своим друзьям-книготорговцам, — живет старый английский консул, конструирующий огромную солнечную машину, зеркало которой по меньшей мере 3 м в поперечнике. Он хочет при помощи этой машины плавить медную руду. Добрые люди считают старого консула сумасшедшим и неохотно работают над этой дьявольской машиной»[359]. Миклухо-Маклаю же идея изобретателя показалась вполне рациональной: «Если только старик (ему уже 75 лет) не умрет раньше, так как на то, чтоб ее закончить, надо положить еще 3 года, то машина его будет огромной мощности»[360]. В наши дни, когда человечество стоит на пороге истощения мировых запасов нефти и газа и лучшие умы заняты разработкой и внедрением альтернативных источников энергии, «безумства» консула предстают совсем в ином свете, и надо отдать должное нашему герою за то, что он сумел разглядеть в них первые всполохи энергетики будущего.
В Вальпараисо Николай Николаевич поселился в гостинице. Отсюда он предпринимал поездки вглубь страны, неоднократно посещал Сантьяго. Миклухо-Маклаю удалось познакомиться с видными учеными и государственными деятелями, в том числе с министром внутренних дел Белисарио Пратсом, подарившим исследователю комплект географических карт. Но наибольшее значение имела встреча с Игнасио (Игнатием) Домейко.
Домейко, выходец из белорусской дворянской семьи, окончил физико-математический факультет Виленского университета, участвовал в подпольных кружках. В 1830 году в Польше вспыхнуло освободительное восстание, которое перекинулось и на белорусские земли. Домейко примкнул к повстанческому движению, участвовал в боевых действиях. После подавления восстания его отряд перешел прусскую границу и сдал оружие. Домейко перебрался в Саксонию, откуда переехал со своим другом поэтом Адамом Мицкевичем в Париж. Здесь он окончил Горную школу, некоторое время работал инженером на копях в Эльзасе.
В 1838 году правительство Чили, нуждавшееся в квалифицированных специалистах, пригласило Домейко приехать в эту далекую латиноамериканскую страну, чтобы наладить обучение горному делу в центре горнопромышленного района Кокимбо. Не ограничиваясь преподаванием, Домейко совершал экспедиции по стране, изучал ее геологическое строение, производил метеорологические и минералогические исследования, открыл новые месторождения благородных металлов. Позже Домейко переехал в Сантьяго, где ему поручили принять участие в реформе образования в Чили. Он стал профессором столичного университета, а в 1868 году был избран его ректором. По предложению ученого в Чили (впервые в Латинской Америке) была введена метрическая система мер и весов. Он изучил геологические особенности пустыни Атакама и прилегающих к ней горных цепей Кордильер, исследовал местные вулканы.
Игнатий Домейко внес значительный вклад и в этнографическое изучение Чили. Еще в 1845 году он выпустил в Сантьяго на испанском языке книгу «Араукания и ее жители», впоследствии переведенную на другие языки. В этой книге он выступил в защиту арауканов, против захватнической политики латифундистов, обогащавшихся за счет сгона индейцев с их земель. Образцы народного искусства и предметы быта, привезенные из экспедиции в Арауканию, послужили основой для созданного ученым этнографического музея в Кокимбо. Домейко пользовался огромным почетом и уважением на своей новой родине. Он был объявлен национальным героем Чили, его именем названы один из отрогов Кордильер, город на юге страны, несколько минералов, а после смерти ученого в 1889 году ему воздвигли памятник в Сантьяго[361].
Домейко с большим радушием принял редкого гостя из далекой России и с интересом узнал о том, что корни Миклухо-Маклая уходят в русско-украинско-белорусское порубежье. «Этот весьма умный и полезный деятель в Чили, — сообщает в своей «Записке» Назимов, — обратил внимание на Миклуху и всеми средствами старался познакомить его с всевозможными музеями. <…> Домейко опубликовал в газетах о пребывании в Вальпарайзо русского корвета, на котором натуралист Миклуха-Маклай отправляется к берегам Новой Гвинеи. <…> В бытность мою в Сант-Яго Миклуха-Маклай познакомил меня с почтенным ректором Домейко, так что и я мог воспользоваться его гостеприимством и поучительной и приятной беседой»[362].
Усердно собирая самые разнообразные сведения о Чили, Николай Николаевич стремился вместе с тем пополнить свои познания об острове Рапануи, названном в 1722 году голландским мореплавателем Роггевеном островом Пасхи. Он отправился в музей Сантьяго, куда к тому времени уже поступила значительная часть предметов рапануйской культуры, привезенных чилийской экспедицией И.Л. Ганы с этого острова. Миклухо-Маклай описал и частично зарисовал загадочные каменные фигуры и барельефы, а также небольшие деревянные фигурки, которые он увидел в музее и у нескольких частных лиц в Вальпараисо.
Особое внимание ученого, естественно, привлекли две дощечки, покрытые рядами искусно вырезанных значков, оттиски с которых он видел в Берлине и Лондоне. Как узнал Миклухо-Маклай, участники чилийской экспедиции в 1870 году получили эти таблички на острове Пасхи у французского миссионера Ипполита Русселя. Тщательно изучив таблички, Николай Николаевич пришел к заключению, что «ряды значков действительно изображают письмена и что доски эти не назначались для выделки тап»[363]. Он еще более укрепился в этом мнении после продолжительной беседы с Рудольфе Амандо Филипи, автором публикации о загадочных табличках, появившейся в немецком географическом журнале. В записной книжке Миклухо-Маклая сохранился заранее составленный список вопросов, которые он задавал Филипи и ответы чилийского исследователя. Не ограничившись изучением предметов, привезенных с острова Пасхи, и беседами со специалистами, Николай Николаевич сумел во время пребывания в Среднем Чили приобрести несколько великолепных образцов рапануйского искусства, которые хранятся теперь в петербургском Музее антропологии и этнографии (МАЭ).
Увлекательные рассказы Домейко о его геологических изысканиях в горах и пустынях Чили, а также осмотр его богатейшей минералогической коллекции произвели огромное впечатление на Миклухо-Маклая. В письме матери, написанном вскоре после отплытия из Вальпараисо, Николай Николаевич настойчиво советовал своему младшему брату Мише (тогда гимназисту) всерьез заняться геологией и минералогией[364]. Михаил внял его совету и впоследствии, окончив Горный институт, выбрал для себя профессию геолога.
В Вальпараисо Миклухо-Маклай пережил новое увлечение. «Между делом, — писал он Мещерскому, — я заинтересовался очень одной девочкой лет 141/2 — и отчасти иногда скверно справляюсь с этим интересом. Она просила, между прочим, вчера достать ей русских марок; пришлите ей, пожалуйста, штук 12 разных, но уже употребленных. <…> Вы, может, улыбнетесь при чтении этой просьбы — но мне так редко встречаются люди, которые мне нравятся, что для них я готов на многое»[365]. Увлечение было, по-видимому, достаточно серьезным. Монограммами имени девушки буквально испещрена черновая рукопись незавершенного сообщения о пребывании в Южной Америке, над которым Николай Николаевич начал работать после отплытия из Вальпараисо. Встречается там и полная запись ее имени: «Emma Maria Margarita»[366].
Между тем Назимов продолжал терпеливо ждать инструкций из Петербурга, так как в зависимости от их содержания «Витязь» должен был отправиться из Вальпараисо либо к Китаю и дальневосточным берегам России, либо в Австралию, а оттуда на Новую Гвинею. Наконец, его долготерпение было вознаграждено: очередной почтово-пассажирский пароход доставил командиру «Витязя» запечатанный сургучом пакет из Морского министерства. Пометки на архивных документах позволяют восстановить историю появления и пересылки этих инструкций.
Рапорт Назимова, отправленный из Порто-Гранде 11 января 1871 года, был получен в Петербурге 25 февраля. Учитывая необходимость срочно ответить на запрос командира «Витязя», вице-директор канцелярии Морского министерства капитан 1-го ранга А.А. Пещуров в тот же день — оперативность, невиданная для этого ведомства, — подписал следующую инструкцию Назимову: «Государь Великий Князь Генерал-Адмирал разрешить изволил зайти Вам во всяком случае ранее прихода в Китай на Новую Гвинею для высадки натуралиста Миклухи-Маклая, причем Его Высочеству угодно, чтобы Вы следовали на Новую Гвинею кругом мыса Доброй Надежды»[367]. Однако вскоре чиновники министерства сообразили, что это предписание едва ли застанет Назимова в бразильской столице. Поэтому Пещуров 27 февраля подписал дополнительную инструкцию, которая была отправлена командиру «Витязя» вместе с предыдущей: «Если бы это предписание не застало Вас там (в Рио-де-Жанейро. — Д. Т.) и Вы, обогнув мыс Горн, пришли бы в Вальпарайзо, то Его Высочество все-таки разрешает Вам на пути в Китай зайти на Новую Гвинею для высадки г. Миклухи, но Его Высочество не видит необходимости для этого заходить в Австралию»[368].
Решение великого князя не вполне устроило Миклухо-Маклая. «Обстоятельство, что корвет не заходит в Австралию, — писал он Остен-Сакену, узнав о содержании инструкций, — очень затруднило меня и наделало кучу хлопот!»[369] Дело в том, что — надеясь на посещение австралийских портов — ученый перевел в Европе часть денег, полученных от РГО, в аккредитивы на Сидней и Мельбурн. Там он намеревался закупить необходимые припасы и продукты для мены с папуасами, а также нанять двух слуг, способных хоть немного облегчить его пребывание на Новой Гвинее. В Вальпараисо таких слуг найти не удалось. Оставалась слабая надежда, что он сможет осуществить задуманное на островах, которые «Витязь» посетит на пути к Новой Гвинее. «Трудности растут с каждым днем, — писал он Дорну перед отплытием из Вальпараисо. — Но я столь же решительно настроен отправиться на Новую Гвинею, как в Йене»[370].
2 июня 1871 года, максимально пополнив запасы угля, свежей провизии и питьевой воды, Назимов вывел «Витязь» в открытый океан.
Острова Океании — вехи на пути к Новой Гвинее
Как пишет Кролевецкий, корвет начал переход через Тихий океан «при довольно хорошей погоде»[371]. Но Миклухо-Маклай, испытывая недомогание, редко появлялся на палубе. «Последнюю неделю (перед уходом из Вальпараисо. — Д. Т.) я заметил болезненное состояние Миклухи, — сообщает в своей «Записке» Назимов, — но он не высказывал никогда о своих болях, но, выходя в море <…> болезнь сама высказалась, и он должен был оставаться в постели; трудновылечиваемые болезни на берегу еще труднее вылечиваются в море, почему на всем пути до Новой Гвинеи он был лишен возможности делать какие-либо наблюдения»[372].
Это сообщение Назимова нуждается в комментариях. Как мы уже знаем, Павел Николаевич написал «Записку о пребывании натуралиста Миклухи-Маклая на корвете "Витязь" и доставлении его на остров Новая Гвинея…» по требованию начальства, когда распространился слух о гибели отважного путешественника. Назимов стремился прежде всего снять с себя ответственность за столь печальный исход, а потому, похоже, преувеличил серьезность болезни Миклухо-Маклая, подчеркнув при этом, что всячески отговаривал ученого от высадки на Новой Гвинее. Учитывая тенденциозность, проявившуюся при описании последнего этапа плавания, приходится принимать свидетельства Назимова с большой осторожностью.
Впрочем, Назимов не выдумал «болезненное состояние» Миклухо-Маклая. Сам ученый мимоходом упоминал о своем «недомогании», рассказывая о посещении «Витязем» островов Питкэрн и Мангарева. Но месяцем позже, с острова Уполу, где, по версии Назимова, самочувствие ученого еще более ухудшилось, Николай Николаевич в письме матери утверждал, что «здоров более чем когда-либо»[373]. Объяснялось ли его недомогание возобновлением приступов малярии или он заразился какой-то болезнью в Чили? Мы не можем ответить на этот вопрос.
Штурманы проложили на карте кратчайший путь «Витязя» к Новой Гвинее через океанийский островной мир. Первым на этом пути был остров Пасхи (Рапануи), расположенный намного ближе других океанийских островов к Южной Америке. Хотя Миклухо-Маклай получил от участников чилийской экспедиции Ганы некоторые сведения о положении на острове Пасхи и был знаком с трудами европейских мореплавателей, посещавших этот остров, он едва ли представлял себе масштабы развернувшейся здесь трагедии — экологической катастрофы и упадка самобытной культуры в результате череды межплеменных войн. Но решающий удар нанесли чужеземные пришельцы. В декабре 1862 года перуанские работорговцы вывезли с острова примерно 1500 жителей, в том числе вождей и знатоков местной письменности. Почти все они погибли на чужбине. А 15 рапануйцев, возвращенных домой в августе 1863 года, занесли на остров эпидемию оспы и другие заразные болезни. Депопуляция сопровождалась прогрессирующим разрушением традиционной социальной организации, духовной культуры, всего жизненного уклада. Свою лепту в этот процесс внесли католические миссионеры. Первый из них, Эжен Эйро, не смог в 1864 году закрепиться на острове, но вскоре вернулся сюда вместе с Ипполитом Русселем, и к ним присоединились еще два посланца Конгрегации святых сердец. Католические патеры враждебно отнеслись к табличкам, покрытым таинственными знаками, к деревянным «идолам» и другим атрибутам «языческой» религии. В результате большинство этих замечательных памятников рапануйской культуры было сожжено или спрятано в пещерах и других тайниках[374].
В 1870 году на остров Пасхи прибыл отставной французский офицер Жан Дютру-Борнье, который решил разводить здесь овец. Вскоре он поссорился с миссионерами и разжег между островитянами кровавую междоусобицу. Незадолго до прихода «Витязя» последний миссионер И. Руссель вынужден был покинуть Рапануи, взяв с собой более двухсот островитян.
24 июня 1871 года «Витязь» подошел к острову Пасхи и лег в дрейф у его западного берега. Вскоре к судну подошли две шлюпки с тремя европейцами (Дютру-Борнье и его помощниками) и несколькими гребцами-рапануйцами. Дютру-Борнье сообщил, что намеревается создать на острове большое овцеводческое ранчо и что его компаньоном является богатый английский купец и судовладелец Джон Брандер, поселившийся на Таити. Он добавил, что Руссель с большой группой островитян отправился на Таити, что на Рапануи осталось около 230 коренных жителей и что то же судно, на котором отбыл Руссель, вскоре вернется за еще одной большой партией островитян. Этот рассказ произвел самое тягостное впечатление на ученого и его спутников. Вскоре (на Мангареве и Таити) Миклухо-Маклай узнал у миссионеров дальнейшие подробности и подоплеку развернувшихся событий: «Туземцы, видя, что их жилища сожжены, бататы (на плантациях. — Д. Т.) разрушены, устрашенные поступками Борнье, согласились выселиться на Таити и на условие проработать известное время на плантациях Брандера, который, таким образом, благодаря ловкости своего агента, получил почти целый остров для разведения овец и, кроме того, сотни дешевых рабочих на свои плантации»[375].
Принимая во внимание, что «в это время года Рапа-Нуи, имеющий только открытые рейды, не представляет безопасной якорной стоянки», что Русселя, для которого на корвете имелись письма и посылки, уже нет на острове, да и всю сложившуюся здесь тягостную обстановку, Назимов отменил намеченную высадку. «Часа через два, — вспоминает Миклухо-Маклай, — мы снялись с дрейфа, видевши только очертания Рапа-Нуи, десяток туземцев и трех разводителей овец»[376]. «Очень сожалел, — продолжает ученый, — и досадно мне было, находясь в виду острова, не побывать на нем, не осмотреть там важных документов прежней жизни островитян, которые делают о. Рапа-Нуи единственным в своем роде из всех островов Тихого океана»[377]. Однако вскоре исследователю удалось хоть отчасти наверстать упущенное.
Впереди по курсу был маленький гористый остров Питкэрн, населенный потомками мятежников с «Баунти». «Не стану говорить здесь об истории населения этого острова, которая перешла даже и в детскую литературу», — заявил Николай Николаевич в своем сообщении, написанном для РГО[378]. Нездоровье помешало ему съехать на берег, но он довольно подробно записал рассказы офицеров «Витязя», побывавших на Питкэрне, и обобщил их в своем сообщении. После однодневного дрейфа у берегов этого красивого, покрытого пышной растительностью острова «Витязь» продолжил свой путь на запад в тропической зоне Тихого океана.
8 июля корвет подошел к Мангареве — группе из четырех небольших вулканических островов, расположенной на юго-восточной окраине Полинезии. Через проход в коралловом рифе, опоясывающем группу, «Витязь» вошел в лагуну и бросил якорь возле главного острова. «Так как мое нездоровье продолжалось, — писал Миклухо-Маклай, — то я переселился на другой день на берег», в маленький домик, стоявший у самой воды. Вместе с ним поселился лейтенант В.П. Перелешин, который, по словам ученого, «был тоже не совсем здоров».
За четыре дня, проведенных на берегу, Николай Николаевич сделал интересные наблюдения над антропологическим типом мангаревцев, с утра до вечера толпившихся на веранде его жилища. Ученый получил возможность пообщаться и с вынужденными переселенцами с острова Пасхи, которые по своему внешнему виду почти не отличались от местных жителей. С помощью миссионера И. Русселя, выступавшего в качестве переводчика, Николай Николаевич узнал у рапануйцев некоторые подробности «об их идолах, таблицах, письменах и т. д.»[379]. Руссель рассказал, что островитяне называют таблички с письменами «говорящим письмом» — кохау ронгоронго.
На Мангареве Миклухо-Маклай сделал несколько портретов островитян, приобрел каменный топор, барабан и подставку для жертвоприношений[380]. Не забыл он здесь и о своей «первой любви» — зоологии: «Так как терраса дома выходила прямо в море, то ужение было очень удобно, попадался чаще всего один вид Spams (лещ. — Д. Г.), но между прочими были пойманы небольшие акулы, и мозг этого Carcharias'a послужил мне большим развлечением после изучения физиономий полинезийской разновидности человека»[381].
Со следующим этапом французской колониальной экспансии в Океании Миклухо-Маклай познакомился на Таити — главном острове полинезийского архипелага Общества, — куда «Витязь» пришел 21 июля. В 1843 году над Таити и прилегающими островами был установлен французский протекторат. Королева Помаре IV лишилась реальной власти. Из Парижа сюда прислали губернатора, судью, чиновников и маленький военный гарнизон. Французские католические патеры постепенно теснили обосновавшихся здесь раньше английских протестантских миссионеров. Но лидирующие позиции в местной экономической и политической жизни занял могущественный семейный клан Брандера — Сэлмона — двух английских дельцов, породнившихся с высшей таитянской знатью. Им принадлежали корабли, торговые склады, плантации; с ними уживались — нередко небескорыстно — французские колониальные чиновники.
В городке, выросшем на берегу бухты Папеэте, административном центре Таити, Николай Николаевич снял небольшой домик, так как, по словам Назимова, его здоровье «требовало спокойствия и берегового воздуха <…> несмотря на это, будучи уже в волнении от приближения к цели нашего плавания, выздоровление шло не только медленно, но даже не улучшалось, почему к физическим болям, видимо, прибавился моральный упадок духа»[382]. Однако бросается в глаза, что — в отличие от Мангаревы, где ученый почти не покидал свое береговое жилище, — на Таити он вел активный образ жизни. Как видно из его записной книжки и разрозненных листков с заметками (к сожалению, Миклухо-Маклай не успел написать разделы о Таити и Уполу для сообщения, отправленного в РГО), ученый уже в первый вечер по прибытии на Таити присутствовал на приеме в честь иностранных моряков, устроенном Джоном Брандером, а в другие дни знакомился с жизнью рабочих на плантациях, вел с местными купцами переговоры о закупке припасов, посещал католического епископа, нанес визит королеве Помаре, участвовал в празднике, устроенном ею в деревне Папара, и т. д.
Миклухо-Маклай осмотрел две крупные хлопковые плантации, одна из которых принадлежала Джону Брандеру, а другая — шотландскому авантюристу Уильяму Стюарту, поселившемуся на Таити в 1862 году. Местные жители отказывались работать на плантациях, поэтому там в полурабских условиях трудились «законтрактованные рабочие» — китайские кули и привезенные вербовщиками обитатели различных островов Океании. На плантации Брандера Николай Николаевич встретил, в частности, жителей острова Пасхи. «Положение пасквитян у Брандера мерзкое», — записал Миклухо-Маклай[383].
Пока офицеры «Витязя» совершали увеселительные поездки и пешеходные прогулки по живописным горам и долинам Таити, Миклухо-Маклай использовал все возможности, чтобы поближе познакомиться с культурой и бытом таитян и пополнить свои познания об островитянах острова Пасхи. Сохранились сделанные ученым портреты таитян и рисунки их хижин. Темпераментно, с натуралистическими подробностями он описал эротические пляски, которые он наблюдал на празднике, устроенном королевой в деревне Папара: «Весь корпус извивался, певицы повторяли движения танцовщиц. <…> Телодвижения не контролировались, колени сгибались вперед <…> задница двигалась тоже, руки, начиная с плеч, принимали различное положение, кисти рук двигались, причем палец большой касался кисти. <…> Телодвижения руками: точно как хватающие и указывающие на известное место. Некрасивые космы очень мешают. <…> Иногда начинали медленные телодвижения, которые <…> делались все отчаяннее. Лицо принимало боль, участвующие в телодвижениях выражали приблизительно, что выражает лицо при совокуплении, губы улыбались, суживались глаза, выдвигались и блестели. <…> Колени далеко расставлены, каждый танец (подобно coitus'y) очень недолго продолжался. Доходил до ejaculation и потом прекращался. <…> При коитусе углы губ опускаются вниз, глаза полуоткрыты. <…> Пляска и пение продолжались при лунном свете, и скоро пары уходили в сторону, действительно исполняя те цели, которым их танцы служили подобием»[384].
Довольно подробное описание плясок в Папаре оставил лейтенант В.П. Перелешин. В его изящно написанном, хотя и перегруженном литературными штампами того времени очерке, который был напечатан в 1872 году в журнале «Морской сборник», находим такие строки: «За дружным хоровым пением из-за пасторальной драпировки повеяло вдруг страстным чадом, и зарябились и заискрились цинические рожки духа вакханалии и дикой пластики, и взвилась на дыбы разнузданная природа, вмиг наэлектризованная как бы магическим пением. С художественной точки зрения все это, конечно, подергивалось очаровательным колоритом; самая разнузданность выкупалась грацией; змеиное судорожное извивание — каким-то детским наивным laisseraller!»[385]
Среди сотен протестантских и католических миссионеров, наводнивших в XIX веке острова Океании, встречались культурные и любознательные люди, которые своими наблюдениями обогатили науку. К их числу относится католический епископ Таити Флорентьен Жоссан. Случайно узнав о существовании на острове Пасхи деревянных дощечек, покрытых рядами искусно вырезанных знаков, он сумел оценить огромное культурное значение этих предметов и приказал находившимся там миссионерам прислать ему столько дощечек, сколько удастся отыскать. Ему прислали пять табличек и с полдюжины других образцов резьбы по дереву, имевших сакральное или церемониальное значение. Узнав, что среди рапануйцев, работающих на плантации Брандера, имеется человек по имени Меторо, который выдает себя за знатока кохау ронгоронго, епископ пригласил его к себе и попросил прочитать (вернее, пропеть) тексты, запечатленные на табличках, причем тщательно записал услышанное. «Чтения Меторо» по-разному оцениваются современными исследователями, но, так или иначе, это была первая попытка приступить к дешифровке письмен острова Пасхи.
Узнав, что Тепано — так именовали таитяне епископа -интересуется рапануйской культурой, Миклухо-Маклай навестил Жоссана в его резиденции — доме, окруженном тенистым садом. Прелат радушно принял молодого русского ученого. Он показал гостю несколько табличек, которые Николай Николаевич обмерил и описал. Покоренный энтузиазмом Миклухо-Маклая, его обширными познаниями и стремлением разгадать тайны кохау ронгоронго, Жоссан сделал ему драгоценный подарок — вручил одну из табличек с письменами. Еще одну табличку ученый, по-видимому, приобрел у рапануйцев, попавших на Мангареву или Таити. В настоящее время в музеях мира насчитывается около двадцати таких табличек. Две из них, поступившие от Миклухо-Маклая, бережно хранятся в МАЭ. В XX веке в этом музее развилось новое направление междисциплинарных исследований — рапануистика, у истоков которой стоял Миклухо-Маклай[386].
Незаметно пролетели 11 дней, в течение которых «Витязь» стоял в гавани Папеэте. 1 августа корвет вышел в океан и отправился на запад, к архипелагу Самоа. 11 августа он бросил якорь у побережья самоанского острова Уполу, в бухте, где разогнутой подковой раскинулось большое селение Апиа. Здесь Миклухо-Маклай впервые столкнулся с проявлениями борьбы держав за тихоокеанские острова. Немецкий, английский и американский консулы поддерживали разных вождей и провоцировали междоусобицы, не без выгоды снабжая враждующие стороны оружием и боеприпасами. Опираясь на консулов и периодически заходившие сюда военные корабли своих государств, иностранные поселенцы захватывали лучшие земли и основывали плантации, на которых, как на Таити, трудились «законтрактованные рабочие», привезенные обманом или силой с других островов Океании.
Самоа было последним пунктом на пути к Новой Гвинее, где Николай Николаевич мог попытаться нанять нужных ему слуг и приобрести недостающее снаряжение и припасы. Между тем путешественник, по словам Назимова, находился «в самом плачевном состоянии здоровья, как физически, так и морально. Последнее заметно высказалось упадком духа по приближении к цели. Я старался убедить Миклуху, чтоб он с Самоа отправился с нами на корвете в Японию, где он восстановит свое здоровье и потом, спускаясь постепенно к югу, на что он будет иметь много случаев на военных судах, познакомится постепенно с трудностями путешествия и с языком папуасов и даже приобретет в спутники людей, знающих язык папуасов и какой-нибудь европейский, и тогда польза путешествия будет несомненная. Самолюбие его останавливало согласиться на мое предложение, хотя все общество офицеров его убеждало, что если он так поступит, то это они припишут ничему другому, как только его благоразумию. Итак, ни состояние его здоровья, ни убеждения не остановили его стремлений, и он начал готовиться, приискивая себе слуг»[387].
Наиболее крупным негоциантом на Самоа был Теодор Вебер. Он возглавлял представительство гамбургского торгового дома «Годефруа и сын» — огромного спрута, чьи щупальцы дотянулись до многих островов Океании, — и одновременно был немецким консулом. Миклухо-Маклай, будучи в Гамбурге, получил, как уже упоминалось, от главы этой фирмы письмо, в котором всем ее агентам предписывалось оказывать ему безвозмездные услуги. Поэтому Вебер с уважением принял русского ученого в своей резиденции и постарался, по крайней мере внешне, удовлетворить все его пожелания. Вебер нашел для Николая Николаевича двух слуг — шведского матроса Ульсона (правильнее — Олсена) и юношу с острова Ниуэ по прозвищу Бой (по-английски «мальчик», слуга-туземец). Назимов утверждает, что татуированный юноша не понимал никакого европейского языка[388]. Но он попал в Апиа на торговом судне и уже был в услужении у какого-то папаланги (так называли самоанцы всех европейцев), а потому, скорее всего, усвоил отдельные английские или немецкие слова и выражения.
В письме к матери, отправленном из Апиа, Миклухо-Маклай, недолго думая, распределил обязанности между нанятыми слугами: «Один, полинезиец <…> будет мой повар и провожатый в моих экскурсиях во внутрь Новой Гвинеи, другой, швед, будет смотреть за моим домом и, так как он матрос, отправляться со мною на морскую охоту за животными»[389]. Суровая действительность вскоре перечеркнула это «штатное расписание». В том же письме ученый признался, что едва ли рискнул бы поселиться на Новой Гвинее в одиночку, а скорее предпочел бы покинуть «Витязь» и остаться в Апиа до приискания подходящих слуг. В этом случае Миклухо-Маклаю пришлось бы договариваться со шкипером одной из шхун, отправлявшихся из Апиа для меновой торговли к островам Северной Меланезии, чтобы он доставил его со слугами на Новую Гвинею. Однако отнюдь не каждый шкипер — даже за приличное вознаграждение — согласился бы подойти к незнакомым, фактически не нанесенным на карту берегам этого огромного острова. Ученый мог надолго застрять на Самоа. Успех его экспедиции оказался бы под угрозой. «Это обстоятельство, — писал он матери, — очень бы отдалило достижение моей цели. Теперь и эта помеха устранена. Остается путь только вперед»[390].
Консулы и торговцы, особенно их жены и дочери, радовались визиту русского военного корабля с его галантными, хорошо владеющими западноевропейскими языками офицерами и гардемаринами. «Подобную суматоху может наделать только эскадрон кавалеристов, внезапно появившийся где-нибудь в глуши и расположившийся на кратковременный отдых, — писал лейтенант Перелешин. — <…> Дни носясь кавалькадами, а ночи танцуя под звуки фортепьяно, мы незаметно проводили время»[391].
Поселившись на берегу, Миклухо-Маклай — в отличие от господ офицеров — использовал пребывание в Апиа для ознакомления с языком, культурой и бытом самоанцев. В его записной книжке мы находим краткие заметки о прогрессирующем уменьшении численности коренного населения, жилищах, гробницах, религиозных верованиях, татуировке, лубяной материи (тапа) и т. д. Особое внимание ученого привлекли на сей раз сексуальные обычаи самоанцев. Живя в Апиа, Николай Николаевич посещал другие селения. Так, он присутствовал на празднике, устроенном в честь русских моряков верховным вождем Малиетоа. Праздник состоялся в деревне Матауту, расположенной на юго-западном берегу острова. Здесь он увидел и затем описал ночные пляски, которые, отличаясь в деталях от таитянских, были не менее разнузданными и завершались совокуплением танцующих. Записи дополняют рисунки: портреты самоанцев, зарисовки жилищ, орнаментов на тапе[392].
«В 9 дней Миклуха, — пишет Назимов, — приобретя еще огромное количество разных запасов для мены с дикарями, перебрался на корвет, будучи еще совершенно болен и пораженный язвами злокачественного свойства»[393]. Активный образ жизни и многочисленные наблюдения, сделанные Миклухо-Маклаем, не говоря уже о бодром тоне писем, отправленных ученым в Петербург из Апиа, не очень согласуются с этим утверждением командира «Витязя». Но нет дыма без огня. По мере приближения к заветной цели, измотанный нелегким многомесячным плаванием, Николай Николаевич приходил во все более взвинченное, болезненно-возбужденное состояние, близкое к нервному срыву. «Язвы» — если они у него тогда действительно появились — могли быть вызваны психогенными факторами. В современной медицине к таким кожным болезням относят нейродермит и псориаз.
С Уполу «Витязь» отправился к острову Ротума, находящемуся на рубеже Полинезии и Меланезии. 28 августа Назимов привел корвет к этому гористому вулканическому острову, окруженному коралловыми рифами, чтобы запастись свежей провизией — мясом, овощами и фруктами, «положительно не предчувствуя, — вспоминает Перелешин, — что суточный его визит принесет самые благотворные результаты»[394]. Дело в том, что ожесточенное соперничество английских протестантских и французских католических миссионеров, обосновавшихся на Ротуме, привело к кровопролитию и угрожало еще более серьезными потрясениями. Протестантский пастор до того возбудил своих приверженцев, что они совершили нападение на островитян-католиков, находившихся в меньшинстве: «…нескольких человек убили, сожгли часть домов и в том числе церковь». Католические миссионеры «трепетали от страха в ожидании нового нападения, которое, по словам их, должно было разыграться трагической катастрофой»[395]. Назимов вмешался в конфликт. Он демонстративно пригласил католических патеров на корвет, а затем вместе с ними посетил несколько деревень. Такие его действия, а также сделанное им предупреждение о скором приходе французского военного корабля остудили горячие головы. Однако столкновения на религиозной почве, пусть не в столь острых формах, происходили на Ротуме и в дальнейшем. В 1881 году над островом был установлен английский протекторат.
Миклухо-Маклай побывал на берегу и познакомился с жизнью ротуманцев. И хотя на шести страничках его записной книжки, которые содержат заметки и карандашные наброски, сделанные на Ротуме, не упоминается о «войне миссий», ученый, несомненно, узнал о происходивших здесь событиях. «Миссионеры вывели старые танцы и песни, — записал Николай Николаевич. — Но вероятно, что еще в деревнях, в стороне от надзора миссионеров старые обычаи сохраняются. <…> Голоса островитян Ротумы очень звучны и приятны; к сожалению, слыхал я только испорченные мотивы католических церковных песен». Впечатления, полученные на Ротуме, повлияли в дальнейшем на отношение путешественника к деятельности миссионеров на островах Океании.
Плавание «Витязя» происходило при спокойной погоде, причем умеренные ветры перемежались со штилями. Назимов в своей «Записке» дважды утверждал, что Миклухо-Маклай при переходе через Тихий океан «наблюдений никаких не производил»[396]. Это утверждение опровергается небольшим сообщением «Об измерении температур глубин океана», которое Николай Николаевич завершил накануне высадки на Новой Гвинее. Оказывается, еще перед заходом в Апиа ученый, воспользовавшись штилем, повторил с помощью офицеров и матросов «Витязя» эксперимент, проведенный им в тропической зоне Атлантического океана. Термометры, опущенные на глубину 1000 морских саженей (1829 метров), показали температуру 3,4° С — весьма близкую к той, которая была получена на той же глубине во время первого эксперимента. Как сообщил Миклухо-Маклай, «температуры поверхности» он «наблюдал во время всего плавания», в том числе при подходе к островам Мангарева, Таити, Уполу и Ротума[397].
Миклухо-Маклай приближался к своей земле обетованной. Но где высадиться на Новой Гвинее? Как мы знаем, ценой больших усилий, с помощью великой княгини Елены Павловны, ученый, казалось, добился перед отплытием из Кронштадта такого решения: «Витязь» подойдет к южному берегу Новой Гвинеи, где он с несколькими офицерами и матросами, используя паровой катер, имевшийся на корвете, проникнет по реке Эйрд (Кикори) во внутренние районы огромного острова; после этой рекогносцировки «Витязь» обогнет юго-восточную оконечность Новой Гвинеи и, пройдя вдоль ее северного берега, высадит путешественника в районе залива Гумбольдта. Однако этот план оказался, как тогда говорили, неудобоисполнимым: ввиду сложной международной обстановки «Витязь» пошел иным путем, не через Индийский, а через Тихий океан, причем был отменен намечавшийся ранее заход в один из австралийских портов, откуда прямиком можно было достичь южного берега Новой Гвинеи. В письме Остен-Сакену, отправленному из Апиа, Николай Николаевин сообщил маршрут заключительной части своего плавания на «Витязе»: «Пройдя между Соломоновым архипелагом и Новою Ирландией), направимся вдоль южного берега Новой Британии, к северо-восточному берегу Новой Гвинеи, где я где-нибудь между заливами Астроляб и Гумбольдт надеюсь быть высаженным»[398].
Заливы Астролябия и Гумбольдта открыл в 1827 году французский мореплаватель Ж. Дюмон-Дюрвиль. Однако он не углублялся в эти заливы и держался вдали от берега. Назимов писал в 1871 году, что залив Астролябия «вовсе не описан, а определены только его входные мысы»[399]. Обитатели северо-западного побережья Новой Гвинеи (к западу от залива Гумбольдта) платили дань султану Тидоре — феодального государства в Нидерландской Индии (ныне Индонезии). Малайские торговцы на небольших парусных судах посещали это побережье, приобретая шкурки райских птиц, трепанги и раковины-жемчужницы в обмен на ткани, ножи и другие металлические орудия. В 1855 году в селении Доре, расположенном на берегу залива Гелвинк, обосновались немецко-голландские протестантские миссионеры. Сношения с малайцами и европейцами отразились на культуре прибрежных жителей, хотя не подорвали еще их традиционный жизненный уклад.
Дальше залива Гумбольдта малайские торговцы не забирались, но отдельные предметы европейского, малайского, даже китайского происхождения проникали и далее на восток по цепочке межплеменных торговых связей. Однако, как установили современные исследователи, эти заимствования почти не достигали северо-восточного побережья Новой Гвинеи, а в районе залива Астролябия, отстоящего почти на 500 миль от залива Гумбольдта, их вообще не было. Миклухо-Маклай, разумеется, не располагал информацией по этому вопросу, но ему, вероятно, было известно, что ни один европеец не высаживался на берегу залива Астролябия. Кратчайший путь, избранный штурманами «Витязя», вел именно к этой части побережья Новой Гвинеи.
Китобойные и торговые суда все чаще проплывали вдоль северо-восточного побережья огромного острова, избегая заходить в его заливы и бухты. Но, как сообщил в своем журнале А. Петерман, в 1871 году Эндрю Эдгар, капитан парусной шхуны «Эмма Паттерсон», первым из европейских моряков побывал в заливе Астролябия за несколько месяцев до высадки там русского путешественника. Эдгар не приближался к берегу и вскоре ушел в открытое море. Но он мог поступить иначе: подойти к одной из прибрежных деревень и попытаться установить контакты с ее обитателями. Этот эпизод свидетельствует, что длившаяся много тысяч лет изоляция папуасов залива Астролябия от внешнего мира неумолимо приближалась к концу.
Перед высадкой своего «ученого пассажира» на Новой Гвинее Назимов решил зайти в Порт-Праслин — бухту на южном берегу Новой Ирландии, чтобы пополнить запасы топлива (дров) для судового двигателя и набрать свежей питьевой воды. 12 сентября корвет стал на якорь в этой небольшой бухте.
«Новая Ирландия — большой гористый остров, покрытый сплошным, роскошнейшим лесом, — писал судовой врач Кролевецкий. — Жители нас встретили, еще в море, с большою доверчивостью; видно, что европейцы здесь бывали и обращались с ними ласково; один из новоирландцев знал даже несколько английских слов; они темно-коричневого цвета, сухощавые, среднего роста, с черными волосами, с жиденькой бородой, ходят совершенно нагие, даже не носят стыдливой повязки, и жуют бетель»[400]. Те же сведения мы находим в воспоминаниях лейтенанта Перелешина. Он, кроме того, сообщает, что островитяне на небольших каноэ, снабженных балансиром, подходили к «Витязю» для меновой торговли и даже поднимались на борт, причем с огромным любопытством и изумлением рассматривали незнакомые им предметы, а английские слова, как оказалось, узнали от заходивших сюда китобоев[401].
За три дня Николай Николаевич сделал несколько беглых заметок в своей записной книжке и два мужских портрета (женщины и дети не показывались чужеземцам), приобрел наплечный браслет из раковины. Сравнительный материал по Новой Ирландии — очевидно, извлеченный из закромов памяти, — ученый неоднократно приводит в новогвинейских дневниках и сообщениях 1871 — 1874 годов.
В Порт-Праслине Миклухо-Маклай впервые увидел меланезийцев, сходных по своему антропологическому типу и обычаям с папуасами Новой Гвинеи. Характерно, что Николай Николаевич попытался прежде всего выяснить, растут ли у них волосы на голове пучками («пучковолосость» — один из признаков, по которым Геккель относил папуасов к низшей расе, переходному звену между европеоидами и их обезьяноподобными предками). К сожалению, записал Миклухо-Маклай, «у меня не было возможности сделать убедительное наблюдение из-за густо завитой копны волос» новоирландцев. Зато он разглядел и зафиксировал в своей памяти цвет их волос, отсутствие обрезания, орнаменты татуировки, характерные особенности причесок и украшений. Как впоследствии вспоминал ученый, он видел во время пребывания в Порт-Праслине «приблизительно 50 или 60 туземцев»[402].
Миклухо-Маклай спешил завершить работу над рукописями, чтобы отослать их в Европу с Назимовым, и находился в тревожно-приподнятом ожидании высадки в заливе Астролябия. Но он не смог отказать себе в удовольствии посетить гористую местность неподалеку от бухты Порт-Праслин, чтобы полюбоваться водопадом, который красочно описал столетием раньше французский мореплаватель Л.А. Бугенвиль: «Тщетно пытались бы люди искусственно воспроизвести в королевских дворцах те прелести, которыми природа наделила этот необитаемый уголок. <…> Водопад этот достоин кисти великого живописца»[403].
Покинув Новую Ирландию, «Витязь» вдоль южного побережья соседнего острова, Новой Британии, отправился к Новой Гвинее. 19 сентября 1871 года ученый и его спутники увидели бескрайнюю сушу, береговая линия которой простиралась на северо-запад и юго-восток до самого горизонта. За прибрежной низменностью амфитеатром возвышались пять горных хребтов; на вершинах последнего, самого высокого хребта лежали облака. Начиналась новогвинейская эпопея Миклухо-Маклая.
Глава шестая. НА БЕРЕГУ МАКЛАЯ
«Витязь» в заливе Астролябия
Корвет «Витязь» подошел к Новой Гвинее на несколько десятков миль юго-восточнее входа в залив Астролябия. По словам П.Н. Назимова, он предложил Миклухо-Маклаю высадиться прямо здесь, на выступающем в море берегу, что позволило бы путешественнику «усмотреть корабль или быть замеченным проходящим кораблем», но «Миклуха заявил, что он не желает и смотреть этой местности, а чтобы я доставил его в залив Астролябия, где он намерен искать себе место для поселения»[404].
На следующий день, 20 сентября, корвет, медленно двигаясь под парами, вошел в залив Астролябия и стал на якорь в небольшой бухте, расположенной в глубине залива примерно в 140 метрах от берега. С капитанского мостика путешественнику открылась панорама местности, где ему предстояло проводить исследования: «Берег залива Астроляб в том месте, где "Витязь" бросил якорь, горист; несколько параллельных цепей гор различной вышины тянутся вдоль берега. <…> Иногда горы приближаются почти до самого берега, чаще же между первыми холмами и морем тянется невысокая береговая полоса. <…> Во многих местах берег окаймляется коралловыми рифами и реже представляется отлогим и песчаным, доступным приливам, и в таком случае служит удобною пристанью для туземных пирог. Около таких мест находятся, как я узнал впоследствии, главные береговые селения папуасов»[405].
Вскоре на берегу бухты появилась группа папуасов, которые принесли кокосовые орехи, таро, двух тут же убитых собак и связанную свинью. «Очевидно, это были дары, предназначенные нам, — вспоминает К.Д. Рончевский, один из офицеров «Витязя», — но должны ли мы были принять их за подарок или за жертвоприношение пришельцам <из> другого мира — трудно решить, вероятнее — последнее»[406]. Рончевский был прав. Местные жители могли видеть в отдалении европейские парусные суда, намного превосходившие по своим размерам парусные каноэ папуасов, слышали о таких судах от соседей, которые жили на берегу юго-восточнее залива Астролябия. Но пришедшее в бухту грозное чудовище со спущенными парусами выбрасывало огромный столб черного дыма, а иногда и искры, особенно заметные на фоне ночного неба. Как рассказывали обитатели залива Астролябия немецким миссионерам, поселившимся здесь в конце XIX века, они решили, что из мира мертвых прибыли злые духи или божества. Смятение и ужас охватили жителей прибрежных деревень.
Отказавшись от вооруженной охраны, Миклухо-Маклай со своими слугами Ульсоном и Боем отправился в маленькой шлюпке на берег и высадился на песчаном пляже, возле которого заметил вытащенные на берег каноэ. Тропинка, идущая через лес, привела его к площадке, вокруг которой стояли хижины с крышами, спускавшимися почти до земли. «Хотя в деревне не оказалось живой души, — вспоминает путешественник, — но повсюду видны были следы недавно покинувших ее обитателей: на площадке иногда вспыхивал тлеющий костер, здесь валялся недопитый кокосовый орех, там — брошенное второпях весло»[407]. Миклухо-Маклай начал осматривать хижины, как вдруг услышал шорох. Оглядевшись, он увидел как будто выросшего из земли человека, который поглядел в его сторону и бросился в кусты. Николай Николаевич пустился за ним, знаками уговаривая его остановиться. «Я медленно приблизился к дикарю, — пишет он, — и молча подал ему красную тряпку, которую он принял с видимым удовольствием и повязал ее себе на голову. Папуас этот был среднего роста, темно-шоколадного цвета, с матово-черными, курчавыми, как у негра, короткими волосами, широким сплюснутым носом, глазами, выглядывавшими из-под нависших надбровных дуг, с большим ртом, почти, однако же, скрытым торчащими усами и бородою. Весь костюм его состоял из тряпки шириною около 8 см, повязанной сначала в виде пояса, спускавшейся далее между ног и прикрепленной сзади к поясу, и двух тесно обхватывающих руки над локтем перевязей, род браслетов из плетеной сухой травы»[408]. Произошло это в деревне Горенду (Коренду), а папуаса звали Туй (Тойя)[409]. Так произошло первое знакомство Миклухо-Маклая с человеком, который со временем стал его другом, посредником в сношениях с обитателями окрестных деревень, более того — проводником в мир людей каменного века, обитавших на побережье залива Астролябия.
Увидев мирную встречу Туя с таинственным пришельцем, из-за кустов вышли еще несколько папуасов. Миклухо-Маклай наделил их бусами, гвоздями, рыболовными крючками и полосками красной материи. Когда пришло время возвращаться на корвет, островитяне проводили его до берега, неся свои подношения — кокосовые орехи, бананы и двух связанных поросят. Желая убедить местных жителей, что «Витязь» не принесет им вреда, путешественник решил доставить на корабль нескольких папуасов. Он взял на буксир одно из провожавших его каноэ и, несмотря на отчаянное сопротивление островитян, по-видимому, решивших, что их ждет верная смерть, подтащил каноэ к борту «Витязя». Здесь Ульсон и Бой силком подняли их на трап, а на палубе Николай Николаевич взял под руки дрожащих от страха пленников и отвел на корму, где офицеры напоили их чаем и надарили разных безделушек. Однако при первой же возможности гости поспешно спустились по трапу в свое каноэ и быстро погребли обратно к берегу[410].
На следующее утро, 21 сентября, корвет посетили несколько смельчаков. Но, казалось бы, начавшийся процесс налаживания контактов с папуасами был нечаянно прерван командиром «Витязя». В честь дня рождения генерал-адмирала он приказал произвести артиллерийский салют двадцатью одним выстрелом. «Это был первый пушечный гром, раздававшийся эхом по горам Новой Гвинеи, — рапортовал Назимов в Петербург, — в ознаменование чего я назвал бухту, место нашей якорной стоянки, бухтой Великий Князь Константин»[411]. Этот гром, подобный грому небесному, страшно напугал жителей окрестных селений. Сбывались их самые мрачные предчувствия: пришедшее чудовище угрожало им страшными бедами. Как вспоминает лейтенант Перелешин, после салюта визиты папуасов на корабль прекратились, а ближайшие селения опустели, так как женщин и детей отправили в горы, а немногие оставшиеся мужчины прятались в лесу возле своих деревень[412].
Пока Миклухо-Маклай искал место для своего жилища, а затем наблюдал за его постройкой и оснащением, офицеры и матросы «Витязя» на паровом катере совершили из бухты Константина поездку по заливу Астролябия, причем посетили несколько прибрежных деревень, в том числе большое селение Богатим и остров Били-Били (Билбил). Женщин и детей они здесь тоже не увидели, а встретившие их мужчины, как пишет Рончевский, «хорошо сознавая наше превосходство и опасаясь за свою жизнь и имущество <…> вполне покорились нашим действиям и при встречах в знак мира клали оружие на землю»[413]. Моряки вели себя довольно бесцеремонно. Они безвозмездно забирали понравившиеся им копья, ручные барабаны (окам), верши для ловли рыбы, черепа предков или давали за них, по признанию Рончевского, «разный хлам», «ничтожную тряпку или бутылку»[414]. К тому же при заготовке топлива для судового двигателя матросы нередко рубили кокосовые пальмы, не подозревая, очевидно, что это дерево играет огромную роль в жизни островитян. Такое поведение грозных пришельцев возмущало папуасов, о чем они впоследствии рассказывали Миклухо-Маклаю.
Паровой катер сновал по заливу не только с развлекательно-ознакомительными целями. Оказавшись в местности, не нанесенной на карты, штурманские офицеры с гардемаринами произвели промеры и опись залива Астролябия подобно тому, как они ранее занимались этим в Магеллановом проливе. «Все мыски, — записал Николай Николаевич — были окрещены именами офицеров, делавших съемку»[415]. После захвата Германией северо-восточной Новой Гвинеи эти мыски переименовали в честь немецких моряков и колониальных чиновников, а в период англо-австралийского господства многие топонимы немецкого происхождения были заменены местными названиями. Однако на всех картах мира прочно «прописался» пролив Витязь, отделяющий новогвинейский берег от островов Лонг (Ароп) и Рук (Умбок), по которому русский корвет прошел к заливу Астролябия.
Назимов предупредил путешественника, что не сможет оставаться в заливе больше семи дней, а потому попросил поторопиться с выбором места для устройства жилища. Вместе с Миклухо-Маклаем и доктором он объехал на шлюпке побережье бухты Константина и предложил обосноваться вблизи песчаного пляжа, где в море впадал полноводный ручей. Но, узнав, что папуасы «оставляют здесь свои пироги, а недалеко обрабатывают плантации», Николай Николаевич предпочел иное, уже ранее облюбованное им место — на маленьком мыске, возле которого протекал ручеек и росла группа больших деревьев. Путешественник решил поселиться в некотором отделении от деревень, чтобы, с одной стороны, не навязывать папуасам своего постоянного присутствия, а с другой — обеспечить себе столь ценимые им покой и тишину[416]. Назимов раскритиковал выбор Миклухо-Маклая. Отсюда, сообщил он в Петербург, «ученому отрезаны все пути для отступления», а местность «имеет все данные для развития лихорадки»[417]. Но командир «Витязя» не стал перечить своему строптивому пассажиру и приказал немедленно начать расчистку площадки и строительство домика для Миклухо-Маклая.
Тридцать матросов под наблюдением офицеров очистили на мыске участок от деревьев и кустарников, оставив возле возводимого жилища лишь два больших дерева, чтобы они давали тень и прохладу. Получилась площадка в 70 метров длины и 70 метров ширины, окаймленная с одной стороны морем, а с трех других сторон — густым лесом. Судовые плотники и столяры построили домик на сваях. Его стены снизу примерно наполовину были сколочены из досок, а сверху затянуты брезентовыми полотнищами, которые можно было скатывать. У одного из двух входов была позднее пристроена веранда. «Моя хижина, — записал Миклухо-Маклай, — имеет 7 футов ширины и 14 длины и разгорожена пополам перегородкой из брезента. Одну половину я назначил для себя, другую для моих слуг. <…> Для крыши заготовлены были особенным образом сплетенные из листьев кокосовой пальмы циновки; работу эту я поручил Бою»[418].
На краю площадки, в зарослях, обнаружили небольшой шалаш, который, по словам Рончевского, принадлежал Тую, и устроили в нем кухню. Туй — единственный из папуасов, продолжавший навещать Миклухо-Маклая, — внимательно наблюдал за расчисткой площадки и строительством хижины.
Он сообщил, что мысок называется Гарагасси. Когда работы подходили к концу, Туй выразительными жестами и мимикой постарался предупредить путешественника, что, когда корабль уйдет, жители соседних деревень разрушат хижину и убьют копьями Маклая и оставшихся с ним пришельцев. Николай Николаевич сделал вид, что не понял предупреждения, но по возвращении на корвет рассказал о красноречивой пантомиме в кают-компании. Лейтенант Чириков, заведовавший на «Витязе» артиллерийской частью, предложил закопать полукругом на подходах к хижине шесть небольших мин, каждая из которых, по сообщению Рончевского, могла быть взорвана «посредством стопина (пороховой нитки), проведенного из дома через бамбуковую трубку»[419]. «Я не отказался от такого средства защиты в случае крайней необходимости», — записал в дневнике Миклухо-Маклай, и на следующее утро мины были установлены, что не укрылось от внимания Туя.
Были ли мины когда-либо использованы путешественником? Упоминания об этом отсутствуют в подготовленной им к печати версии дневника, в его письменных сообщениях и публичных лекциях. Возможно, в жарком и влажном климате побережья Новой Гвинеи эти взрывные устройства вскоре пришли в негодность. Но вот что сообщает немецкий врач Б. Хаген, который жил в 1892-1893 годах на побережье бухты Константина (ныне — Мелануа), в статье, написанной по просьбе Д.Н. Анучина: «Люди Богатима и теперь еще рассказывают, что всякий раз, когда к его жилищу приближалась большая толпа вооруженных людей, из земли вырывался с громким треском огонь. По-видимому, вокруг его дома были заложены мины»[420].
Пока «Витязь» оставался в бухте Константина, путешественник постоянно курсировал между корветом и мысом Гарагасси. «Во все время работ, — говорится в «Записке» П.Н. Назимова, — Маклай бравировал своим здоровьем, несмотря на просьбы и убеждения офицеров, которые просили его только указывать, что он желает сделать, а что выполнение они берут на себя <…> лишь бы он сам сохранил свои силы и здоровье. <…> Но ничто не делалось так, как ему предлагалось. <…> Состояние здоровья Миклухи в день отправления корвета было неудовлетворительно, были уже признаки лихорадки»[421]. Согласно дневнику путешественника «пароксизмы лихорадки», то есть приступы малярии, начались у него уже после ухода «Витязя», но за первую неделю пребывания на Новой Гвинее он дошел до крайней степени нервного истощения. «Крайнее утомление, хлопоты последних дней и особенно вторая бессонная ночь, — гласит дневниковая запись, датированная 26 сентября, но сделанная, вероятно, после ухода корвета, — привели меня в такое нервное состояние, что я почти не мог держаться на ногах, говорил и делал все совершенно машинально, как во сне»[422].
За многие месяцы плавания на «Витязе» Миклухо-Маклаю страшно надоела судовая пища, которая по традиции покоилась на «трех китах» — солонине, рисе и сухарях. Он решил, довольно опрометчиво, что на Новой Гвинее будет питаться тем же, что папуасы, а потому не прислушался к советам запастись рассчитанной на длительное хранение провизией в одном из тихоокеанских портов. В результате при высадке он имел только два пуда риса, баночку с надписью «жир для пищи», а также некоторое количество чилийских бобов и сушеного мяса. Узнав о такой неосмотрительности своего «ученого пассажира», Назимов, с согласия всех офицеров, выделил ему еще несколько пудов риса, консервы, чай и сахар из офицерского довольствия, а также приказал «выдать ему однодневную полную порцию всей команды, то есть 300 порций всего, что полагается матросу». «Миклухо-Маклай, — вспоминает Павел Николаевич, — не пожелал принять безвозмездно и внес за провизию деньги»[423].
Назимов оставил путешественнику четырехвесельную шлюпку с парусом, чтобы он мог посещать береговые деревни, а при острой необходимости перебраться туда, где он сможет надеяться на большее гостеприимство. На соседнем мыске выбрали место, где Миклухо-Маклай — в случае серьезной болезни, растущей опасности или отправления во внутренние районы Новой Гвинеи — зароет ящик с дневниками и результатами своих исследований, а также с пояснительной запиской: «куда отправился, когда прибудет и не нуждается ли в чем»[424].
В последнюю ночь на корвете, полуживой от усталости, Миклухо-Маклай написал несколько коротких писем — матери и сестре, Петерману, Остен-Сакену и генерал-адмиралу. В письме великому князю он, в частности, сообщил: «Месяцев через 5 или 6, изучив язык, я предполагаю отправиться вовнутрь Новой Гвинеи и снова вернуться обратно сюда» и попросил прислать за ним через год военный корабль[425].
Утром 27 сентября «Витязь» развел пары и, подняв якорь, медленно вышел из бухты Константина. Путешественник салютовал корвету триколором — русским коммерческим флагом, который был прикреплен к флагштоку, прибитому к высокому дереву. Как только корабль скрылся за горизонтом, на соседнем мыске появилась возбужденная толпа папуасов, которые громко кричали и, двигаясь по кругу, плясали, радуясь, очевидно, уходу дымящегося страшилища. Путешественник ожидал, что вот-вот начнет сбываться предостережение Туя.
Но нападения не произошло. Толпа, пошумев, отправилась через лес в свою деревню.
Пока Бой завершал укладку плетеных циновок, составляющих кровлю, Маклай и Ульсон разбирали вещи, в беспорядке сложенные внутри и возле хижины: соорудили подобие чердака, развесили оружие по стенам, перенесли часть провизии, наиболее громоздкие предметы в погреб, сооруженный под полом матросами. В комнате ученого вдоль одной стены поставили большой стол, на котором разместили микроскоп, приборы для метеорологических и иных наблюдений, ящик с лекарствами и хирургическими инструментами, книги и т. д.; вдоль другой «стены» (брезентовой перегородки) на двух перевернутых корзинах устроили постель, покрытую непромокаемым одеялом. В проходе поместили складное кресло — подарок великой княгини Елены Павловны. Вечером Николай Николаевич зажег масляную лампу, которую он смастерил в Йене из черепа умершей возлюбленной, и уселся за стол, чтобы осмыслить прошедшее и подумать о будущем. В его новогвинейском дневнике появились первые записи.
Новогвинейские дневники: рукописи не горят
Дневники первого пребывания Николая Николаевича на Новой Гвинее — одна из жемчужин европейской литературы путешествий. В них ярко и подробно описан процесс открытия путешественником неизведанного папуасского мира и вхождения его самого в этот мир. В дневниках великое множество ценных наблюдений над самобытной культурой и бытом обитателей залива Астролябия, их нравами и обычаями — так, как их понял Миклухо-Маклай. Но для современного читателя, пожалуй, не менее интересны сами чувства и поступки исследователя, избранный им образ действий, который позволил ему, как впоследствии выразился Л.Н. Толстой, совершить «подвиг истинного мужества»[426] — преодолеть опасения, настороженность, даже враждебность людей каменного века и завоевать их любовь и доверие. При чтении дневников выступают такие свойства личности Миклухо-Маклая, как смелость, хладнокровие, такт и терпение, умение находить единственно верный выход из затруднительного положения, наконец, изобретательность и несомненные актерские способности.
Дневниковые записи — основной и в большинстве случаев единственный источник сведений о первом пребывании Миклухо-Маклая на Новой Гвинее. Поэтому целесообразно поближе присмотреться к опубликованному тексту этих дневников, учесть непростую историю их создания.
Начнем с того, что печатный вариант, которым пользуются биографы ученого и который с первых же страниц приковывает к себе внимание любознательного читателя, отличается от дневниковых записей, которые Николай Николаевич делал в 1871 — 1872 годах, во время пребывания на побережье залива Астролябия. В принципе в этом нет ничего необычного: большинство опубликованных дневников путешественников XVIII — XIX веков отредактировано для печати. Текст в них освобожден от случайных записей и повторов, а также от нежелательных для автора подробностей, освежен позднейшими впечатлениями. Именно так и поступил Миклухо-Маклай. Но от написания этих дневников до их подготовки автором к печати прошло полтора десятилетия. В конце 1886-го — начале 1887 года тяжелобольной ученый, предчувствуя приближение трагического конца, стал спешно готовить к публикации дневники, которые он вел во время той и последующих экспедиций на Новую Гвинею. Как видно из его писем и других материалов, работа над каждым дневником должна была проходить три стадии: диктовку, исправления по продиктованному тексту и переписку набело. На первой стадии Миклухо-Маклай диктовал, держа перед собой полевой дневник, и поправки тут же вносил в уже продиктованную часть текста; на второй стадии, помимо исправления ошибок переписчиц, он продолжал дорабатывать рукопись, делая отдельные дополнения и уточнения, а его гимназический товарищ В.Ф. Суфщинский, по просьбе автора, вносил в нее стилистическую правку.
Такой порядок работы прослеживается по материалам второй экспедиции на Новую Гвинею (в Папуаковиай), от которой сохранились полевой дневник и его продиктованный и исправленный вариант. Что же касается экспедиции 1871 — 1872 годов, то современные исследователи располагают лишь копией, которая была сделана для Д.Н. Анучина с продиктованной и исправленной версии полевого дневника. Оригинал, отражающий вторую стадию работы над этим текстом, затерялся в бумагах Анучина[427]. А что стало с самим полевым дневником за эти годы? Судьба его неизвестна и вызывает разноречивые суждения в научной и научно-популярной литературе. Если верить вдове ученого, она сожгла эту рукопись в первые дни после смерти мужа, выполняя, как она считала, волю покойного. Но его младший брат утверждал, что в 1888 году сдал этот полевой дневник в РГО вместе с другими бумагами путешественника[428]. Подтвердилась булгаковская формула «рукописи не горят». В 1949 году Публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (ныне Российская национальная библиотека) приобрела «улиц, в руки которых она попала случайно»[429], уникальную рукопись — два фрагмента подлинного дневника первого пребывания Н.Н. Миклухо-Маклая на Новой Гвинее с 1 по 17 января и с 8 по 23 февраля 1872 года.
Миклухо-Маклай еще дважды подробно описывал свое первое пребывание на Новой Гвинее — в статье, продиктованной в 1872 году на борту клипера «Изумруд», и в публичных чтениях, устроенных в 1882 году в РГО[430]. Разумеется, информацию, содержащуюся в дневниках, целесообразно дополнять данными, почерпнутыми из других источников, как мы уже делали, рассказывая о пребывании «Витязя» в заливе Астролябия. Некоторые сведения (нередко тенденциозные) можно извлечь из книг немецких путешественников, миссионеров и колониальных чиновников конца XIX — начала XX века. О восприятии Миклухо-Маклая местным населением повествуют легенды и предания — вплоть до тех, которые удалось зафиксировать советским этнографам, в том числе автору этих строк, в 1971 и 1977 годах. Критическое использование всех имеющихся источников позволяет достаточно достоверно отобразить первый акт новогвинейской эпопеи Миклухо-Маклая.
Первые шаги к цели
После ухода «Витязя» жизнь на побережье залива Астролябия вошла, казалось, в свою обычную колею. В окрестные деревни — Горенду, Бонгу и Гумбу — вернулись жители обоего пола. В бухте недалеко от домика путешественника папуасы возобновили лов рыбы с каноэ. Николай Николаевич прежде всего отоспался после бессонных ночей. Так как угроза внезапного нападения на его жилище не миновала, он оставался настороже; когда он спал, вахту несли попеременно Ульсон и Бой. Как реакция на длительный нервный стресс у путешественника наступили расслабление и некая умиротворенность.
«По уходе корвета, — записал он 30 сентября, — здесь царствует всегда мне приятная тишина: не слыхать почти людского говора, спора, брани и т. д., только море, ветер и порою какая-нибудь птица нарушают общее спокойствие. Эта перемена обстановки очень благотворно на меня действует — я отдыхаю. <…> Думать и стараться понять окружающее — отныне моя цель. Что мне больше? Море с коралловыми рифами с одной стороны, лес тропической растительности с другой, то и другое полно жизни, разнообразия; вдали горы с причудливыми очертаниями, над которыми клубятся облака с не менее фантастическими формами. Я <…> доволен, что добрался до цели или вернее до первой ступени длиннейшей лестницы, которая должна привести к цели»[431].
На мысок Гарагасси пришла большая группа жителей Горенду, которые принесли в дар Маклаю подвешенного к бамбуковой палке поросенка и кокосовые орехи. Среди пришедших был Туй. Путешественник подарил им в ответ гвозди, куски красной материи, бусы и другие «безделушки», которые он специально приобрел для этой цели на Самоа, а Ульсон развлек их игрой на губной гармонике.
На следующий день Миклухо-Маклай решил пойти в ближайшую деревню, чтобы поближе познакомиться с ее обитателями. «Отправляясь, — записал Николай Николаевич, — я остановился перед дилеммой: брать или не брать с собой револьвер». Путешественник опасался, что, имея револьвер у пояса, он не останется безучастным к «любезностям» папуасов. «Какая-нибудь пуля, пущенная некстати, — решил он, — может сделать достижение доверия туземцев невозможным, т. е. совершенно разрушить все шансы на успех предприятия. Чем более я обдумывал мое положение, тем яснее становилось мне, что моя сила должна заключаться в спокойствии и терпении. Я оставил револьвер дома, но не забыл записную книжку и карандаш»[432].
Миклухо-Маклай хотел посетить Горенду, но тропинка в лесу привела его к другой деревне — Бонгу. Путешественник подошел к ней внезапно. Раздались несколько громких возгласов, женский визг и затем наступила тишина. «Я вышел на площадку, — записал он в дневнике. — Группа вооруженных копьями людей стояла посередине. <…> Другие, все вооруженные, стояли поодаль; ни женщин, ни детей не было — они, вероятно, попрятались». Путешественник увидел «угрюмые, встревоженные, недовольные физиономии и взгляды, говорящие, зачем я пришел нарушить их спокойную жизнь». Несколько стрел пролетело рядом с его головой. Бонгуанцы угрожающе потрясали копьями; один из них вдруг размахнулся и «еле-еле не попал мне в глаз или в нос». Папуасы, по-видимому, не собирались убивать таинственного пришельца, а хотели прогнать его и проверить его реакцию на эти угрозы; они увидели на его лице лишь «выражение усталости и, быть может, некоторое любопытство». Напряжение на площадке нарастало. Как объяснить свои мирные намерения жителям деревни? Николай Николаевич разложил в тени циновку и… лег спать около вооруженных, возбужденных людей. Он подумал, что «если уж суждено быть убитым, то все равно, будет ли это стоя, сидя, удобно лежа на циновке или даже во сне». Путешественник проспал около двух часов. Проснувшись, он увидел нескольких папуасов, которые сидели поблизости, жуя бетель. «Они были без оружия, — рассказывает Миклухо-Маклай, — и смотрели на меня уже не так угрюмо». Кивнув во все стороны, он отправился той же тропинкой обратно в Гарагасси[433].
Этот поразительный эпизод может показаться выдуманным, но папуасы деревни Бонгу до сих пор помнят его. В 1977 году на глазах у автора книги они воспроизвели его в ходе пантомимы о первом появлении у них Маклая, показанной участникам экспедиции на «Дмитрии Менделееве».
7 октября Николай Николаевич посетил третью близлежащую деревню — Гумбу. Но при его появлении повторилось примерно то, что случилось неделю назад в Бонгу: кричащие женщины и дети стремглав бросились в лес, а мужчины, вооружившись чем попало, обступили пришельца. «Мой приход был им крайне неприятен, — записал Николай Николаевич. — Большинство посматривало на меня боязливо, и все как будто бы томительно ожидали, чтобы я удалился». Поэтому, сделав несколько карандашных набросков хижин, путешественник вернулся в Гарагасси[434].
Обдумав сложившееся положение, Миклухо-Маклай решил временно отказаться от посещения деревень и ограничиться контактами с папуасами, приходившими в Гарагасси. Между тем слухи, порой самые невероятные, о белокожем пришельце, прибывшем на дымящемся чудовище, распространялись все шире и шире. Посмотреть на него и его жилище приходили и приплывали в каноэ жители многих береговых и горных деревень, а также обитатели прибрежных островов — Били-Били (Билбил), Ямбомбы (Ябоб) и расположенного к северо-западу от залива Астролябия более крупного острова Кар-Кар. «Экскурсоводом» при таких визитах выступал Туй. Он рассказывал гостям о Маклае и его спутниках, показывал, с разрешения путешественника, некоторые диковинные предметы. Николай Николаевич обнаружил, что его соседи, возбужденные и беспокойные, когда он посещал их деревни, приходя в Гарагасси, становились «более ручными» и даже позволяли «рассматривать, мерить и рисовать себя». И ученый начал осторожно использовать эту возможность[435].
В наиболее трудный, начальный период вхождения Миклухо-Маклая в папуасский мир большую роль сыграли его дружественные, доверительные отношения с Туем. Этот житель Горенду почти ежедневно приходил в Гарагасси. Как сообщает ученый, он брал у Туя уроки «папуасского языка, на котором говорили в Бонгу, Горенду и Гумбу»[436]. От своего приятеля Маклай узнал названия многих речек, мысов и деревень и отразил их расположение на схематической карте, составленной с помощью Туя. В свою очередь, Николай Николаевич, используя немногие услышанные и выученные местные слова, пытался постепенно расширить кругозор своего приятеля. «Туй, кажется, начинает очень интересоваться географией, — записал в феврале 1872 года Миклухо-Маклай, — и повторял за мной имена частей света и стран, которые я ему показывал на карте; но очень вероятно, что он считает Россию немного больше Бонгу или Били-Били»[437]. Скоро Туй, а за ним и другие жители окрестных деревень стали называть путешественника таморусс — «человек из России». Позже, как будет сказано далее, у него появилось и другое прозвище — каарам тамо, или «человек с Луны».
Не имея возможности широко развернуть исследования по антропологии и этнографии, Николай Николаевич в первые месяцы своей жизни в Гарагасси уделял много внимания естественно-научным изысканиям, прежде всего метеорологическим наблюдениям, которые до него на Новой Гвинее стационарно не проводились. Описав свой рабочий день в октябре 1871 года, ученый познакомил будущих читателей с распорядком своих исследований: «Около 7 часов (утра. — Д. Т.) записываю температуру воздуха, воды в ручье и в море, высоту прилива, высоту барометра, направление и силу ветра, количество испарившейся воды в эвапориметре, вынимаю из земли зарытый на один метр глубины термометр и записываю его показание. Окончив метеорологические наблюдения, отправляюсь или на коралловый риф за морскими животными или в лес за насекомыми. С добычей сажусь за микроскоп или кладу в спирт собранных насекомых, или же принимаюсь за какую-нибудь другую работу до 11. <…> В 8 часов иду в комнату и, зажегши свою небольшую лампочку (более похожую на ночник, чем на лампу), записываю происшествия дня в дневник. В 8 — 9 часов опять метеорологические наблюдения»[438]. Несмотря ни на что, Николай Николаевич вел и записывал эти наблюдения на протяжении всего пребывания на побережье залива Астролябия.
Миклухо-Маклай положил начало изучению животного мира Новой Гвинеи. В его дневниках можно найти много интересных наблюдений над сумчатыми (древесными кенгуру, бандикутами и др.), птицами, крокодилами, ящерицами, рыбами, известковыми губками. По мере возможности он собирал материал для продолжения своих сравнительно-анатомических исследований: препарировал черепа и скелеты, помещал в консервирующие жидкости мозги и целые тушки животных. Однако ученый приступил к описанию и публикации этих фаунистических сборов лишь в середине 1880-х годов, в последний период своей жизни в Австралии.
Через месяц после своей высадки в заливе Астролябия Николай Николаевич записал в своем дневнике: «Был несколько часов в лесу, дивясь громадному разнообразию растительных форм, сожалея на каждом шагу, что смыслю так мало в ботанике»[439]. И все же ему удалось сделать немало интересных флористических наблюдений. Миклухо-Маклай, по-видимому, не собирал систематического гербария, но засушивал (иногда заспиртовывал) плоды, листья и цветы заинтересовавших его растений. Эти заготовки, да и то частично, были тоже использованы только в середине 1880-х годов, причем Николай Николаевич опубликовал тогда статью, которая позволяет считать ее автора одним из зачинателей этноботаники.
Как и в предыдущих экспедициях, Миклухо-Маклай бродил в часы отлива по рифу, выискивал в расщелинах известковые губки, собирая сачком на морской поверхности медуз, сифонофоров, рачков и других простейших морских животных. Но вскоре ему пришлось прекратить эти работы. «Риф, который окружал мысик, где стояла моя хижина, — говорится в статье, продиктованной путешественником на борту «Изумруда», — мог бы быть источником интересных зоологических наблюдений и исследований, но для этого я должен был бродить по пояс или по колено в воде, следствием чего было возобновление пароксизмов, почему я должен был отказаться и от этого»[440].
Дело в том, что 11 октября Николая Николаевича свалил «первый пароксизм лихорадки», то есть приступ малярии; на следующий день наступила очередь Ульсона. «Пароксизмы», то учащаясь и обостряясь, то как бы отступая, продолжались в течение всего пребывания Миклухо-Маклая на побережье залива Астролябия. Они были вызваны, конечно, не переохлаждением от длительного нахождения в воде и другими подобными факторами, а заражением местными видами малярии, и начались по окончании инкубационного периода этой болезни. Пароксизмы были особенно частыми и изнурительными в декабре 1871-го — январе 1872 года, когда у путешественника и Ульсона развилась злокачественная форма тропической малярии. При ней приступы следовали один за другим в течение пяти-шести дней и сопровождались бредом, галлюцинациями и опуханием верхних и нижних конечностей. В начале одного из таких приступов, 7 января, Николай Николаевич неровным, дрожащим почерком сделал запись, которая отсутствует в дневниках, подготовленных им к печати:
«Не папуасы, не тропический жар и не труднопроходимые леса стерегут берега Новой Гвинеи. Защищающий ее от чужих нашествий могучий союзник — это бледная, холодная, дрожащая, потом сжигающая лихорадка. Она сторожит прибывшего при первых лучах и при палящем зное полдня, она готова захватить неосторожного и при догорающем свете дня, черная тихая или бурная ночь, чудный месячный блеск не мешают ей нападать на человека. Она сторожит его везде изменнически, человек даже не чувствует ее холодных объятий… Но это только на время, скоро точно свинец вливается в его ноги, голова туманится. Холодная дрожь пробирает его, трясет его. Мозг начинает изменять ему, образы, то громадные и чудовищные, то печальные и тихие, сменяются перед его закрытыми очами. Холод, мороз переходят в жар, палящий, сухой, нескончаемый… Образы переходят в какую-то скачущую, фантастическую пляску. Человек остатками чувств сознает, что он в руках врага»[441].
А как же хинин? Неужели его не было у Миклухо-Маклая? Путешественник привез значительный запас этого лекарства, но оно лишь помогало предотвратить или смягчить отдельные приступы, но было бессильно тогда, когда пароксизмы следовали один за другим или когда оно принималось в разгар приступа; большие дозы хинина вызывали звон в ушах и временную глухоту. От «болотной лихорадки», как называли тогда малярию, жестоко страдали почти все европейцы, жившие на Новой Гвинее.
Ученому не повезло со слугами. Ульсон оказался лентяем и трусом, панически боявшимся нападения папуасов. Даже в те дни, когда у него не было приступов, он прикидывался больным, лежал и охал, мало помогая своему хозяину. Еще хуже обстояло дело с Боем. Он страдал не только от приступов малярии. Не прошло и месяца со дня высадки, как у юноши-полинезийца появилась болезнь, которую Николай Николаевич диагностировал как «опухоль лимфатических желез в паху». Болезнь быстро прогрессировала. Бой стонал день и ночь; он лежал на полу, корчась от боли, отказывался принимать пищу. Миклухо-Маклай в меру сил старался помочь юноше: вскрыл и обработал большой нарыв, образовавшийся в паху, давал ему морфий как обезболивающее средство. Но в начале декабря стало ясно, что дни Боя сочтены.
С горькой иронией Николай Николаевич писал о том, что он совсем не походит на «барина, занимающегося естественными науками»[442]. «Утром я зоолог-естествоиспытатель, — гласит одна из записей, — затем <…> повар, врач, аптекарь, маляр, портной и даже прачка»[443]. «Я убежден, что мне было бы комфортабельнее, — сокрушался путешественник 3 декабря, — если бы я жил совершенно один, не имея слуг, за которыми до сих пор я ухаживал более, чем они за мною»[444].
А ведь сам Миклухо-Маклай страдал тогда от постоянных приступов малярии! Несмотря на предательскую слабость в руках и ногах, головокружение и упадок сил после очередного приступа, он, спотыкаясь, спускался к ручью за водой, собирал сухие ветки для очага, чтобы приготовить чай и сварить бобы или рис, не прекращал метеорологические наблюдения. Тут снова проявилась его удивительная способность превозмогать себя, мобилизовывать в экстремальных условиях все скрытые резервы своего организма, чтобы ценой максимального напряжения сил не только удовлетворять повседневные потребности, но и продолжать научные исследования.
Миклухо-Маклай мучительно размышлял о том, как преодолеть настороженность папуасов и завоевать их доверие. В ноябре положение начало меняться к лучшему. «Моя политика терпения и ненавязчивость, — записал он в дневнике, — оказалась совсем верною: не я к ним хожу, а они ко мне; не я их прошу о чем-нибудь, а они меня и даже начинают ухаживать за мною. Они <…> приходят, сидят долго, а не стараются, как прежде, выпросить что-нибудь и затем улизнуть поскорее со своею добычею»[445]. Но что нужно предпринять, чтобы папуасы спокойно воспринимали посещение их деревень? Путешественник решил громким свистом предупреждать о своем приближении к деревне, и это, по его выражению, «простое средство» дало благоприятные результаты. «Открыв, что неожиданность моего появления сильно их беспокоит и так им надоедает, — рассказывал он десять лет спустя, выступая в РГО, — я обыкновенно, подходя к деревне, останавливался и резким свистом давал знать о моем приближении для того, чтобы дать женщинам время убраться с детьми в кусты и спрятаться там. Я скоро заметил, что вследствие этого туземцы, зная, что я не приду неожиданным гостем, стали совершенно иначе относиться к моим визитам и гораздо реже брались за оружие»[446].
Миклухо-Маклай впервые применил свое «простое средство» 17 ноября, при посещении после длительного перерыва деревни Горенду. Спрятав женщин и детей, мужчины гораздо спокойнее встретили путешественника, не устраивали, по его словам, «разных шумных демонстраций при моем появлении, как прежде», а при его втором визите, 3 декабря, даже, казалось, не прерывали своих обычных занятий. Николай Николаевич выменял у них несколько кокосовых орехов, которые жители деревни охотно принесли в таль Маклай (дом Маклая).
Между тем безнадежное положение Боя и частое нездоровье Ульсона не укрылись от внимания Туя и других островитян, приходивших в Гарагасси. Туй предупредил: когда тамо русс останется один, люди из Бонгу и Гумбу придут в Гарагасси и убьют Маклая. Путешественник сделал вид, что отнесся к этому предупреждению как к шутке, заявив, что ни Бой, ни Ульсон не умрут, но усилил меры предосторожности, предположив, что «мои соседи толковали об этом на днях, иначе Туй не поднял бы старого вопроса о моем убиении»[447].
Одновременно Николай Николаевич задумал припугнуть папуасов. Еще в октябре он заметил, что он сам и его хижина «производят на туземцев какое-то особенное чувство», и позднее пришел к выводу, что «туземцы считают меня и в некоторой степени Ульсона сверхъестественными существами»[448]. Миклухо-Маклай решил подкрепить и использовать эти чувства, так как они могли обеспечить ему определенную безопасность и непререкаемый авторитет, а значит, и более благоприятные условия для научных исследований. Вечером 7 октября, когда мимо его мыска проплывали две лодки с рыбаками, приманивавшими рыбу с помощью факелов, он зажег фальшфейер. «Эффект был очень удачен, — записал путешественник в дневнике, — и на моих папуасов произвел, вероятно, сильное впечатление: все факелы были брошены в воду, и когда после полуминутного горения фальшфейер потух, пирог и след простыл»[449]. Впоследствии, когда Николай Николаевич научился объясняться на местном языке, он узнал, что один из рыбаков, житель Горенду, заметив яркий белый свет, так испугался, что бросился в деревню, где объявил, что увидел у хижины Маклая «огонь с луны». «С этого времени, — рассказывал в 1882 году Миклухо-Маклай, — сначала в ближайших деревнях, а потом и в более отдаленных стали звать меня "человеком с Луны". <…> Это-то случайное обстоятельство окончательно утвердило в мозгу туземцев убеждение в моем сверхъестественном происхождении, первоначальные зерна которого брошены были, вероятно, моим неожиданным появлением среди них»[450].
Бой умирал в страшных мучениях. Смерть наступила 13 декабря. Миклухо-Маклай не хотел, чтобы о смерти юноши узнали папуасы, так как это расходилось с его заверениями, а главное — могло подорвать убеждение в сверхъестественных свойствах Маклая и его спутников. Поэтому путешественник решил похоронить Боя тайно, под покровом ночи, в бухте, где его тело быстро станет добычей акул. Несмотря на трагизм положения, в Николае Николаевиче проснулся патологоанатом. Он вспомнил обещание прислать гортань темнокожего человека, данное профессору Гегенбауру, и, приготовив анатомические инструменты и склянку со спиртом, «вырезал гортань с языком и всей мускулатурою»[451]. Затем Миклухо-Маклай с помощью трясущегося от страха Ульсона перетащил мешок с телом Боя к шлюпке, вложил в мешок несколько тяжелых камней и приготовился на веслах отойти от берега, чтобы отправить умершего юношу в «сырую могилу». Однако в этот момент вблизи от них в бухте появились 11 рыбацких каноэ с факелами. Николай Николаевич пережил несколько тревожных минут. Но свет факелов не достиг берега с притаившейся шлюпкой. Рыболовы вскоре обогнули мысок и скрылись из виду, так что тамо русс смог осуществить задуманное[452].
На следующий день Туй и несколько других папуасов, пришедших в Гарагасси, справлялись о здоровье Боя и уговаривали отпустить его для излечения в Гумбу. «Чтобы отвлечь их мысли от Боя, — записал Миклухо-Маклай, — я вздумал сделать опыт над их впечатлительностью». Путешественник поджег налитый в блюдечко спирт, выдав его за обычную воду, и затем брызнул им с веранды дома на лестницу и на землю. Папуасы были несказанно поражены этим, по их мнению, волшебством, убежали, но вскоре вернулись целой толпой. Среди них были жители близлежащих деревень и их гости с прибрежных островков. Туй от имени собравшихся попросил повторить возжигание воды. «Когда я исполнил эту просьбу, — говорится в дневнике, — эффект был неописанный: большинство бросилось бежать, прося меня "не зажечь моря"»[453].
Убедившись в отсутствии Боя в хижине тамо русс, папуасы 16 декабря спросили Маклая, куда делся этот юноша. «Не желая говорить неправду, — записал Николай Николаевич, — не желая также показать им ни на землю, ни на море, я просто махнул рукой и отошел. Они, должно быть, решили, что я указал на горизонт, где далеко-далеко находится Россия. Они стали рассуждать и, кажется, под конец пришли к заключению, что <…> Бой отправлен мною в Россию и что я дал ему возможность перелететь туда»[454]. Можно предположить, что папуасы пришли к такой мысли, — если они действительно к ней пришли, — не без влияния «чудес», явленных Миклухо-Маклаем.
Авторитет тамо русс значительно возрос. К нему стали приходить жители окрестных селений с просьбой излечить их от разных болезней. 11 января 1872 года Маклая впервые пригласили посетить Бонгу. На сей раз путешественник смог спокойно осмотреть деревню, зарисовать и описать семейные хижины и клановые мужские дома, обменяться подарками с бонгуанцами, которые, однако, по-прежнему не решились показать ему своих жен и детей. Положительный сдвиг, наметившийся в отношениях с папуасами, был омрачен, как уже упоминалось, чередой изнурительных приступов малярии, которые — несмотря на героическое сопротивление путешественника недугу, — то и дело выбивали его из колеи. Разгул «болотной лихорадки», недружелюбная замкнутость большинства местных жителей, кажущаяся недоступность горных цепей привели Николая Николаевича в конце января к мысли, закопав в условленном месте дневники, метеорологический журнал, заметки и рисунки, «отобрать часть вещей, нагрузить ими оставленную мне шлюпку и отправиться далее по берегу искать более благоприятного пристанища и более гостеприимных жителей». Но при осмотре выяснилось, что шлюпка, стоявшая долгое время на якоре возле кораллового рифа, проедена червями, сильно течет и вряд ли пригодна для дальнего, может быть, плавания[455]. Миклухо-Маклай оказался на распутье. Но тут произошел несчастный случай, который послужил поворотным пунктом в истории отношений путешественника с папуасами. Как уже случалось в жизни нашего героя, вышло по пословице: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».
«Тамо русс — тамо билен»
Утром 16 февраля 1872 года, когда Николай Николаевич вместе с Ульсоном занимался починкой шлюпки, прибежал житель Горенду, который сообщил, что Туй сильно ранен упавшим деревом и призывает на помощь тамо русс. Взяв перевязочный материал и хирургические инструменты, путешественник поспешил в деревню. У Туя на голове, немного выше виска, оказалась большая рваная рана. Вот когда пригодились медицинские познания, полученные в Йене! Ученый обрезал слипшиеся от крови волосы, промыл и перевязал все еще кровоточащую рану. Через день рана сильно нагноилась, лицо опухло. Миклухо-Маклай подолгу сидел возле циновки с раненым другом, применяя все доступные ему средства тогдашней медицины, не располагавшей еще сколько-нибудь эффективными антисептическими препаратами. На пятый день нарыв созрел; в течение нескольких часов Николай Николаевич прикладывал припарки из льняного семени, чтобы вызвать отток гноя из раны. Ему это удалось, после чего больной пошел на поправку.
Оценив помощь и внимание, проявленные тамо русс, Туй объявил собравшимся возле него жителям Горенду, Бонгу и Гумбу, что Маклай — тамо билен («человек хороший»), а потому не нужно прятать от него жен и детей. Мужчины согласились с его мнением. Тотчас из-за хижины показалась пожилая папуаска — жена Туя, а за ней из укрытий вышли и приблизились к Маклаю другие женщины и девушки деревни. «Многие из молодых женщин, — заметил Николай Николаевич, — <…> были недурны собою. Лицо и тело были довольно круглы, и небольшие стоячие груди напомнили мне конические груди девушек Самоа»[456].
Весть о том, что произошло в Горенду, быстро распространилась по окрестным деревням. В отношениях русского путешественника с папуасами наметился перелом. Они по-прежнему считали его «чем-то вроде полубога или великого духа»[457], хотя первичная мифологическая трактовка Маклая как злого духа, воплощения зла была, разумеется, поколеблена. Но она не была попросту отброшена, а, как всякий фольклорно-мифологический образ, продолжала изменяться и развиваться, обрастая новыми подробностями.
В папуасской мифологии — о чем, конечно, не знал Миклухо-Маклай — духи предков и другие небожители, спускаясь на землю, приобретали человеческий облик, участвовали в жизни первобытных коллективов, нередко вступали в брачные отношения с местными женщинами. Для общения с такими существами не требовалось особого ритуала. Именно так произошло, как считает австралийский исследователь П. Лоуренс, с Миклухо-Маклаем[458].
Свидетельством доверия к Маклаю и символического включения его в местный социум было приглашение участвовать в ночном празднике, который устроили 2 марта мужчины трех родственных деревень — Бонгу, Горенду и Гумбу. В дальнейшем путешественник стал непременным гостем на таких празднествах, обычно продолжавшихся в течение двух-трех ночей.
Николай Николаевич оставил подробное и поистине художественное описание праздника, который происходил вблизи от Горенду на поляне, с трех сторон окруженной вековыми деревьями, а с четвертой круто обрывавшейся к морю. Участники праздника — мужчины, прошедшие обряды инициации (посвящения)[459], — поглощали в больших количествах различные кушанья, в том числе сваренную в глиняных горшках свинину, пили опьяняющий напиток кеу, приготовленный из корней перечного растения Piper methysticum, оглушительно играли на ритуальных инструментах (трубок из бамбука и бутылочной тыквы, свистках и погремушках). Отдохнув и поспав, папуасы вновь принимались за еду, питье кеу и извлечение, как писал ученый, «душераздирающих звуков». Кульминационным пунктом первой ночи празднества была раздача кусков свинины — лакомства, которым дозволялось наслаждаться лишь в торжественных случаях и только инициированным мужчинам. Туй, который был распорядителем при раздаче, по очереди подзывая присутствующих, громко провозгласил: «Маклай, тамо русс!» Так путешественник предстал в двух ипостасях, совместимых по местным представлениям: некоего духа и в то же время представителя дружественной «деревни» — России.
Женщинам и юношам, еще не прошедшим обряда инициации, было под страхом смерти запрещено не только посещать ночные празднества, но и созерцать ритуальные музыкальные инструменты. Иногда участники праздников в устрашающих масках являлись в деревню, сознательно внушая панический страх непосвященным. Николай Николаевич, по-видимому, лишь в 1880-х годах — из книг других путешественников и собственных наблюдений на островах северо-западной Меланезии — понял, что эти праздники были одним из проявлений тайного мужского культа, объединявшего всех инициированных мужчин деревни или нескольких деревень[460].
Обеспечив свой тыл, Миклухо-Маклай начал совершать экскурсии с ночевками как по побережью (в деревни Мале и Бога-тим), так и на близлежащие горы и холмы (в деревни Коликумана, Теныуммана и Энгламмана). «Мои соседи, — сообщает он, — оказались хорошими проводниками и переводчиками»[461]. Для ослабленного малярией исследователя трудности переходов по пересеченной местности были весьма значительны: приходилось карабкаться и опускаться по крутым склонам, переходить вброд речки с быстрым, сбивающим с ног течением (ученый признается в дневнике, что не умеет плавать), продираться сквозь густые заросли. Зато тамо русс познакомился с несколькими этническими группами, отличавшимися по языку и некоторым элементам культуры от его соседей. Но объявленное им еще в России намерение, обосновавшись на побережье, проникнуть во внутренние районы Новой Гвинеи — путешественник подтвердил это намерение по прибытии в залив Астролябия как в письме генерал-адмиралу, так и в разговорах с офицерами «Витязя» — осуществить не удалось[462].
Объясняя и оправдывая невыполнение этого проекта, Миклухо-Маклай в статье, продиктованной на борту «Изумруда», писал, что, по словам папуасов, «выше 1200 — 1500 футов в горах около Астролаб-Бай (доходящих приблизительно до 7000 и 8000 ф.) жителей нет, тропинки также находятся только около деревень. <…> Это отсутствие жителей, а в особенности тропинок было для меня непреодолимым препятствием подняться выше в горы». К этому прибавились «истощение вследствие лихорадки и недостаточной пищи», а также «мысль, что еще и у моих соседей многое остается для меня, об чем следует разузнать»[463]. У тамо русс действительно не было ни сил, ни возможности пробраться через высокую горную цепь во внутренние районы огромного острова. Но, как установили путешественники в XX веке, за хребтом, протянувшимся вдоль побережья, располагаются нагорья со значительным населением, о чем, по-видимому, не знали Туй и другие опрошенные Николаем Николаевичем обитатели залива Астролябия.
На отремонтированной шлюпке, используя парус и весла, Миклухо-Маклай с Ульсоном дважды (в марте и августе 1872 года) побывали на возвышенном, покрытом пышной растительностью островке Били-Били. К.Д. Рончевский, который снова посетил эти места на клипере «Изумруд», образно назвал жителей Били-Били «финикианами астролябского мира»[464], так как глиняные горшки, изготовляемые женщинами, местные мужчины развозили на больших парусных каноэ по всему побережью для обмена на продовольствие, оружие, украшения и другие нужные им изделия. Русского путешественника пригласил на Били-Били местный «большой человек» по имени Каин — приятель Туя, знавший язык, на котором говорили в Бонгу, Горенду и Гумбу.
В свой второй приезд на Били-Били Николай Николаевич пожелал осмотреть три десятка коралловых островков, вытянувшихся вдоль новогвинейского берега к северу от выхода из залива Астролябия, и Каин отвез его туда на своем каноэ. Жители островков, слышавшие много былей и небылиц о тамо русс, очень дружелюбно приняли Маклая. «Жизнь этих людей, — рассказал путешественник в 1874 году, — их отношения между собою, обращение их с женами, детьми, животными произвели на меня впечатление, что эти люди довольны вполне своей судьбою, самими собою и всем окружающим. Я назвал поэтому эту группу островов <…> архипелагом Довольных людей»[465]. Миклухо-Маклай отметил, что бухта, отделенная от открытого моря этим архипелагом, «может представить удобную якорную стоянку».
Сблизившись и подружившись с жителями Бонгу, Горенду и Гумбу, установив добрые отношения с обитателями нескольких других деревень, ученый создал важные предпосылки для развертывания этнографических и антропологических исследований. Однако осталось еще преодолеть или хотя бы ослабить языковый барьер. «Изучение первого папуасского диалекта (языка бонгу, на котором говорили жители трех ближайших деревень. — Д Т.), — писал Миклухо-Маклай, — было сопряжено для меня с большими трудностями, так как не было лица, которое могло бы служить переводчиком для обеих сторон. Названия, которые я желал узнать, я мог получить, только или указывая на предмет, или с помощью жестов, которыми я подражал какому-нибудь действию. Но эти два метода были часто источниками многих недоразумений и ошибок»[466]. «Узнал только сегодня, т. е. на 5-й месяц пребывания, название слов "утро", "вечер", названия ночи еще не добился, — записывает он, например, в дневнике 25 января 1872 года. — Смешно и досадно сказать, что только сегодня узнал наверное, как сказать по-папуасски слово "хорошо" или "хороший". До сих пор я уже два раза был в заблуждении, предполагая, что знаю это слово»[467]. К концу своего первого пребывания на этом берегу Миклухо-Маклай, по его собственному признанию, знал всего лишь около 350 бонгуанских слов[468]. Вместе с тем он утверждал, что к этому времени «находил свое знание языка почти достаточным, чтобы повсеместно обращаться с папуасами. К.Д. Рончевский, описывая посещение «Изумруда» местными жителями, также отметил, что, «свободно и бегло говоря по-астролябски, Маклай немедленно отвечал на все их вопросы»[469].
Строго говоря, Миклухо-Маклай столкнулся не с одним а с множеством языковых барьеров, так как в районе залива Астролябия папуасы употребляли не менее пятнадцати языков, зачастую сильно отличавшихся друг от друга[470]. «Жители деревень, находящихся на расстоянии часа ходьбы одна от другой, говорят иногда на столь различных диалектах, что почти не понимают друг друга, — писал Миклухо-Маклай. — Во время моих экскурсий, если они длились больше одного дня, мне требовались два или даже три переводчика, которые должны были переводить один другому вопросы и ответы. Только пожилые люди говорят на двух или трех диалектах; чтобы научиться им, папуасы в юношеском возрасте проводят некоторое время в чужих деревнях»[471]. Николай Николаевич пытался записывать слова из языка не только Бонгу, но и всех посещенных им деревень. Но эти словники были короткими и неточными. Вдобавок папуасы на расспросы об их обычаях «отвечали большею частью только из вежливости, чтобы отделаться каким-нибудь ответом»[472]. Впрочем, исследователь почти не прибегал к расспросам: получив возможность «свободно заглянуть в семейную и общественную жизнь папуасов», он предпочитал всё видеть собственными глазами.
«На мою долю, — писал Миклухо-Маклай, — выпало редкое счастье наблюдать население, жившее еще полностью вне сношения с другими народами и притом на такой стадии развития цивилизации, когда все орудия труда и оружие изготовляются из камня, кости и дерева»[473]. И ученый воспользовался этой возможностью. Он тщательно и подробно описал в дневниках и статьях хозяйство и материальную культуру своих темнокожих друзей, их повседневный быт, нравы и обычаи, уделил много внимания их самобытному искусству. Несмотря на несовершенство его методики, эти материалы остаются и по сей день важным источником по этнографии Новой Гвинеи, уникальным образцом полевой работы в тропиках, среди людей каменного века.
В дневниках и статьях Миклухо-Маклая встречается много интересных наблюдений не только о жизненном укладе, но и о социальном строе папуасов. Путешественник установил, что обитатели каждой деревни составляли общину, в которой господствовали принципы коллективизма, что в такой общине не было имущих и неимущих. «В этой общине, — писал он, — не было начальников, не было богатых и бедных, почему не было ни зависти, ни воровства, ни насилия»[474]. Как видно из записей Миклухо-Маклая, местные жители не имели ни наследственных, ни выборных вождей. Но из среды общинников стихийно выделялись «большие люди» (тамо боро), пользовавшиеся авторитетом благодаря своему воинскому искусству, успехам в хозяйственной деятельности или знанию магического ритуала. «Люди слушаются не их приказания, — отмечал Николай Николаевич, — но их совета или мнения»[475].
Принципиальное значение имело антропологическое изучение папуасов, ради которого прежде всего Миклухо-Маклай отправился на Новую Гвинею. С особой тщательностью ученый искал признаки, которые многие научные авторитеты того времени рассматривали в качестве специфических особенностей папуасской расы. Эти «авторитеты», сами никогда не видевшие коренных новогвинейцев или наблюдавшие их с палубы корабля, утверждали, будто папуасы обладают рядом «обезьяноподобных» черт. В научных трактатах, в том числе в «Естественной истории миротворения» Э. Геккеля, говорилось, что у папуасов волосы на голове растут пучками, кожа отличается особой шершавостью и т. д. Миклухо-Маклай считал своим долгом проверить эти утверждения — и в итоге опроверг их. Изучив волосяной покров жителей Бонгу, он записал в дневник: «Волосы растут, как я убедился, у папуасов не группами или пучками, как можно прочесть во многих учебниках по антропологии, а совершенно так же, как у нас. Это для многих, может быть, очень незначительное наблюдение разогнало мой сон и привело меня в приятное настроение духа»[476].
Шаг за шагом Миклухо-Маклай устанавливал, что местные жители по своей физической организации существенно не отличаются от европейцев. Но, пожалуй, еще важнее было то, что путешественник обнаружил большое сходство между папуасами и европейцами во всем, что касается психических свойств. В своих дневниках и статьях Миклухо-Маклай называет лица папуасов добрыми, мягкими, умными, радуется их трудолюбию, честности и смышлености, подчеркивает, что они легко перенимают новое.
«Все украшения и обтеску им приходится делать камнем, обточенным в виде топора, костями, также обточенными, осколками раковин или кремнем», — писал путешественник в начале своего пребывания на побережье залива Астролябия, -и можно только удивляться, как с помощью таких первобытных инструментов они строят порядочные хижины и пироги, не лишенные иногда довольно красивых орнаментов»[477]. «Можно было видеть, — записал он в дневнике восемь месяцев спустя, — как железо легко вытесняет употребление раковин и камня как орудий. Небольшой обломанный гвоздь, тщательно плоско обточенный на камне в виде долота, в руках искусного туземца оказался превосходным инструментом для резьбы прямолинейных орнаментов»[478]. Папуасы сразу же высоко оценили преимущества железных топоров и ножей, которые они получали у Маклая в обмен на деревянные статуи предков (телумы), ручные барабаны (окамы), большие сигнальные гонги (барумы), и пытались к рукояткам традиционных топоров прикреплять вместо обтесанного камня заточенные куски железа. Остроконечные гвозди они стали использовать в качестве шила, осколки бутылочного стекла — для бритья, «полирования дерева и резьбы украшений». Для жителей ближних деревень металлические изделия и бутылки превратились также в престижные предметы меновой торговли с обитателями отдаленных селений.
Миклухо-Маклая, как человека с нормальной, а возможно, и повышенной сексуальностью, всегда занимали отношения с противоположным полом. В 1876 — 1877 годах, во время второй экспедиции на побережье залива Астролябия, Николай Николаевич радикально решил этот вопрос, привезя с островов Палау девушку-подростка, которую — по обычаю, распространенному в британских и голландских колониях в Азии, — сделал своей «временной женой»[479]. А как обстояло с этим делом во время его первого пребывания на Новой Гвинее?
Когда Миклухо-Маклай установил дружественные отношения с обитателями окрестных деревень, их тамо боро стали предлагать ему девушек в жены и даже устраивали своеобразные смотрины. Путешественник неизменно отвергал их предложения. Но в подготовленных к печати дневниках упоминаются случаи, когда при ночевке Маклая в деревне гостеприимные хозяева подкладывали ему на барлу (нары) молодых женщин. Николай Николаевич, по его словам, прогонял искусительниц, громко заявляя: «Маклаю женщин не нужно»[480]. Вероятно, Николай Николаевич заботился о сохранении своего имиджа «высшего существа», «человека с луны»: он не подозревал, что по верованиям папуасов, как уже упоминалось, такого рода существа, спускаясь с небес, нередко вступают в брачные отношения с земными женщинами и имеют от них потомство, наделенное чудесными свойствами.
Если же в каких-то случаях Николай Николаевич не смог противостоять зову плоти, он все равно умолчал бы об этом, готовя дневники к печати, ибо такие откровения оскорбили бы его жену, вызвали бы возмущение у богомольной матери и были бы сочтены скандальными в совете РГО, не говоря уже о царственных особах, обещавших финансировать издание трудов отважного путешественника. Как мы увидим дальше, из подготовленных к печати дневников экспедиции в Папуа-Ковиай ученый исключил все упоминания о его отношениях с папуаской Бунгараей, содержащиеся в полевых дневниках. Быть может, нечто подобное случилось и с записями, сделанными на Берегу Маклая. Немецкие путешественники, появившиеся здесь позже, разошлись во мнениях по этому вопросу. Если некоторые из них утверждали, что русский исследователь заводил «романы» с папуасками и даже имел от них детей, то уже знакомый нам Б. Хаген сообщает, что тамо русс был «осторожен в отношении к женщинам и никогда не искал случаев сношения с ними». «Объяснение факта, что в Бонгу живет дочь Миклухо-Маклая, — продолжает Хаген, — заключается в обычае папуасов давать их новорожденным имена дружественных и по возможности важных или сильных людей»[481]. Автору этих строк довелось убедиться в существовании такого обычая, когда при проведении полевых исследований в 1971 году произошла встреча в деревне Бил бил (Били-Били) с Дамуном Маклаем. Он рассказал, что его дед был назван Маклаем в честь русского путешественника, когда тот жил среди папуасов и с тех пор это имя — в добавление к местному — передается в их семье от отца к сыну.
Но как объяснить утверждения немцев, будто в 1880-х годах в окрестных деревнях росли несколько детей со светлой кожей и рыжеватыми волосами? Один из возможных ответов подсказывает К.Д. Рончевский, вспоминая о стоянке «Витязя» в бухте Константина: «Как видно, дикари хотя и считали нас пришельцами с луны, но подозревали в нас общечеловеческие слабости и опасались похищения или насилия, — что легко могло случиться, по их мнению, после долгого вояжа с луны, — а потому заблаговременно и удаляли свой прекрасный пол»[482]. К декабрю 1872 года, когда в бухту Константина пришел клипер «Изумруд», отношение к русским морякам существенно изменилось. Съезжая на берег, они свободно общались с местными жителями, в том числе и с женщинами…
Но вернемся к повседневной жизни Миклухо-Маклая в Гарагасси. «Становлюсь немного папуасом, — записал он в дневнике 6 марта, — сегодня утром, например, почувствовав голод во время прогулки и увидев большого краба, я поймал его и сырого, т. е. живого, съел, что можно было съесть в нем»[483]. Эта дневниковая запись не случайна. Уже через несколько месяцев после высадки была израсходована или пришла в негодность европейская провизия и путешественнику пришлось полностью перейти на непривычную и малопитательную местную пищу. Так, изъеденные червями сухари он заменил печеными бананами, сахар — соком из стеблей сахарного тростника, вместо соли употреблял морскую воду. При этом Николай Николаевич не пожелал изменить свои гастрономические пристрастия: «Свинину, которую я мог бы иметь здесь вдоволь, я терпеть не могу»[484]. Важным подспорьем стала охота на съедобных птиц, которых запекал на костре Ульсон, и ужение рыбы, которую иногда приносили также в подарок «соседи». Впрочем, охотиться таморусс начал только после того, как папуасы привыкли к звуку столь пугавших их вначале выстрелов.
Летом и осенью 1872 года приступы малярии не оставляли Миклухо-Маклая. Но путешественник на собственном опыте постепенно выработал более правильную тактику применения хинина, что позволило несколько снизить остроту и длительность пароксизмов.
Прошло более года со дня высадки Миклухо-Маклая в заливе Астролябия. Тропическая малярия, изнурительные труды и лишения все более подтачивали его силы. «Мое положение, — писал он, — становилось довольно затруднительным: крыша текла, столбы, на которых стояла хижина, проточенные муравьями, стали обваливаться; приходилось ставить подпорки из боязни, что пол или даже вся хижина в один прекрасный день обрушится; запасы хины почти истощились. <…> От 12 пар обуви разного рода не оставалось ни одной цельной. <…> Явились раны на ногах, которые не заживали»[485].
Все более тревожным становилось состояние Ульсона. Не видав более года на горизонте ни одного европейского судна, Карл решил, что они с хозяином обречены на верную смерть, почти не вставал с постели и целый день стонал. Николай Николаевич заметил, что он «даже стал заговариваться, так что я серьезно боялся за его рассудок, <…> мне приходилось кормить и лечить его»[486].
Однако путешественник не падал духом. Он продолжил свои исследования и в случае смерти Ульсона, которую ожидал, решил «переселиться в горы (точнее, в предгорья. — Д. Т.), отчасти чтобы поправить свое здоровье, предполагая, что лихорадка в горах не так злокачественна, отчасти, чтобы изучить очень разнообразные диалекты горных жителей. Жители разных деревень предлагали мне построить новую хижину, я хотел воспользоваться предложением, чтобы оставить в одной из береговых деревень мои вещи, а самому перебраться в горы»[487].
18 декабря 1872 года Миклухо-Маклай присутствовал на празднике в деревне Бонгу и остался ночевать в хижине Саула, местного тамо боро. На следующее утро, на рассвете, его разбудили несколько папуасов, которые вбежали в хижину с криком: «Маклай, о Маклай, корвета рус гена, буарам боро!» («Маклай, о Маклай, русский корвет идет, дым большой!») «Еще не веря новости, — записал в дневнике путешественник, — я оделся и отправился к морю. При первом взгляде сомнение было невозможно: дым принадлежал большому пароходу, вероятно, военному судну, корпуса которого еще не было видно, но можно было заметить, что судно приближается»[488]. Николай Николаевич поспешно отправился в Гарагасси и поднял на флагштоке у своего домика русский флаг. Как только полотнище оказалось на месте и легкий ветер развернул его, путешественник заметил, что судно тотчас переменило курс и направилось прямо к берегу.
Прощание с папуасами
6 июля 1872 года в газете «Санкт-Петербургские ведомости» в разделе хроникальных сообщений появилась маленькая заметка: «По частным письмам из Гон-Конга, как сообщает "Одесский Вестник", посланный от Географического общества на Новую Гвинею (к северу от Австралии), молодой естествоиспытатель Миклухо-Маклай скончался там от лихорадки. Потеря прискорбная, так как покойный подавал большие надежды и обнаруживал замечательную энергию и любовь к географическим и зоологическим исследованиям»[489]. Через 12 дней та же газета опубликовала обзор вышедшего в свет «Отчета Русского географического общества» за 1871 год. Изложив, в частности, известия, полученные обществом от Миклухо-Маклая с Новой Гвинеи, и сообщив, что совет РГО принимает меры «для выручки неустрашимого путешественника», анонимный автор обзора добавил: «Эти заботы, к сожалению, теперь бесполезны, так как, по последним известиям, г. Миклуха-Маклай скончался в Новой Гвинее от злокачественной лихорадки. Было бы очень желательно, чтобы кто-либо, знавший покойного, составил его биографию. Г. Миклуха был редкий тип мученика науки, пожертвовавший жизнью для изучения природы».
Через три дня на первой странице официоза Морского министерства — газете «Кронштадтский вестник» появилась статья «Экспедиция Миклухи-Маклая и его кончина», опиравшаяся на предыдущую публикацию. Сообщение о смерти путешественника произвело в Петербурге сенсацию. Статья, опубликованная в «Кронштадтском вестнике», была перепечатана в официальном «Правительственном вестнике», во многих газетах обеих столиц и губернских городов. Так имя отважного путешественника стало известно читающей публике по всей России. Более того, тиражированный зарубежными газетами, этот сенсационный слух положил начало известности Миклухо-Маклая в мировом масштабе.
Мать и сестра Николая Николаевича обратились в совет РГО и лично к Ф.Р. Остен-Сакену, который временно прекратил активную деятельность в РГО, став вице-директором одного из департаментов МИДа, с просьбой проверить истинность сообщений о трагической развязке и, если слух подтвердится, принять меры к перевозке на родину его праха и собранных им научных материалов. Между тем попытка выяснить в редакции «Одесского вестника» источник слуха о кончине путешественника, предпринятая одним из друзей семьи Е. С. Миклухи, дала любопытный результат. Телеграфный ответ, пришедший из Одессы, оказался невразумительным: эти сведения сообщил редакции некий Коптев, железнодорожный служащий, который получил печальное известие от своего сына-моряка, находящегося в кругосветном плавании, причем Коптева-старшего дополнительно расспросить не удалось[490]. 26 августа петербургская газета «Голос» опубликовала письмо Остен-Сакена, в котором опровергался слух о гибели путешественника.
Слух о его кончине сыграл на руку Миклухо-Маклаю. Как мы знаем, путешественник просил генерал-адмирала прислать за ним военный корабль через год после высадки в заливе Астролябия. Однако в морском ведомстве если не забыли, то отнюдь не спешили выполнить его просьбу. Теперь же адмирал С.С. Лесовский, временно заменявший управляющего Морским министерством, получив указание генерал-адмирала, распорядился, чтобы один из кораблей русской тихоокеанской эскадры незамедлительно отправился к берегам Новой Гвинеи на поиски Миклухо-Маклая. Чтобы ускорить выполнение этого приказа, его текст был переслан по трансатлантическому кабелю и телеграфной линии, пересекающей североамериканский континент, на тихоокеанское побережье США. Отсюда почтовый пароход доставил 6 августа телеграмму в Нагасаки, где находился командующий отрядом русских судов на Тихом океане контр-адмирал М.Л. Федоровский. Наиболее целесообразно было бы поручить эту миссию П.Н. Назимову, командиру «Витязя», стоявшего тогда в Нагасаки. Но на корвете держал свой флаг Федоровский и размещался довольно многочисленный штаб. Поэтому контр-адмирал срочно вызвал из Владивостока парусновинтовой клипер «Изумруд», а Назимову приказал подготовить хорошо знакомую нам записку о пребывании путешественника на борту «Витязя» и обстоятельствах его высадки в заливе Астролябия. Кроме того, когда «Изумруд» 25 августа прибыл в Нагасаки, Федоровский приказал перевести с «Витязя» на клипер мичмана К.Д. Рончевского. Этот бравый молодой офицер не только хорошо знал особенности бухты Константина и местоположение хижины путешественника на мысе Гарагасси, но мог отыскать тайник, где Миклухо-Маклай собирался зарыть свои дневники и другие материалы в случае смертельной болезни или грозной опасности, а также записку, если он решит перебраться в горы или на другой участок побережья Новой Гвинеи.
Уже через несколько дней капитан 2-го ранга Михаил Николаевич Кумани вывел «Изумруд» в открытый океан. Морская стихия вначале не благоприятствовала плаванию. Попав в сильный тайфун, клипер получил серьезные повреждения. Пришлось зайти в Гонконг и стать в док для срочного ремонта. В дальнейшем плавание проходило без особых происшествий. Посетив Манилу и Тернате, «Изумруд» в конце ноября 1872 года подошел к северо-западному побережью Новой Гвинеи и стал на якорь возле селения Доре, где обосновались немецко-голландские миссионеры. Здесь, перед последним переходом в бухту Астролябия, Михаил Николаевич решил дать отдых команде, запастись топливом и свежими припасами. После десятидневной стоянки в Доре Кумани повел клипер дальше на восток, не теряя из виду побережье Новой Гвинеи. «Изумруд» двигался медленно и осторожно, преимущественно под парусами, по неизвестным водам, усеянным отмелями и коралловыми рифами. Пройдя цепь островков, названных Миклухо-Маклаем архипелагом Довольных людей, клипер 18 декабря вошел в залив Астролябия.
Жив Маклай или нет? Большинство офицеров исключили путешественника из списка живых, так как по пути, в одном из азиатских портов, они получили, как вспоминает Рончевский, «достоверные» сведения о смерти их соотечественника: по сообщению одной из австралийских газет, в залив Астролябия якобы заходило некое купеческое судно, которое застало в живых только Ульсона. Еще одна байка, которыми буквально переполнена биография нашего героя.
Находясь в трех или четырех милях от бухты Константина, офицеры «Изумруда» направили бинокли и подзорные трубы на берег, высматривая жилище Миклухо-Маклая или какие-нибудь другие признаки присутствия европейцев. «Наконец, — пишет Рончевский, — один из офицеров заметил русский коммерческий флаг, развивающийся между ветвями огромных дерев, и пришел в такое волнение от своего открытия, что едва мог сообщить об этом командиру»[491].
Николай Николаевич уговорил двух папуасов, Сагама и Дигу, отвезти его в каноэ на приближающееся судно. Офицеры «Изумруда» не сразу разобрали, кто находится в каноэ, но, постепенно сближаясь, разглядели какого-то европейца, который — ко всеобщей радости — оказался мнимоумершим Маклаем. Клипер остановился и с грохотом выпустил излишний пар. Командир послал по реям матросов, которые вместе со стоявшими на мостиках офицерами троекратным «ура» приветствовали отважного исследователя Новой Гвинеи. Вид множества моряков, их громогласное «ура», смешавшееся с грохотом паровой машины и скрежетом спускаемого якоря, до смерти напугали Сагама и Дигу. Они выпрыгнули из лодки и пустились вплавь к берегу, так что Николай Николаевич с трудом, гребя руками, приблизился к трапу судна, поймал брошенный ему трос и поднялся на трап, а с него на палубу. Здесь его сердечно встретили М.Н. Кумани и другие офицеры. «Мак-лай сильно изменился за время 15-месячного отшельничества от сильных пароксизмов лихорадки, всякого рода лишений и трудных работ», — вспоминает Рончевский. По его словам, путешественник в потрепанном костюме, в соломенной шляпе и с сумкой через плечо «был настоящим Робинзоном Крузо»[492].
Кумани и большинство его офицеров были знакомы с Миклухо-Маклаем, так как «Изумруд» одновременно с «Витязем» вышел в дальний вояж и дважды встречался с ним во время стоянок на островах Зеленого Мыса и в Рио-де-Жанейро. Один из старых знакомых, мичман Николай Римский-Корсаков, нашел, что путешественник «очень изменился, похудел и постарел»[493].
Путешественника пригласили позавтракать в кают-компании. «После папуасской кухни, — рассказывает он, — европейские кушанья показались мне очень странными на вкус, особенно сладкие, так как сахару я не пробовал уже более года. <…> Меня офицеры любезно снабдили обувью, в которой я очень нуждался, и бельем — мое вследствие сырости было очень гнило и отчасти проедено насекомыми»[494].
Командир «Изумруда» предложил Миклухо-Маклаю переселиться на корвет, а перевоз вещей из Гарагасси поручить одному из молодых офицеров. «А кто Вам, Михаил Николаевич, сказал, что я пойду с вами на клипере? — ответил путешественник. — Это далеко еще не решено, и так как я полагаю, что Вам возможно будет уделить мне немного провизии, взять с собою Ульсона и мои письма до ближайшего порта, то мне всего лучше будет остаться еще здесь, потому что мне еще предстоит довольно много дела по антропологии и этнологии здешних туземцев. Я попрошу Вас позволить мне ответить завтра» «Михаил Николаевич согласился, — записал далее Миклухо-Маклай, — но я мог заметить, что мои слова произвели на многих курьезное впечатление. Некоторые подумали (я это знаю от них самих), что мой мозг от разных лишений и трудной жизни пришел в ненормальное состояние»[495].
Вернувшись в Гарагасси, путешественник заснул как убитый после всех треволнений богатого событиями дня, но утром, по зрелом размышлении, склонился перед реальностью. Как объяснил Николай Николаевич в письме-отчете в РГО, «состояние здоровья, невозможность привести в порядок в несколько дней мои дневники для отсылки в Европу, а главное, возможность в следующем году возвратиться в Новую Гвинею на голландском военном судне, которое должно будет отправиться, как сообщил г-н Кумани, вокруг острова»[496], побудили его принять решение покинуть на некоторое время залив Астролябия.
Ульсон был несказанно рад возможности выбраться с этого ненавистного для него берега; он как будто бы ожил и даже перестал постоянно стонать. Помещенный в судовой лазарет швед вскоре пошел на поправку — свидетельство того, что его недуги были преимущественно психического свойства.
Офицеры, помогавшие Николаю Николаевичу сортировать, упаковывать и перевозить на корвет коллекции, биологические препараты, снаряжение, журнал метеорологических наблюдений, дневники, записные книжки и разные пожитки, были поражены обстановкой, в которой жил в Гарагасси русский путешественник. «Кое-какие ветоши, полуистлевшие от постоянной сырости, происходившей от дождя, проникавшего сквозь крышу, составляли постель, — вспоминает один из офицеров, — тут же стоял стол, который, а также все свободное пространство домика были загромождены и завалены всякою всячиною; тут были инструменты для наблюдения, разное оружие, банки с препарированными животными, но без спирта, который испарился и высох; чучела птиц, ящериц и змей; насекомые, черви, моллюски, скелеты, полусгнившие растения и остатки какой-то неопределенной пищи. Каждый из этих предметов, кроме инструментов и оружия, издавал свой запах, такой, которого посетители г. Маклая не могли перенести в продолжение нескольких минут; а наш добровольный мученик науки переносил его в продолжение 15 месяцев»[497].
Капитан Кумани приказал прибить к одному из больших деревьев в Гарагасси толстую доску красного дерева, к которой была привинчена медная пластина с выгравированной надписью:
VITIAS. Sept. 1871
MIKLOUHO-MACLAY
IZOUMROUD. Dec. 1872
Когда жители окрестных деревень узнали, что Маклай собирается покинуть залив Астролябия, они очень опечалились и принялись уговаривать таморусс навсегда поселиться на их берегу. «Я две ночи ходил в деревни, сопровождаемый целою толпою туземцев с факелами, чтобы освещать путь, — пишет Миклухо-Маклай. — Соседние деревни устроили прощальные пиры, на которые стеклись много жителей других деревень с подарками. При этом они с разными обрядами и церемониями прощались со мною, и каждый давал мне в подарок кокосов и разных кореньев. На последнем ночном собрании старики предложили мне в каждой деревне построить по хижине, дать в каждую много съестных припасов и по жене для хозяйства, просили это принять и поочередно жить по несколько времени в каждой деревне»[498]. Миклухо-Маклай сердечно простился с островитянами и обещал вернуться, если им будет угрожать опасность.
На рассвете 24 декабря 1872 года «Изумруд» развел пары и стал поднимать якорь. Когда клипер начал подвигаться вперед, в Бонгу, Горенду и Гумбу раздались удары барумов, извещавшие соседние деревни, что «человек с Луны» покидает их берег. Пройдя архипелаг Довольных людей, корабль вошел в пролив между побережьем Новой Гвинеи и островом Кар-Кар. Миклухо-Маклай назвал его проливом Изумруд. Это название, как и пролив Витязь, сохранилось до наших дней на географических картах.
Глава седьмая. ПЛАВАНИЕ НА «ИЗУМРУДЕ»
Пятидневное пребывание в бухте Константина дорого обошлось команде «Изумруда»: из двухсот моряков около половины заболели «перемежающейся лихорадкой», в том числе почти все офицеры. Судовой врач гасил ее приступы большими дозами хинина. Но когда клипер в середине января 1873 года подошел к северомолуккскому острову Тернате — столице одноименного султаната, — на борту все еще числилось 80 больных малярией. Поэтому «Изумруду» пришлось простоять здесь шесть недель, пока «лихорадка» не пошла на убыль.
Судовой врач залечил у путешественника долго не заживавшие нарывы на ногах, свежий морской воздух и полноценное питание прибавили ему сил и бодрости, а главное — на него благотворно повлияла обстановка на корвете: Николай Николаевич пользовался почти безграничным почетом и уважением, все стремились исполнить его желания и с огромным интересом слушали его рассказы о жизни среди «дикарей». И хотя малярия не оставляла Миклухо-Маклая, он, адаптировавшийся к этому недугу, по прибытии в Тернате был, как впоследствии писал матери, «бодрее и здоровее всех»[499] на корвете.
Воспользовавшись длительной стоянкой «Изумруда» в Тернате, путешественник неоднократно посещал соседний островок Тидоре, столицу другого султаната, побывал на Минахассе — северном полуострове более крупного острова Сулавеси. Николай Николаевич упомянул об этом в письме генерал-адмиралу. Никаких записей при посещении перечисленных местностей он не вел, но сохранилось около тридцати великолепных рисунков, сделанных им на Тернате, Тидоре и Минахассе. На них изображены мужчины, женщины и дети, многие — в национальных костюмах, панорамы больших и маленьких селений, феодальная усадьба, дворец, ритуальные сооружения и т. д.[500] Особенно впечатляют два рисунка — минахасского воина в полном боевом снаряжении и его головного убора, украшенного клювом птицы-носорога. Они, очевидно, привлекли внимание путешественника, так как он — несмотря на безденежье — приобрел предметы, запечатленные на этих рисунках. Эти экспонаты хранятся теперь в МАЭ (петербургской Кунсткамере).
В Тернате Миклухо-Маклай закончил подготовку отчета для РГО о своем пребывании на Новой Гвинее. Это сообщение, несмотря на недомогание, Николай Николаевич начал диктовать одному из офицеров (очевидно, Рончевскому) вскоре после того, как «Изумруд» вышел из залива Астролябия. Нам уже приходилось касаться содержания этого очерка в предыдущей главе, отмечая, в частности, некоторые расхождения с текстами дневников и проявившуюся кое-где тенденцию к самогероизации. В своем отчете, опубликованном в конце 1873 года в «Известиях» РГО, путешественник без ложной скромности впервые назвал Берегом Маклая «берег Новой Гвинеи вокруг Астролаб-Бай и бухты с архипелагом Довольных людей по праву первого европейца, поселившегося там, исследовавшего этот берег и добившегося научных результатов»[501]. В 1881 году Николай Николаевич уточнил географическое положение Берега Маклая, заявив, что речь идет о «части побережья между мысом Круа-зиль и мысом Кинг Уильям» — территории «с береговой линией, превышающей 150 миль, простирающейся вглубь до высочайших хребтов и имеющей в ширину в среднем 50-60 миль»[502].
В наши дни переданное по судовой рации сообщение о том, что на Новой Гвинее найден пропавший путешественник, уже через несколько часов стало бы известно во всех регионах земного шара. А в те времена надо было искать порт, имевший телеграфную связь с Европой. М.Н. Кумани удалось послать текст телеграммы с попутным торговым судном в яванский порт Сурабая, куда уже был проведен телеграф. 11 февраля 1873 года телеграмма была принята в Петербурге: «Русскому Генерал-Адмиралу. Изумруд прибыл благополучно Temate <…> Maclay и его слуга Wilson найдены живыми в бухте Константина и привезены сюда <…> Кумани».
Вечером того же дня о получении телеграммы было объявлено на отделении статистики РГО, а наутро о радостном известии сообщили читателям «Санкт-Петербургские ведомости». Эту информацию перепечатали все ведущие русские газеты, а телеграфные агентства распространили ее по всему, как тогда говорилось, «цивилизованному миру».
Телеграмма Кумани успокоила и обрадовала мать, сестру и братьев путешественника. Радовались друзья и знакомые. Наталия Герцен, сохранившая дружеские отношения с Александром Мещерским и после того, как он, испугавшись столь ответственного шага, не сделал ей предложения и вернулся в Россию, в своих письмах князю просила сообщать ей новости о Миклухо-Маклае, с которым она познакомилась в Париже в 1869 году. Прочитав в итальянской газете о телеграмме, присланной командиром «Изумруда», Натали 25 февраля написала Мещерскому: «Не могу выразить вам, как я была счастлива и счастлива теперь при мысли, что наш бедный замечательный Миклухо жив. Не будь я таким позитивистом-материалистом, каким являюсь, я бы стала молиться и благодарить моего идола или моего бога»[504].
Николай Николаевич начал ощущать свою популярность, находясь на Тернате и Тидоре. В качестве почетного гостя он провел восемь лней во дворце султана Тидорского, который подарил ему мальчика-раба — двенадцатилетнего папуаса по имени Джамури Ахмат. В бумагах путешественника сохранилось письмо султана, написанное на малайском языке арабской вязью и скрепленное печатью, — дарственная на Ахмата[505]. «Папуасенок», как назвал его Миклухо-Маклай, заменил сошедшего на берег Ульсона. «Пробыв около 4 месяцев на клипере "Изумруд", — писал Николай Николаевич, — он выучился говорить по-русски, и на этом языке мы объясняемся. Ахмет — сметливый, непослушный, но добрый мальчик, который делает усердно и старательно все, что ему нравится делать, но убежит и скрывается, как только работа ему не по вкусу»[506].
«Изумруду» предстояло возвращение на Балтику через Индийский океан. Но чтобы ускорить выздоровление больных и дать отдых всей команде, Кумани решил сделать крюк: повел клипер из Тернате не на запад, а на север, к Филиппинскому архипелагу, где в некоторых районах климат более сухой и здоровый. Во время короткой стоянки у острова Себу Миклухо-Маклай занимался любимым делом — собирал морские губки, рисовал портреты местных жителей. 21 марта «Изумруд» бросил якорь на рейде Манилы — главного города испанских владений на Филиппинах, расположенного на острове Лусон. Клипер простоял здесь шесть дней. Пока на корабль грузили уголь и различные припасы, а матросы и офицеры отдыхали на берегу, не обходя стороной трактиры и бордели, Николай Николаевич постарался выполнить пожелание, высказанное академиком Бэром и внесенное путешественником в программу экспедиции, — выяснить антропологические особенности негритосов-аэта, которые обитали в горах недалеко от Манилы.
Переправившись в рыбацкой лодке через Манильский залив и переночевав в прибрежной деревне Лимай, Миклухо-Маклай, с переводчиком и носильщиком, отправился в горы Маривелес, где, по словам местных жителей, находилось становище аэта — остатков древнейшего населения архипелага. «Около небольшой лесной поляны, — рассказывает исследователь, — было расположено несколько очень примитивных шалашей, состоящих из наклонной крыши из пальмовых листьев, под которой можно было сидеть или лежать. В четверть часа мне построили такую же, и я остался с ними два с половиной дня, познакомился со всем населением этой переносной деревеньки»[507]. Николай Николаевич обмерил около двадцати голов, сделал несколько портретов (до нас не дошедших). «Не только их лица, — сообщил он, — но и их обращение между собой, с женщинами и детьми, даже выражение лица, манера говорить и сидеть, их пляски и песни напомнили мне живо папуасов Новой Гвинеи»[508].
Из Манилы «Изумруд» в апреле зашел в Гонконг — островок у побережья Китая, захваченный в 1842 году англичанами и превращенный в опорный пункт Великобритании на Дальнем Востоке. За три десятилетия британского владычества этот гористый островок буквально преобразился. На северном берегу вырос город с обширной гаванью. Его европейская часть была застроена домами-дворцами, на склонах горы появились виллы, окруженные садами. Оптовая торговля и управление находились в руках англичан, основную рабочую силу составляли китайцы, многие из которых обитали в джонках и свайных постройках на мелководье.
С удивлением Миклухо-Маклай обнаружил, что к нему пришла широкая известность, даже слава. «Благодаря различным английским газетам, которые меня сперва похоронили, потом возвестили о моем воскресении от мертвых, — писал он матери из Гонконга, — все стараются знакомиться со мною, что доставляет мне иногда изрядную скуку и много знакомых, но также открывает все двери, и любезное гостеприимство всюду избавляет от значительных расходов»[509]. Последнее было особенно кстати, так как его финансы были на исходе.
Николай Николаевич совершил поездку в город Кантон (Гуанчжоу), расположенный на судоходной реке Сицзян примерно в 60 километрах от морского побережья. «На днях я был в Кантоне, — сообщил он в том же письме матери, — хотел увидеть один из самых больших и интересных городов Китая, имел аудиенцию у вице-короля Кантонского, который на другой день отдал мне визит с настоящими китайскими церемониями. Очень мало европейцев имеют возможность видеть этого очень высокого мандарина»[510].
После «опиумных войн» китайское правительство было вынуждено согласиться на ввоз в страну опиума, которым занимались в основном британские купцы. Из Гонконга это зелье, привозимое из Бенгалии и других покоренных Англией районов Индии, растекалось по всему Китаю. На острове было открыто несколько опиекурилен, которые посещали в основном китайцы. Миклухо-Маклай, с присущими ему любознательностью и исследовательским подходом, решил испытать на себе действие опиума, чтобы понять, почему великое множество людей, причем не только в Азии, пристрастились к его курению, сделавшись наркоманами. Врач-англичанин К. Клаус, живший в Гонконге, пытался отговорить путешественника от этого опыта, предупреждая, что он отрицательно скажется на ослабленном организме. Но Николай Николаевич настоял на своем и даже уговорил Клауса присутствовать при эксперименте и через короткие промежутки времени записывать все наблюдения.
Миклухо-Маклай с доктором отправился в Китайский клуб, в котором для курильщиков были оборудованы общие залы и отдельные кабинеты. Заняв один из них, путешественник облачился в просторные китайские одежды и вытянулся в полулежащем положении, положив голову на твердый подголовник. Служитель подавал ему трубку за трубкой, в которых тлели шарики с опиумом. За три часа Николай Николаевич выкурил 27 трубок, содержавших примерно семь граммов опиума, то есть дозу, которая значительно превышала ту, которую употребляли китайские курильщики. Курение продолжалось до тех пор, пока, пройдя все фазы наркотического опьянения, путешественник не впал в полную прострацию. Когда вернулось сознание, его принесли в паланкине в дом супругов Кордес, с которыми подружился Миклухо-Маклай. Здесь он забылся многочасовым тяжелым сном и в течение двух последующих дней испытывал тяжесть в ногах и головокружение.
В 1875 году Николай Николаевич опубликовал на немецком языке брошюру «Опыт курения опиума (Физиологическая заметка)», в которой медицинские наблюдения Клауса, зафиксированные им желания, иллюзии и высказывания «подопытного» путешественника сопроводил собственными комментариями. Его основной вывод гласит: «После этого опыта я вполне понимаю, почему тысячи людей, богатых и бедных, без различия общественного состояния и возраста, предаются курению опиума, главное действие и главное удовольствие которого состоит в потере на некоторое время своего "я"»[511]. В августе 1876 года И.С. Тургенев сообщил в письме А.А. Мещерскому, что его друг «прислал мне небольшую немецкую статейку о действии опиума, которую я прочитал с удовольствием, так как она показалась мне правдивой»[512].
Зная от М.Н. Кумани о намерении голландских властей послать военное судно к берегам Новой Гвинеи, Миклухо-Маклай обратился к генерал-губернатору Нидерландской Ост-Индии Джеймсу Лаудону с письмом, в котором просил позволения участвовать в этой экспедиции. В Гонконге он получил от Лау-дона телеграмму, в которой сообщалось, что экспедиция отправится в конце 1873 года и что он будет на судне «самым желанным гостем»[513]. Поэтому Николай Николаевич решил покинуть «Изумруд» в Батавии.
Свалившаяся на него известность прибавила сил уставшему путешественнику, он явно находился в эйфории. Перед отплытием из Гонконга он написал Александру Мещерскому: «Моя участь решена, — я иду <…> по известному направлению, и иду на все, готов на все. Это не юношеское увлечение идеею, а глубокое осознание силы, которая во мне растет, несмотря на лихорадку»[514]. Только одно могло помешать исполнению его планов — эти «смешные гроши», вернее их отсутствие. Путешественник шлет письмо за письмом матери, прибегает к посредничеству Мещерского, желая знать, будет ли он получать из дома деньги. Ответа не последовало, и на это были свои причины.
Глава восьмая. ПОМЕЩИКИ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
Баронесса Эдита Федоровна Раден, покровительствовавшая Н.Н. Миклухо-Маклаю, после его отплытия в экспедицию взяла под свое крыло его сестру Ольгу, которая и внешне, и по складу ума походила на брата-путешественника. Благодаря баронессе Ольга и Екатерина Семеновна Миклуха познакомились с несколькими либеральными литераторами и общественными деятелями, в том числе с известным историком, правоведом и публицистом К.Д. Кавелиным и его дочерью Софьей — рано умершей писательницей и переводчицей, по мужу Брюлловой. Через Александра Мещерского Ольга заочно подружилась с Наталией Герцен, постоянно жившей за границей, но встретиться им так и не пришлось.
При чтении писем Ольги и воспоминаний ее младшего брата возникает образ интеллигентной молодой женщины, обладавшей добрым сердцем и обостренным чувством долга, придерживавшейся передовых общественных идеалов. Несмотря на ограниченность финансовых ресурсов семьи, Оля получила хорошее домашнее образование. Как и Николай, она унаследовала от отца богатую творческую натуру, в том числе интерес и недюжинные способности к изящным искусствам. После отъезда Николая на Новую Гвинею Ольга стала посещать Рисовальную школу Дьяконова, где она изучала рисунок, живопись, но особенно любила художественную роспись фарфора. Мать часто хворала и впадала в состояние, близкое к депрессии. Ольге приходилось вести дом, заботиться о младших братьях и, главное, пополнять семейный бюджет, давая уроки рисования и французского языка.
Как вспоминает Михаил Николаевич, среди учениц сестры были две девицы, отец которых, по фамилии Лонгинов, выполнял интимные поручения государя. Александр II любил «лакомиться» воспитанницами институтов благородных девиц, и Лонгинов выступал в роли поверенного, устраивавшего эти любовные интрижки. «Девицы Лонгинова, — пишет Михаил Николаевич, — цинично рассказывали, как государь после некоторого времени покидал свою жертву. Чтобы не производить большого скандала в Петербурге, этих девушек вывозили в Париж и, давши им небольшие средства, бросали их на произвол судьбы»[515]. Эти постыдные рассказы, которыми Ольга делилась с братьями, не могли не усиливать оппозиционные настроения, которые и без того преобладали в семействе Е. С. Миклухи.
Только Сергей — старший из сыновей Екатерины Семеновны — чурался политики. По окончании юридического факультета Петербургского университета он начал работать «по юридической части» в Оренбурге. Младшие же братья, Владимир и Михаил, были увлечены освободительными идеями, распространенными в передовых кругах русского общества.
Проучившись несколько лет в петербургской немецкой школе, Владимир Миклуха в 1869 году поступил в Морской кадетский корпус. В 1871 году там возник тайный революционный кружок, в деятельности которого участвовал и Володя. Окончив корпус, мичман Миклуха в 1873 году начал службу на Балтийском флоте. По воспоминаниям современников, это был прямодушный, очень вспыльчивый человек, но имевший твердые убеждения, нетерпимый к любой несправедливости. Вместе с несколькими товарищами по корпусу он завязал связи с революционными народниками, занимался перевозкой и хранением нелегальной литературы и даже подумывал о том, чтобы бросить военную службу и идти «в народ»[516].
Пелена версий и домыслов, окутывающая жизнеописание брата-путешественника, в какой-то мере характерна и для биографии Владимира Николаевича. Так, один из участников революционного движения утверждает, что Миклуха в 1879 году входил в кронштадтский кружок военной организации партии «Народная воля», готовившей убийство Александра II[517]. Владимир был действительно знаком с Н.Е. Сухановым, руководителем этой организации, но в 1876 году его перевели на службу в Черноморский флот, а потому он не мог быть членом кронштадтского кружка. В феврале 1880 года Миклуха ушел в отставку в чине капитан-лейтенанта. Существует несколько версий, объясняющих этот его поступок. По одной из них, самой распространенной, увольнение Миклухи от службы было связано с защитой им провинившихся матросов, что привело к ссоре с адмиралом. Уйдя в отставку, Владимир женился, зажил спокойной семейной жизнью, но зов моря и, возможно, материальные затруднения уже в следующем году побудили его вновь поступить на морскую службу в судоходную компанию «Добровольный флот», корабли которой совершали рейсы между Одессой и портами Дальнего Востока и являлись действующим резервом военно-морского флота. Владимир Николаевич вернулся в последний в 1888 году, в год смерти нашего героя. В 1905 году он героически погиб в Цусимском сражении.
Младший брат путешественника Михаил, получив начальное образование дома, в 1872 году поступил в четвертый класс реального училища. По его собственным воспоминаниям, там он подружился с двумя одноклассниками, которые на родине, в Вологде, посещали кружок для учащейся молодежи, устроенный политическими ссыльными. Со своими новыми друзьями Миша читал и обсуждал нелегальную литературу, подпитываясь народническими идеями и публикациями, с которыми его знакомил Владимир Миклуха. После окончания реального училища Михаил в 1876 году поступил в Горный корпус (ныне Горный институт). Здесь он сблизился с несколькими студентами-народниками, в том числе с Н.С. Русановым — сподвижником Софьи Перовской. Согласно семейному преданию, Михаил настолько проникся революционными идеями, что попросил включить его в отряд «бомбистов», которые должны были убить самодержца. Однако Перовская отвергла его кандидатуру, заметив при беседе с Михаилом, что по своим личным качествам (добродушие, недостаток решительности) он в террористы не годится[518]. Знакомство М.Н. Миклухи с революционерами не укрылось от недреманного ока охранки; над ним был установлен негласный полицейский надзор. Но длительная слежка не выявила ничего предосудительного, и по окончании в 1882 году Горного корпуса Михаил Николаевич отправился в свою первую геологическую экспедицию.
Домашним учителем в семье Е.С. Миклухи с 1866 года был Г.Ф. Штендман (1836 — 1903). Он ведал начальным образованием Владимира и Михаила, готовил их к поступлению в средние учебные заведения и затем как репетитор помогал их дальнейшей учебе. Он же преподавал историю и словесность Ольге. Если В.В. Миклашевский, воспитатель Сергея и Николая, по-видимому, был любовником Екатерины Семеновны, то Ольга со всей страстью первой любви увлеклась Штендманом. Их роман, то вспыхивая, то затухая, продолжался целое десятилетие на протяжении 1870-х годов.
Прибалтийский немец, сохранивший до конца своих дней верность протестантизму, Штендман, — которого на русский лад называли сначала Егором Егоровичем, а потом Георгием Федоровичем, — окончил историко-филологический факультет Петербургского университета и посвятил себя изучению русской истории. В начале 1860-х годов он познакомился в архиве с А.А. Половцевым и стал помощником и сотрудником этого богача, сановника и историка-любителя, основавшего в 1866 году Русское историческое общество (РИО). Штендман был членом этого общества, а в 1879 году стал его секретарем, совмещая деятельность в РИО со службой в Министерстве народного просвещения.
Мы познакомились с А.А. Половцевым в главе, посвященной школьным годам «белого папуаса». Он поддерживал контакты с представителями рода Миклух, осевшими в Петербурге. Вероятно, Половцев и ввел молодого историка в дом Е.С. Миклухи. Екатерина Семеновна была недовольна дружбой дочери с пропитанным архивной пылью молодым немцем, даже не догадываясь, насколько далеко зашли их отношения. В 1874 году вспыхнула открытая ссора между вдовой и Штендманом, и он стал все реже посещать дом Миклухи. Но, как полунамеками сообщала Ольга в письмах Мещерскому, ее роман с Георгием Федоровичем не прекратился[519].
Штендман обладал огромной трудоспособностью и фанатической преданностью избранному им делу. С годами он стал известным историком-источниковедом, составителем и редактором многих документальных публикаций, выпускавшихся РИО. Но как человек он был малопривлекательным, сухим, черствым, наделенным многими странностями. В 1874 году он посетил Наталию Герцен, приехав в Париж для разысканий в архиве французского министерства иностранных дел. Наталия сообщила Мещерскому о неприятном впечатлении, произведенном на нее этой «скучной фигурой», которая бесцеремонно рассуждала о «нашей Оленьке». Зная от Мещерского, что скрывалось за этими рассуждениями, она от души пожалела «несчастную» Ольгу Миклуху[520]. Как могла неглупая, тонко чувствующая девушка всерьез и надолго увлечься этой «архивной крысой»? Ответить можно лишь пословицей о коварных свойствах любви.
Любовная связь со Штендманом, которую Ольга — едва ли успешно — пыталась скрыть от родных, причиняла ей много страданий. Георгий Федорович изводил ее ревностью и разными придирками, а во время длительных отлучек за границу присылал ей письма до востребования, полные незаслуженных упреков и подозрений. Узнав о незавидном положении, в котором оказалась сестра путешественника, и, возможно, желая оборвать эту любовную связь, Наталия Герцен пригласила Ольгу приехать во Флоренцию или в Париж, обещая подыскать ей для проживания дешевый пансион и подходящую работу. Но эта затея осталась неосуществленной.
1873 год оказался этапным в истории семьи Е.С. Миклухи: она стала помещицей. Здоровый практицизм, присущий Екатерине Семеновне еще в молодости, с годами превратился в желание «осесть на землю». За это ратовал и ее брат — отставной артиллерист Сергей Семенович Беккер, который всячески поддерживал желание сестры стать помещицей. На протяжении нескольких лет он внимательно следил за объявлениями в газетах и выезжал на места, осматривая поместья, выставленные на продажу. Выше уже упоминалось, что Екатерина Семеновна отказалась снабдить деньгами Николая, когда он готовился к экспедиции на Новую Гвинею, так как собиралась продать принадлежащие ей паи пароходной компании «Самолет» и использовать полученные средства для покупки имения.
Такой момент наступил в августе 1873 года, когда по совету Сергея Семеновича его сестра купила в рассрочку одно из поместий оскудевшего старинного рода князей Щербатовых, расположенное в Радомысльском уезде Киевской губернии. Насчитывающее 1200 десятин (около 13 квадратных километров) пахотной земли и леса поместье занимало окрестности и часть самого местечка Малин, по которому и получило свое название. Центральная усадьба состояла из двухэтажного каменного дома с хозяйственными постройками, окруженного фруктовым садом и парком с прудами для разведения рыбы[521]. Но, как оказалось, имение было крайне запущено и приносило не прибыль, а убытки.
Сергей Семенович, поселившись в Малине, попытался навести порядок в конторе — разобраться с бухгалтерскими и амбарными книгами и другими документами, чтобы уяснить, какова задолженность прежнего владельца и какие можно получить платежи, прежде всего недоимки. Большинство обывателей Малина составляли крестьяне-украинцы — недавние крепостные, имевшие статус временнообязанных: получив при проведении реформы маленькие наделы, они использовали господские земли за фиксированную плату и натуральные повинности. Несколько кварталов в Малине населяли евреи, образующие своего рода общину. Накопилось немало взаимных претензий и недоразумений.
Главное богатство имения составляли почти нетронутые дубовые леса. Бывший офицер-артиллерист, обладавший, по-видимому, неплохой хозяйственной сметкой, предполагал найти подрядчиков, которые вырубят часть этих лесов, продать или сдать в аренду несколько земельных участков и на вырученные деньги расплатиться с долгами, своевременно вносить платежи Щербатову, отремонтировать господский дом и произвести некоторые другие улучшения. Словом, планов было «громадье». Но произошло непредвиденное: в августе 1874 года Сергей Семенович скоропостижно скончался в киевской гостинице.
Екатерина Семеновна и Ольга приехали в Малин, что называется, к разбитому корыту. Не имея никакого представления о том, как следует управлять имением, вдова действовала неумело, опрометчиво, ее обманывали приказчики и должники, и, чтобы отправить очередной платеж Щербатову, она, не расплатившись по старым займам, взяла новую крупную ссуду в банке. В довершение всего летом и осенью случилась сильная засуха. Из-за бескормицы начался падеж скота. Вследствие маловодья остановилась мельница, построенная на запруде, и мельник не смог внести арендную плату. Справедливо ссылаясь на неурожай, крестьяне отказались погашать недоимки и платить за пользование помещичьей землей. Рассказывая об этих невзгодах в письмах Мещерскому, Ольга жаловалась: «Дядя оставил дела в крайне запущенном состоянии, потому что смерть была так нежданна. <…> Наши финансы в очень дурном состоянии, и в будущем не видится безоблачное небо»[522].
Екатерина Семеновна вызвала из Оренбурга Сергея, и тот, бросив службу, поселился в Малине, взяв на себя основные заботы по управлению имением. Он обладал холодным и ясным умом, но с трудом постигал искусство быть сельским хозяином. Так, зная о намерении Сергея Семеновича поправить дела за счет вырубки и продажи части лесов, он не сумел сколько-нибудь оперативно исполнить этот замысел. Как назло, цены на лес упали, и Сергей не смог найти подрядчиков, готовых предложить мало-мальски приемлемые условия сделки. Между тем финансовое положение владельцев Малина продолжало ухудшаться. Пришлось заложить имение, но и это не помогло. 26 марта 1876 года Сергей так оценил обстановку: «Просто беда, хоть волком вой»[523].
В этой обстановке у семьи не было возможности посылать деньги за океан «белому папуасу». Ольга, которая высоко ценила храбрость и самоотверженность Николая и понимала значение для науки его исследований, тяжело переживала неспособность семьи помочь страждущему путешественнику и умоляла Мещерского «как-нибудь устроить через Географическое общество, чтобы ему выслали нужную сумму»[524]. Иначе настроена была Екатерина Семеновна, которая считала, что Николай занят никчемным делом и попусту тратит время и деньги. К середине 1870-х годов он стал для нее чуть ли не отрезанным ломтем.
Узнав из письма Мещерского о покупке Малина, Николай Николаевич в октябре 1874 года попытался объясниться с матерью начистоту: «1) Вы согласитесь, что в купленном имении в прошлом году я, так же как и Вы, братья и сестры, имею часть в нем <?> 2) Как велика эта часть, и не возможно ли ее обратить в деньги, или на какой (даже самый малый) доход я имею право? 3) Когда я могу приблизительно получить мне по всей справедливости следуемую часть?»[525]
Екатерина Семеновна не ответила сыну и после этого ни разу не писала ему вплоть до его приезда в Россию в 1882 году. Но дело было не только в финансовых трудностях. Внучатый племянник путешественника А.Д. Миклухо-Маклай приоткрыл семейную тайну: «Молчание Екатерины Семеновны объяснялось, видимо, тем, что "места" Николаю Николаевичу в имении Малин уже не было — он не числился среди его владельцев <…> в то время как остальные дети Екатерины Семеновны были уже дворянами Киевской губернии, где они имели свои доли в имении Малин». Негативно относился к брату-путешественнику и «распорядитель кредитов» — Сергей. Купавшийся в лучах славы, но остро нуждавшийся в деньгах путешественник не подозревал, как велико отчуждение между ним и ближайшими родственниками.
Глава девятая. ПОЛГОДА НА ЯВЕ
В конце марта 1873 года, после кратковременного захода в Сингапур, «Изумруд» бросил якорь на открытом рейде яванского порта Батавия (ныне Джакарта) — основного города Нидерландской Ост-Индии. Аванпорт Батавии Танджунг-Приок тогда еще не был построен. По каналу, прорытому через прибрежное мелководье и мангровые болота, пароходики и парусные суда доставляли в город пассажиров и грузы с больших кораблей, стоящих на рейде. Простившись с Кумани и всей командой клипера, Николай Николаевич с Ахматом высадился с корабельной шлюпки на берег в старой части Батавии, застроенной убогими покосившимися домишками, в которых ютилась многонациональная городская беднота. Каналы с бурой, дурно пахнущей водой служили транспортными артериями, местом купания, источником питьевой воды, сюда стекались и сбрасывались нечистоты. Поэтому здесь свирепствовали брюшной тиф и дизентерия, регулярно вспыхивали эпидемии холеры.
В Старой Батавии можно было увидеть и более солидные каменные дома, в которых располагались конторы банков и торговых компаний. Но голландцы и другие европейцы появлялись здесь только в рабочие часы, а ночевать уезжали в Вельтевреден — более возвышенный и сухой район Батавии, отделенный от старого города китайским кварталом, или в предместья на холмах. Вельтевреден был застроен особняками, окруженными садами, здесь находились дворец генерал-губернатора, другие правительственные здания, площади с памятниками, клубы, музеи, опера, зоологический и ботанический сады, библиотека, научные общества. Но и тут проявлялись климатические особенности Батавии — круглосуточный и круглогодичный тропический зной и изнурительная духота. По образному выражению М.М. Бакунина, русского генерального консула в Батавии, «в городе днем и ночью одинаково душно и влажно, как в русской бане»[526]. Поэтому Миклухо-Маклай, не задерживаясь в Батавии, отправился по недавно построенной железной дороге в Бейтензорг — город-сад, расположенный в 48 километрах к югу от Батавии на высоте 400 метров над уровнем моря.
Во второй половине XVIII века голландцы создали дворец и парк Бейтензорг (в переводе «беззаботный») на окраине яванского городка Богор как официальную резиденцию генерал-губернатора, который ежемесячно лишь на два-три дня приезжал в Батавию, а два самых жарких месяца обычно проводил в своей летней резиденции Чипанас. Климат в Бейтензорге мягче и приятнее, чем в Батавии. Но высокая влажность и множество естественных и искусственных водоемов способствовали во времена Миклухо-Маклая интенсивному размножению здесь малярийных комаров и других переносчиков тропических лихорадок, что ощутил на себе русский путешественник. Впрочем, малярия была широко распространена в этих краях и не считалась серьезной болезнью.
Приехав в Бейтензорг, Николай Николаевич — чуть ли не на последние деньги — снял маленький домик и решил осмотреться и отдохнуть, прежде чем представить в канцелярию генерал-губернатора Лаудона рекомендательные письма, полученные в 1870 году в Гааге. Но на восьмой день его посетил адъютант Лаудона с настоятельной просьбой переселиться во дворец в качестве почетного гостя, обещая, что он будет совершенно так же свободен, как живя дома, и предоставляя путешественнику выбор апартаментов. Миклухо-Маклай, разумеется, принял это приглашение, но предпочел поселиться не в самом дворце, а в маленьком павильоне, под тенистыми деревьями окружающего дворец роскошного парка.
Приглашение было не случайным. Помимо соответствующих указаний, полученных Лаудоном от голландского министра колоний, он выполнил просьбу о максимальном содействии отважному путешественнику, с которой обратился к нему великий князь Алексей Александрович, четвертый сын Александра II, совершавший путешествие на Дальний Восток на фрегате «Светлана». Великий князь побывал на Яве за несколько месяцев до прибытия туда Миклухо-Маклая. Как видно из недавно опубликованной автобиографии Лаудона, Алексей Александрович подчеркнул, что русский путешественник — протеже его тетки, великой княгини Елены Павловны[527].
Пришло время познакомить читателей с Джеймсом Лаудоном (1824 — 1900) — сыном англичанина, осевшего и натурализовавшегося на Яве и женившегося на голландке, которая принесла ему неплохое приданое. Начав со службы в колониальной администрации, Лаудон-старший сколотил значительное состояние, став сахарозаводчиком и владельцем фабрик по производству красителя индиго. Своего сына Джеймса он отправил учиться в Голландию, где тот с отличием окончил Лейденский университет. По возвращении на Яву молодой человек начал карьеру с низших степеней чиновничьей иерархии. В 1857 году Джеймс переехал в Гаагу, где продолжал карьерное восхождение в министерстве колоний и даже возглавлял его. По своим воззрениям он принадлежал к умеренному крылу Либеральной партии, представлявшей интересы крупной промышленной буржуазии. Назначенный генерал-губернатором Нидерландской Индии, Лаудон 1 января 1872 года приступил к управлению колониальной империей, которая охватывала значительную часть Малайского архипелага.
Лаудон осторожно проводил реформы, преодолевая сопротивление как яванской знати, так и консервативно настроенных голландских чиновников. Миклухо-Маклай был недалек от истины, когда написал, что генерал-губернатор «играет здесь роль короля и действительно имеет власть более неограниченную, чем король Нидерландов»[528].
Вначале Лаудон настороженно отнесся к русскому путешественнику, но вскоре проникся к нему симпатией и ввел его в узкий круг своих приближенных, которым дозволено было поддерживать неформальные отношения с его семьей, состоящей из жены Луизы, пятерых дочерей в возрасте от восьми до семнадцати лет и двоих маленьких сыновей.
«Теперь я живу у губернатора около месяца, и мне действительно хорошо, — писал путешественник Александру Мещерскому в июне 1873 года. — <…> У меня нет никаких Sorgen (забот. — Д. Т.) относительно помещения, стола, прислуги и т. п. и т. п. Кроме того, много европейского комфорта, коляска и карета в каждое время к услугам, верховая лошадь. Кроме семьи генерал-губернатора <…> я ни с кем не знаком — сижу дома целый день, забрал много книг из батавийской библиотеки и наслаждаюсь тишиною (дворец окружен большим парком и ботаническим садом), воздухом, а главное — полною беззаботностью касательно ежедневных потребностей, которые подчас одолевали меня в Новой Гвинее. К обеду в 7 часов приходится, однако же, надевать фрак, белье, галстук и перчатки, но это неудобство окупается хорошим очень обедом, а главное — после обеда музыкою дочерей губернатора, которые очень сносно играют. В 8 ч. гости, если были приглашенные к обеду, удаляются, все происходит с соблюдением очень строгого этикета — но эти формальности не касаются меня. Я остаюсь с дамами часов до 10 или 11. Кроме музыки я предложил чтение вслух, чтобы не поддерживать разговор. <…> Перед обедом катаюсь, когда не лень, верхом. Эта перемена обстановки после Гвинеи мне полезна, но по временам чувствуется, что скоро, пожалуй, мне сделается потребностью удалиться в страны без фраков и белых перчаток»[529].
Николай Николаевич сблизился и подружился с Лаудоном и его семьей, которые оказались, как он писал, «людьми очень симпатичными»[530]. Дочери Лаудона, от семнадцатилетней Адрианы до одиннадцатилетней Сесилии, были без ума от русского путешественника, столь непохожего на мужчин, которых они видели в Бейтензорге, — франтоватых офицеров и подобострастных чиновников. Они умоляли Миклухо-Маклая рассказывать все новые и новые истории о его путешествиях, особенно о пребывании на Новой Гвинее. Но одна из дочерей, четырнадцатилетняя Сюзетта, помимо любопытства и восхищения, прониклась другим, ранее неизвестным девичьим чувством: она влюбилась в господина Маклая. Как видно из двух писем Адрианы путешественнику, написанных вскоре после его отправления в новую экспедицию, Сюзетта (она называла ее на французский лад Сюзанной) больше других сестер была огорчена его отъездом. В подражание русскому ученому Сюзетта начала препарировать и помещать в камфорный спирт птичьи скелеты. Зайдя в павильон, в котором жил Миклухо-Маклай, Сюзетта обнаружила прорезиненный плащ, немедленно сообщила об этом матери, и та с нарочным отправила пакет с плащом в портовый город Сурабаю, куда пароход, на котором плыл Николай Николаевич, должен был зайти перед отправлением на Молуккские острова.
Опечалена отъездом путешественника была и сама госпожа Лаудон. В отличие от мужа, который лишь к концу своей жизни был возведен в дворянское достоинство, Луиза, родившаяся в 1835 году, происходила из аристократической семьи; ее отец, Ф. де Стюрс, командовал войсками в Нидерландской Индии и дослужился до чина генерал-лейтенанта, а мать была дочерью генерала де Кока, другого видного военачальника. Хорошо образованная и начитанная, знавшая все основные европейские языки, Луиза обожала музыку и другие изящные искусства (ее любимым композитором был Бетховен) и сама недурно играла на фортепьяно. В Бейтензорге она вела почти затворническую жизнь, подчиняясь строгому этикету, уделяла основное внимание воспитанию детей. Мы не знаем, была ли Луиза ранее верна своему супругу, скучному, педантичному, поглощенному службой, но она, по-видимому, всерьез увлеклась русским путешественником. О ее чувствах свидетельствуют два написанных ею, по-французски письма, адресованные Миклухо-Маклаю. Автор этих строк обнаружил их в архивном фонде путешественника под рубрикой «Письма неустановленных иностранных корреспондентов»[531].
Давно выветрился аромат духов — почти непременный атрибут таких посланий, — но от этих писем веет духом едва скрываемой страсти. Заметим прежде всего, что Луиза обращается к Николаю на ты (toi, а не vous), а такое обращение в светском обществе того времени было возможно лишь в письме близкому человеку. «Я беспрестанно думаю о тебе и пылко желаю твоего возвращения», — признается она в первом письме и, рассказав о текущих политических событиях и попросив путешественника беречь свое здоровье, так заканчивает это послание: «До свидания, мой милый друг, и не забывай полностью твою Л.»[532]. Те же чувства проявляются во втором письме. Сообщив о новостях, в том числе о поездке с мужем в Батавию, Луиза восклицает: «Я мысленно всегда с тобой, а вспоминаешь ли ты хоть изредка обо мне?!» Характерна последняя фраза: «До скорого свидания, мне невтерпеж снова встретиться с тобой». Вряд ли можно сомневаться в том, что у жены генерал-губернатора возник роман с романтическим русским гостем.
Второе письмо Луизы заканчивается припиской: «Не сохраняй мои письма, предай их огню». Но Николай Николаевич не сжег эти трогательные, лестные для него послания, и — о чудо! — они дошли до наших дней, хотя вдова ученого, ревниво относившаяся к прежним увлечениям своего супруга, сожгла часть его эпистолярного наследия. Возможно, письма сохранились потому, что был неизвестен их автор: Луиза подписывала их латинской буквой L. Но внимательное чтение писем позволяет заключить, что они написаны дамой, близкой к генерал-губернатору, судя по контексту — его женой, и печатная монограмма LSL на первой странице каждого письма несомненно расшифровывается так: Луиза Стюрс-Лаудон.
В Бейтензорге Миклухо-Маклай надеялся отдохнуть и набраться сил для новых исследований. Но и здесь его не оставляла малярия, причем в новой для него, тоже изнурительной форме. Несмотря на это, Николай Николаевич активно работал над материалами своих экспедиций. Он подготовил несколько публикаций, которые были напечатаны в батавском и немецком научных изданиях, в том числе большую статью «Антропологические заметки о папуасах Берега Маклая на Новой Гвинее» и статью о папуасских диалектах, предназначенную для «Memoirs» Петербургской академии наук[533].
Путешествия и исследования Миклухо-Маклая получили признание в ученом мире. 16 августа 1873 года он был заочно избран в Батавии иностранным членом-корреспондентом Королевского общества естествоиспытателей Нидерландской Индии. Среди иностранных членов-корреспондентов этого общества мы находим таких выдающихся ученых, как Л. Пастер (Франция), Г. Гельмгольц (Германия), Т. Хаксли и А. Уоллес (Англия).
Летом того года в Бейтензорге побывал молодой английский биолог Джон Гелтон. На него произвели большое впечатление личность и деяния русского ученого, и по возвращении на родину он в феврале 1874 года опубликовал в лондонском журнале «Nature» («Природа») статью «Исследования д-ра Миклухо-Маклая среди папуасов». Публикация была основана на «Антропологических заметках» Миклухо-Маклая, напечатанных в батавском журнале, и на беседах «с обладателем фамилии, чья необычность, равно как и слава ученого, сделали его известным любому биологу»[534].
Что же касается России, то уже в апреле 1874 года перевод статьи Гелтона появился в журнале «Знание», а несколько сокращенный перевод «Антропологических заметок» самого Миклухо-Маклая, выполненный тогда еще начинающим ученым Д.Н. Анучиным, почти одновременно был опубликован в сборнике «Природа».
В «беззаботном» Бейтензорге Николай Николаевич был практически избавлен от расходов. Но что ждало его в будущем? А.А. Мещерский, став ученым секретарем отделения статистики РГО, умолял П.П. Семенова, который сменил престарелого графа Литке на посту вице-председателя РГО, изыскать возможность поддержать своего друга. Но Семенов пояснил, что бюджет общества составлен так, что не позволяет выделить на эти цели даже небольшую сумму. К счастью, нашелся меценат — чиновник Министерства иностранных дел В.Л. Нарышкин, владелец крупных поместий в пяти губерниях, который, узнав о финансовых затруднениях Миклухо-Маклая, предоставил РГО две тысячи рублей для помощи отважному путешественнику. Летом 1873 года Николай Николаевич получил в Батавии вексель на эту сумму в голландских гульденах. Теперь можно было расплатиться с кредиторами и всерьез задуматься о новых экспедициях.
Пятнадцатимесячное пребывание на Новой Гвинее серьезно повлияло на умонастроения Миклухо-Маклая. Несмотря на лишения и опасности, которые он испытал, Николай Николаевич решил на многие годы, если не навсегда, поселиться в тропиках. «Мне делается совершенно ясным, — писал он Александру Мещерскому из Бейтензорга, — что мне не придется жить более в Европе. <…> Природа, воздух, обстановка жизни под тропиками мне положительно более по характеру и вкусу. <…> Итак, я поселюсь где-нибудь в благословенных странах тропических, но также не вблизи европейцев — около них все страшно дорого и скучно. Может быть, если финансы и охота позволят, приеду заглянуть на годик в Европу, но это не прежде, как лет через несколько!»[535] Николай Николаевич предлагал своему другу «навестить меня в моем настоящем отечестве — странах тропических»[536]. Пройдет еще немного времени, и в письмах в Россию он начнет называть себя «белым папуасом»[537].
Как мы уже знаем, Лаудон предполагал отправить в конце 1873 года к берегам Новой Гвинеи пароход для проведения исследований и пригласил Миклухо-Маклая принять участие в этом плавании. Но грозные военно-политические события перечеркнули эти планы. Султанат Аче (Ачех) на севере Суматры был последним крупным независимым государством в Индонезии. В марте 1873 года батавские власти потребовали у ачехского султана признания сюзеренитета Нидерландов, но получили отказ, и тогда в апреле голландский экспедиционный корпус высадился поблизости от столицы Аче. Но захватить ее не удалось, и, потеряв четверть живой силы и командующего корпусом, интервенты отступили и были отозваны на Яву. «Военной прогулки», обещанной голландским министром колоний, не получилось. Началась война, растянувшаяся на многие годы[538].
Голландская колониальная администрация и военное командование установили морскую блокаду Аче и стали готовить вторую экспедицию, которая началась в декабре 1873 года. Пароход «Кумпан», предназначавшийся для отправки к берегам Новой Гвинеи, понадобился для подготовки и проведения этой экспедиции. Это осложнило положение Миклухо-Маклая: голландские торгово-пассажирские пароходы совершали рейсы между Явой и Молуккскими островами, а далее путешественнику предстояло нанять малайский парусник, чтобы добраться до побережья Новой Гвинеи.
Во время стоянки «Изумруда» в Тернате Николай Николаевич получил у молуккских морских торговцев интересные сведения о различных районах юго-западного побережья Новой Гвинеи. Миклухо-Маклай решил отправиться на Берег Папуаковиай[539]. Эта часть побережья, расположенная к востоку от полуострова Бомбераи, пользовалась дурной славой. Европейские натуралисты опасались высаживаться в Папуаковиай из-за слухов о кровожадности и коварстве местных жителей, и даже молуккские морские торговцы, которые издавна вели меновую торговлю с береговыми жителями лежащих к северо-западу местностей Папуа-Онин и Папуа-Нотан, нечасто отваживались посещать Папуаковиай. Это обстоятельство устраивало русского путешественника, ибо он хотел изучить племена, менее известные европейцам и, как он надеялся, слабее подверженные внешним влияниям. Что же касается смертельной опасности, то она не останавливала Миклухо-Маклая.
Николай Николаевич решил выехать из Бейтензорга 15 ноября 1873 года. Но за три недели до выезда он почувствовал первый приступ лихорадки денге, которую голландцы называли кнокелькурс (лихорадка в костях). «Пароксизмы при этой лихорадке не сильны, — сообщал путешественник секретарю РГО, — но боль в сочленениях и суставах очень неприятна и заставляет оставаться в лежачем положении»[540]. Возбудитель и переносчик этой болезни были тогда неизвестны. Но в XX веке медики выяснили, что денге — острое вирусное заболевание, встречающееся в странах с тропическим климатом, что эта инфекция передается человеку комарами Aedes aegipti. Эти комары во времена Миклухо-Маклая в изобилии водились в водоемах и сочной листве «беззаботного» городка.
Луиза Лаудон призвала к постели больного опытных врачей, которые доступными им средствами постарались ослабить боль в суставах и добиться постепенного излечения. На двадцатый день Николай Николаевич смог начать писать и передвигаться по комнате. И хотя болезнь не полностью отступила, путешественник — вопреки предостережениям врачей и мольбам Луизы — назначил свой отъезд на 15 декабря.
Глава десятая. ЭКСПЕДИЦИЯ НА ПАПУА-КОВИАЙ
Бейтензорг — Амбоина
В отличие от пребывания на Яве Миклухо-Маклай, покинув Бейтензорг, сразу же начал вести дневник, который довольно исправно продолжал в течение почти всей экспедиции. Вот его первая запись, датированная 15 декабря 1873 года: «Около 12 часов ночи выехал я из Бюйтенцорга. Я предпочел 5-часовую езду в карете 2-часовой езде по железной дороге, потому что мог провести таким образом несколько часов более в семействе Л*** и потому что предпочитаю отправляться в путь вечером или ночью. Сон благотворно действует, и разлука с близкими людьми переносится как будто в мир грез»[541]. Тоска по Бейтензоргу появилась и в некоторых других дневниковых записях.
По предписанию генерал-губернатора русский путешественник был любезно принят голландским резидентом Батавии. Его люди проводили Николая Николаевича и Ахмата во внутреннюю гавань, откуда маленький пароходик по судоходному каналу доставил их на внешний рейд, где уже готовился к отплытию пароход «Король Вильгельм III», который отправлялся, с заходами в несколько портов, на Молуккские острова.
В Батавии свирепствовала эпидемия холеры, от которой за шесть недель умерло около двух тысяч человек, в том числе 200 европейцев. Эпидемия распространилась на яванские порты Семаранг и Сурабая, куда зашел «Король Вильгельм III». Заболевшие холерой обнаружились и на самом корабле, а потому на нем были приняты все возможные меры предосторожности. Тело пассажирки, умершей от холеры в открытом море, бросили за борт.
Во время плавания состояние здоровья Николая Николаевича существенно ухудшилось: участились приступы малярии, снова стала проявляться незалеченная лихорадка денге, вызывая боль и припухлость в костях и суставах, в штормовую погоду он страдал от морской болезни. Но путешественник не пал духом. Пребывание на пароходе он использовал для наблюдений над пассажирами, среди которых было немало евро-малайских, китайско-малайских и негро-малайских метисов, расспрашивал старожилов-голландцев о различных обычаях обитателей Явы и других островов Малайского архипелага.
22 декабря «Король Вильгельм 111» бросил якорь в гавани Макасара — столицы султаната Гова, включавшего юго-западную часть Сулавеси (Целебеса) и ряд маленьких островов. Еще в конце XVIII века этот султанат был покорен голландцами и стал частью Нидерландской Ост-Индии. За султаном были сохранены номинальные права и значительные земельные владения, но реальная власть перешла к голландскому резиденту.
В Макасаре Миклухо-Маклай встретился с итальянским путешественником и натуралистом Одоардо Беккари (1843 — 1920), который вместе со своим соотечественником Луиджи Мария д'Альбертисом (1841 — 1901) в 1871-1872 годах на молуккском паруснике плавал вдоль Берега Папуаковиай, но по ряду причин, в том числе ввиду внезапного заболевания своего спутника, так и не смог приступить там к научным исследованиям. В 1873 году, незадолго до встречи с Миклухо-Маклаем, он совершил поездку на острова Кей и Ару, расположенные к югу от западной оконечности Новой Гвинеи. Беккари дал русскому ученому полезные советы, которые помогли ему лучше подготовиться к путешествию на Берег Папуаковиай, но предупредил о серьезных трудностях и опасностях, которые будут ждать его на этом побережье.
В своем дневнике, опубликованном посмертно, в 1924 году, Беккари довольно подробно описал встречу с Миклухо-Маклаем, «общение с которым, продолжавшееся всего несколько часов, породило нечто большее, чем простое знакомство». Рассказав о планах своего нового приятеля, Беккари прибавил: «Я нашел его очень ослабевшим и по виду страдающим от лихорадок. <…> Поистине досадно и огорчительно, что он пускается в путь со здоровьем, находящимся в столь плачевном состоянии»[542]. Но вопреки предостережениям местных голландских врачей и незавидной перспективе, красноречиво обрисованной Беккари, Николай Николаевич решил не отступать от намеченного плана. Как и в другие критические периоды своей жизни, путешественник проявил огромную силу воли и, презрев недуги, мобилизовал все силы своего организма, чтобы достичь желанной цели.
2 января 1874 года «Король Вильгельм III» пришел в Амбоину (ныне Амбон), административный центр голландского резидентства (провинции) Молуккские острова — конечного пункта своего рейса.
Молуккский архипелаг расположен между большим островом Сулавеси и Новой Гвинеей. Он состоит из трех сравнительно крупных островов и более чем 1300 мелких, соединенных в несколько цепей. Население архипелага еще в XVII веке было покорено голландскими завоевателями. Отдельными островами продолжали управлять раджи (князья), «начальниками» мелких островков и отдельных деревень на более крупных островах были традиционные вожди, многие из которых стали называться на европейский лад майорами или капитанами. В XIX веке все эти правители — напрямую или через других феодалов — находились в вассальной зависимости от северомолуккских султанатов Тернате и Тидоре, которые, в свою очередь, признавали сюзеренитет Нидерландов.
Амбоинский резидент, прочтя адресованное ему письмо Джеймса Лаудона, пригласил Миклухо-Маклая поселиться в своем доме, окруженном тенистым парком. На берегу, в комфортабельной обстановке, страдания путешественника не уменьшались. В его дневнике мы находим такие записи: «Здоровье плохо, лихорадка и боль правой стороны» (7 января); «Периост костей, которые подчас сильно болят, так что чувствуешь боль во всем теле, сильно вспух. Колотье и боль печени более чем чувствительны» (15 января); «Вот уже более недели, как почти все время провожу, лежа или в постели, или в длинном кресле. Лихорадка, кнокелькурс и раны на ногах поочередно или иногда вместе надоедают положительно» (21 января)[543]. Но и при таком самочувствии путешественник не оставался без дела. Он подолгу беседовал с резидентом и его помощниками, голландскими поселенцами, морскими торговцами и ам-боинской знатью, обсуждая, как лучше добраться до Берега Папуаковиай и обосноваться на этом побережье, продолжал работать над начатой ранее статьей об обычаях папуасов и зарисовал трех женщин в местной больнице. 11 января, когда не было приступов, он отправился в шлюпке на коралловый риф и занялся любимым делом — добычей губок, а потом изучал и консервировал их в своей комнате.
Из Амбоины Миклухо-Маклай отправил письмо Мещерскому, в котором, подтвердив свое намерение во что бы то ни стало отправиться еще раз на Новую Гвинею, признался, что не менее болезней его тревожат финансовые проблемы. Одно дело — участвовать в голландской экспедиции на пароходе «Кум-пан», другое — самостоятельно добираться до Папуаковиай и, как оказалось необходимым, нанимать на несколько месяцев слуг и парусник с командой, закупать большое количество снаряжения и продовольствия. На это не могло хватить денег, присланных летом из России (и частично потраченных на уплату долгов). Путешественник уже занял тысячу гульденов у батавской фирмы «Дюммлер и К°». По возвращении на Яву ему понадобятся две-три тысячи рублей. Потеряв надежду получить деньги от матери, Николай Николаевич просил своего друга похлопотать в РГО, чтобы требуемая сумма была выслана ему в Батавию к маю 1874 года.
Полевые записи за первую половину февраля не сохранились, но, как видно из дневника, Миклухо-Маклай нанял в Амбоине двух слуг — амбонцев-христиан Давида Хукома и Иосифа Лописа, которые уже бывали на Новой Гвинее и, в частности, участвовали в 1871 — 1872 годах в неудачном плавании Беккари к Берегу Папуаковиай. Порт Амбоина на островке того же названия находится у юго-западной оконечности крупного острова Серам. Знающие люди посоветовали путешественнику перебраться на островки Серам-Лаут, вытянувшиеся цепочкой на восток от Серама: здесь издавна сложился центр торговли с Новой Гвинеей и потому легче было нанять подходящее парусное судно с командой и закупить нужные припасы. 14 февраля Николай Николаевич отправился туда на большом правительственном катере под голландским флагом, любезно представленном ему резидентом.
Прибытие этого судна всполошило правителей островков Серам-Лаут, и они прибыли на лодках к вставшему на якорь катеру. От имени генерал-губернатора Нидерландской Ост-Индии и резидента Амбоины Миклухо-Маклай приказал этим капитанам, майорам и раджам-муда (младшим раджам) немедленно помочь ему в аренде подходящего парусника и выделить за оговоренную плату 16 человек, знающих морское дело и уже бывавших на Новой Гвинее. Анакода (амбоинский шкипер катера) подтвердил все сказанное «белым господином». В результате уже на следующий день, 20 февраля, Николай Николаевич выбрал урумбай, принадлежавший деревне на островке Килвару, — небольшое двухмачтовое парусное судно с заостренными и высокими носом и кормой, без палубы, но с каютой в виде хижины посередине. Его важное преимущество состояло в том, что в случае штиля или неблагоприятного ветра урумбай мог передвигаться на веслах, а не под парусами.
На островках Серам-Лаут, издавна превратившихся в торговый центр, было смешанное население. Наряду с коренными жителями, которых Миклухо-Маклай называет серамцами, здесь обитали выходцы из других районов Малайского архипелага, арабы, китайцы, папуасы и разнообразные метисы. Эта этническая пестрота отразилась и на команде, отобранной путешественником. Среди его матросов были серамцы, буги с Южного Сулавеси, малайско-папуасские метисы и два чистокровных папуаса. По просьбе местных правителей Николай Николаевич назначил копал-орангом (начальником над людьми) Сангиля — брата майора Килвару. Два дня продолжалась погрузка на урумбай различных припасов, в том числе продовольствия (саго, сушеной рыбы, сушеной говядины и др.). Путешественник приказал закупать еду на пять месяцев — срок, который он предполагал пробыть на Новой Гвинее.
Пользуясь последней возможностью отправить свою корреспонденцию с катером, который возвращался в Амбоину, Николай Николаевич написал несколько писем на Яву и в Россию. До нас дошли только два письма — секретарю РГО и Мещерскому. «Мой план, — говорится в первом письме, — снова тот же, как и в 1871 году: познакомиться с жителями, их обычаями и языком, живя с ними, не оставляя при этом моих зоологических и метеорологических наблюдений». Путешественник добавил, что Лаудон обещал прислать за ним пароход «по окончании Ачинской экспедиции»[544]. «Отправляюсь, — написал он Мещерскому, — потому что если теперь не решусь, пожалуй, вторая экспедиция в Новую Гвинею никогда не удастся вследствие здоровья, которое уходит, и средств, которые все более и более стесняют. Постараюсь вернуться, потому что главные результаты (этнологические) 1-го путешествия почти не разработаны мною, и никто это за меня сделать не сможет»[545].
23 февраля 1874 года урумбай поднял якорь и взял курс на Новую Гвинею. Посетив по пути острова Горонг и Ватубела и выдержав жестокий шторм, который едва не потопил лодку, путешественник и его спутники увидели 27 февраля поднимающиеся уступами горы. Это был Берег Папуаковиай.
«Здесь легче умирать, чем жить»
Голландские, английские и французские морские экспедиции нанесли на карту извилистую береговую линию Папуаковиай с прилегающими к ней островами. Натуралисты, участвовавшие в некоторых из этих экспедиций, съезжали на берег. Но никто из европейских ученых не занимался изучением местного населения, о котором ходили самые невероятные слухи, распускавшиеся морскими*торговцами — подданными султаната Тидоре, формально владевшего этой частью Новой Гвинеи.
Панорама, которая открылась с урумбая перед Миклухо-Маклаем, восхитила путешественника: «Море с его многочисленными бухтами и проливами, отвесные скалы, высокие хребты гор с разнообразными контурами, чрезвычайно богатая растительность представляют в Папуаковиай самые эффектные комбинации, и часто пейзаж не довольно назвать "красивым", но надо назвать "величественным"»[546]. Однако путешественника поразило безлюдье этой по виду роскошной страны.
На всем протяжении Берега Папуаковиай он обнаружил «не более 3 или 4 построек, которые можно назвать хижинами; все остальные, и эти очень малочисленные, едва заслуживали название шалашей». «Все эти жилища <…> — добавил он, — только временно обитаемы, и даже редко можно застать в них жителей. Все население скитается по заливам и бухтам в своих пирогах, оставаясь только несколько часов или дней в одной местности»[547].
На следующий день после прибытия Николай Николаевич с Сангилем в качестве переводчика посетил гористый, покрытый пышной растительностью островок Наматоте, где встретился с местными «большими людьми» — правителями островов Айдума, Наматоте и Мавара. Подобно «начальникам» на Молуккском архипелаге, эти папуасы именовались радьями (раджами) или капитанами и красовались, по словам путешественника, в малайской одежде. Путешественник объяснил им, что намеревается «поселиться здесь между ними, месяца на три», желает «видеть здесь горы, деревья, животных, людей и хижины их», хочет «знать обо всем, что здесь делается»[548]. В ответ он услышал жалобы на военные набеги из Папуа-Онин и междоусобные войны. «Титулованные» собеседники просили защиты у туан пушу (белого господина), обещали во всем ему помогать и просили дать им пару бутылок рома или джина, к которым они пристрастились под влиянием молуккских морских торговцев.
Отказавшись от предложения местного раджи обосноваться на Наматоте, Николай Николаевич объехал на урумбае прилегающие участки побережья и ближайшие острова. Его выбор пал на мыс Айва, расположенный на «материке» вблизи от острова Маваре. Здесь на уступе скалы с красивым видом на море он приказал расчистить в лесу площадку, на которой люди с урумбая с помощью местных жителей быстро построили домик на сваях, крытый атапами — водонепроницаемыми пластинами, сплетенными из пальмовых листьев. Он состоял «из передней, моей комнаты с двумя окнами и дверью и другой, почти вдвое большей, для моих людей»[549]. Сюда перетащили с урумбая вещи путешественника — одежду, ружья, приборы, ящики с медикаментами и т. д. На берегу под скалой начали селиться обитатели ближайших островов. Они строили шалаши или вытаскивали на сушу свои обычные жилища — лодки с двумя балансирами и довольно широкой платформой с навесом, сплетенным из листьев пандануса.
Не теряя времени, Миклухо-Маклай приступил к научным изысканиям: обмерял головы папуасов, собирал черепа и скелеты из разрушенных захоронений, составлял словники местных диалектов, добывал при отливе и консервировал губок и других простейших морских животных, организовал охоту на местных птиц, чьи черепа и скелеты помещал в консервирующие растворы, проводил метеорологические наблюдения.
В 1828 году голландская колониальная администрация объявила о присоединении западной части Новой Гвинеи к Нидерландской Ост-Индии и, чтобы подкрепить эту декларацию, основала на Берегу Папуаковиай, в местности Лобо, расположенной недалеко от Айвы, военное поселение — форт Дюбус. Однако большинство поселенцев, включая коменданта, погибли от малярии, берибери (скорбута) и дизентерии. Новые пополнения ждала та же участь. В 1836 году оставшиеся в живых солдаты и офицеры с семьями были вывезены военным кораблем в Батавию. Голландцы получили столь суровый урок, что следующую попытку основать поселение в этом районе предприняли лишь в конце XIX века, а до того ограничивались «демонстрацией флага», изредка посылая к Берегу Папуаковиай военные корабли.
Трагическая судьба форта Дюбус была не случайной. Как вскоре убедился русский путешественник, прибрежная полоса Берега Папуаковиай — с заболоченными низинами и мангровыми болотами — была еще более нездоровой, чем местность на побережье залива Астролябия, где он жил в 1871 — 1872 годах. Судя по дневнику, Николая Николаевича здесь реже посещали приступы малярии, но он страдал от осложнений, вызванных лихорадкой денге, и постоянно испытывал сильное недомогание. Между тем серьезно заболел Ахмат. Приступы малярии следовали у него один за другим. Мальчик настолько ослаб, что с трудом говорил и, лежа на циновке, не мог без помощи приподнять голову. Николай Николаевич заботливо ухаживал за своим «папуасенком». Местными разновидностями малярии заболело и большинство «матросов» урумбая. Положение спасали большие дозы хинина, которым предусмотрительно запасся Миклухо-Маклай. Природные красоты, которыми не уставал восхищаться путешественник, обернулись другой, трагической стороной. Уже через несколько дней после высадки в его дневнике появилась такая запись: «Местность здесь живописная, жалко, что здесь легче умирать, чем жить»[550].
Ознакомившись с окрестностями Айдумы, Миклухо-Маклай 21 марта отправился на урумбае в более далекую экскурсию. Сторожить свой домик он оставил пятерых матросовсерамцев под начальством амбонца-христианина Иосифа Лописа, которому поручил неустанно заботиться об Ахмате, еще не окрепшем после серии пароксизмов малярии.
Идя вдоль берега, преимущественно на веслах, урумбай посетил многие бухты и проливы, а также маленькие острова, причем Николай Николаевич внес уточнения и изменения в официальную голландскую карту. Путешественник проявил, как теперь говорят, политкорректность: безымянный мыс на острове Драмай он назвал в честь Лаудона, проток, ведущий в залив Бичару, обозначен на его картосхеме как пролив Королевы Софии (супруги голландского короля), а обособленная часть залива Тритон — как пролив Великой княгини Елены (его петербургской покровительницы).
На востоке урумбай дошел до острова Лакахия, где имелась хорошая, защищенная от ветров якорная стоянка, а потому здесь чаще, чем у других островов Берега Папуаковиай, останавливались серамские и макасарские падуаканы (большие парусники), приходящие для меновой торговли. На Лакахии не было постоянного поселения. Но стоило появиться падуакану, как сюда, словно на ярмарку, приплывали в своих лодках жители окрестных прибрежий и островов. По мнению современного востоковеда М.А. Членова, Миклухо-Маклай наблюдал здесь начальную стадию образования торгового центра, при дальнейшем развитии которого на острове обычно оседают и смешиваются люди разных национальностей, образуя ядро «торгового этноса», и возникает постоянное поселение[551].
На Наматоте и Айдуме Николай Николаевич несколько раз встречался с людьми из племени вуоусирау, населявшего горы над Берегом Папуаковиай. Они приглашали путешественника в гости, причем рассказали, что за грядой прибрежных холмов находится большое озеро Камака-Виллар. Несмотря на общую слабость и боль в ногах, Миклухо-Маклай по крутым тропинкам совершил поход в горы и познакомился с культурой и бытом этого племени, которое было меньше затронуто внешними влияниями, но тоже имело своего «капитана». Вуоусирау (как и их соседи — маираси) по своему антропологическому типу мало отличались от прибрежных папуасских племен. «Между женщинами, — записал путешественник, — я заметил одну девочку лет около 13, большие темно-карие глаза которой могли бы удовлетворить самых взыскательных ценителей женской красоты»[552]. Вуоусирау говорили на особом диалекте, вели более оседлый образ жизни, строили прочные хижины на сваях и в отличие от береговых папуасов держали собак, которые по своей природе и предназначению были похожи на их четвероногих сородичей с Берега Маклая.
Спустившись с гор, Миклухо-Маклай продолжил объезд побережья. Путешественнику приходилось быть все время настороже, так как сопровождавшие его местные жители утверждали, что на урумбай готовится нападение. В узком и извилистом заливе Каруру 50 вооруженных старинными ружьями, луками и копьями папуасов на больших лодках приблизились к урумбаю. Решительность и находчивость Миклухо-Маклая помогли предотвратить столкновение, но команда урумбая была уверена, что это разведка, а настоящее нападение произойдет ночью, а потому уговорила путешественника поставить паруса и поскорее выйти в открытое море. Однако это было только начало. 2 апреля на обратном пути к Айдуме Николай Николаевич и его спутники узнали от плывшего в утлой лодчонке папуаса, что на Айву напали более сотни обитателей залива Бичару, разграбили вещи путешественника, убили несколько папуасов, поселившихся возле его домика, обезглавили их, а двух девушек и мальчика увели с собой в горы.
Утром 3 апреля урумбай подошел к Айве, и путешественник услышал от Иосифа Лописа более точную версию происшедших событий. По словам Лописа, нападение было устроено сообща людьми, живущими в заливе Бичару и на островах Наматате и Мавара, причем одним из главных организаторов этого предприятия был Саси — капитан Мавары. Они, по-видимому, сговорились с некоторыми серамцами из команды урумбая, оставленными для охраны домика ученого, и когда Лопис приказал открыть огонь по нападавшим, те стреляли холостыми зарядами.
Около острова Наматате стоял на якоре макасарский падуакан, прибывший для меновой торговли с ковиайцами, Лопис с Ахматом и одним из матросовсерамцев отправился в маленькой лодке на это судно и уговорил его капитана послать на берег вооруженных людей, чтобы прекратить резню и спасти хоть часть имущества путешественника. Когда макасарцы прибыли в Айву, бичарцы уже ушли, а папуасы с Наматоте и Мавары занимались дележом добычи. Увидев вооруженных моряков, они не стали сопротивляться, когда Лопис с макасарцами собрали остатки вещей «белого господина» и перевезли их на падуакан.
8 апреля капитан падуакана сообщил Миклухо-Маклаю, что вследствие недавних событий боится здесь оставаться и отправляется для торговли на острова Кей или Ару. Путешественник послал с ним письма, а также два ящика с заспиртованными препаратами и черепами для передачи голландским властям.
В письме «командиру правительственного корабля на рейде Гесира», посланном 9 апреля с капитаном падуакана, Миклухо-Маклай сообщил: «Папуасы ограбили мою хижину. Я нахожусь в затруднительном положении и имею честь просить Вас без опоздания прибыть за мною в Айдуму»[553]. Но когда прошел первый шок от разбойного нападения, Николаю Николаевичу стало обидно покидать Папуаковиай менее чем через два месяца после высадки и он ограничился тем, что перевел свою «резиденцию» из Айвы на северный берег острова Айдума, поближе к стоявшему на якоре урумбаю, где, по его мнению, он будет в большей безопасности, чем на «материке». Здесь для путешественника построили маленькую хижину, в которой едва поместились его койка, стол и стул. Возле хижины туан пути сразу начали селиться папуасы с ближайших островов. Между тем условия для научной работы серьезно ухудшились, так как исчезли или были повреждены многие метеорологические приборы и инструменты для анатомических и антропологических исследований. Кроме того, нападавшие унесли почти весь запас хинина, без которого было крайне опасно оставаться в этой нездоровой местности.
Непредвиденное обстоятельство заставило путешественника срочно расстаться с Берегом Папуаковиай. Утром 23 апреля Миклухо-Маклай узнал, что капитан Мавары — главный зачинщик резни и грабежа в Айве — находится в одной из парусных лодок, стоящих возле урумбая. Одержимый желанием отплатить обидчику, Николай Николаевич в сопровождении своих наиболее доверенных людей с заряженными ружьями немедленно прибыл на урумбай и громко потребовал, чтобы капитан Мавары поднялся на борт. После неоднократно повторенного приказания бледный, дрожащий капитан подчинился. «Я встал, вынул револьвер, — говорится в полевом дневнике путешественника, — и, подойдя к капитану Мавара, приставил револьвер к лицу его и сказал стоящим вокруг меня людям урумбая очень громко, чтобы <…> люди на берегу слышали бы мои слова: "Этот человек с радьей Наматоте разграбили мои вещи в Айве, поэтому вяжите его, я его беру с собой, и г. резидент в Амбоине скажет, что с ним сделают!" <…> Арестование произвело большое впечатление на всех, особенно на папуасов на берегу, и я был одинакового мнения с моими людьми, что не следует теперь терять время и, не отлагая до завтра, уйти в море»[554]. Не дожидаясь, пока папуасы попытаются освободить Саси, Миклухо-Маклай приказал перенести свои вещи из хижины на урумбай и к полудню при попутном ветре судно находилось уже далеко от Берега Папуаковиай.
К эпизоду с захватом капитана Мавары Миклухо-Маклай возвращался неоднократно — в статьях на русском, французском и английском языках, в письмах и публичных выступлениях, -изменяя фактические детали и прибавляя драматические подробности, призванные показать его смелость, неустрашимость и находчивость в «Зазеркалье» — мире первобытных людей. Например, в версии дневника, подготовленной в 1886 году к печати, рассказывается, как путешественник, пройдя с двумя помощниками по берегу острова мимо толпы папуасов, приблизился к лодке, в которой находился капитан Мавары, откинул скрывавшую его циновку, «схватил капитана за горло и, приставив револьвер ко рту, приказал <…> связать ему руки»[555]. Так, Николай Николаевич вносил свою лепту в развитие мифологических представлений о себе, возникших в России и за ее рубежами.
Каковы же научные результаты второй экспедиции Миклухо-Маклая на Новую Гвинею? «Главное соображение, маячившее передо мной как цель этого путешествия, — писал он в статье, опубликованной в батавском научном журнале, — было желание составить ясное суждение об антропологическом положении населения юго-западного берега в сравнении с туземцами северо-восточного побережья Новой Гвинеи»[556]. Николай Николаевич пришел к выводу, что обитатели Папуаковиай подобно обитателям Берега Маклая принадлежат к папуасской расе, хотя между ковиайцами встречаются люди смешанного происхождения — потомки малайцев (так называл ученый представителей всех береговых народов Малайского архипелага) от местных женщин. Но если в антропологическом отношении население обоих районов оказалось близким друг к другу, то в их образе жизни обнаружились существенные различия.
«Хотя папуасы Берега Маклая живут совершенно изолированно от других рас и не знают ни одного металла, — писал он в той же статье, — они строят своими каменными топорами относительно очень удобные, иногда и большие хижины. Вблизи от своих многочисленных и красиво устроенных деревень они старательно обрабатывают свои плантации, круглый год снабжающие их пищей. Кроме собак, в деревнях видно много свиней и даже кур. Вследствие их оседлого образа жизни и дружественных отношений между многочисленными деревнями войны происходят реже, так что постоянное чувство опасности почти исчезло».
Что же касается береговых жителей Папуаковиай, живших в постоянном страхе за свою жизнь, то они были вынуждены «постоянно скитаться из одной местности в другую то в поисках морских животных и для ловли рыбы, то чтобы бродить по лесам для сбора немногих плодов, листьев или кореньев»[557]. Вследствие длительных контактов с жителями Молуккских островов у папуасовковиай появились железные орудия труда и холодное оружие, кремневые ружья, получили некоторое распространение малайские одежда и украшения, они познакомились с алкогольными напитками и курением опиума. Но, как установил Миклухо-Маклай, они «оттого не стали ни богаче, ни счастливее»[558]. Путешественника заинтересовало, почему эти папуасы ведут, по его выражению, «такую жалкую жизнь», и он нашел, как ему показалось, ответ на этот вопрос.
Дело в том, что на протяжении многих лет на побережье Папуаковиай нападали хонгии (морские экспедиции), снаряжаемые султанатом Тидоре под предлогом сбора дани. Эти экспедиции буквально опустошали побережье, грабили и убивали папуасов, обращали многих из них в рабство. Примерно такой же характер имели пиратские набеги, совершаемые с островов Серам-Лаут и Горонг. Спрос на рабов стал важным источником войн между местными племенами, и это усиливало на побережье атмосферу подозрительности и тревоги. «Постоянные опасения быть убитым и ограбленным, — записал в дневнике Миклухо-Маклай, — принуждают туземцев жить преимущественно в своих пирогах, перекочевывая с места на место»[559]. «Сколько раз этих людей грабили, избивали, уводили в рабство, — гласит другая запись. — Один тидорский принц Амир несколько лет тому назад увез, как говорят, много сотен людей отсюда. <…> Не удивительно, что каждый кажется им неприятелем. Они также в свою очередь старались отплатить без разбора всем, кто легкомысленно попадался им в руки»[560].
В целом экспедиция на Берег Папуаковиай оказалась менее результативной, чем пребывание на Берегу Маклая, хотя его главная задача — антропологическое изучение местного населения в сопоставлении с папуасами, живущими в районе залива Астролябия, — была выполнена. Николаю Николаевичу удалось также сделать интересные наблюдения над образом жизни обитателей Папуаковиай, внести вклад в географическое изучение этого района, собрать фаунистическую коллекцию. Дневниковые записи дополнены превосходными рисунками; их сохранилось более двадцати. На них изображены местные жители, их жилища и магические предметы, пейзажи, домик путешественника на мысе Айва. Учитывая крайне неблагоприятную обстановку, в которой пришлось действовать Миклухо-Маклаю, и состояние его здоровья, исследования путешественника на Берегу Папуаковиай можно уподобить подвигу.
В 1902 году, то есть через 28 лет после Миклухо-Маклая, Берег Папуаковиай посетил русский натуралист К.Н. Давыдов. Он пробыл в этом районе только две недели, так как увидел, что «научные исследования там невозможны»[561]. «Никогда в жизни не чувствовал я себя столь подавленным и удрученным окружающей обстановкой, — писал он о своем посещении Папуаковиай. — Как никто понял я там всю цену и значение подвига Миклухи-Маклая»[562].
На Молуккских островах
Без особых происшествий урумбай за пять дней дошел до Молуккских островов. По пути Миклухо-Маклай запретил где-либо останавливаться, так как ему стало известно, что его пленник, Саси, уговаривал некоторых «матросов» помочь ему бежать, обещая за это щедро вознаградить их товарами, вывозимыми с Берега Папуаковиай. Урумбай подошел лишь на несколько часов к острову Горонг, чтобы пополнить запасы продовольствия и пресной воды, а на следующий день, 29 апреля, бросил якорь у острова Килвару в группе Серам-Лаут, откуда путешественник в феврале отправился в плавание к берегам Новой Гвинеи.
На Килвару Миклухо-Маклай был радушно встречен местным раджей, который поселил его в доме для почетных гостей. Путешественник послал Иосифа Лописа на небольшом голландском паруснике на остров Банда с письмами местному голландскому ассистент-резиденту и резиденту в Амбоине с известием о своем прибытии на Килвару и стал ждать парохода, чтобы отправиться на нем в Макасар, а оттуда на Яву. Это ожидание растянулось натри недели.
Миклухо-Маклай использовал пребывание на Килвару, чтобы вчерне написать сообщение в РГО «Мое второе путешествие на Новую Гвинею», провести антропологические исследования и поближе познакомиться с бытом и нравами местного, по преимуществу смешанного населения.
Особое внимание путешественник уделил обследованию малайско-папуасских метисов. Помимо некоторых выводов, имеющих узкоспециальный интерес (о передаче по наследству отдельных признаков каждой из рас), Миклухо-Маклай установил, что межрасовые браки дают здоровое потомство, а не приводят к его физической и умственной неполноценности; более того, физиономии детей смешанного происхождения оказались «интеллигентнее и живее, чем у чистокровных (особенно малайских) детей»[563]. Опубликовав вскоре эти наблюдения в ба-тавском научном журнале, исследователь нанес еще один удар по воззрениям современных ему антропологов-расистов.
Как отмечалось выше, Миклухо-Маклай после 1871 года избегал широких выводов и обобщений. Но в связи с антропологическими изысканиями, проведенными на Килвару и соседних островах, он занес в дневник гипотезу, новаторскую для того времени и не утратившую своего значения до наших дней: «Итак, вероятно, что папуасы, как и негры, очень измененное племя, происшедшее от индифферентного родоначального племени с курчавыми и прямыми волосами»[564].
Миклухо-Маклай записал легенды о хвостатых людях и духах-оборотнях, родословную раджи Килвару, с интересом наблюдал по вечерам мужскую военную пляску чикалеле — пережиток танца охотников за головами, занялся своим излюбленным делом — препарировал пойманную акулу. Его по-прежнему донимала малярия. Полностью рассчитавшись за аренду урум-бая и с нанятыми им людьми, включая двух амбонцев-христиан, Николай Николаевич остался практически без денег. «Вино, сахар, кофе на исходе. Денег, рису, бисквитов более нет», — с грустью записал он в дневнике накануне отплытия из Килвару[565].
Николай Николаевич нарисовал портреты нескольких малайско-папуасских метисов. Среди них была Бунгарая — молодая женщина 25 — 27 лет. Вскоре она стала его любовницей — возможно, по воле раджи, желавшего угодить путешественнику. В дневнике, не предназначенном для печати, Миклухо-Маклай довольно подробно, с натуралистическими деталями описал свою связь с Бунгараей. В этих записях путешественник предстает перед нами не столько как любовник, сколько как довольно бесстрастный ученый-натуралист. Приведем несколько отрывков из них[566].
«Вечером, незваная, пришла Бунгарая — я не мог воздержаться и отослать ее! Хотя было не более 7 часов. Я предполагаю, что папуасские ласки мужчин иного рода, чем европейские, по крайней мере, Бунгарая с удивлением следила за каждым моим движением и хотя часто улыбалась, но я не думаю, что это было только следствием удовольствия. Несмотря на малый рост, vagina показалась очень длинною. Внешние губы не велики» (9 мая).
«Вечером опять пришла Бунгарая. Утром при уходе я подарил ей кусок катуна (хлопчатобумажной ткани, идущей на женскую набедренную одежду. — Д. Т.), которым она, кажется, не осталась довольна; так как у меня остается всего-навсего ½ gulden'a, то денег не пришлось дать. Она говорила что-то, но я не мог понять, кажется, просила денег, желала серег, браслет. Слыша, что я хохочу (было темно), она что-то стала сердито бормотать, я еще более хохотал, она несколько раз толкала меня в бок не слишком нежно, потом даже намеревалась с досады укусить (!) меня раза два. Я ее успокоил тем, что 3-й раз за ночь удовлетворил ее желание» (10 мая).
«Надеюсь спать спокойно эту ночь после 4-х довольно утомительных при скудной пище, что, однако, не удалось. Я уже спал крепко, когда был разбужен Бунгараею, которая пробралась ко мне в комнату незамеченной слугами, которые сидели на задней веранде. Недостаток пищи имеет следствием незначительное выделение семенной жидкости. При эякуляции вытекает только 4 — 5 капель. Я ее отправил без подарка, и надеюсь, что не придет беспокоить меня сегодня» (12 мая).
«Было 7 часов вечера, я сидел за своим скудным ужином. Когда на минуту люди мои вышли оба на заднюю веранду, Бунгарая осторожно пробралась мимо меня в спальню. Пришлось ее спрятать, хорошо, что у кровати есть занавеска. Принесла тарелку яиц. Странно, что пришла, и еще незваная, да с подарком, когда я ей 3-го дня ничего не дал» (13 мая).
«Бунгарая опять приходила» (14 мая).
«Бунгарая приходит каждый день» (18 мая).
21 мая наконец прибыл пароход «Бали» с резидентом на борту. Голландский чиновник передал Николаю Николаевичу много писем, но среди них не было ни одного от родных и Александра Мещерского.
Резидент решил судьбу капитана Мавары, которого держал под арестом раджа Килвару. Саси был осужден на пожизненное изгнание: его отправили на поселение в Тидоре и запретили когда-либо возвращаться в Папуаковиай.
Покинув Килвару 23 мая, «Бали» посетил три островка и через неделю пришел на амбоинский рейд. Здесь Николай Николаевич увидел пароход «Ангер», идущий с Явы на Новую Гвинею за русским путешественником. Помощь, высланная батав-скими властями, несколько опоздала.
Миклухо-Маклай не собирался задерживаться в Амбоине, но его здоровье настолько ухудшилось, что ему пришлось провести здесь около месяца. Похоже, путешественник не вел здесь дневник. Поэтому о его пребывании на Амбоине приходится судить по отдельным, нередко противоречащим друг другу фразам на разрозненных листках, в письмах и публичных чтениях 1882 года. Малярия здесь меньше изводила исследователя, но к ней прибавилась рожа лица и головы. Пришлось лечь в амбоинский военный госпиталь, где голландские врачи с трудом излечили его от этой напасти. Несмотря на болезнь, Николай Николаевич продиктовал писарю, знающему немецкий язык, несколько расширенный вариант своего сообщения о путешествии в Папуаковиай, подготовленного для РГО в Килвару; эта статья появилась в батавском научном журнале. С помощью того же писаря ученый завершил и подготовил к публикации работу «Папуасские диалекты Берега Маклая на Новой Гвинее», начатую в Бейтензорге. Эту работу ученый отправил с Амбоины в РГО вместе с не дошедшими до нас письмами П.П. Семенову и Александру Мещерскому. В следующем году, путешествуя по джунглям Малакки, он вспомнил «девочку в Амбоине, которая мне нравилась»[567].
В начале июня 1874 года Амбоину посетил английский мореплаватель Джон Морсби, который на судне «Бэзилиск» обследовал и нанес на карту значительную часть юго-восточного и северо-восточного побережья Новой Гвинеи. По указанию британского Адмиралтейства, откликнувшегося на просьбу совета РГО, Морсби в 1872 году безуспешно пытался отыскать Миклухо-Маклая в районе залива Астролябия и только теперь встретился с ним в амбоинском госпитале. Как вспоминает Морсби, здоровье русского путешественника «было в плачевном состоянии», и, оставляя Амбоину, английские моряки «не рассчитывали, что он останется в живых»[568]. Но Николай Николаевич выстоял и на голландском рейсовом пароходе, заходившем по пути в Тернате, Менадо и Макасар, в конце июля прибыл в яванский порт Сурабая.
Снова на Яве
Из Сурабаи Миклухо-Маклай отправился прямо в Бейтензорг. «Я был, как и в прошлом году, дружески принят в любезном семействе генерал-губернатора», — сообщил Николай Николаевич матери[569]. Вместе с Лаудонами путешественник переехал из Бейтензорга в их летнюю резиденцию в Чипанасе — городке, расположенном на плоскогорье в более прохладной климатической зоне, а затем вместе с ними вернулся в Бейтензорг.
Миклухо-Маклай подробно рассказал Лаудону о трагической обстановке, сложившейся на Папуаковиай, прозрачно намекнув, что за бедственное положение тамошних жителей в конечном счете несут ответственность голландские колониальные власти, которые не принимают мер ни для искоренения рабства на Молуккских островах, ни для защиты ковиайцев от хонгий и других разбойных экспедиций. В развитие этих бесед он представил генерал-губернатору меморандум о политическом и социальном положении папуасов этого Берега, в котором уделил особое внимание морским набегам, совершаемым главным образом с целью захвата рабов, рассказал о жестоком обращении с детьми-рабами на Молукках. Путешественник призвал принять действенные меры для прекращения совершающихся злодеяний, причем высказался за создание на Берегу маленького военного поселения, «достаточно сильного для того, чтобы поддерживать справедливость и наказывать виновных»[570]. Более того, как сообщил Миклухо-Маклай секретарю РГО, в разговоре с Лаудоном он выразил готовность, отложив на год свои научные изыскания, отправиться «с несколькими десятками яванских солдат и одною канонерскою лодкою» на Берег Папуаковиай и основать там упомянутое поселение, чтобы защитить папуасов от морских набегов и побудить их «переменить образ жизни и взаимные отношения между племенами, последствием чего было бы прекращение частых войн, прекращение похищения и торга людьми». Непременным условием Николай Николаевич считал предоставление ему полной самостоятельности, «доходящей до права на жизнь и смерть моих подчиненных и туземцев»[571].
Генерал-губернатор отклонил это предложение, как «исходящее от иностранца и ставящее такие условия», добавив, что «голландское правительство не имеет намерения еще более расширять и без того обширные колонии»[572]. И в самом деле, Лаудону было тогда не до положения в Папуаковиай. Вторая военная экспедиция в Аче (ноябрь 1873-го — апрель 1874 года), хотя и ознаменовалась захватом столицы султаната ценой гибели сотен голландских солдат и офицеров, не привела к окончанию войны; сопротивление ачехцев оккупантам еще более усилилось. Неудачи в «умиротворении» Аче серьезно подорвали престиж Лаудона. Его обвиняли в неумелом и нерешительном ведении войны, причем эти обвинения выплеснулись на страницы печати как в метрополии, так и на Яве.
В августе 1873 года в Гааге сменилось правительство, и новый министр колоний попытался несколько ограничить всевластие генерал-губернатора Нидерландской Ост-Индии. Лаудон обиделся и послал в Гаагу прошение об отставке. Это произошло как раз в те дни, когда Миклухо-Маклай представил и обсуждал с ним свой меморандум о положении в Папуаковиай. Путешественник и не подозревал об этом шаге Лаудона, предпочитавшего не разглашать до поры до времени свой демарш, ожидая реакции верховных голландских властей. Но 24 декабря 1874 года в парламенте было официально объявлено, что Лаудон уходит в отставку, а на следующий день — что его преемником станет известный дипломат И.В. Лансберге[573]. В ожидании решения по своему прошению Джон Лаудон действовал крайне осмотрительно и тем более не склонен был пускаться на какие-либо авантюры.
Генерал-губернатор отклонил предложение путешественника к счастью для Миклухо-Маклая, ибо исполнение такого проекта вовлекло бы его в опасный водоворот с весьма сомнительными шансами на успех и могло стоить ему жизни. И все же этот недостаточно продуманный, по существу утопический проект стал заметной вехой на жизненном пути Миклухо-Маклая: впервые научную критику расизма он попытался дополнить практическими действиями на благо угнетенных народов. С этого эпизода начинается его многолетняя борьба в защиту человеческих прав папуасов Новой Гвинеи и других островитян Океании.
Ведя переговоры с Лаудоном, Миклухо-Маклай не забывал о своих научных исследованиях. Он использовал отдых на Яве для подготовки к печати нескольких статей: переписал и отправил в Петербург для публикации в «Известиях» РГО сообщение о путешествии на Берег Папуаковиай, написанное вчерне на Килвару[574], передал в журнал Королевского общества естествоиспытателей Нидерландской Индии первую часть большой работы по этнологии Берега Маклая и антропологическую заметку[575].
Летом 1874 года в России вновь начали беспокоиться о судьбе отважного путешественника, так как не знали, что он застрял на Молукках и Амбоине на обратном пути с Новой Гвинеи. Лишь после высадки Николая Николаевича в Сурабае телеграф принес в Европу известие о том, что он жив и прибыл на Яву. Особенно эмоционально реагировала на это известие сестра путешественника. «Ваши телеграммы и Ваше письмо получила. Спасибо за них, — написала Ольга 25 октября Александру Мещерскому из Малина. — Я была уверена, что Коля благополучно возвратится из своего путешествия. Не знаю почему, но эта уверенность была велика и не обманула меня. Никогда Коля не умрет, прежде чем мы с ним не увидимся и не передаст другим свое начатое дело. Его работа и труды не пропадут, как никогда не пропадет правое и справедливое дело, иначе наша жизнь была бы настоящей толчеей, где хорошее и дурное проходило бы так же бесследно, как и жизнь мошкары»[576].
С этого времени русские и западноевропейские естественно-исторические журналы и ведущие газеты начали отслеживать перемещения Миклухо-Маклая и публиковать сообщения о его путешествиях. В Чипанасе Николай Николаевич встретился с Одоардо Беккари, который приехал отдохнуть на Яву перед очередной экспедицией на Новую Гвинею и познакомил своего приятеля с несколькими выпусками итальянского географического журнала «Космос», присланными его издателем Гвидо Кора. Некоторые статьи и заметки о Миклухо-Маклае, появившиеся в русской печати, перевела для журнала Наталия Герцен.
Очень порадовало путешественника письмо Ф.Р. Остен-Сакена, который в те годы, как уже упоминалось, временно отошел от повседневного руководства деятельностью РГО, но оставался влиятельным членом его совета. Письмо датировано 31 марта 1874 года, но Миклухо-Маклай получил его лишь в сентябре, по возвращении на Яву. «Покорно благодарю вас за вашу добрую память и присылку интересной статьи о папуасах, напечатанной в батавском журнале, — говорилось в письме. — В последнее время возвратившийся из своего тибетского путешествия Пржевальский производит в Петербурге фурор; действительно, это замечательный путешественник, и по настойчивости, предприимчивости и неустрашимости я только вас могу поставить еще выше его. <…> С вашей легкой руки Новая Гвинея сделалась теперь модным предметом исследований»[577].
Не случайно именно Остен-Сакен убедил совет РГО оказать финансовую помощь Миклухо-Маклаю, хотя некоторые члены совета были недовольны тем, что спустя четыре года путешественник так и не приступил к изысканиям в морях, омывающих дальневосточные окраины России. Как сообщалось в «Отчете РГО за 1874 год», совет «счел своим нравственным долгом, ввиду высокой важности для общей географической науки исследований г. Маклая и редкого его самоотвержения, оказать ему некоторое денежное содействие и назначил на этот предмет из запасного капитала Общества <…> 1500 рублей»[578]. Сознавая недостаточность этой суммы ни для предполагаемого возвращения Миклухо-Маклая в Россию, ни для его новых экспедиций, совет РГО обратился в Московское общество любителей естествознания с призывом внести свой вклад в поддержку путешественника, но получил вежливый отказ.
Между тем Миклухо-Маклай начал обдумывать планы следующей экспедиции. 25 августа он написал Мещерскому, что намерен развернуть исследования на острове Ява. О глубоком интересе путешественника к этому большому густонаселенному острову, где издавна взаимодействовали разные народы и культуры, свидетельствует очерк «Один день в пути», в котором ученый рассказал о своем посещении Батавии в 1886 году. В этом очерке содержатся интересные сведения о ситуации в Нидерландской Ост-Индии, рассматриваются возможности и перспективы народного восстания против «ига белых». Но сколь велик бы ни был соблазн заняться исследованиями на Яве, Миклухо-Маклай вскоре понял, что тем самым он серьезно отступает от плана многолетней экспедиции, разработанного им в 1870 году. Ведь одна из главных задач, которые он тогда поставил перед собой, — проследить распространение папуасской расы за пределами Новой Гвинеи. На Яве не было никаких шансов наткнуться на папуасские племена, а потому идея развернуть здесь научные исследования была отброшена. «Познакомившись обстоятельно с папуасами разных местностей Новой Гвинеи, убедившись в их пребывании на Филиппинских островах, — написал путешественник 5 октября 1874 года Ф.Р. Остен-Сакену, — мне кажется важным познакомиться с жителями гор полуострова Малакки, где многими учеными предполагается присутствие папуасского (?) населения»[579]. Съездив в Батавию, он взял в местной библиотеке книги английских путешественников и исследователей, писавших о Малакке и высказывавших догадки по этому вопросу.
Читатели, вероятно, ждут рассказа о развитии отношений Миклухо-Маклая с дамами из семейства Лаудон. К сожалению, об этом деликатном предмете приходится судить лишь по нескольким коротким фразам и туманным намекам в дневнике, который Николай Николаевич вел во время путешествий по Малаккскому полуострову. В них упоминаются Л. (очевидно, Сюзетта Лаудон) и Л.Л. (Луиза Лаудон).
За время отсутствия исследователя на Яве Сюзетта повзрослела и похорошела. На ее портрете, сделанном Николаем Николаевичем 1 ноября 1874 года, она выглядит старше своих лет, миловидной и несколько надменной барышней. Похоже, ее платоническая влюбленность в Миклухо-Маклая нашла ответный отклик у русского путешественника, так как в дневнике упоминается «обещание, обоюдно данное»[580]. Между тем продолжался его роман с Луизой Лаудон, и эта щекотливая ситуация привела к взрыву накануне отъезда Николая Николаевича из Бейтензорга. На драматические события намекает следующая дневниковая запись: «Воспоминание о Богоре наполняет меня иногда очень горьким чувством. Урок: не привязываться ни к кому и не верить в других»[581]. Эта книга — не роман, а документальное повествование, что заставляет автора ограничивать полет фантазии. И все же возможны два варианта. Либо Луиза, приревновав дочь к Николаю, нашла возможность их поссорить, либо Сюзетта случайно стала свидетельницей интимных отношений матери с путешественником; потрясенная, она круто изменила свое отношение к «белому папуасу».
Несмотря на ссору, в дневнике Миклухо-Маклая несколько раз повторяется запись: «Думал о Л.». Увидев в джунглях красивые горы, он предался романтическим мечтаниям: «Этой ночью мне пришла фантазия купить для медового месяца (??) скалы Двух влюбленных»[582]. А вспоминала ли Сюзетта своего ветреного героя? Не вспыхнуло ли вновь ее чувство к нему, когда прошел шок от ссоры? Следуя викторианской морали, она едва ли делилась сокровенными мыслями на этот счет даже с сестрами. Во всяком случае, ей не довелось больше увидеться с русским ученым. В 1875 году отставной генерал-губернатор с семьей вернулся в Голландию. Лаудон вспоминает в автобиографии, что Сюзетта вышла замуж лишь в 1893 году — «перестарком», на тридцать четвертом году жизни, — за солидного господина аристократических кровей. Брак был недолгим, так как через три года Сюзетта скончалась. Причина ее смерти неизвестна.
Миклухо-Маклай, по-видимому, получил от РГО телеграфный перевод, конвертированный примерно в 200 фунтов, накануне своего отъезда с Явы. Но, не рассчитывая на серьезную финансовую помощь из Петербурга, путешественник еще до этого одолжил у X. Я. Анкерсмита, главы батавской фирмы «Дюммлер и К°», 150 фунтов стерлингов, оставив в залог коллекции, привезенные с Новой Гвинеи. Теперь у него набралось достаточно денег, чтобы отправиться в новую экспедицию. 20 ноября в сопровождении двух слуг — верного Ахмата и сунданца Сайнана, нанятого в Батавии, — Николай Николаевич отплыл из этого города на пароходе «Намоа» в Сингапур, который он решил сделать отправной точкой и базой своих путешествий по Малаккскому полуострову.
Глава одиннадцатая. В ДЖУНГЛЯХ МАЛАККИ
«В бананово-лимонном Сингапуре»
24 ноября 1874 года пароход «Намоа», на котором плыл Миклухо-Маклай, вошел в гавань Сингапура — порта на небольшом островке того же названия, находящегося у южной оконечности полуострова Малакка. Сингапур был основан в 1819 году одним из выдающихся создателей Британской империи Томасом Стэмфордом Раффлзом на месте деревушки, населенной малайскими рыбаками и пиратами. Через пять лет англичане купили весь остров у его владельца — султана Джохора. В Сингапуре сразу же стали селиться европейцы (главным образом англичане), малайцы, китайцы, индийцы, персы, арабы и люди многих других национальностей. По распоряжению Раффлза они размещались компактными группами, по национальностям, но состоятельные торговцы не были обязаны жить в кварталах своих соотечественников. В результате на центральной городской площади соседствовали дома и лавки богатых европейцев и азиатов: цвет кожи отступал перед властью денег.
Выгодное географическое положение, гибкая торговая и иммиграционная политика английских властей обеспечили быстрое развитие города-порта Сингапура. «Солнце блещет, и все блещет с ним. Какие картины вокруг! Какая жизнь, суматоха, шум! Что за лица! Какие языки! Кругом нас острова, все в зелени, прямо, за лесом мачт, видны городские здания. Джонки, лодки, китайцы и индийцы приезжают с берега на суда и обратно, пересекая друг другу дорогу» — такой увидел в 1853 году И.А. Гончаров гавань Сингапура с возвышающимися в ней островками[583]. По словам писателя, в городе и его окрестностях насчитывалось тогда около шестидесяти тысяч жителей. За два десятилетия, прошедших со времени захода в Сингапур фрегата «Паллада» до прибытия туда Миклухо-Маклая, его население удвоилось, в центре появились массивные здания, возведенные в английском колониальном стиле, открылись филиалы европейских банков, была построена большая верфь с сухими доками, на многие километры протянулись торговые склады.
Высадившись на берег, Николай Николаевич решил прежде всего поближе познакомиться с Сингапуром, который он впервые мельком увидел в 1873 году, следуя на «Изумруде» из Гонконга в Батавию. На холме, откуда открывалась великолепная панорама города и его окрестностей, размещалась резиденция губернатора. Европейский квартал состоял из уютных домов, окруженных тенистыми садами, административных зданий, банкирских контор и лавок наиболее зажиточных торговцев. Вдоль берега была проложена широкая эспланада, по которой утром и после захода солнца, когда спадал тропический зной, катались в ландо дамы из богатых семейств и прогуливались джентльмены в пробковых шлемах; они вели на поводках, словно собачек, потешно кувыркающихся обезьянок.
Но стоило путешественнику перейти по горбатому мосту через речку, впадающую в сингапурскую гавань, как он попадал в иной мир — в китайский квартал, где длинными рядами теснились друг к другу двухэтажные домишки с лавками и мастерскими внизу и жильем наверху, изобиловали харчевни и лавки менял, попадались опиекурильни, были открыты «кумирни» — буддийские и синтоистские храмы. Казалось, вся жизнь обитателей квартала проходила на улице. Здесь они стриглись и брились, обливались холодной водой, стирали белье. В тенистых закутках сидели прорицатели, писцы, которые степенно выводили причудливые иероглифы на рисовой бумаге, повсюду выступали бродячие фокусники и музыканты. Вдоль улочек были прорыты узкие канавы, по которым грязная вода и нечистоты стекались в речку или на берег моря. В устье реки скопились сотни китайских джонок, которые служили жильем и транспортным средством как источником заработка. По другую сторону от европейского квартала располагался малайский квартал с легкими домиками на сваях; стены и пол у них — из расщепленного бамбука и тростника, кровля — из сплетенных пальмовых листьев. В Сингапуре появилась и «маленькая Индия», где вокруг индуистского храма селились, преимущественно в глинобитных хижинах, неимущие единоверцы из Индостана. Сингапур чем-то напомнил Николаю Николаевичу столицу Нидерландской Ост-Индии. Но в отличие от полусонной Батавии жизнь здесь била ключом и откровенно правил бал золотой телец.
Миклухо-Маклай поселился в большой гостинице «Hotel d'Europe» («Европейский отель»), находящейся в центре города, и на следующий день решил нанести визит губернатору Стрейтссеттлментс («поселений у пролива») — образованной в 1826 году английской колонии, куда кроме Сингапура входили остров Пинанг и порт Малакка, расположенный на западном берегу Малаккского полуострова. Но оказалось, что губернатор сэр Эндрю Кларк отправился на правительственном судне для переговоров с одним из султанов. Поэтому Николай Николаевич представился его молодой жене, которая в отсутствие супруга флиртовала, по словам путешественника, с заезжим венгерским графом[584].
Ссылаясь на несметные природные богатства полуострова, прежде всего на огромные залежи олова, английские купцы неоднократно посылали из Сингапура в Лондон петиции с призывом захватить султанаты Малакки. Кларк, назначенный губернатором в сентябре 1873 года, получил задание присоединить эти султанаты к Британской империи, не ограничиваясь самым южным — Джохором, который давно уже попал в полную зависимость от британских властей. Бравый вояка, который привык действовать решительно и не боялся брать на себя ответственность за содеянное, не дожидаясь формальных инструкций из Лондона, Кларк в течение года подчинил два больших султаната в западной части полуострова — Перак и Селангор. Он ловко использовал усобицы между местными феодалами, борьбу за престолонаследие в правящих семьях, широко прибегал к запугиванию и подкупу, назначал щедрые «пенсии» покорившимся султанам, а где необходимо — применял и вооруженную силу
Кларк вернулся в Сингапур вскоре после прибытия туда Миклухо-Маклая и радушно принял русского путешественника (ввел его в свой дом, приглашал в губернаторскую ложу в театре). Он действовал не без умысла. Для него Миклухо-Маклай был не просто известным путешественником и исследователем, а человеком, который отправится во внутренние районы полуострова и соберет информацию, которая может оказаться полезной англичанам. До сих пор во многих местностях не побывал ни один европеец, а потому у губернатора и его подчиненных не было сведений об их рельефе, реках, составе и численности населения, отношениях между местными князьками и различными племенами. Главным «консультантом» Кларка был правитель Джохора Абу Бакар, награжденный британским орденом и получивший от лондонского правительства титул махараджи. Но этот малайский властитель не имел даже схематической карты своего султаната, не мог назвать точных его границ и еще меньше знал о соседних княжествах.
Пребывание в Сингапуре оказалось полезным для Миклухо-Маклая. Здесь он познакомился с лордом Артуром Гордоном, который отправлялся на острова Фиджи, чтобы занять там высокий пост британского верховного комиссара в западной части Тихого океана, и членом лондонского Королевского географического общества военным инженером Уильямом Филдингом, который, выйдя в отставку, занялся проектированием и строительством железных дорог в Юго-Восточной Азии и Австралии. Эти джентльмены впоследствии сыграли немаловажную роль в жизни Миклухо-Маклая.
В Сингапуре Николай Николаевич встретился с Луиджи д'Альбертисом, который начинал изучение Новой Гвинеи вместе с Одоардо Беккари. Путешественники обсудили волнующие их проблемы, поделились своими планами. Из Сингапура д'Альбертис отправился в залив Папуа, откуда на маленьком пароходике дважды поднимался по Флаю — крупнейшей реке Новой Гвинеи, — достигнув внутренних районов огромного острова. По своему образу действий и отношению к «туземцам» д'Альбертис был полнейшей противоположностью Миклухо-Маклаю. Этот бывший гарибальдиец оказался отъявленным расистом, жестоким и бессердечным человеком. Не желая тратить время на установление дружественных отношений с «голозадыми дикарями», итальянец пролагал себе путь, обстреливая в «профилактических целях» картечью папуасские селения, то и дело взрывая динамитные заряды. Папуасов он не запугал, но сделал их заклятыми врагами. Более того, на протяжении полувека племена, обитающие по берегам реки Флай, мстили за его злодеяния путешественникам, которые пытались обследовать эту реку и ее протоки[585].
«Европейский отель» был переполнен туристами и коммивояжерами, останавливающимися здесь по пути в страны Востока или возвращающимися в Европу. Николаю Николаевичу докучали шум и суета, а по ночам его нередко будили крики и песни подгулявших постояльцев. Поэтому он принял приглашение Абу Бакара переселиться в его дворец в городе Джохор-Бару, столице Джохора, чтобы там продолжить подготовку к путешествию в джунгли Малакки. Узнав об этом, Кларк поручил махарадже максимально содействовать русскому путешественнику.
Миклухо-Маклай за полтора часа пересек в двухколесном экипаже остров Сингапур, а затем — на маленьком пароходе, присланном за ним махараджей, — узкий пролив, отделяющий остров от южной оконечности Малаккского полуострова. На вершине невысокой скалы, нависшей над проливом, находился дворец Абу Бакара; к нему вела широкая, отделанная мрамором лестница.
«Сам дворец представлял прекрасное двухэтажное здание, — вспоминает английский турист, оказавшийся там одновременно с Миклухо-Маклаем. — Вокруг нижнего этажа шла большая площадка, окруженная красивой резной каменной колоннадой; а над этой площадкой находилась веранда, на которую выходили все спальни»[586]. Парадные комнаты были украшены зеркалами и портретами британских царствующих особ и обставлены изысканной европейской мебелью. Обед, которым угостили Миклухо-Маклая и других иностранцев, мог поспорить с подаваемым в дорогом английском ресторане. Вскоре появился сам хозяин — в сюртуке от известного английского портного, но в разноцветной чалме и саронге (малайской одежде наподобие юбки). Абу Бакар прекрасно говорил по-английски, бывал в Великобритании и охотно перенимал европейские технические нововведения, но оставался верен некоторым обычаям и религии предков. Он жил на широкую ногу не только благодаря «пенсии», выплачиваемой английскими властями, но и от доходов с лесопильного завода и оловянных рудников, где работали китайцы. Махараджа по-прежнему получал феодальные подати от своих подданных, для которых он оставался повелителем, наделенным сакральной властью. Но реальные рычаги управления Джохором находились не у Абу Бакара, а у его «секретаря» англичанина Хоула, приставленного к нему губернатором Стрейтссеттлментс.
Абу Бакар снабдил Николая Николаевича охранной грамотой, написанной по-малайски арабской вязью. В ней всем джохорским чиновникам и старостам деревень предписывалось всемерно помогать «высокородному господину по имени Маклай», который желает осмотреть леса, видеть и рисовать населяющих их людей[587]. В ответ путешественник обещал махарадже составить для него карту пройденного пути. Неизвестно, выполнил ли он это обещание.
В 1874-1875 годах Николай Николаевич совершил два путешествия по Малаккскому полуострову. Смерть помешала ему подготовить дневники этих путешествий к публикации. До нас дошел путевой дневник лишь первой экспедиции, включающей также пребывание в Сингапуре и Джохор-Бару, хотя из письма-отчета Николая Николаевича в РГО видно, что он исправно вел дневник и во время второго путешествия по Малакке. Но сохранились записные книжки и записи на соединенных суровыми нитками листках, а также статьи и письма, написанные, что называется, по горячим следам. Выявленные материалы позволяют составить достаточно ясное представление об этом периоде жизни нашего героя.
Путешествие по Джохору
15 декабря 1874 года Миклухо-Маклай в сопровождении Хоула выехал на канонерской лодке махараджи к устью реки Муар и поднялся по ней до укрепленного поселения Линга (Ленга). Начальник этой «станции», прочитав грамоту, данную путешественнику Абу Бакаром, сказал, что готов выполнить все его пожелания, и обещал быстро подобрать людей, которые могут быть носильщиками и гребцами. 17 декабря канонерка с Хоулом ушла в Джохор-Бару, и на следующий день Николай Николаевич приступил к путешествию по джунглям Малакки.
Миклухо-Маклай, его двое слуг и нанятые им малайцы плыли вверх по Муару в больших плоскодонках, снабженных навесами из сплетенных пальмовых листьев. На пятый день они добрались до деревни Кепонг, где сменились носильщики и гребцы, а местный старшина вызвался лично сопровождать именитого путешественника до следующей малайской деревни. Дальнейший путь пролегал по узкому притоку Муара. Приходилось разбирать завалы, лавировать между пнями и лианами. Путешествие происходило в сезон дождей, многочисленные ручьи и речки вышли из берегов. Николай Николаевич с удивлением заметил, что лодки незаметно вышли из речного русла в затопленный водой лес. Продвигаясь на восток, отряд нередко делился на две части: одни люди тащили лодки, освобожденные от груза до ближайшей речки, другие вместе с Миклухо-Маклаем несли поклажу, передвигаясь по пояс в воде, прорубали тропинки через чащобы, сооружали мостки для перехода через речку и особенно заболоченные участки. Так добирались до очередной деревни, где обычно происходила смена носильщиков и проводников. Здесь можно было хоть на время просушить одежду и поспать в стоящей на высоких сваях хижине. Но малайские деревни в этой местности были очень редки, а потому часто приходилось ночевать в лесу на пригорке, где для Николая Николаевича сооружали подобие шалаша, крытого прорезиненным полотнищем.
Путешественник внимательно приглядывался к образу жизни, нравам и обычаям малайцев в посещенных им деревнях, но основное внимание уделял поиску и изучению оранг-утанов (по-малайски «лесные люди»), которые, как он полагал, могут быть родственны папуасам Новой Гвинеи и аэта Филиппин и, как эти племена, относиться к «меланезийской расе». Он справедливо не доверял рассказам малайцев о «лесных людях», в которых трудно было отличить правду от вымысла. «Лесные люди» в Джохоре в большинстве своем принадлежали к древним насельникам Малакки — протомалайским племенам джакунов. Малайцы выделяли среди них «ручных» (оранг-утан-дина) и «диких» (оранг-утан-лиар). Первые мало чем отличались от малайцев, общались с ними и вели полукочевой образ жизни, вторые скитались в джунглях, старались никогда не показываться на глаза малайцам и только при посредстве «дина» получали нужные им предметы малайского происхождения. По просьбе Миклухо-Маклая старосты малайских деревень устраивали ему встречи с «лесными людьми», а позже, в дебрях Малакки, исследователь иногда сам наталкивался на временные поселения «лесных людей», обычно расположенные на лесной поляне или речном берегу. В этих случаях он устраивал привал на день или двое суток и погружался в изучение оранг-утанов.
Николая Николаевича прежде всего интересовал их антропологический тип. Он проводил измерение голов, описывал физиологические особенности, брал образцы волос, определял по специальной шкале цвет их кожи. С большой тщательностью ученый составлял словарики ключевых слов их диалектов, отмечая сходство и отличие от малайских эквивалентов (к этому времени Миклухо-Маклай основательно изучил малайский язык). В течение дня ученый обычно делал краткие заметки и наброски будущих рисунков, а вечером при свете факела вносил более подробные записи в дневник, а зарисовки превращал в более тщательно проработанные рисунки. Несколько десятков таких рисунков уцелели и представляют большой интерес не только в научном, но и в художественном отношении. У путешественника произошли три короткие встречи с оранг-утан-лиар.
Продвигаясь далее на восток поперек полуострова Малакка, Миклухо-Маклай достиг реки Сомбронг, притока Индау (Эндау), и по последней спустился к побережью Южно-Китайского моря. В устье Эндау находился джохорский укрепленный поселок с военным гарнизоном. Отдохнув на этой «станции» и пополнив запасы риса и хинина, Николай Николаевич повернул обратно вглубь страны. Добравшись до реки Маде (Мадек), другого притока Сомбронга, он направился на юг, в сторону Джохор-Бару. Теперь путешественник плыл по мелководным речкам в маленькой плоскодонке, вмещавшей трех-четырех человек, тогда как носильщики с грузом шли посуху по прибрежным тропинкам.
Прекратившийся было дождь пошел с удвоенной силой. У Николая Николаевича участились пароксизмы малярии, которые он глушил большими дозами хинина. Длительное пребывание в воде и атмосфера, насыщенная влагой, спровоцировали, как он писал, приступы ревматизма. Малярия вновь атаковала и Ахмата. В этой непростой обстановке путешественник не только не пал духом, но, судя по дневнику, временами находился в приподнятом настроении, так как местные условия напоминали ему те, в которых он жил на Новой Гвинее. «Нахожу, что я положительно чувствую себя отлично во всех отношениях при таком образе жизни, — записал он 24 января. — Чем долее я живу в тропических странах, тем более они мне нравятся. Лес, который меня окружает теперь, так хорош, что не только описать его не могу, но даже не могу подыскать для него подходящего прилагательного, поэтому употребляю самые обыкновенные. Несколько раз, несмотря на безветрие, я слышал сегодня падение больших деревьев в лесу, что я уже замечал в Гвинее»[588].
Бессонными ночами, ворочаясь в волглой одежде на своем неудобном ложе под назойливое зудение москитов, Николай Николаевич предавался лирическим мечтаниям — вспоминал женщин и девушек, которых встречал на своем жизненном пути, обдумывал планы новых экспедиций. Впрочем, лирические образы возникали не только в мечтаниях и сновидениях, но и наяву. Во временном поселке «лесных людей» на реке Лундан Николаю Николаевичу приглянулась девочка лет тринадцати, по имени Мкаль, и он нарисовал ее портрет. Путешественник почувствовал, что и ей понравился таинственный чужеземец. Мкаль не отходила от него ни на шаг, а вечером, когда Миклухо-Маклай делал записи в дневнике, она уселась рядом и пристально смотрела на него затуманенным взглядом. «Положительно здесь девочки рано становятся женщинами, — гласит запись в дневнике, — и имеют то превосходство над европейскими, что во всех отношениях натуральнее и откровеннее. Я почти убежден, что если я ей скажу: "Пойдем со мною", заплачу за нее ее родственникам — роман готов»[589]. Мы не знаем, как прошла ночь, но наутро, когда наступило время продолжить путешествие, Мкаль по собственной инициативе взяла тяжелый короб с провизией и, улыбаясь, пошла вместе с Николаем Николаевичем по скользким, шатающимся мосткам к его лодке. Вероятно, она надеялась сопутствовать Маклаю. «Странное дело, — признался путешественник, — я бы охотно взял бы эту девочку»[590]. Но соображения о прозе жизни — а может, и неугасшее чувство к Сюзетте Лаудон — остановили исследователя. Что станет с Мкаль в Джохор-Бару, Сингапуре, а потом на Яве? Кодекс чести, которого придерживался Миклухо-Маклай, не допускал и мысли о том, чтобы бросить девочку на произвол судьбы или продать ее в гарем малайского вельможи. Пока поселок «лесных людей» не исчез за поворотом, Николай Николаевич видел Мкаль, которая в одиночестве стояла на краю мостков.
Добравшись до реки Джохор, путешественник быстро спустился по ней до города Котатингги. Ландшафт изменился: кругом виднелись рощи плодовых деревьев, сады и плантации. Эту местность населяли малайцы. Но Николай Николаевич увидел тут много китайцев, которые работали в оловянных рудниках, заготовляли и транспортировали ценные породы дерева. В Котатингги русского путешественника приветствовали представители махараджи. На парусном судне, присланном за ним Абу Бакаром, Николай Николаевич прибыл в Джохор-Бару и утром 2 февраля 1875 года перебрался через пролив в Сингапур. В тот же день в местной газете появилось интервью с Миклухо-Маклаем. В нем кратко описывались ход и результаты путешествия, которое заняло 50 дней, и намечалась программа следующей экспедиции. Телеграфные агентства разнесли известие о возвращении путешественника из джунглей Малакки по всему миру.
Бангкок — город контрастов
По возвращении в Сингапур Николай Николаевич собирался после короткого отдыха отправиться в новую экспедицию на Малаккский полуостров, на сей раз в султанаты, расположенные к северу от Джохора. Но плачевное состояние здоровья, которое он почувствовал, когда спал эмоциональный подъем, помогавший переносить все тяготы путешествия, заставило его отложить на несколько месяцев эту экспедицию. Особенно беспокоило его состояние ног, которые опухли от беспрестанных укусов комаров, пиявок и других насекомых и ношения сырой обуви. К тому же в правой ступне развилось сильное воспаление от укола шипом какого-то растения, пропоровшим подметку ботинка. Врач в Сингапуре избавил путешественника от этого воспаления, но многочисленные ранки и потертости на ногах плохо излечивались, мешали при ходьбе, он хромал на правую ногу. Врач назначил различные мази и припарки, посоветовал поменьше ходить и вести спокойный образ жизни.
Миклухо-Маклай пренебрег советами сингапурского эскулапа. Губернатор сэр Эндрю Кларк 12 февраля отправился на своей паровой яхте «Плутон» с визитом в Бангкок — столицу королевства Сиам, и путешественник воспользовался его приглашением, чтобы осмотреть этот город, расположенный в устье реки Менам, и познакомиться с местным населением. Миклухо-Маклай надеялся, что морская прогулка благоприятно повлияет на его здоровье. Он стал первым русским ученым, посетившим Сиам и оставившим о нем краткие, но интересные заметки[591].
Николай Николаевич находился в Бангкоке девять дней, с 17 по 26 февраля. Несмотря на сорокаградусную жару и боль в ноге, он обошел город, побывал в большом буддийском монастыре, осмотрел культовые сооружения и скульптуры, сделал беглые зарисовки антропологического типа сиамцев, познакомился с искусством местных ремесленников. После полуторавековой изоляции Сиам в начале XIX века вступил на путь модернизации и развития контактов с европейцами. Николай Николаевич обнаружил в Бангкоке немало европейских купцов, преимущественно немцев; здесь появились консулы некоторых западных держав. Но Россия не поддерживала тогда никаких отношений с этим королевством.
Продолжая политику своего отца, молодой король Чулалонгкорн (Рама V) посылал десятки молодых сиамцев знатного происхождения на учебу в Европу, завел войско, вооруженное, обмундированное и обученное на европейский лад, копировал многие детали европейского этикета. Это «обезьянничанье», по словам Миклухо-Маклая, нередко принимало смешные, даже уродливые формы. Так, в дворцовом комплексе, состоявшем из старинных жилых построек и культовых сооружений, главное здание было выстроено в стиле итальянского Ренессанса, придворные дамы представляли «смесь французского с сиамским», а королевские гвардейцы обливались потом в мундирах из толстого сукна.
Поселившиеся в Бангкоке европейцы рассказали Николаю Николаевичу немало былей и небылиц о придворных нравах и гареме Чулалонгкорна. «Я сам видел молодого короля только издали, — записал в дневнике Миклухо-Маклай. — Одни говорят, что он умен, и ожидают многое от него. Другие уверяют, что он совершенно потаскан, имел уже много жен уже несколько лет. Замечательно то, что он, как говорят, насильно употребляет одну из своих полусестер, которая почему-то не захотела своего братца в мужья»[592].
Составив негативное представление о двадцатилетнем монархе, путешественник под благовидным предлогом уклонился от назначенной ему аудиенции, но через секретаря министра иностранных дел получил нужный ему документ — письмо (охранную грамоту) сиамского короля правителям находившихся от него в зависимости нескольких султанатов Малаккского полуострова. «В письме король приказывал всем своим вассалам, — вспоминал впоследствии Миклухо-Маклай, — оказывать мне всякую услугу и пособие и доставлять в случае нужды по моему требованию людей и вообще средства для путешествия»[593].
Справедливости ради добавим, что правы были те собеседники Николая Николаевича, которые возлагали большие надежды на молодого короля. Каковы бы ни были особенности его личной жизни, с именем Чулалонгкорна, правившего Сиамом с 1868 по 1910 год, связаны многочисленные реформы, имевшие целью модернизацию социальной структуры, укрепление центральной власти и развитие экономики страны. Эти реформы способствовали сохранению независимости Сиама (ныне Таиланд) в период усиленной колониальной экспансии европейских держав[594].
В Сингапуре и Джохор-Бару
Как уже упоминалось, Николай Николаевич отправился с Кларком в Бангкок не только потому, что захотел побывать в Сиаме, но и в надежде, что морское путешествие благоприятно скажется на его здоровье. Надежда не оправдалась. Он вернулся 4 марта в Сингапур более хворым, чем до поездки. Длительные пешеходные прогулки по раскаленным от жары улицам Бангкока снова вызвали воспаление в правой ступне.
Осмотрев больного, врач назначил новый курс лечения и велел соблюдать постельный режим.
Узнав о затруднительном положении, в котором оказался Миклухо-Маклай, почетный консул России в Сингапуре китаец Вампоа пригласил путешественника пожить в его пригородной усадьбе, и Николай Николаевич с благодарностью принял это предложение.
Вампоа (1816 — 1880) — знаковая фигура в истории Сингапура. Его настоящее имя — Ху Акей. В юности он переселился из Южного Китая в Сингапур и стал здесь известен как Вампоа, по месту своего рождения, поселку близ Кантона. Сначала он был подмастерьем у своего отца, но вскоре открыл собственную лавку. Благодаря недюжинной деловой хватке, быстрому овладению английским языком, усвоению основ и многих премудростей европейской рыночной экономики Вампоа уже в молодости сколотил значительное состояние. Начав с розничной торговли, он дополнил ее реэкспортом товаров, поступавших в Сингапур из Европы и стран Востока, стал одним из наиболее крупных и уважаемых «шипчендлеров» — агентов по обслуживанию иностранных судов, заходивших в его новое отечество. Имя этого негоцианта встречается в книгах и рапортах практически всех русских моряков и путешественников, посещавших Сингапур в середине XIX века. Со временем Вампоа стал почетным консулом не только России, но и Китая и Японии, одним из неформальных лидеров сингапурских китайцев, членом законодательного совета при губернаторе.
Вампоа хорошо разбирался в хитросплетениях международной политики, знал и ценил достижения европейской культуры и охотно использовал ее материальные атрибуты, но при этом оставался верен религии и многим обычаям предков. Даже на официальные приемы у губернатора он приходил в традиционной китайской одежде, с привязной косой. Вампоа прославился широким гостеприимством. Он любил принимать в своей пригородной усадьбе капитанов и офицеров заходивших в порт судов, и эта усадьба стала одной из достопримечательностей Сингапура. Господский дом в ней был окружен великолепным садом, который поражал воображение богатством и разнообразием деревьев, кустов и цветов, произрастающих в тропиках. «Вампоа, — писал И.А. Гончаров, — мастерски, с умом и любовью, расположил растения в своем саду, как картины в галерее». Еще замечательнее, по словам Гончарова, был усадебный дом: «Европейский комфорт и восточная роскошь подали здесь друг другу руку»[595]. Хозяин постепенно собрал у себя большую коллекцию изысканных образцов восточного, преимущественно китайского искусства.
Вампоа поселил Николая Николаевича в саду, в гостевом домике — комфортабельной постройке, главная комната которой, опирающаяся на сваи, была расположена над прудом. По указанию хозяина прислуга заботилась о госте, снабжая его изысканными блюдами китайской и европейской кухни. Соседство с прудом несколько умеряло днем тропический зной, но по вечерам и ночью было причиной значительного беспокойства. «Жители <…> пруда, многочисленные лягушки с очень зычным голосом, положительно доводят меня до невозможности работать, — сообщил в Петербург Миклухо-Маклай. — К нескончаемым руладам лягушек присоединяются голоса стаи собак, сторожащих сад и дом, и пронзительный хор мириад комаров, которые, привольно развиваясь в пруду, наполняют по вечерам голодными стаями мостообразную комнату». «Путешественник пытался не обращать внимания на эти концерты», но терял под их влиянием связь мыслей, не мог думать даже понимать прочитанное[596].
Поэтому, когда отек на ноге спал и появилась возможность понемногу ходить, Николай Николаевич, вежливо поблагодарив Вампоа за гостеприимство, перебрался в Джохор-Бару, куда его опять пригласил Абу Бакар. Но и здесь путешественнику не повезло: дворец махараджи ремонтировали арестанты, закованные в тяжелые цепи. К лязганью цепей присоединялись стукотня каменщиков, плотников и слесарей, громкие разговоры и смех многочисленной прислуги махараджи. Этот шум нервировал усталого путешественника, который превыше всех жизненных благ ценил покой и тишину. Но и в Джохор-Бару он не терял времени даром, а приводил в порядок, систематизировал и вносил дополнительные записи в материалы своего первого путешествия по джунглям Малакки, продолжал работу над рукописью «Этнологических заметок о папуасах Берега Маклая». Более того, неудобства, которые путешественник испытывал в сингапурском отеле, дворце Абу Бакара и усадьбе Вампоа, побудили его к действиям: Николай Николаевич решил основать зоологическую (морскую биологическую) станцию на южной оконечности Малаккского полуострова, то есть осуществить на практике идею, которую он убедительно обосновал в 1869 году на съезде русских естествоиспытателей.
Миклухо-Маклай присмотрел недалеко от Джохор-Бару небольшой холм, который образует мысок в Джохорском проливе, отделяющем Сингапур от Малаккского полуострова, и попросил махараджу продать этот участок. Абу Бакар с чисто восточной учтивостью не стал отказывать именитому гостю. Но никакой купчей составлено не было, причем Николай Николаевич, — проявив в очередной раз легкомыслие и непрактичность в делах, — удовлетворился словесным согласием махараджи и не предложил без промедления подготовить соответствующий документ.
Воспользовавшись вынужденной отсрочкой новой экспедиции «по случаю все еще больной ноги и возвращающейся часто лихорадки», путешественник набросал правила пользования станцией и даже начертил эскиз ее здания — легкой постройки с двумя большими комнатами и подсобными службами. «Прежде всего эта станция Тампатсенанг (по-малайски — место покоя) должна служить для меня, — писал Миклухо-Маклай, — в мое отсутствие и после моей смерти я отдаю ее в распоряжение каждого изучающего природу <…> без различия национальностей, но только мужского пола». Ученый был настолько предусмотрителен, что позаботился о будущем своего детища. Он предполагал указать в завещании, что наследники не вправе продавать Тампатсенанг, должны сохранять его как научную станцию и не вырубать окружающий лес[597].
Явно опережая события, Николай Николаевич решил оповестить о создании Тампатсенанга естествоиспытателей всего мира. Он сделал это в апреле 1875 года в форме написанного по-немецки открытого письма своему коллеге Антону Дорну, который, как упоминалось выше, основал большую зоологическую станцию в Неаполе. Выполняя просьбу своего русского друга, Дорн разослал копии письма в несколько научных журналов и ведущим гидробиологам. Кроме того, Николай Николаевич отправил английский перевод письма сэру Томасу Хаксли с просьбой посодействовать его скорейшей публикации в журнале «Nature» («Природа»). Текст письма он представил газете «Сингапур дейли тайме»[598]. Нечего и говорить о том, что русскую версию открытого письма Дорну путешественник послал в Петербург, где она была полностью напечатана в «Известиях» РГО и получила отклик в различных периодических изданиях, даже в журнале для учащихся «Семья и школа»[599].
Вскоре, однако, выяснилось, что, приняв желаемое за действительное, Миклухо-Маклай напрасно поспешил с сообщением об учреждении Тампатсенанга. После двухмесячных уверток и недомолвок Абу Бакар — вероятно, по наущению своего английского «советника» — известил путешественника, что не может продать земельный участок для строительства станции, а согласен лишь сдать его в аренду на несколько лет, притом с такими ограничениями, которые были неприемлемы для Миклухо-Маклая. Николаю Николаевичу пришлось, что называется, дать отбой. В начале июня он отправил новое письмо Дорну, в котором нехотя признал провал своего начинания, признавшись в то же время, что учреждение зоологической станции было и остается для него важным, но «побочным» делом. Путешественник не лукавил. Он прочитал в сингапурских газетах, что Англия собирается аннексировать восточную часть Новой Гвинеи, и стал обдумывать, как помочь папуасам. Но прежде всего нужно было завершить поиски «меланезийских» племен в районах полуострова, расположенных к северу от Джохора. Почувствовав себя лучше, он решил безотлагательно отправиться в новую, более длительную и опасную экспедицию в джунгли Малакки.
Вторая экспедиция в джунгли Малакки
Миклухо-Маклай начал свое второе путешествие по Малаккскому полуострову в сложной политической обстановке. Английские резиденты и их помощники в покоренных султанатах Перак, Селангор и федерации Негрисембилан постепенно брали всю власть в свои руки. Это вызывало недовольство местных феодалов и глухое брожение среди крестьянства, на плечи которого легли новые налоги и подати, введенные англичанами. Доброжелатели в Сингапуре предупреждали Николая Николаевича, что его ждут большие опасности, так как бесцеремонные действия английских чиновников вызвали неприязнь к европейцам на всем полуострове, и он может поплатиться жизнью, если будет сочтен за английского шпиона. Но 15 июня 1875 года путешественник отправился из Джохор-Бару в новую экспедицию. По «совету» из Сингапура Абу Бакар предоставил ему лодки и два десятка гребцов и носильщиков во главе с мелким чиновником, так что Николай Николаевич на сей раз смог взять с собой побольше груза, в том числе палатку, койку, стул и даже довольно большой стол, который «служил везде предметом чрезвычайного удивления населения, сбегавшегося к моим бивуакам посмотреть на человека с белой кожей и диковинными вещами»[600].
Поднявшись по реке Джохор, а затем по другим речкам до реки Эндау, путешественник добрался до северных пределов владений Абу Бакара. Здесь, на стыке султанатов Джохор и Паханг, Николай Николаевич столкнулся с враждебными отношениями между вассальными князьками обоих султанатов, доходившими до вооруженных набегов и увода в полон населения целых деревень. Эти междоусобицы порождали всеобщее недоверие, которое, распространяясь и на «белого господина», мешало его передвижениям и особенно исследованиям. В этой обстановке Миклухо-Маклай прибегнул к тактике, которая помогла ему в первый, самый трудный период пребывания на Берегу Маклая: приближаясь к деревне, он заранее предупреждал о своем появлении и старался показать свои мирные намерения. Разумеется, теперь он не свистел, а посылал в селение несколько сопровождающих его малайцев. Они сообщали местному феодалу: «Дато (по-малайски "высокородный") Маклай путешествует по всем странам малайским и другим, чтобы ознакомиться, как в этих странах люди живут, как живут князья и люди бедные, люди в селениях и люди в лесах; познакомиться не только с людьми, но и с животными, деревьями и растениями в лесах»[601]. Как и на Новой Гвинее, Николай Николаевич поднимал свой престиж и завоевывал уважение, с успехом применяя свои медицинские познания. Более того, его провожатые — вероятно, не без его ведома — рассказывали всем, что «белый господин» имеет «талисман здоровья». Поэтому по утрам возле его палатки или хижины, в которой он провел ночь, собиралось множество пациентов. «Чаще всего, — вспоминал путешественник, — мужчины просили дать им или их женам лекарство, чтобы у них родились сыновья, а женщины, напротив, просили помочь им избавиться от необходимости рожать»[602].
Миклухо-Маклай поднялся против течения по Эндау на запад, в горный район, где, по словам малайцев, обитало много «диких лесных людей». Но река, стекая с гор, изобиловала порогами, и у одного из них сил его людей оказалось недостаточно, чтобы протащить лодку через высокие выступы скал. Совершая вылазки в примыкающие к реке леса, путешественник встретил несколько групп «лесных людей», в том числе малорослое племя с вьющимися волнистыми, а не курчавыми, волосами, говорящее на немалайском диалекте.
Оказавшись за пределами султаната Джохор, люди, выделенные путешественнику по приказу Абу Бакара, робели и умоляли отпустить их домой, а иногда, чтобы добиться своего, устраивали своего рода «итальянские забастовки». Николаю Николаевичу пришлось подчиниться. Со своими слугами и немногими оставшимися с ним малайцами он быстро спустился на лодках к устью Эндау, где находилось джохорское укрепленное поселение. Отсюда на парусном судне он перебрался в Пекан — столицу султаната Паханг, который был одной из главных целей его путешествия.
В Пекане Николай Николаевич встретился с правителем Паханга, которому рассказал о своих намерениях примерно то, что сообщали его люди в малайских селениях. Узнав, что Абу Бакар выделил путешественнику в помощь 20 — 25 человек, султан горделиво ответил, что Паханг больше Джохора, а потому он может дать, если нужно, 40 человек. Миклухо-Маклай здесь и при других встречах с малайскими властителями всячески подчеркивал, что он не англичанин, а знатный человек из далекой России. Как сообщил путешественник в РГО, наиболее просвещенные малайцы слышали про эту страну, но почему-то считали, что она — вассал мусульманской Турции[603]. Охранная грамота сиамского короля, показанная Николаем Николаевичем, была воспринята правителем Паханга недружелюбно и лишь усилила его подозрительность, так как он стремился преодолеть зависимость своей страны от Сиама. Выделив обещанных людей, лодки и другое снаряжение, он постарался поскорее избавиться от странного и потенциально опасного чужеземца. На прощание он попросил Миклухо-Маклая письменно подтвердить, что тот по своей воле отправился в глубинные горные районы, так как не может быть ответственным за «диких», чьи отравленные стрелы мгновенно убивают людей и животных.
Путешественник со своими спутниками поднялся по реке Паханг до ее притока реки Тамилен (Тембелинг), пешком пересек невысокий горный хребет (легкие лодки и поклажу тащили носильщики-малайцы) и добрался до верховьев реки Лебе (Лабир). Здесь в сильно пересеченной местности, на стыке султанатов Паханг, Келантан и Тренгану, он обнаружил в нескольких местах «лесных людей», по своим антропологическим признакам близких, по его мнению, к аэта острова Лусон и папуасам Новой Гвинеи. «Эти люди, — писал Миклухо-Маклай, — которые, вероятно, являются представителями первоначальной расы этих областей, по своему типу принадлежат к меланезийскому племени. Ведя бродячий образ жизни, уходя под напором малайцев все дальше в горы и леса полуострова, они остались несмешанными и еще сохранили свой собственный язык»[604].
Лебир — приток большой реки Келантан, которая дала (как Джохор и Паханг) имя соответствующему султанату. По этой реке, несущей свои воды в Южно-Китайское море, путешественник добрался до ее устья, вблизи которого находилась столица султаната — город Кота-Бару. Николай Николаевич осмотрел этот город, известный буйволиными и бараньими боями и искусством своих ремесленников, зарисовал султанский дворец, построенный в классическом малайском стиле. Здесь его принял султан Ахмад, с которым произошел примерно такой же разговор, как с правителем Паханга. Хотя султан был удивлен и смущен приходом «дато Маклая» в свои владения, он не отказался выделить нужных людей для переноски вещей.
Теперь Николай Николаевич находился у границы с королевством Сиам. Не отказываясь от своей главной цели — исследования аборигенного населения полуострова, — он все более втягивался в изучение культуры, нравов и обычаев малайцев, взаимоотношений правителей здешних государств, стал искать различия между малайцами и сиамцами (тайцами). Передвигаясь то пешком, то на лодках, то спускаясь на плотах по бурным стремнинам, он посетил маленькие феодальные владения Тандион (Танджонг), Теба (Тена), Чена (Чана) и Ялор (Яром), расположенные на территории Сиама, совершив при этом несколько зигзагов по внутренним районам полуострова. Их правители, в отличие от султанов Паханга и Келантана, ознакомившись с охранной грамотой короля Чулалонгкорна, прониклись уважением к русскому путешественнику и с готовностью выполняли все его пожелания. В конце сентября Николай Николаевич добрался до сиамского города Сонгкла (Сингоро), где его радушно принял губернатор. Путешественник задумал пройти посуху до Бангкока, но приближение сезона дождей заставило его отказаться от этого намерения. По хорошей дороге на слонах, представленных в его распоряжение сиамскими властями, Миклухо-Маклай за четыре дня пересек полуостров в его узкой части и прибыл в Кота-Ста (Алорсетар) — столицу султаната Кедах, находившегося в вассальной зависимости от Сиама. 5 октября с острова Пенанг, входящего в Стрейтссеттлментс и расположенного у побережья Кедаха, Николай Николаевич отправил телеграмму в Петербург, в РГО, где уже начали беспокоиться о судьбе путешественника: «Пересек зигзагообразно полуостров Малакку. <…> Результаты удовлетворительные»[605]. Эта телеграмма с соответствующими комментариями была воспроизведена в русских и иностранных газетах.
Посетив по пути порт Малакка на западном побережье полуострова, Миклухо-Маклай 9 октября 1875 года прибыл на английском пароходе в Сингапур.
Научные результаты двух экспедиций
Во время второй экспедиции Николай Николаевич проводил изыскания в столь же широком диапазоне и в основном теми же методами, что и при путешествии по Джохору. Его путевые дневники, записные книжки, рисунки и тщательно составленные словарики ключевых слов диалектов «лесных людей» — крупный вклад в антрополого-этнографическое изучение аборигенов Малаккского полуострова.
Опираясь на собственные наблюдения и существовавшую в то время научную литературу по этой проблематике, исследователь пришел к выводу, что в Джохоре он встретил смешанные племена, преимущественно джакунов, со значительной примесью малайской крови, но со следами их меланезийского происхождения, тогда как в глубинных районах к северу от Джохора он, по его мнению, обнаружил племена сакаев (сеноев) и семангов — чистое, несмешанное ответвление меланезийцев. Эти взгляды, находившиеся в русле тогдашних научных представлений, во многом устарели. Как сообщает петербургский ученый-малаист Е. В. Ревуненкова, следующие поколения исследователей, изучавшие сложную историю заселения полуострова несколькими волнами мигрантов, существенно изменили и дополнили схему, намеченную Миклухо-Маклаем. В современной теории рас преобладает классификация, в которой выделяются негритосский, собственно меланезийский и папуасский типы, входящие в меланезийскую расу. Древнейшее население Малаккского полуострова — негрито (семанги). Следующую волну переселенцев составили сенои австро-меланезоидного происхождения, которые стояли на более высокой ступени развития первобытного общества, чем негрито. Джакуны — потомки первых малайских пришельцев в Индонезию и Малакку. Современные ученые относят к негрито и аэта Филиппин. Таким образом, у Миклухо-Маклая были некоторые основания считать семангов, аэта и обитателей островов Меланезии (но не папуасов) антропологически родственными народами.
Под влиянием своих информаторов-малайцев Николай Николаевич нередко неточно указывал в своих записях этническую принадлежность встреченных им «лесных людей» и допускал другие неточности. Но его записи — кладезь бесценной информации для специалистов-этнографов. Так, русский ученый, сам того не подозревая, оказался первооткрывателем племен семелай и темок, говорящих на сенойских языках, и маленького семангского племени батак-де, которое и в наши дни представляет редкий тип охотников и собирателей, сравнимых с австралийскими аборигенами. Отрывочные записи Миклухо-Маклая об этих племенах — уникальный исторический источник.
Николай Николаевич неоднократно подчеркивал, что ознакомление с малайцами — основным населением Малаккского полуострова — представляет для него второстепенный интерес по сравнению с изучением аборигенных племен. Но в его дневнике и записных книжках содержится огромный материал о малайцах, населяющих султанаты Малакки. Особенно много сведений он собрал во время второго путешествия. «В эти три месяца, — говорится в его письме-отчете в РГО, — я получил, я думаю, более верное понятие о малайцах и их характере, чем во время почти 3-летнего пребывания в голландских колониях Малайского архипелага»[606].
Но если в статьях, опубликованных в 1875 — 1876 годах, путешественник довольно подробно рассказал об аборигенах Малакки, то в них практически полностью отсутствует информация об основном населении полуострова. Это объясняется сложившейся там обстановкой и идейно-политическими взглядами автора.
Вернувшись в Сингапур после второй экспедиции, Миклухо-Маклай узнал из местных газет и разговоров со знакомыми ему европейцами, что в Пераке, а затем и в других султанатах, покоренных в 1874 году англичанами, начались вооруженные восстания. Военный гарнизон, расквартированный в Сингапуре, и полицейские отряды не смогли справиться с восставшими, и тогда из Индии и Гонконга были присланы 1600 солдат и несколько десятков артиллерийских орудий. Сбросив с себя личину «цивилизаторов» и друзей малайцев, британские власти безжалостно расправились с повстанцами: несколько мятежных деревень было сожжено, свирепствовали военно-полевые суды, руководители восставших, не успевшие бежать в другие султанаты, были повешены. Совершающиеся злодеяния потрясли Миклухо-Маклая. Путешественник серьезно задумался над тем, что может произойти на Берегу Маклая в случае появления там британских поселенцев.
«Путешествие в Малайском (Малаккском. — Д. Т.) полуострове, — писал он секретарю РГО, — дало мне значительный запас сведений, важных для верного понимания политического положения стран малайских радий (раджей. — Д. Т.). Все пункты, как то: знание сообщений между странами, образ путешествия, степень населенности, характер малайского населения, отношение радий между собою и к своим подданным и т. п., могли иметь для англичан в то время (перед началом последней экспедиции в Перак) немалое значение. Но вторжение белых в страны цветных рас, вмешательство их в дела туземцев, наконец или порабощение, или истребление последних, будучи в совершенном противоречии с моими убеждениями, я не мог ни в коем случае, хотя и был в состоянии, быть полезным англичанам против туземцев.
Я знал, что некоторые из радий, которых гостеприимством я пользовался, уверившись, что я не англичанин, а человек из большой, но далекой страны, не считали нужным слишком не доверять и притворяться относительно меня; я почел бы сообщение моих наблюдений, даже под покровом научной пользы, положительно делом нечестным. Малайцы, доверявшие мне, имели бы совершенное право назвать такой поступок шпионством. Поэтому не ожидайте найти в моих сообщениях об этом путешествии что-либо касающееся теперешнего status quo, социального или политического, Малайского полуострова»[607].
Впрочем, губернатор Сингапура Уильям Джервис и его чиновники не собирались ждать, пока выйдут в свет публикации русского путешественника: времени было в обрез, они нуждались в оперативной информации. Неужели барон Маклай, которому они помогали в подготовке экспедиций при посредстве Абу Бакара и посулили дать в аренду островок для устройства зоологической станции, откажется снабдить их сведениями, нужными для скорейшего подавления «мятежей» и успешного проникновения в Паханг, Келантан и Тренгану? На Николая Николаевича, несомненно, оказывалось давление. Поэтому уже через три недели после возвращения из второй экспедиции наш герой покинул «город лавочников», как он окрестил Сингапур, и отплыл на рейсовом пароходе в Батавию.
Глава двенадцатая. «ТРИБУН ДИКИХ ПАПУАСОВ»
Угроза с юга
Пока Миклухо-Маклай путешествовал по джунглям Малакки, тучи колониальной агрессии начали сгущаться над восточной частью Новой Гвинеи. В 1870-х годах наибольшая угроза его обитателям исходила из английских самоуправляющихся колоний в Австралии. Там в переселенческой среде быстро набирала силу буржуазия, которая видела в Новой Гвинее поле для выгодного приложения своих капиталов, включая создание плантаций тропических культур, а также источник дешевой полурабской рабочей силы для сахарных плантаций в самой Австралии. Выросшая и окрепшая в немалой степени благодаря «золотой лихорадке», которая потрясла в 1851 — 1861 годах пятый континент, эта буржуазия рассчитывала, кроме того, найти на огромном острове, расположенном на северных подступах к Австралии, новое эльдорадо.
«Из того весьма немногого, что я знаю сам, и из того, что смог узнать от других, — заявил, например, М. Хенран, один из наиболее активных сторонников захвата этого острова, — можно предполагать, что она (Новая Гвинея. — Д. Т.) превратится в богатое поле для плантаторов. <…> Великолепный сахарный тростник и другие тропические растения, выращиваемые туземцами, — приманка, которая привлечет внимание тех, кто пожелает начать и усовершенствовать выращивание риса, сахарного тростника и других продуктов. Наибольшее затруднение, с которым плантатору придется столкнуться в этой стране, будет состоять в подыскании рабочей силы для подъема целины. Для этого могут подойти островитяне Южных морей <…> и уж, конечно, новогвинейские туземцы. Хорошо известно, что на Новой Гвинее имеются золотоносные породы»[608]. Аргументы Хенрана напоминали доводы двух немецких колонистов, которые привел в 1869 году Аугуст Петерман в уже знакомой нам статье «Новая Гвинея. Немецкие призывы из антиподов».
Как сообщал в Лондон британский верховный комиссар в западной части Тихого океана сэр Артур Гордон, среди австралийских бизнесменов имелись влиятельные группы, непосредственно заинтересованные в аннексии восточной Новой Гвинеи. «Я имею в виду, — указывал Гордон, — сахаропроизводителей Севера и судовладельцев, занятых в так называемой островной торговле»[609]. Сахарные плантаторы Квинсленда и судовладельцы, обосновавшиеся главным образом в Сиднее и других портах колонии Новый Южный Уэльс, оказывали большое влияние на местное правительство и более широкие слои европейских поселенцев, особенно многие тысячи золотоискателей, оставшиеся не у дел после окончания «золотой лихорадки» (добыча золота продолжалась, но не в россыпях, а в глубоких шурфах и шахтах, что было под силу только крупным компаниям, владевшим специальными машинами и механизмами). «Даешь Новую Гвинею!» — этот призыв звучал на митингах, устраиваемых в прибрежных городах и поселках золотоискателей, излагался в петициях, подаваемых правительствам Квинсленда, Виктории и Нового Южного Уэльса. Представление о том, что Новая Гвинея — богатая кладовая полезных ископаемых, особенно золота, крепко засело в сознании многих австралийских любителей легкой наживы.
Попытки организовать колонизационную экспедицию на Новую Гвинею начались в Австралии еще в середине 1860-х годов. В январе 1872 года из Сиднея к новогвинейским берегам отправился бриг «Мэри» с большой группой золотоискателей, но этот корабль потерпел крушение на Большом Барьерном рифе. В следующем году английский капитан Джон Морсби, совершавший на военном судне «Бэзилиск» рекогносцировочные плавания вдоль берегов Новой Гвинеи, обнаружил на ее юго-восточном побережье и назвал именем своего отца, адмирала Ф. Морсби, удобную гавань с большим папуасским селением (ныне Порт-Морсби). Уже в следующем году здесь начали действовать английские миссионеры.
Новый этап в истории англо-австралийского проникновения на Новую Гвинею начался в 1874 году, когда притязания австралийских экспансионистов были поддержаны в Лондоне Королевским колониальным институтом — рупором и орудием наиболее агрессивных кругов британской буржуазии. Получив от одного из основателей института письмо с призывом аннексировать восточную часть Новой Гвинеи, министр колоний лорд Карнарвон отправил копии губернаторам английских колоний в Австралии с предписанием сообщить мнения местных правительств по этому вопросу. Все колонии высказались за аннексию.
Двумя месяцами позднее Карнарвон отправил в Австралию новый циркуляр, запрашивая, согласны ли местные правительства финансировать британскую экспансию в Океании. Ответы были уклончивые или отрицательные: австралийские политики предпочитали, чтобы имперское правительство само несло все издержки. Но еще до того, как эти ответы были получены в Лондоне, британский кабинет в декабре 1875 года принял решение повременить с аннексией Восточной Новой Гвинеи, поскольку ей в то время не угрожали другие державы. Правительство Дизраэли, занятое европейскими делами и проводившее активную колониальную политику в других регионах мира, не желало форсировать дальнейшую экспансию в южных морях. Заместитель министра колоний Р. Херберт так комментировал политику своего правительства в Океании: «Дальнейшие аннексии произойдут в надлежащее время; но сообщать миру (Германии, Соединенным Штатам, Франции и др.), что мы уже теперь это замышляем, значило бы погубить все дело и помешать спокойному приобретению господствующего влияния на островах»[610].
Однако распространение слухов о богатствах Новой Гвинеи привело к тому, что отдельные авантюристы все чаще планировали «освоить» остров на свой страх и риск. В 1876 году в Лондоне была создана Новогвинейская колонизационная ассоциация, которая намеревалась отправить на остров большую вооруженную экспедицию. Ее руководитель лейтенант Роберт Армит выпустил брошюру, в которой, ссылаясь на воззрения антропологов-расистов, объявил обитателей Новой Гвинеи ответвлением негроидной расы, неспособной к самостоятельному развитию, и этим обосновал «право» созданной им ассоциации хозяйничать в краю папуасов. Бравый лейтенант утверждал, что у него много высокопоставленных сторонников. Однако проект Армита не был осуществлен, так как английское правительство отказалось санкционировать его. Примечательно, что этот искатель удачи намеревался обосноваться на северо-восточном побережье, в районе залива Астролябия, где климат и рельеф, по его словам, наиболее благоприятны для европейских колонистов. Не называя по имени русского путешественника, Армит намекал, что Россия имеет виды на эту часть Новой Гвинеи. Проект Армита — пусть неосуществленный — показывает, что Николай Николаевич не зря беспокоился о судьбе папуасов Берега Маклая.
Путешественник начинает борьбу
Когда Миклухо-Маклай вернулся в Сингапур из своего первого путешествия по Малакке, газеты широко обсуждали новогвинейскую проблему, причем казалось, что лондонское правительство склоняется к аннексии. Газетные сообщения встревожили ученого. 24 мая 1875 года он отправил письмо П.П. Семенову, фактически руководившему деятельностью РГО. По косвенным данным, в этом не дошедшем до нас письме исследователь сообщил о своем намерении сплотить «в одно целое» обитателей Берега Маклая, чтобы противостоять британской аннексии, а также просил выяснить, поддержит ли русское правительство его начинание. Не получив ответа, Миклухо-Маклай по возвращении из второго путешествия по Малакке послал 28 октября новое письмо Семенову.
«Известие о намерении Англии занять ½ Новой Гвинеи и вместе с тем, вероятно, Берег Маклая, — писал ученый, — не позволяет мне остаться спокойным зрителем этой аннексии. <…> Вследствие настойчивой просьбы людей этого Берега я обещал им вернуться, когда они будут в беде; теперь, зная, что это время наступило и что им угрожает большая опасность (так как я убежден, что колонизация Англии кончится истреблением папуасов), я хочу и должен сдержать слово. <…> Не как русский, а как Тамо-боро-боро (наивысший начальник) папуасов Берега Маклая я хочу обратиться к Его Императорскому Величеству с просьбой в покровительстве моей страны и моих людей и поддержать мой протест против Англии. <…> Будучи неопытен во всех этих делах, т. е. официальных вопросах, я решаюсь обратиться к Вашему Превосходительству и, надеюсь, не получу отказ»[611].
Разъясняя смысл этого обращения к царю в письме Семенову, написанном в январе 1878 года, ученый подчеркивал, что отнюдь не помышлял о русской колонизации Берега Маклая.
«Что мне казалось (и кажется) желательным, — писал он, — был "протекторат" части Новой Гвинеи, которой жители через мое посредство подчинятся некоторым международным обязательствам и которые, в случае насилий со стороны белых, имели бы законного могущественного покровителя»[612]. Отсюда видно, что Миклухо-Маклай, прослушавший курс международного права в Гейдельбергском университете, понимал протекторат как особое отношение между сильным и слабым государствами, заключающееся в том, что первое должно защищать последнее, а последнее, даже оказывая определенные услуги первому, остается суверенным, то есть независимым. Однако в последней трети XIX века, по мере усиления колониальной экспансии европейских держав, под протекторатом стали все чаще понимать господство, даже «особый род завладения территорией»[613]. Вероятно, именно так истолковали в Петербурге предложение Миклухо-Маклая. Пройдет немного времени, и Николай Николаевич освоится с таким пониманием термина «протекторат».
О реакции в РГО и российском МИДе на письмо ученого от 24 мая никаких данных найти не удалось. Но, как свидетельствуют архивные материалы, Семенов, получив письмо от 28 октября, переслал его в МИД. В сопроводительном письме он просил указаний, как отвечать путешественнику на его запрос, продиктованный известием «о намерении Англии занять часть Новой Гвинеи» и желанием «предотвратить от папуасов пагубное для них влияние английской колонизации»[614].
В связи с этим запросом в департаменте внутренних сношений МИДа, только что возглавленном Ф.Р. Остен-Сакеном, была подготовлена обстоятельная записка «О русском путешественнике Миклухо-Маклае». Документ, предназначенный для доклада царю, готовился очень тщательно; в его редактировании участвовал сам канцлер — престарелый князь А.М. Горчаков. В записке отмечалось, что «благодаря необыкновенной силе воли, прямоте характера и умению обращаться с дикарями» путешественник сумел в 1871 — 1872 годах приобрести огромное влияние на папуасов Берега Маклая. В дальнейшем он «часто имел случай наблюдать пагубное влияние европейской цивилизации, когда она приходит в соприкосновение с первобытными порядками диких островитян». В документе отдавалось должное «бескорыстным, истинно человеческим стремлениям» Миклухо-Маклая, но предлагалось отклонить его просьбу о протекторате. Ознакомившись с запиской, Александр II одобрил содержащийся в ней вывод[615]. Такое решение было предсказуемым: отвергнув в 1870 году колонизационный проект барона Каульбарса, русское правительство предпочитало и дальше воздерживаться от колониальной экспансии в далеких южных морях. Что же касается Остен-Сакена, то, став директором департамента, он неукоснительно придерживался политического курса верховной власти и, сохраняя благожелательное отношение к Миклухо-Маклаю, скептически относился к его проектам.
24 декабря 1875 года товарищ (заместитель) министра иностранных дел Н.К. Гире направил Семенову «доверительное» письмо, в котором говорилось: «Ввиду отдаленности этой страны и совершенном отсутствии там русских интересов предложение Миклухо-Маклая не может быть никоим образом принято нашим правительством. Такое решение подлежит еще тем соображениям, что участь Новой Гвинеи решится в ближайшем будущем, так как не только Англия, но и Голландия заявляют притязания на этот остров»[616].
Предупредив в письме от 29 октября о своем намерении вскоре отправиться на Новую Гвинею, Миклухо-Маклай попросил Семенова безотлагательно прислать телеграмму с намеком, «на что я могу надеяться со стороны русского правительства»[617]. Однако вице-президент РГО, возможно не без умысла, предпочел сообщить о решении правительства письмом. Оно было отправлено в феврале 1876 года, но получено исследователем почти два года спустя, уже по его возвращении с Берега Маклая. Помимо изложения позиции «Высшей Инстанции», Семенов выразил в письме сожаление, что путешественник, по-видимому, переходит «с почвы научной на почву чисто практическую». Рассказывая впоследствии о научной и общественной деятельности Миклухо-Маклая, Семенов назвал нашего героя «трибуном диких папуасов»[618].
Но как добраться до Берега Маклая? На русское военное судно на сей раз рассчитывать не приходилось. Оставалась одна возможность: найти торговую шхуну, совершающую плавание на острова северо-западной Меланезии, владелец или фрахтователь которой согласится за плату доставить путешественника в залив Астролябия. У Николая Николаевича, как обычно, не было денег на оплату проезда и закупку снаряжения для новой экспедиции. X. Я. Алкерсмит, глава батавской фирмы «Дюммлер и К0», все более настойчиво напоминал о возврате долгов, по которым набегали значительные проценты. Но друзья познакомили русского путешественника с другим голландским коммерсантом — банкиром, купцом и судовладельцем К. Шомбургком, обосновавшимся в Сингапуре. Этот негоциант согласился — разумеется, небескорыстно — отправить Миклухо-Маклая на зафрахтованной шхуне «Си берд» и ссудить средствами для закупки необходимых припасов. Шхуна должна была уйти в очередной «островной» рейс из яванского порта Черибон в феврале 1876 года. Место и время отправки устраивали Миклухо-Маклая. Покинув Сингапур, где он «боялся невольно, мимоходными замечаниями даже, повредить делу малайцев»[619], Николай Николаевич получил три месяца, чтобы отдохнуть на Яве, по возможности поправить свое здоровье перед новой экспедицией и подготовить несколько публикаций.
Новый генерал-губернатор Нидерландской Ост-Индии ван Лансберге любезно принял в Батавии именитого путешественника, дал указание помочь ему приобрести земельный участок для создания зоологической станции[620], но не пригласил — в отличие от Лаудона — погостить в своей резиденции в Бейтензорге. Николая Николаевича привлекали туда романтические воспоминания, освежающий, хотя и коварный, микроклимат этого города-парка. Стесненный в деньгах, он снял просторный, но ветхий домик в кампонге (деревне) Эмпанг близ Бейтензорга.
Тишина и спокойствие, а также прогулки в тенистом парке и по окрестным холмам восстановили душевное равновесие и способствовали научному творчеству. Ученый продолжил разработку собранных материалов об аборигенах Малаккского полуострова. Его две статьи по этим вопросам, появившиеся на немецком языке в батавских научных журналах, как и опубликованное там ранее сообщение о путешествии по Джохору, были перепечатаны в переводе на английский язык в Сингапуре в журнале местного отделения Королевского азиатского общества[621].
Прежде чем покинуть полюбившуюся ему Яву, Миклухо-Маклай позаботился также о том, чтобы пополнить корпус публикаций о двух своих новогвинейских экспедициях. Николай Николаевич наконец полностью завершил и передал в журнал Королевского общества естествоиспытателей Нидерландской Индии вторую часть «Этнологических заметок о папуасах Берега Маклая» — труда, которому суждено было остаться самым крупным его исследованием по этнографии Северо-Восточной Новой Гвинеи. В другом батавском научном издании появилось его сообщение о языках ковиайцев. Кроме того, Николай Николаевич отправил выдающемуся французскому врачу и антропологу Полю Брока статью о начатках искусства у папуасов Берега Маклая. Эта любопытная, хорошо иллюстрированная статья была напечатана в журнале Парижского антропологического общества[622].
Тогда же Миклухо-Маклай послал Вирхову для публикации в его журнале три небольших сообщения. Два из них были посвящены сексуальным обычаям даяков острова Борнео (ныне Калимантан). В них описывались ампаланги — палочки с шариками на обоих концах, которые вставляются через специально проделанные отверстия в мужской половой член, чтобы увеличить сексуальное возбуждение женщины. «Что половое влечение способно на многое — это старый, многократно доказанный факт, — писал Николай Николаевич в сопроводительном письме, имея, очевидно, в виду и собственный опыт, — но то, что оно заставляет мужчину делать такие вещи, превосходит все, о чем я раньше слышал и читал»[623].
Из писем и газет, посылаемых ему из России, Миклухо-Маклай узнал, что некоторые «патриотически вдохновленные мужи» упрекают его за то, что большинство статей он публикует на иностранных языках, и просил Остен-Сакена и секретаря РГО защитить его от этих нападок. Путешественник объяснил, что с юности предпочитает не писать, а диктовать свои работы, править продиктованные тексты и отдавать их тому же писарю для подготовки беловика. В Сингапуре и на Яве невозможно было найти русского писаря. К тому же он считает необходимым внимательно читать корректуру (и, добавим, вносить в нее изменения и дополнения), что исключалось в случае отправки рукописей в Россию. Впрочем, известность Миклухо-Маклая на родине выросла настолько, что его статьи — дословно или в изложении — довольно быстро появлялись в журналах и газетах в переводе на русский язык.
В письме Вирхову от 23 ноября 1875 года Николай Николаевич — как медик медику — описал симптомы своих недугов: «Я сильно страдаю от малярии, которая приняла замаскированную форму; меня очень беспокоят невралгии тройничного нерва (I и III ветки); к тому же значительная анемия (следствие лишений во время последнего путешествия) вызывает слишком частые и потому очень тяжелые припадки головокружения»[624]. Путешественнику удалось, как он и предполагал, за два месяца справиться с анемией «при помощи рациональной диеты + препаратов железа + большого покоя». Возьмем на заметку поражение тройничного нерва — одного из основных в голове человека. Быть может, уже тогда начиналась страшная болезнь, которая свела в могилу «белого папуаса».
В январе 1876 года Миклухо-Маклай переселился в Чери-бон — портовый город на северном побережье Явы — и, поселившись в гостинице, начал приобретать снаряжение и припасы для экспедиции в ожидании прихода шхуны «Си берд». Отправляясь на Новую Гвинею, чтобы попытаться защитить своих друзей — обитателей Берега Маклая, путешественник не упускал из виду ситуацию в Папуаковиай. Из Черибона он отправил письмо генерал-губернатору Лансберге, в котором сообщил, что осенью представил его предшественнику записку о социальном и политическом положении папуасов Берега Папуаковиай. «В этом письме, — говорилось в послании, — упоминалось, между прочим, о существовании настоящей торговли рабами, которых вывозит с Новой Гвинеи и для коих сборным пунктом служит о-ва Серам-Лаут. Преждевременный отъезд <…> генерал-губернатора Лаудона был, вероятно, причиной того, что мое письмо покоится в архиве без надлежащих последствий». Николай Николаевич просил «во имя человечности и справедливости» принять какие-то меры для облегчения печального положения жителей данных областей[625]. На копии этого письма, сохранившейся в бумагах нашего героя, имеется его пометка о том, что по возвращении из второй экспедиции на Берег Маклая он получил в 1878 году следующее сообщение от X. Левисон-Нормана, одного из советников генерал-губернатора: «Рабство в Тернате и Тидоре будет отменено в будущем году»[626]. Однако в действительности долговое рабство в этом районе сохранялось вплоть до XX века.
Перед отправлением в плавание на «Си берд» Николай Николаевич расстался со своими слугами — сунданцем Сайнаном и «папуасенком» Ахматом. Вместо Сайнана, негативно проявившего себя в джунглях Малакки, путешественник нанял яванца Сали, который имел поварские навыки. Почему Миклухо-Маклай не взял с собой Ахмата? Возможно потому, что рассчитывал найти более подходящего слугу на островах Океании. Надо думать, путешественник на прощание одарил, чем мог, верного Ахмата, подаренного ему султаном Тидоре, и выправил своему «рабу» необходимые документы. Дальнейшая судьба Ахмата неизвестна.
18 февраля «Си берд» покинул Черибон и спустя две недели вышел на просторы Тихого океана. Накануне отплытия Николай Николаевич послал Семенову новое письмо. Посетовав на то, что он так и не дождался ответа из Петербурга на свой вопрос, хотя князь Мещерский сообщил, что такой ответ был отправлен, Миклухо-Маклай заявил: «Каково бы ни было, однако же, содержание этого письма, сущность моего мероприятия или моего нового путешествия не могла бы быть изменена»[627].
Письмо Мещерского, о котором упомянул Миклухо-Маклай, до нас не дошло. Вероятно, Александр хотя бы намекнул в нем о вероятном решении властей предержащих и посоветовал другу-путешественнику полагаться на собственные силы. Впрочем, само молчание Семенова, уклонившегося от отправки телеграммы «с намеком», было достаточно красноречивым. В своей тесной каюте, страдая от качки, Николай Николаевич размышлял о том, как, действуя в одиночку, защитить своих темнокожих друзей. После продолжительного обдумывания путешественник избрал такой образ действий: превратить «его Берег» из «ничьей территории», не захваченной ни одной из европейских держав, в субъект международного права, для чего объявить о создании там межплеменного союза, некоего квазигосударства, и в качестве главы этого объединения обратиться к правительствам европейских стран с призывом уважать независимость Берега Маклая.
17 марта путешественник написал для отправки Остен-Сакену любопытный документ — «Отрывок из письма г-на Н.Н. Миклухо-Маклая к князю Ал. Ал. Мещерскому в С.-Петербург». Вызывает сомнение сам факт существования такого письма: его черновик отсутствует в бумагах Миклухо-Маклая. Во всяком случае, текст, отправленный Остен-Сакену, — не частное письмо, а послание, рассчитанное на международный резонанс, на самую широкую, причем не только русскую, аудиторию.
«Я нахожусь в настоящее время на пути к Берегу Маклая, — говорилось в этом «Отрывке», — где думаю поселиться с целью, сообразно моему обещанию, стараться, чем и как могу, быть полезным туземцам, т. е. не допустить, насколько будет возможно, чтобы столкновение европейской колонизации с черным населением имело бы слишком гибельные последствия для последних (как, например, это случилось в Тасмании, продолжается в Австралии и будет, вероятно, на островах Фиджи). Я надеюсь, что общественное мнение всех честных и справедливых людей будет для моего дела достаточным покровительством и охраною против бесправных притязаний правительств и против несправедливых и насильственных поступков разных европейских эксплуататоров и искателей обогащения и личных выгод всеми средствами и путями». Путешественник подчеркнул, что попытается «один и без ничьей помощи» защитить своих «черных друзей, отстоять их независимость в случае европейского вторжения». «Если, несмотря на все старания, — продолжал он, — мои усилия окажутся тщетными, научные исследования и наблюдения в этой мне уже отчасти знакомой стране вознаградят, может быть, мои жертвы <…> если нет — сознание, что сдержал данное слово, будет достаточною наградою моего предприятия»[628].
Этот «Отрывок» Миклухо-Маклай приложил к письму Остен-Сакену, датированному 26 марта. «Надеясь, что читая первый или один из первых в Европе о моем решении, — писал он «многоуважаемому Феодору Романовичу», — Вы согласитесь, что только слабость характера или трусость перед препятствиями и опасностями могли бы помешать мне сдержать слово. <…> Надеюсь и не сомневаюсь, что Вы согласитесь, что мое, или, вернее, наше (мое и моих черных "proteges") дело правое, и пожелаете нам успеха». Далее следовали ключевые строки, раскрывающие замысел нашего героя: «Высадившись на Берегу Маклая, я пошлю письма мои и телеграмму "Голосу" с известием о моем возвращении и объявлением, что Папуасский Союз на Берегу Маклая желает остаться независимым и будет до крайней возможности протестовать против европейского вторжения»[629].
Это письмо Остен-Сакену, отправленное в апреле — вместе с пачкой других писем — с капитаном шхуны «Скотленд», возвращавшейся с островов Палау в Гонконг, дошло до Петербурга к лету 1876 года. В ноябре, когда Петербурга достигло известие, что путешественник прибыл на Берег Маклая, в «Голосе» появилась редакционная статья «Значение деятельности Миклухо-Маклая». «Международное Телеграфное Агентство, — говорилось в статье, — обнародовало на днях телеграмму из Сингапура, извещавшую, что русский путешественник Мик-луха-Маклай снова высадился на северном берегу Новой Гвинеи. Наша печать не обратила внимания на это крайне важное известие. Считаем необходимым объяснить значение возвращения нашего смелого и неутомимого путешественника на остров, где он провел более года среди туземного населения, папуасов».
Далее статья почти дословно повторяла уже знакомую нам записку об ученом, подготовленную в декабре 1875 года департаментом внешних сношений МИДа. Статья заканчивалась абзацем, который осторожный Горчаков вычеркнул из текста, предназначенного для доклада царю: «Если посреди всех разнообразных, своекорыстных интересов, которые сталкиваются теперь на Новой Гвинее, нашему соотечественнику, Миклухо-Маклаю, удастся сплотить в одно целое разбросанное население северо-восточного берега и образовать самостоятельную колонию — это будет, во всяком случае, большая заслуга перед человечеством. Для нас не может не быть утешительною мысль, что представителем бескорыстных, истинно человеческих стремлений в этих далеких странах является русский человек»[630].
Как расценить эту акцию русской дипломатии? Похоже, МИД решил косвенно, в очень осторожной форме поддержать Миклухо-Маклая, чтобы, не давая ему никаких гарантий, оставить за собой возможность в будущем использовать его деятельность на Новой Гвинее в российских интересах, например как пешку в какой-нибудь сложной дипломатической игре.
Долгий путь до Берега Маклая
Путешественнику пришлось добираться до Берега Маклая кружным путем — через Западную Микронезию и Северо-Западную Меланезию. Для меновой торговли и заготовки трепанга шхуна «Си берд» посетила за четыре месяца острова Ули-ти, Палау, Яп, Адмиралтейства, Хермит и Ниниго. Здоровье Миклухо-Маклая, как обычно, оставляло желать лучшего. В письме Вирхову, написанном во время этого плавания, он сообщал, что его особенно беспокоит малярия, постоянно поддерживаемая «новыми заражениями», и ее осложнения — «гиперемия печени» и «тумор селезенки». О поражении тройничного нерва на сей раз речи не было, но в дневниковой записи от 2 июня 1876 года говорится о «лихорадке в форме сильнейшей невралгии». Несмотря на недомогание, путешественник использовал малейшую возможность для проведения исследований. Он внимательно наблюдал островитян, посещавших «Си берд», а там, где шхуна задерживалась на неделю-другую, съезжал на берег, селился в ближайшей деревне и, не щадя своего здоровья и пренебрегая опасностями, погружался в изучение местного населения.
Антрополого-этнографическое изучение обитателей Западной Микронезии и Северо-Западной Меланезии еще только начиналось, и Миклухо-Маклай явился одним из пионеров этих изысканий. Не зная местных языков, Миклухо-Маклай использовал в качестве переводчиков нескольких европейских «тредоров» (торговцев), поселившихся на островах, а также тех островитян, которые, поработав матросами на европейских судах, немного говорили по-английски. Наиболее подробные сведения Миклухо-Маклай сообщает об островитянах Палау и Япа, где он пробыл примерно по две недели[631]. Можно только поражаться разнообразию и обилию информации, которую он успел собрать на этих островных группах. Пища, одежда (или ее отсутствие), украшения, татуировка, традиционное оружие и орудия труда, парусные лодки, постройки, погребальные сооружения, вожди разных рангов, свободные общинники и зависимые, которых ученый назвал рабами, жрецы, колдуны и шаманы, представления о загробной жизни, жены и наложницы, войны, охота за головами, культ предков — вот неполный перечень тем, которые получили отражение в этнографических записях и рисунках Миклухо-Маклая.
Следуя за автором по мощенным коралловыми плитами «улицам» яванских деревень, мы как бы окунаемся в прошлое. Возле домов с двускатными крышами — большие каменные диски с высверленными отверстиями посередине. Это фе — каменные деньги, которые вскоре стали известны во всем мире благодаря описаниям, рисункам и музейным экспонатам, привезенным Миклухо-Маклаем и немецкими путешественниками.
Николай Николаевич выяснил, что вожди атоллов, расположенных к востоку от Япа, находятся в даннической зависимости от япских правителей, живущих в деревне Гочена (Гатчепар). Ежегодно в сезон юго-восточных ветров в Гатчепар прибывала целая флотилия парусных каноэ с этих атоллов. Они привозили дань: юбки, набедренные повязки и пояса, искусно сотканные из банановых и кокосовых волокон, изделия из раковин. Когда ветер менял свое направление, флотилия отправлялась в обратный путь, увозя менее ценные ответные дары. В дальнейшем этнографы исследовали феномен, описанный Миклухо-Маклаем, назвав, без достаточных на то оснований, эту часть микронезийского островного мира «япской империей».
Мужские дома, в которых проводили ночь женатые мужчины и юноши, где хранились оружие и разные сакральные предметы, путешественник впервые наблюдал на Берегу Мак-лая. Мужские («клубные») дома, принадлежавшие большесе-мейным общинам, которые Николай Николаевич осмотрел на Палау и Япе, были гораздо больше астролябских и имели более сложные функции, что, по-видимому, отражало более высокий уровень общественного развития микронезийцев по сравнению с папуасами. Вместе с мужчинами в этих домах жили юные наложницы, которых члены «клубов» сообща покупали или захватывали в других деревнях. Положение этих прелестниц, развлекавших и ублажавших своих хозяев, не считалось унизительным, они были избавлены от всех тяжелых работ. Через несколько лет, освоив все секреты и премудрости своего «ремесла», эти девушки обычно выходили замуж и переселялись в семейные хижины своих мужей.
На Япе путешественник ночевал за легкой перегородкой в одном из мужских домов, обитатели которого каждый вечер пели и плясали далеко за полночь. Как видно из его черновой записи, просыпаясь на рассвете, он видел парочки, которые занимались любовью, накрывшись большой циновкой[632]. По словам Миклухо-Маклая, члены «клубов» не разрешали иностранцам пользоваться своими наложницами, но по приказу вождя или за бутылку рома рядовой общинник уступал на ночь свою жену. В статьях, написанных для «Известий» РГО, разумеется, ничего не говорится о том, прибегал ли к такой услуге сам путешественник.
Методы сбора информации, применявшиеся Миклухо-Маклаем во время плавания на «Си берд», позволив за короткое время получить большой массив сведений о жителях посещенных островов, имели и негативные последствия: в этих текстах встречаются неточности и явные недоразумения. Так, путешественник не заметил различий между мужскими домами, которых в деревне обычно было несколько (по числу болыиесе-мейных общин), и домом собраний — массивной постройкой в центре деревни, где собирались на совет вожди и главы общин. Николай Николаевич перепутал титул и имя верховного вождя деревни Малегиок и всего округа Артингал (Нгателигал) на острове Бабелтуап в архипелаге Палау. Он повсюду пишет о то-моле Раклае, тогда как в действительности вожди этого округа носили титул раклай, а Томоль (правильнее Темол) — имя ра-клая, правившего в Малегиоке при Миклухо-Маклае[633].
Между тем Николай Николаевич подружился с этим вождем и даже приобрел у него (скорее получил разрешение использовать в будущем) два маленьких участка плодородной земли. Кроме того, именно в Малегиоке путешественник нанял двух слуг — молодого островитянина по имени Мёбли, которому предстояло быть гребцом, охотником и рыболовом, и двенадцатилетнюю девочку Миру (племянницу раклая), на которую возлагались стирка и уборка по дому. Впрочем, на приглянувшуюся ему Миру, рано созревшую, как это часто случается в тропических широтах, у путешественника были и другие виды. Еще на Яве Николай Николаевич собирался взять с собой временную жену-малайку, чтобы избежать проблем, с которыми он сталкивался во время первого пребывания на Берегу Мак-лая. Эта затея не осуществилась, и теперь он решил сделать своей наперсницей юную островитянку. По прибытии на «Си берд» на Берег Маклая путешественник осторожно признался Мещерскому: «Не посылаю портрета моей временной жены, который обещал в последнем письме, потому что таковой не взял, а микронезийская девочка Мира, которая со мной, если и будет таковой, то не ранее года»[634]. А в 1878 году, посылая портрет Миры своей сестре Ольге, он сделал на обороте приписку: «Подробности о Мире узнаешь со временем из моих дневников»[635].
Плавая на «Си берд», Миклухо-Маклай столкнулся с трагической действительностью — захватом в рабство, спаиванием, ограблением и убийством островитян европейскими и американскими моряками и торговцами. Шкипер шхуны Дэвид О'Киф, которого ученый в одном из писем назвал «бесчестным мерзавцем, готовым на всякие подлости»[636], жестоко обращался с матросами-яванцами, третировал служивших на шхуне европейцев, а островитян Океании, вообще едва ли считая за людей, бессовестно обманывал, грабил, травил собакой, топил в море заболевших микронезийцев, завербованных для заготовки трепанга на островах близ экватора. Миклухо-Маклай очень страдал, будучи бессилен что-либо изменить, но и в этой гнетущей обстановке не прекращал научных исследований.
«Злоупотребления и насильства, которые позволяют себе тредоры и шкипера, происходят главным образом вследствие недостатка гласности и полной безнаказанности», — писал ученый. Поэтому, не ограничившись изложением научных результатов плавания на «Си берд», он рассказал в своих статьях и отчетах о злодеяниях О'Кифа и подобных ему шкиперов и торговцев. Более того, как вспоминал Миклухо-Маклай, в письме вице-председателю РГО П.П. Семенову, написанном 15 июня 1876 года во время пребывания шхуны у островов Ниниго, он выступил «с проектом учреждения станций военных судов для интернационального покровительства туземцев островов Тихого океана <…> в надежде, что дело слабых и притесненных найдет в Европе, тем или иным путем, отголосок и неожиданную помощь»[637].
Призыв Миклухо-Маклая не получил никакого отклика. По-видимому, в МИДе предпочитали не втягивать Россию в международные акции на Тихом океане. По этой же причине осталась тогда неопубликованной статья Миклухо-Маклая «Несколько слов о ловле трепанга на островах западной части Тихого океана близ экватора». В ней путешественник не только привел потрясающие факты о бесчинствах и злоупотреблениях шкиперов и торговцев, но и сообщил о своем проекте создания международных военно-морских станций, изложенном в письме Семенову от 15 июня. Обнаруженное в архиве РГО, это письмо было впервые напечатано в 1939 году[638].
Обстановка на шхуне была настолько отвратительной, что у Миклухо-Маклая возникла мысль остаться на островах Хер-мит или Ниниго и продолжить плавание на другом судне. Но он отказался от этого намерения, поняв, что «весьма мало шансов скоро выбраться отсюда»[639]. Наконец 27 июня шхуна доставила Николая Николаевича в залив Астролябия. «Туземцы, — записал в дневнике Миклухо-Маклай, — были очень образованны, но нисколько не изумлены моему приезду, будучи вполне уверены, что я сдержу слово. Когда я съехал на берег в Горенду, в непродолжительном времени туземцы соседних деревень, не исключая женщин и детей, сбежались приветствовать меня»[640]. Началось второе, самое продолжительное пребывание путешественника на Берегу Маклая.
Глава тринадцатая. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА БЕРЕГ МАКЛАЯ
Высадившись 28 июня 1876 года в заливе Астролябия, Николай Николаевич на сей раз поселился на мыске Бугарлом, в нескольких минутах ходьбы от деревни Бонгу. За шесть дней его слуги под руководством плотника «Си берд» и с помощью десятков местных жителей построили домик на высоких сваях, имевший около десяти метров длины и пяти метров ширины; стены и пол для него были привезены в разобранном виде на шхуне. «Верхний этаж, — сообщал Николай Николаевич, — состоит из комнаты и веранды, между тем как нижний, который также имеет стены (но сквозные) частью из досок, частью из бамбука, образует мою препаровочную для анатомических работ, мой кабинет для антропологических измерений и складочный магазин для припасов. Люди и кухня помещаются в отдельной хижине шагах в десяти от дома, наконец, для шлюпки построена третья хижина»[641].
Складная мебель, привезенная еще из России и Германии, дополненная в Батавии и Сингапуре, китайские циновки, пустые ящики, трансформированные в полки и шкафы, размещенные в строгом порядке оружие и инструменты, керосиновая лампа с большим абажуром и ночник, который путешественник изготовил в Гейдельберге, — все это превратило «европейско-малайско-папуасский дом <…> в достаточно удобное помещение»[642].
С помощью папуасов возле дома была расчищена площадка, на которой посадили кокосовые пальмы, бананы и хлебные деревья, а также папайю и ананасы, привезенные Миклухо-Маклаем. На вскопанных участках посеяли новые для астролябцев продовольственные культуры — кукурузу, тыквы, арбузы и огурцы. Помогая в посадке, а затем в уходе за этими растениями, островитяне научились их возделывать и, когда созрели первые плоды, оценили их питательность и вкусовые качества. Уже через несколько месяцев новые растения начали выращивать на своих огородах и плантациях обитатели близлежащих деревень и острова Били-Били, и вскоре эти полезные нововведения распространились по Берегу Маклая и прилегающим к нему районам Новой Гвинеи.
Мёбли и Сале удовлетворительно справлялись со своими обязанностями, избавляя Николая Николаевича от повседневных хозяйственных забот, которые отнимали у него много времени и сил во время первого пребывания на Берегу Маклая. А Мира поддерживала в доме чистоту и уют и радовала своего повелителя то огненно-страстными, то задумчиво-протяжными песнями и не только песнями.
После высадки в заливе Астролябия Миклухо-Маклай вступил с Мирой в интимные отношения, не дожидаясь, пока ей исполнится 13 лет. Немецкий врач и чиновник Б. Хаген, который, как упоминалось выше, жил на Берегу Маклая в 1893 — 1894 годах, сообщает в статье, написанной по просьбе Д.Н. Анучина, что, по словам местных жителей, тамо русс в 1876 году «привез с собою, по распространенному на всем крайнем азиатском Востоке обычаю, малайскую (или японскую) экономку, которая была названа туземцами его "marry" («жена, женщина» на языке пиджин-инглиш. — Д. Т.). <…> Когда Миклухо-Маклай предпринимал более продолжительные прогулки или экскурсии, то несколько женщин <…> должны были ночевать у его "marry"».
Как это случается в жизнеописаниях «белого папуаса», в сообщении Хагена реальность переплелась с вымыслами: жители Били-Били говорили ему, будто Маклай имел от Миры «ребенка, мальчика, которого при отъезде увез с собой». Это утверждение не подтверждается другими источниками. Желая подкрепить его достоверность, Хаген сопоставил его с рассказом сингапурского врача Требинга, который лечил путешественника в 1870-х годах. Этот эскулап поведал своему немецкому коллеге, что видел у Миклухо-Маклая в Сингапуре «маленького папуаса», которого тот хотел воспитать в Европе[644]. Речь, разумеется, шла не о сыне Миры, а об Ахмате. Учитывая медицинские познания и сексуальный опыт нашего героя, он едва ли допустил бы, чтобы Мира стала матерью.
Налаженный быт, ласки юной «экономки», сравнительно редкие приступы малярии создавали благоприятную психологическую обстановку для активной творческой деятельности. К сожалению, Николай Николаевич описал вторую экспедицию на Берег Маклая не так подробно, как свое первое погружение в папуасский мир.
Текст о втором пребывании на Берегу Маклая, продиктованный путешественником в 1886 году, состоит из двух частей: хроникального обзора событий, преимущественно по месяцам, и более подробного изложения отдельных эпизодов, экскурсий и т. д. Работая над этим текстом, Миклухо-Маклай опирался на сохранившиеся записные книжки, две статьи, в основном подготовленные в Бугарломе, и, конечно, на собственную память, так как полевые дневники 1876 — 1877 годов были утрачены. Попытаемся восстановить основные аспекты его деятельности в этот период, используя все дошедшие до нас источники.
Начнем с того, что путешественнику уже не надо было преодолевать пропасть, которая при первом знакомстве отделяла его от местных жителей. Высадившись в заливе Астролябия, он встретил старых друзей, в том числе тамо боро Саула, Туя и Каина — неформальных лидеров Бонгу, Горенду и Били-Били. Конечно, за четыре года произошли некоторые перемены. «Я недосчитался нескольких стариков, — писал Миклухо-Маклай, — они умерли в мое отсутствие, но зато многие мальчики были уже почти что взрослыми людьми, а между молодыми женщинами, ожидавшими быть скоро матерями, я узнал нескольких, которых оставил маленькими девочками»[645]. Но и новое поколение астролябцев хорошо знало Маклая и относилось к нему так же, как их отцы и деды.
В центре внимания путешественника вновь оказались жители, а не природа этого района Новой Гвинеи. Постепенно совершенствуя знание бонгуанского языка, пользуясь доверием и дружбой обитателей всех окрестных деревень, Николай Николаевич смог расширить и углубить свои познания в области антропологии и этнографии Берега Маклая. Так, если прежде он при проведении антропологических исследований вынужден был, за редким исключением, ограничиваться визуальными наблюдениями, изучением волос, а также обмером черепов, полученных от местных жителей, то теперь он смог сравнительно беспрепятственно измерять своих темнокожих друзей, и эти исследования подтвердили его выводы об антропологических особенностях папуасов Берега Маклая.
«В продолжение 15 месяцев я ни разу не присутствовал при церемонии их бракосочетания, ни разу — при операции "мулум" (обрезание) и не видел много, много другого», — писал путешественник в конце своего первого пребывания на побережье залива Астролябия[646]. Теперь ему удалось подробно описать свадьбу в деревне Горенду и наблюдать «другой род свадьбы — именно похищение девушек силою, но собственно силою только для вида, по заранее условленному соглашению»[647]. Присутствуя на нескольких похоронах, Миклухо-Маклай собрал интересный материал о погребальных обычаях и способах захоронения.
Объясняя, почему в 1876 — 1877 годах он вновь уделял наибольшее внимание антропологическим и этнографическим исследованиям, а не изучению природы острова, Миклухо-Маклай писал в РГО: «В будущем те же райские птицы и бабочки будут восхищать зоолога, те же насекомые насчитываться тысячами в его коллекциях, между тем как почти наверное при повторенных сношениях с белыми не только нравы и обычаи теперешних папуасов исказятся, изменятся и забудутся, но может случиться, что будущему антропологу придется разыскивать чистокровного папуаса в его примитивном состоянии в горах Новой Гвинеи, как я искал сакай и семанг в лесах Малайского (Малаккского. — Д. Т.) полуострова»[648].
Тем не менее Миклухо-Маклай регулярно проводил метеорологические наблюдения, собирал по мере возможности материалы для продолжения своих сравнительно-анатомических исследований: препарировал черепа и скелеты, помещал в консервирующие жидкости мозги и целые туши животных, уделяя особое внимание местным сумчатым. Прибыв на Берег Маклая, исследователь обнаружил следы происшедшего здесь в 1873 году землетрясения, которое сопровождалось разрушительными приливными волнами (цунами). Натуралист широкого профиля, он внимательно изучил последствия этих природных катаклизмов, а также признаки постепенного поднятия береговой полосы.
Характерной особенностью второго пребывания ученого на Берегу Маклая были многочисленные экскурсии, которые он предпринимал в предгорные и горные местности, прилегающие к береговой полосе, вдоль побережья и на расположенные вблизи от него небольшие острова. Миклухо-Маклай передвигался по суше пешком, в шлюпке посещал близлежащие островки, а более длительные морские путешествия совершал на довольно вместительных папуасских парусных судах (ванг). Этими судами с кабинами, защищающими от проливных дождей и тропического зноя, управляли Каин и другие его друзья с острова Били-Били, которые вели меновую торговлю с племенами, населяющими залив Астролябия. В результате путешественнику удалось посетить более двадцати деревень, расположенных в разных частях Берега Маклая.
Эти экскурсии Миклухо-Маклая, несомненно, были связаны с подготовкой к осуществлению его замысла — попытками приступить к созданию Папуасского союза, о существовании которого он публично и явно «авансом» объявил в «Отрывке» из письма Мещерскому. Посещая деревни, путешественник записывал слова и отдельные фразы на местных языках, выявлял островитян, пользующихся наибольшим уважением среди своих сообщинников, искал удобные якорные стоянки. Ему удалось составить краткие словники на четырнадцати языках, на которых говорили обитатели двадцати семи деревень. Находясь в деревне Телята (Телиата), расположенной вблизи от юго-восточной оконечности Берега Маклая, путешественник приказал прибить к дереву «медный ярлык с моей монограммой»[649]. Николай Николаевич внимательно осмотрел хорошо защищенную от господствующих ветров гавань между берегом Новой Гвинеи и цепочкой островков архипелага Довольных людей, замеченную им еще в 1872 году, и назвал ее порт Великого князя Алексея. На одном из этих островков, Урему (Урембу), не имевшем постоянного населения, он посадил кокосовые пальмы и сказал Каину, что в следующий приезд устроит здесь свою резиденцию. Впоследствии Миклухо-Маклай утверждал в письме министру иностранных дел Н.К. Гирсу, что «уже с 1876 г. стал принимать меры для приведения в исполнение устройства туземного правительства»[650].
Как видно из записей и статей ученого, папуасы продолжали считать его не только «очень большим человеком» (тамо боро-боро), но и сверхъестественным существом. Впрочем, среди папуасов иногда возникали споры о происхождении и свойствах таинственного пришельца. Вскоре после внезапной смерти двух островитян тамо, собравшиеся в одном из мужских домов Бонгу, завели разговор, смертен ли Маклай. Когда Николай Николаевич вошел в эту хижину, все разговоры прекратились, и путешественник заподозрил, что речь шла о нем. Наконец тамо боро Саул, решившись, прервал молчание и задал вопрос, волновавший его собеседников: «Маклай, скажи, можешь ли ты умереть? Быть мертвым, как люди Бонгу, Богата, Били-Били?» Тамо русс оказался в затруднительном положении: сказать «нет» значило обмануть папуасов, которые верили каждому его слову; к тому же несчастный случай мог в любой момент оборвать его жизнь; сказать «да» значило поколебать — и значительно — его репутацию. И тут проявились артистичность, присущая нашему герою, его способность быстро находить выход из самой непростой ситуации. Он взял тяжелое копье, подвешенное к стене дома, подал его Саулу и, отступив на несколько шагов, сказал: «Попробуй! Посмотри, могу ли я умереть!» Саул даже не поднял копье и стал повторять: «Арен!» («нет»), тогда как несколько присутствующих бросились к Маклаю, желая загородить его своими телами. Рассказав об этом эпизоде, Николай Николаевич добавил: «Ответ показался удовлетворительным, так как после этого случая никто не спрашивал меня, могу ли я умереть»[651].
Обитатели окрестных деревень во всех трудных случаях приходили к нему за советом и помощью. «Вместо того, чтобы смотреть на них, как прежде, совершенно объективно, как на предмет научного исследования, — писал о втором пребывании ученого на Берегу Маклая П.П. Семенов, — он как бы сроднился с ними, полюбил их и с увлечением вошел в роль их руководителя и покровителя»[652].
Местные жители верили во всемогущество тамо русс Маклая. Его слова, даже намека на возможные природные катаклизмы, было достаточно, чтобы предотвратить войны между деревнями. Но сплотить эти деревни в единый социальный организм, в Папуасский союз, не смогла бы даже такая харизматическая личность, как Маклай. Как подчеркивал сам исследователь, он застал обитателей Берега Маклая «в самом первобытном состоянии, в периоде каменного века»[653]. Каждая деревня (реже две-три соседние деревни) представляла собой замкнутый мирок, почти в каждой был свой особый язык или диалект. И ученый, по-видимому, понял, что ему едва ли удастся претворить в жизнь свой дерзновенный замысел, а потому не стал форсировать его осуществление.
Миклухо-Маклая несколько ободряло, что газетные сообщения о предстоящем захвате Великобританией восточной части Новой Гвинеи не подтвердились. За 17 месяцев, которые он провел в этих местах, Берег Маклая не посетило ни одно судно и, казалось, не появилось никаких признаков надвигающейся опасности. Но ученый ясно осознавал, что и сюда неминуемо нагрянут чужеземные пришельцы — любители легкой наживы, беззастенчивые авантюристы, а возможно, и охотники на «черных дроздов», то есть работорговцы, поставщики подневольной рабочей силы для плантаций Квинсленда, Новой Каледонии, Фиджи и Самоа.
У Николая Николаевича часто возникал вопрос, окажет ли он услугу коренному населению Берега Маклая, облегчив своим знанием страны и ее обитателей доступ сюда европейцам. «Чем более я обдумывал этот шаг, — писал он, — тем более склонялся к отрицательному ответу. <…> Я решил поэтому положительно ничем, ни прямо, ни косвенно, не способствовать водворению сношений между белыми и папуасами»[654].
Негоциант из Сингапура К. Шомбургк, зафрахтовавший «Си берд» и ссудивший деньгами Миклухо-Маклая, обещал прислать за ним судно через шесть месяцев, но не выполнил своего обещания. Это серьезно осложнило положение путешественника: все привезенные припасы, в том числе рис, бобы, консервы и писчая бумага, кончились, и пришлось перейти в основном на местную пищу, а записи делать на бумажных клочках и незаполненных листах, вырванных из привезенных книг. День за днем Николай Николаевич вглядывался в горизонт, ожидая шхуну, но она не появлялась. Такая неопределенность нервировала путешественника. Состояние его здоровья снова пошатнулось. На туловище и особенно на ногах появились кожные воспаления и плохо заживающие язвы — возможно, похожие на те, которые мучили его на «Витязе» перед высадкой в заливе Астролябия. Мира, Мёбли и Сале страдали от местной малярии значительно чаще, чем хозяин. Но Миклухо-Маклая все больше беспокоили сильные невралгии тройничного нерва, о чем он уже раньше сообщал Вирхову; путешественник считал их нетипичными проявлениями «перемежающейся лихорадки»[655].
Вынужденный ограничить частоту и продолжительность экскурсий, Николай Николаевич, сидя на веранде, работал над публикациями о путешествии на Берег Папуаковиай, в основном подготовил две статьи о своей новой экспедиции, писал письма в Европу, не зная, когда они попадут к адресатам. Между тем дом в Бугарломе становился опасным для проживания, так как белые муравьи источили балки и сваи. Осенью 1877 года пришлось с помощью островитян соорудить рядом другой домик, похожий на старый и соединенный с ним крытым переходом. Кроме того, обитатели Били-Били построили для тамо русс хижину на северо-восточной оконечности острова, в местности Аиру, откуда с крутого обрыва открывался великолепный вид на горные цепи Новой Гвинеи и весь залив Астролябия. Николай Николаевич полюбил этот уединенный и живописный уголок и охотно поселялся там, когда посещал Били-Били.
Несмотря на недомогание, Миклухо-Маклай готовился совершить на вате плавание на расположенный к северо-западу от выхода из залива крупный остров Кар-Кар. Но приготовления к этой морской экспедиции были прерваны 6 ноября долгожданным приходом шхуны.
Не связанный письменным обязательством, Шомбургк не спешил выполнить свое обещание, надеясь, что Миклухо-Маклая заберет какое-нибудь другое судно, так как в Сингапуре и Гонконге знали о месте высадки русского путешественника. Но поскольку его надежды не оправдались, Шомбургк с почти годичным опозданием приказал шкиперу шхуны «Флауэр оф Ярроу»,посланной для меновой торговли к островам Северо-Западной Меланезии, заглянуть в бухту Астролябия, и тот без труда разглядел русский флаг, поднятый над сдвоенным домиком на мысе Бугарлом.
На шхуне свирепствовала болезнь моряков того времени — скорбут (цинга), от которой страдали матросы-малайцы; одного из них, Абу, похоронили недалеко от домика Миклухо-Маклая. Оставив мебель, хозяйственную утварь и многие другие вещи, Николай Николаевич поручил охранять дом обитателям Бонгу и перевез на шхуну рукописи, книги и научные инструменты.
Перед отплытием тамо русс созвал представителей всех окрестных деревень и сообщил им о своем намерении покинуть на некоторое время Берег Маклая. «Я объяснил им, — рассказывал Миклухо-Маклай, — что, вероятно, другие люди, такие же белые, как и я, с такими же волосами и в такой же одежде, прибудут к ним на таких же кораблях, на каких приезжал я, но, очень вероятно, это будут совершенно иные люди, чем Маклай. <…> Эти люди могут увезти их в неволю»[656]. Ученый посоветовал жителям при появлении европейского судна отсылать женщин и детей в горы, а самим соблюдать крайнюю осторожность, так как у белых наверняка будет огнестрельное оружие. Затем он сообщил собравшимся условные знаки, по которым обитатели этого берега смогут отличить «друзей от недругов». Островитяне плакали, расставаясь с Маклаем.
Глава четырнадцатая. ВПЕРВЫЕ НА ПЯТОМ КОНТИНЕНТЕ
Трудные дни
Плавание из залива Астролябия в Сингапур заняло более двух месяцев, так как шкипер шхуны «Флауэр оф Ярроу» должен был до возвращения из рейса посетить для меновой торговли несколько островных групп в Северо-Западной Меланезии. Уже на следующий день после выхода из залива, 11 ноября 1877 года, Миклухо-Маклай наблюдал впечатляющее зрелище — извержение вулканов на островах Лессон и Вулкан, расположенных недалеко от побережья Новой Гвинеи. Несмотря на недомогание, путешественник не только описал это интересное природное явление, но и, воспользовавшись штилем, запечатлел разные фазы извержения на острове Вулкан акварелью в своей записной книжке.
Шхуна ненадолго останавливалась у островов; она обычно ложилась в дрейф, а не бросала якорь, так что Николай Николаевич смог высадиться на берег, да и то на несколько часов, лишь на островах Хермит. Капитан спешил, так как на судне оставалось все меньше матросов, способных стоять на вахте. Чтобы предотвратить беду, он, сделав крюк, зашел в порт Замбоанга на филиппинском острове Минданао, где дал отдых команде и приобрел минимально необходимое количество свежих съестных припасов, а оттуда отправился кратчайшим путем в Сингапур.
Морское путешествие на сей раз не улучшило, а ухудшило состояние здоровья Миклухо-Маклая. Вследствие перемены пищи и плохого питания на борту к малярии прибавились скорбут и хронический колит, которые привели к общему упадку сил и серьезной анемии. 18 января 1878 года Николай Николаевич прибыл в Сингапур настолько больной, что мог с величайшим напряжением, урывками писать лишь самые необходимые письма. «Вот уже 1-я неделя, как я не встаю с постели, — сообщал он в марте в Петербург, — и пока перемены к лучшему и следов нет… О малейшей работе и думать нельзя»[657].
Телесные недуги привели к серьезному нервному срыву. «Анемия и общее истощение сил, которые были причиною постоянного головокружения, нередко внезапно наступающей бессознательности и сильнейшей гиперостезии (повышенной, болезненной чувствительности кожных покровов. — Д. Г.), -вспоминал путешественник после преодоления кризиса, — довели меня до крайней нервной раздражительности <…> почти истерического состояния»[658]. Его раздражала «глупейшая малость» — шум шагов, легкий кашель, голоса окружающих. Но, даже находясь в столь незавидном положении, он — неисправимый мечтатель — переносился мыслями «через годы, через расстояния». В марте, пожаловавшись на крайне расстроенное здоровье, Николай Николаевич написал Остен-Сакену, что надеется через два года отправиться на несколько лет в Африку. В дальнейшем исследователь ни разу не возвращался к этому замыслу, возникшему спонтанно в его затуманенном болезнью мозгу.
Несомненно, повышенной нервозности способствовали денежные затруднения. Сразу по прибытии в Сингапур Миклухо-Маклай, по его собственным словам, был «осажден» кредиторами[659]. Единственный местный негоциант, готовый бескорыстно помочь русскому путешественнику, — китаец Вампоа, к этому времени потерял почти все свое состояние, а потому смог выделить ему лишь небольшую беспроцентную ссуду. Отчаянные призывы Миклухо-Маклая к Остен-Сакену и Мещерскому помочь ему расплатиться с кредиторами («назойливость сингапурских и батавских торгашей — невыносима!») принесли результат: 9 апреля 1878 года он получил из Петербурга телеграфный перевод на 3577 долларов. Полученных денег хватило в основном на то, чтобы рассчитаться с Шомбургком. Около 450 долларов Николай Николаевич оставил на текущие расходы и «прожитие» в течение ближайших месяцев. Главный долг — батавскому негоцианту X. Я. Анкерсмиту, главе фирмы «Дюммлер и К°», не был погашен и продолжал увеличиваться из года в год.
Перевод, полученный Миклухо-Маклаем, стал возможным благодаря большой работе по сбору средств, которую провел в 1876 — 1877 годах Александр Мещерский под руководством и под контролем Остен-Сакена. Мещерский предупреждал Федора Романовича, что, не получив поддержки, путешественник вынужден будет продать свои уникальные коллекции иностранцам, уговаривал его исходатайствовать для своего друга пожизненную пенсию наподобие той, которой был удостоен Н.М. Пржевальский, и даже советовал через руководителей МИДа просить Александра II,помочь «не только мученику науки, но и политическому русскому деятелю на Тихом океане», предлагавшему установить протекторат над частью Новой Гвинеи. Остен-Сакен оставил без внимания советы Мещерского похлопотать насчет пенсии и обратиться за помощью к «обожаемому монарху». Но он употребил свое влияние и связи, чтобы обеспечить поступление пожертвований от частных лиц.
Во время кампании по сбору средств ярко проявились свойства сложной и неоднозначной натуры Александра Мещерского — как положительные, так и отрицательные. Князь, ставший в результате женитьбы бессарабским помещиком и участвовавший в Русско-турецкой войне в качестве представителя Красного Креста, был, несомненно, предан своему другу-путешественнику и приложил много усилий, чтобы найти необходимые средства. Вместе с тем в ходе кампании вновь обнаружились его необязательность, неорганизованность и отсутствие деловой закваски, которые причудливо сочетались с пристрастием к хитроумным комбинациям, граничащим с плутовством. Аккумулируя средства, поступающие для помощи Миклухо-Маклаю, он порой не спешил с ними расставаться и — из песни слова не выкинешь — использовал их, чтобы поправить свои запутанные финансовые дела. За его «художествами» зорко наблюдал Остен-Сакен, который в сердцах назвал князя в одной из своих записей «конфузии советником», спародировав почетное звание «коммерции советник», которое присваивалось тогда в России крупным промышленникам и купцам[660].
Одним из первых, к кому обратился Мещерский, был И.С. Тургенев, который принял близко к сердцу невзгоды Миклухо-Маклая. Не имея свободных средств, писатель не сразу внес свою лепту в фонд помощи путешественнику, но привлек к участию в этом деле купца-мецената П.М. Третьякова, а тот, в свою очередь, обратился к людям своего круга. Среди откликнувшихся на этот призыв мы видим знаменитого богача П.П. Демидова (князя Сан-Донато) и банкира Родоканаки, а также видных деятелей русской культуры, в том числе К.Д. Кавелина. Всего удалось собрать 7700 рублей, из которых по тысяче внесли Тургенев, Третьяков и совет РГО.
Поступление денег сняло часть озабоченностей Миклухо-Маклая. Но усилия сингапурских врачей, которые старались излечить его недуги и вывести его из нервной депрессии, не дали сколько-нибудь существенных результатов.
Больного путешественника, как коллегу, получившего медицинское образование, приютил в своем доме доктор Деннис. Однажды, когда Николай Николаевич, лежа в постели, читал в газетах сообщения о Русско-турецкой войне, его навестил Одоардо Беккари, возвращавшийся из путешествия по новогвинейской реке Флай. Миклухо-Маклай принял по возможности бодрый вид и начал расспрашивать итальянского ботаника о некоторых растениях, листья и плоды которых он привез из Бугарлома. Но от внимания Беккари не укрылось плачевное состояние его русского приятеля. Он сильно изменился и постарел со времени их первой встречи в Макасаре в декабре 1873 года, хотя и тогда Миклухо-Маклай был очень слаб и сильно страдал от приступов малярии и других тропических лихорадок.
В надежде на то, что «перемена воздуха будет иметь хорошее влияние на здоровье», Николай Николаевич перебрался в Джохор-Бару, снова воспользовавшись гостеприимством Абу Бакара. Он пробыл там около шести недель и смог отправить оттуда два коротких сообщения в географический журнал Петермана — о плавании на «Си берд» и втором пребывании в заливе Астролябия, а также о вулканических явлениях на северо-восточном берегу Новой Гвинеи. Однако чистый воздух и не столь изнурительный тропический зной не помогли путешественнику. Миклухо-Маклай вернулся в Сингапур, где три врача, в том числе упоминавшийся выше Требинг, собравшись на консилиум, единодушно поставили больного перед выбором: безотлагательно переехать в страну с умеренным климатом или умереть в Сингапуре.
Миклухо-Маклай неоднократно писал в Петербург о своем желании приехать на один-два года в Россию, чтобы отдохнуть, обработать и опубликовать собранные им материалы, и затем вернуться на Новую Гвинею для продолжения исследований. По прибытии в Сингапур в январе 1878 года он запросил начальника отряда русских судов на Тихом океане контр-адмирала О.А. Штакельберга, не ожидается ли в ближайшее время возвращение одного из судов в Кронштадт с заходом в Сингапур. В феврале он получил ответ, что «распоряжений от Морского министерства относительно возвращения в нынешнем году судов отряда на Балтику до сих пор не получено»[661], а в апреле Штакельберг известил его, что «в этом году судов, возвращающихся на Балтику, нет». Такое решение Морского министерства, несомненно, было связано с Русско-турецкой войной и вызванным ею обострением международной обстановки. Николаю Николаевичу, вероятно, хватило бы денег самостоятельно добраться до России. Но что он там будет делать, на какие средства существовать? Демонстративное молчание матери и других родных, от которых путешественник давно уже не получал писем, давало основание полагать, что его приезд едва ли будет приятен Екатерине Семеновне и старшему брату Сергею.
Миклухо-Маклай выбрал Австралию. Его выбор не был случайным. Ведь именно отсюда исходила тогда наибольшая угроза его новогвинейским друзьям, именно из австралийских портов чаще всего отправлялись к островам Океании корабли охотников за «черными дроздами». Николай Николаевич полагал, что, находясь в центре событий, ему будет легче наблюдать за этими злодеяниями и бороться за права папуасов и других океанийцев. Кроме того, он хотел провести антропологическое изучение австралийских аборигенов, что могло дать важный сравнительный материал для его аналогичных исследований в Океании. Интересовала его и австралийская фауна.
Со своими слугами он расстался. Сале оказался нечист на руку и был выгнан вскоре по прибытии путешественника в Сингапур. Что же касается Мёбли и Миры, то, щедро одарив их на прощание разными полезными вещами, Николай Николаевич отправил их на родину на британской шхуне «Монтиара». Зная о междоусобных войнах и вражде между вождями на Палау, путешественник позаботился о том, чтобы Мёбли и Мира были доставлены прямо в их родную деревню Малегиок на острове Бабелтуап, ибо «в противном случае они бы были ограблены, превращены в рабов и, возможно, убиты»[662]. Сохранились два любопытных документа: расписка капитана шхуны М. Рэвнскилда, датированная 17 апреля 1878 года, в получении 125 долларов за провоз на Палау двух слуг Миклухо-Маклая, а также заверенное двумя свидетелями его письменное обязательство хорошо обращаться в пути с Мёбли и Мирой и высадить их с багажом именно в Малегиоке, а не в каком-нибудь другом месте архипелага. Слуги путешественника благополучно вернулись домой; как мы увидим, Миклухо-Маклай встретится с ними в 1883 году во время кратковременного посещения Бабелтуапа.
По рекомендации своих сингапурских знакомых Николай Николаевич нанял нового темнокожего слугу по имени Джан — вероятно, малайца или метиса. Джан неплохо говорил по-английски и, главное, прошел необходимую выучку, так как служил раньше в доме британского джентльмена.
Миклухо-Маклай взял билеты на английский пароход «Сомерсет», который должен был доставить его с Джаном в Сидней. Всю последнюю неделю перед отплытием он находился в полузабытьи, плохо сознавая, что и как он делает. «Ослабел я <…> чрезвычайно, — рассказывал он впоследствии об этих днях, — голова у меня постоянно кружилась, и вообще я недомогал сильно, так что укладка вещей была для меня весьма утомительна и шла крайне медленно»[663]. Накануне выхода в море ему пришла в голову мысль оставить на сохранение в одном из местных банков запечатанный пакет с некоторыми рукописями и рисунками, привезенными из недавней экспедиции на Новую Гвинею. Путешественник выполнил свое намерение. При этом он не взял расписки и не записал название банка. «На другой день, — вспоминал он, — я уехал в Сидней и был так слаб, что меня на руках перенесли из экипажа в каюту»[664]. В 1882 году, будучи в Сингапуре, Миклухо-Маклай обошел все банки, но не смог отыскать пакет. Среди пропавших манускриптов были дневники, которые он вел в Бугарломе. Вот почему описание второго пребывания на Берегу Маклая, подготовленного им незадолго до смерти к печати, существенно отличается по структуре и степени детализации от описания первого пребывания — дневника, обработанного самим автором для публикации. Можно только догадываться, как много ценных наблюдений и фактов было безвозвратно утрачено.
Прибытие в Сидней
Выйдя 24 июня 1878 года из Сингапура, почтовый пароход «Сомерсет» через две недели миновал Торресов пролив, отделяющий Новую Гвинею от Австралии, и отправился к югу вдоль восточного побережья пятого континента. Пароход заходил в несколько портов (Куктаун, Таунсвиль, Боуэн, Брисбен и др.), но стоянки были так непродолжительны, что у Миклухо-Маклая не было ни времени, ни желания съезжать на берег. Целыми днями он сидел в шезлонге под тентом на палубе, вдыхал соленый морской воздух и вглядывался в береговую линию континента, где ему предстояло провести несколько месяцев, а может быть — кто знает? — и лет.
По мере удаления от экватора спадал тропический зной, и в субтропиках, а потом в умеренных широтах повеяло прохладой, так что Николай Николаевич утеплился, как мог, и зябко кутался в толстый шерстяной плед. Путешествие на комфортабельном пароходе, обильное и разнообразное питание, новые впечатления, беседы с интересными попутчиками и, конечно, избавление от изнурительной жары благотворно подействовали на истощенного болезнями ученого. Прекратился хронический колит, ослабли другие недуги, он постепенно вышел из нервной депрессии. По словам Миклухо-Маклая, он меньше чем за месяц потяжелел на 12 килограммов и почти восстановил свой обычный вес[665].
С возвращением сил появилась жажда деятельности. Вспомнив океанографические наблюдения, которые он вел на борту «Витязя», Николай Николаевич занялся измерением температуры в прибрежных водах, где глубины редко превышали 100 метров. Троса у путешественника не было, а потому он ежедневно в полдень опускал на десять минут термометр в ведро с водой, которую помогавший ему матрос зачерпывал из моря непосредственно перед наблюдением. Такой примитивный метод исследования, конечно, не мог дать достаточно точные результаты, но Миклухо-Маклай был первым, кто занялся измерением температуры морской воды у побережья Австралии и высказал гипотезу о связи этой температуры с особенностями океанских течений. Путешественник вновь почувствовал интерес к изучению морской стихии и решил вернуться в Австралии к своей «первой любви» — исследованию морской фауны.
На рассвете 18 июля «Сомерсет» приблизился к ограниченному двумя мысами входу в залив Порт-Джексон. По изрезанному небольшими мысами и бухтами побережью этого залива раскинулись Сидней — столица Нового Южного Уэльса — и его многочисленные пригороды. Пройдя мимо Южного мыса и благополучно миновав подводный скалистый риф, который служил тогда причиной серьезных кораблекрушений, «Сомерсет» бросил якорь в главной гавани Сиднея, где стояли десятки пароходов и парусных судов, пришедших из портов Европы, Америки и Азии, преимущественно из Великобритании.
Николай Николаевич съехал на берег и, не дожидаясь выгрузки багажа, нанял кеб, запряженный тощей клячей, и по ухабистой дороге мимо складов, ремесленных мастерских, кабаков и дешевых гостиниц для моряков, по извилистым, поднимающимся в гору улицам, застроенным неказистыми жилыми домами старой постройки, въехал в деловой центр Сиднея. Картина переменилась: перед ним предстал большой, растущий словно на дрожжах город с современными зданиями, парками, куполами англиканских и католических соборов. Как русский подданный, Миклухо-Маклай отправился прежде всего к почетному консулу России коммерсанту Э.М. Полю, заранее осведомленному о его прибытии, и был гостеприимно встречен консулом и особенно его женой. Поль предложил путешественнику остановиться на первое время в его маленьком уютном домике, и наш герой с благодарностью принял это предложение.
По своему обыкновению, Николай Николаевич решил прежде всего познакомиться с новым для него городом и совершил несколько прогулок по Сиднею, в котором обитало тогда около двухсот тысяч человек. Он обратил внимание на его прямолинейную планировку: несколько улиц, начинаясь недалеко от главной гавани, шли через город с востока на запад; их пересекали другие улицы, обычно под прямым углом. Главная городская артерия — улица Джордж-стрит — протянулась почти на четыре километра до холмистого предместья, где возвышалось большое, построенное в неоготическом стиле здание университета. На центральных улицах кое-где сохранялись усадьбы, окруженные садами, одноэтажные дома с мезонинами, но целые кварталы были застроены почти вплотную друг к другу высокими (четыре — семь этажей) домами в стиле английского барокко; своей нарочитой помпезностью они демонстрировали амбиции набирающей силу буржуазии. Наряду с особняками богачей в этих районах были сосредоточены банки, крупные торговые компании, адвокатские конторы, клубы, театры, редакции газет. Южнее главных улиц, начиная от побережья, простирался зеленый пояс. Здесь находились резиденция губернатора колонии, ботанический сад, несколько парков. К парковой зоне примыкала городская библиотека и Австралийский музей.
Николай Николаевич заглянул и за «парадный фасад» Сиднея. В переулках, отходящих от главных улиц, да и позади элегантных усадеб стояли обшарпанные, нередко покосившиеся одноэтажные домишки. Жители города держали не только кур и гусей, но также свиней и крупный рогатый скот. Стада коров бродили по улицам, щипали траву и объедали листву на кустах и невысоких деревьях, подымая при этом невероятную пыль.
Миклухо-Маклаю не удалось тогда побывать в северных и северо-западных районах Сиднея, где находилось большинство заводов и фабрик и обитал рабочий люд. Ему объяснили, что это небезопасно: здесь орудуют шайки разбойников, к иностранцу могут пристать бродяги или хулиганы. Но, как узнал путешественник, обитатели этих районов ютились в лачугах или жили в вытянутых на сотни метров одноэтажных или двухэтажных сблокированных домах, состоявших из стандартных секций с двумя окнами по фасаду, без кухонь и элементарных удобств. Островками благополучия в этих районах были опрятные домики с палисадниками, принадлежащие квалифицированным рабочим — рождающейся «рабочей аристократии».
Как убедился ученый, в Сиднее в то время отсутствовали централизованные водоснабжение и канализация, не была организована уборка мусора, редко встречались мощеные мостовые и тротуары. Внешним благоустройством занимались сами домовладельцы и хозяева гостиниц, магазинов и ремесленных лавок, которые приводили в порядок лишь «пятачки» перед своими зданиями. На улицах валялось много мусора и конского навоза. Поэтому даже на Джордж-стрит и Маккуори-стрит недалеко от магазинов с модной европейской одеждой и парфюмерией пахло отнюдь не французскими духами.
Вскоре по прибытии в Сидней, еще не разобравшись в тонкостях местного социально-политического устройства, Миклухо-Маклай писал сестре: «Народ здесь мне мало нравится. <…> Царство толпы, массы и т. п. имеет весьма мало хороших сторон, а в австралийском обществе мнение (мнение разнокалиберных представителей "демократов") имеет всемогущее значение»[666]. В письмах и статьях-отчетах, посвященных насущным проблемам его жизни и деятельности в Австралии, Николай Николаевич почти не касался общей ситуации в Сиднее и других городах пятого континента. Но впоследствии путешественник подчеркивал, что, «прожив около семи лет в Австралии, я всегда следил с интересом за общественною жизнью и главнейшими происшествиями в австралийских колониях»[667].
Старый австралийский «истеблишмент» состоял из отпрысков английских аристократов, отставных офицеров и лиц такого происхождения, о котором предпочитали не вспоминать. В этом «высшем обществе», нередко спаянном родственными узами, очень ценились — даже больше, чем в викторианской Англии — дворянские титулы и имперские регалии, правили бал сословные предрассудки и предпочтения. Уступив лидерство в промышленности, торговле и банковском деле быстрорастущей буржуазии, эти джентльмены по-прежнему владели большими земельными пространствами, полученными в первой половине XIX века, и управляли ими сами или сдавали в аренду, преимущественно для разведения овец. И после того как в 1850-х годах колонии в Австралии получили внутреннюю автономию, «старая гвардия», тесно связанная с губернаторами, сохраняла командные позиции в колониальном управлении, а в качестве попечителей и меценатов, — как вскоре убедился Миклухо-Маклай, — оказывала сильное влияние на развитие образования, науки и культуры.
Несмотря на неиссякающий приток иммигрантов, в Австралии ощущалась острая нехватка специалистов — не только квалифицированных рабочих и инженеров, но и геологов, почвоведов, врачей (лекари-самозванцы были притчей во языцех), университетских преподавателей и т. д. Характерно, что многие годы геологическую службу Нового Южного Уэльса возглавлял Ч. Уилкинсон, самоучка, ходивший несколько лет в школу, но не имевший высшего образования. Подавляющее большинство дипломированных специалистов приезжало в колонии из Англии. Социальный статус университетских профессоров в Австралии был тогда очень низок; они зарабатывали значительно меньше, чем квалифицированные рабочие. Неудивительно, что подающие надежды выпускники Кембриджа, Оксфорда и других британских университетов неохотно соглашались переселяться на пятый континент.
Признание в австралийском научном сообществе
Колониальный характер австралийской науки проявлялся в кадровой и финансовой зависимости от метрополии, в фактическом отказе от самостоятельной разработки новых научных идей и концепций; последние проникали с опозданием извне и с трудом приживались на австралийской почве. В каждой из шести английских колоний в Австралии имелись свои университеты, музеи и научные общества, но общее число активно действующих профессиональных исследователей едва ли превышало 30-40 человек.
Идеи Дарвина и особенно их пропаганда и развитие в трудах Томаса Хаксли встретили неприятие и отпор со стороны «джентльменов-собирателей», возглавлявших или патронировавших университеты, музеи и научные общества, а также большинства зависимых от них ученых, так как эти джентльмены полагали, что эволюционное учение подрывает веру в Бога и грозит социальными потрясениями. Сторонники дарвиновской теории — явное меньшинство — остерегались публично высказывать свои взгляды. Чуть ли не единственным исключением среди этих «еретиков» был немецкий зоолог Иоганн Людвиг Герард (Джерард) Креффт (1830-1881). Он переселился в 1852 году в Австралию и позже стал куратором (директором) Австралийского музея. Креффт многое сделал для того, чтобы превратить хаотическое скопление разнообразных коллекций в упорядоченный музей, устраивал выставки, благоустроил, как мог, помещения, где хранились ценные экспонаты, рассказывающие о природе и коренном населении Австралии. Но дарвинистские убеждения ученого не нравились попечителям музея, которым он к тому же мешал безнаказанно манипулировать собранными коллекциями. В 1874 году они уволили Креффта по надуманным обвинениям, причем наняли двух громил, которые взломали двери его квартиры в здании музея и выбросили все вещи на улицу. Другие музеи не брали его на работу, опасаясь влиятельных гонителей. В результате талантливый ученый впал в крайнюю нищету. Вскоре по приезде в Сидней Миклухо-Маклай навестил Креффта в его убогом жилище, имея к нему рекомендательное письмо от Хаксли, и тот рассказал русскому коллеге свою историю, поведал о нравах и «группах влияния» в нарождающемся австралийском научном сообществе. Николай Николаевич сделал определенные выводы из того, что сообщил ему Креффт.
В Сиднее хорошо знали о Миклухо-Маклае, так как местная печать уже несколько лет знакомила читателей с его путешествиями и исследованиями. 19 июля 1878 года, на следующий день после того, как «Сомерсет» бросил якорь в сиднейской гавани, три газеты — «Сидней мейл», «Ивнинг ньюс» и наиболее респектабельная «Сидней морнинг геральд» — сообщили о прибытии «барона Маклая». Путешественника здесь повсеместно называли бароном — и в устных беседах, и в письмах, и на страницах газет. Николай Николаевич был этому очень рад. Он заказал фирменную почтовую бумагу с буквой «М» под стилизованной баронской короной. Чтобы еще больше поднять свой престиж и познакомиться с наиболее влиятельными личностями Нового Южного Уэльса, Миклухо-Маклай уже через несколько дней переселился из дома русского консула в Австралийский клуб — средоточие местного «истеблишмента». Патроном клуба был сам губернатор, а членами — правительственные чиновники, военные, крупные землевладельцы, в том числе представители всех видных семей колонии.
По своему устройству и функциям Австралийский клуб подражал наиболее известным лондонским заведениям такого рода. Внизу находились читальный зал, курительная комната, бильярд, бар, большая трапезная, которая использовалась также для собраний и приема почетных гостей. Наверху, на третьем этаже, были расположены комнаты для постояльцев. В одной из них поселился Миклухо-Маклай. Путешественник не прогадал: за считаные дни он завел полезные знакомства, которые помогли ему в годы жизни в Австралии. В частности, в клубе Николай Николаевич встретился с сэром Уильямом Макартуром — богатым землевладельцем и меценатом, одним из попечителей Австралийского музея, членом сената университета Сиднея. Макартур знал о русском путешественнике не только из газет. По просьбе Хаксли 14 января 1871 года Чарлз Николсон — уважаемый австралийский политик, землевладелец и археолог-любитель, находившийся тогда в Англии, написал своему другу Макартуру письмо с просьбой оказать содействие «выдающемуся русскому натуралисту»[668]. Сэр Уильям вспомнил об этой просьбе, обещал, если потребуется, замолвить словечко и пригласил путешественника в свое загородное имение Кемден-Парк. Там или в Австралийском клубе произошло знакомство Миклухо-Маклая с Уильямом Маклеем.
Уильям Джон Маклей (1820 — 1891) сыграл важную роль в становлении науки в Австралии. Крупный землевладелец и политик, он был типичным «джентльменом-собирателем». Маклей коллекционировал насекомых, а позже заинтересовался рыбами. В 1875 году он отправил за свой счет экспедицию на бриге «Чеверт» для сбора зоологических коллекций на юго-западном побережье Новой Гвинеи и прилегающих островах. Недостаток специального образования (он лишь год проучился на медицинском факультете Эдинбургского университета) Маклей отчасти возместил усердным чтением научной литературы и перепиской с британскими зоологами. Он публиковал статьи в английских и австралийских журналах, но так и не стал настоящим исследователем. Несравненно важнее была его деятельность как организатора науки, ее патрона и мецената. Главная заслуга Маклея — создание в 1874 году Линнеевского общества Нового Южного Уэльса, которое должно было изучать «все отрасли естествознания». Маклей не просто руководил этим обществом, но фактически его содержал: оплачивал аренду занимаемого им помещения, финансировал публикацию трудов общества. В конце жизни он передал свои огромные коллекции в дар университету Сиднея, где для них было построено специальное здание, названное музеем Маклея.
Кто платит, тот и заказывает музыку. Эта старая пословица вполне подходит к Уильяму Маклею. Властный и нетерпимый к ослушникам, он проводил свою линию в становлении науки и научных учреждений в Новом Южном Уэльсе. На протяжении всей своей жизни Маклей придерживался консервативных убеждений, особенно в вопросах мироздания и происхождения человека. На его совести — изгнание и преследование Джерарда Креффта.
Ближайшим помощником Маклея был Уильям Стивене -один из «профессоров на все руки», который, получив в Англии классическое гуманитарное образование, брался читать в университете Сиднея лекции по самым разным естественнонаучным дисциплинам. Будучи избран по рекомендации патрона президентом Линнеевского общества, он заявил в своем докладе, отредактированном и дополненном Маклеем, что некоторые европейские ученые-эволюционисты, общаясь с «криминальными классами», превращаются в «интернационалистов, социалистов и нигилистов»[669]. Выше упоминалось, что сходные обвинения высказал в полемике с Эрнстом Геккелем Роберт Вирхов. Разумеется, научный калибр Стивенса был несравненно меньше, чем у Вирхова, из выступлений которого он, возможно, черпал свои аргументы.
В 1878 году Линнеевское общество насчитывало около 150 членов, из которых лишь несколько человек можно с некоторой натяжкой считать профессиональными исследователями. Подавляющее большинство составляли врачи, учителя, священнослужители, адвокаты, журналисты, фермеры и просто любознательные горожане, которые, уплатив маленький членский взнос, получили право посещать ежемесячные собрания общества. Поэтому Маклей и Стивене, что называется, днем с огнем искали докладчиков для очередных собраний. Едва познакомившись с приезжей знаменитостью, Маклей постарался привлечь ее к активному участию в деятельности общества. 29 августа, через 11 дней после прибытия Миклухо-Маклая в Сидней, состоялось ежемесячное собрание, на котором русский путешественник и исследователь был избран почетным членом Линнеевского общества Нового Южного Уэльса и был приглашен выступить на следующем собрании с докладом на интересующую его тему[670].
Проницательный читатель, вероятно, уже догадался, с каким призывом Николай Николаевич обратился к членам общества на заседании, состоявшемся 26 сентября. Он выступил с докладом «Проект зоологической станции для Сиднея». Повторив свой излюбленный тезис о том, что развитие биологической науки требует изучения морских организмов в среде их обитания или вблизи от нее, причем в специально оборудованных лабораториях, и кратко рассказав об уже действующих или проектируемых морских биологических станциях, в том числе о своих усилиях, предпринятых на этом поприще, докладчик выразил убеждение, что «Сидней обладает необычайно благоприятными условиями для учреждения первой зоологической станции в Австралии». Проявив изрядную дипломатическую гибкость и знание реальной обстановки, Николай Николаевич предложил в качестве «наиболее компетентного директора» господина Маклея (втайне надеясь, что тот отклонит это предложение) и высказался за устройство станции на побережье, вблизи от усадьбы этого джентльмена. Присутствующие одобрительно встретили его проект и образовали комитет, которому было поручено «рассмотреть предложение барона Маклая и доложить о результатах на следующем ежемесячном собрании общества»[672].
Узнав, что в заливе Порт-Джексон водятся акулы вида Hete-rodontusphillipi, который он давно хотел изучить, Николай Николаевич решил возобновить сравнительно-анатомические исследования, которые он начал еще во время экспедиции на Канарские острова. Этих рыб ему могли поставлять местные рыбаки. Но такие исследования невозможно было проводить в номере клубной гостиницы, пребывание в которой к тому же быстро опустошало его кошелек.
На выручку пришел Уильям Маклей, который предложил Миклухо-Маклаю поселиться в его усадьбе Элизабет-Бэй-хауз в трех километрах от центра Сиднея. Это импозантное здание в классическом стиле было окружено садами и огородами. В доме имелась большая библиотека, состоявшая в основном из книг и журналов по зоологии и другим естественным наукам, в образцовом порядке хранились многочисленные коллекции. Рядом находился лабораторный павильон, снабженный микроскопами и набором необходимых инструментов.
Маклей радушно принял русского исследователя, отвел ему уютную комнату в своем доме, разрешал работать в лабораторном павильоне, пользоваться библиотекой, знакомиться с коллекциями. В просторном, роскошно обставленном кабинете хозяина собирались ученые и коллекторы, группировавшиеся вокруг богатого покровителя. За чашкой чаю (и не только чаю) обсуждались научные вопросы — не только фактического свойства, но и затрагивавшие проблемы мироздания, причем Маклей внушал гостям свои консервативные, антидарвинистские убеждения. Николай Николаевич оставался при своем мнении, но предпочитал отмалчиваться, помня о печальной судьбе Креффта.
Но теоретические расхождения невольно вышли наружу, когда Маклей предложил Миклухо-Маклаю сделать на следующем заседании Линнеевского общества совместный доклад, а потом написать вместе с ним статью (или серию статей) об акулах залива Порт-Джексон. При подготовке краткого доклада, представленного 28 октября 1878 года, серьезных разногласий не возникало. Но когда Миклухо-Маклай попытался в тексте статьи проследить — пусть в слегка завуалированном виде — эволюционную связь между изучаемыми акулами и их ископаемыми предками, это вызвало серьезные возражения. Николай Николаевич, по-видимому, пошел на уступки: сократил свои рассуждения и намеренно сделал их менее понятными, но Маклей не был вполне удовлетворен и 22 февраля 1879 года записал в своем дневнике, что «барон Маклай очень переменчив и слишком настойчив». Пришли к такому решению: каждый напишет свою часть статьи, авторство которой будет оговорено при публикации. В результате появилась статья, «Введение и описание» в которой принадлежало Маклею, а «Анатомические заметки» — его строптивому гостю. В начале своих заметок Николай Николаевич предупредил: «Так как наши точки зрения не всегда совпадали, в тексте могут встретиться значительные противоречия»[673].
Теоретические расхождения не привели к разрыву с Маклеем, так как в его интересах было сохранять сотрудничество всемирно известного ученого с Линнеевским обществом. Миклухо-Маклай выступал с докладами, которые публиковались затем в «Трудах» общества, на протяжении нескольких лет, до его окончательного отъезда из Австралии. Но подобно сообщениям, которые он посылал в журнал, издаваемый Вирховым, Николай Николаевич избегал касаться в них теоретических проблем.
Отношения с Маклеем постепенно утратили дружеский характер и свелись к взаимовыгодным научным контактам. Но еще раньше, с самого начала пребывания в Элизабет-Бэй-хауз, «сознание некоторым образом зависимого положения в чужом доме»[674] не давало покоя гордому и самолюбивому путешественнику. Поэтому уже в ноябре 1878 года он с радостью принял предложение куратора Австралийского музея Эдуарда Рэмзи переселиться в здание этого музея. Сын зажиточного местного врача, пару лет проучившийся в университете Сиднея, Рэмзи с юных лет увлекался энтомологией и заведовал питомником в усадьбе своего отца. По предложению Маклея он был назначен куратором вместо «еретика» Креффта. Рэмзи был «человеком Маклея», но держался более независимо, чем его явные прихлебатели, хотя, вероятно, согласовал свое приглашение с всемогущим патроном.
В Австралийском музее Миклухо-Маклаю предоставили жилую комнату и помещение для работы — «душный, холодный, плохо вентилируемый подвал», пребывание в котором, ослабляя организм, учащало, как он писал Вирхову, приступы лихорадки. «Пусть будет подвал, — продолжал исследователь, — лишь бы кругом было тихо! Но нет: какаду, коровы, собаки и люди находятся в непосредственном соседстве, и шум от этого зверинца часто приводит меня в очень скверное расположение духа, мешает мыслить, замедляет и прерывает работу. Добрые люди удивляются, что у меня такие слабые нервы»[675].
И все же у Николая Николаевича появилось помещение, в котором он мог самостоятельно проводить лабораторные исследования, располагая микроскопом и необходимыми инструментами, которые предоставил ему Рэмзи. Поглощенный новыми наблюдениями и исследованиями, Миклухо-Маклай почти не находил времени для обработки материалов своих экспедиций. За семь месяцев, проведенных в 1878 — 1879 годах в Сиднее, он подготовил для журнала местного Линнеевского общества уже известную нам статью об акулах, написанную вместе с Маклеем, опубликовал там два выступления с призывом основать зоологическую станцию и заметку «О макродонтизме», а также отослал в Берлин два маленьких сообщения о своей деятельности для журнала, издаваемого Вирховым.
«Оказывается положительно, что день слишком короток для работы, а ночь недостаточно длинна для отдыха!» — писал в РГО Миклухо-Маклай. Заваленный интересной работой, он отказался, по его словам, от возможности отправиться в Россию, когда выяснилось, что русский военный корабль может захватить его осенью в Сингапуре, возвращаясь на Балтику[676].
Но вернемся к подготовительной работе по созданию зоологической станции. Комитет, состоявший из шести членов Линнеевского общества, в том числе Маклея, признал предложение русского ученого заслуживающим самого серьезного внимания и скорейшего исполнения и призвал начать сбор средств на сооружение станции, причем высоко оценил эскизный проект ее здания, представленный Миклухо-Маклаем. Комитет рекомендовал также принять проект устава станции, составленный путешественником. Этот проект почти дословно повторял пункты, сформулированные Николаем Николаевичем в его выступлении на съезде русских естествоиспытателей и повторенные в его неосуществленном проекте создания станции вблизи Джохор-Бару. Доклад комитета был зачитан и одобрен на заседании общества, состоявшемся 30 сентября 1878 года.
Однако вопрос о местоположении будущей станции вызвал новые разногласия между Миклухо-Маклаем и Маклеем. Осенью 1879 года в Сиднее должна была открыться большая международная выставка, посвященная столетию со времени основания первого британского поселения в Новом Южном Уэльсе. В январе Стивене (явно по подсказке Маклея — члена комитета по подготовке выставки) предложил построить станцию на примыкающей к заливу кромке ботанического сада, в центре Сиднея, и оснастить ее большим аквариумом (океанариумом), плата за осмотр которого публикой служила бы одним из основных источников финансирования станции.
Иными словами, Стивене предполагал взять за образец зоологическую станцию, основанную А. Дорном в Неаполе. Он подчеркивал, что океанариум захотят осмотреть многие тысячи посетителей выставки — как обитатели Нового Южного Уэльса, так и жители других британских колоний в Австралии и гости со всего мира.
Это предложение было отвергнуто Миклухо-Маклаем — он отметил, что прибрежные воды в центре города загрязнены множеством кораблей и стоком нечистот. А главное — он выступал против коммерциализации станции и неизбежных толп посетителей, которые будут отвлекать его от работы. Он мечтал создать пусть маленькое и скромное, но чисто научное учреждение, где в тишине и покое он мог бы проводить изучение морской фауны. Свои сокровенные мысли по этому вопросу Миклухо-Маклай изложил в выступлении на заседании Линнеевского общества: «Я часто жил неделями и месяцами в домах и дворцах знатных и даже царственных хозяев, и тем не менее, с какой радостью я отдал бы комфорт и блеск этих жилищ за небольшую, но хорошо оборудованную лабораторию, где мог бы вести свои работы, не мешая никому и не испытывая никаких помех».
Проведя тщательную рекогносцировку, Миклухо-Маклай задумал разместить станцию в малонаселенном сиднейском пригороде Уостонс-Бей, на мыске Лейинг (на языке аборигенов — Кубунгхарра), недалеко от южного выхода из залива Порт-Джексон в открытый океан. У. Маклей, назвавший в своем дневнике этот замысел «весьма дурацким проектом»[678], заявил, что не даст ни копейки на строительство станции в месте, выбранном бароном Маклаем, и предупредил, что путешественнику не следует рассчитывать в этом вопросе на поддержку Линнеевского общества.
Казалось, попытка основать зоологическую станцию, столь милую сердцу нашего героя, вновь закончится неудачей. Но в декабре 1878 года в Новом Южном Уэльсе сменилась власть; новое коалиционное правительство Паркса — Робертсона благосклонно отнеслось к проекту Миклухо-Маклая. «Я отправился к правительственным лицам, — сообщал ученый в РГО, — <…> и после некоторых визитов и переговоров получил от совета министров колонии Нью-Саут-Вуельса формальное обещание, переданное мне президентом его — Colonial Secretary, даровать для постройки зоологической станции из казенных земель кусок земли, если найдется подходящая для этой цели. Местность таковая нашлась в Watson Bay»[679]. В марте 1879 года Николай Николаевич отправил Парксу письмо с просьбой о выделении земельного участка в Уостонс-Бей. Архитектор Джон Киркпатрик по эскизу ученого спроектировал здание будущей станции. По предварительным расчетам, на его постройку требовалось 600 фунтов стерлингов. В соответствии с местными обычаями правительство взяло на себя половину расходов на строительство «учреждения, полезного для колонии», при условии, что остальные средства будут собраны по подписке от частных лиц. Миклухо-Маклай смог собрать только 100 фунтов, после чего, как это не раз случалось в его жизни, бросил начатую кампанию и отправился на торговой шхуне в новое путешествие по островам южных морей, рассчитывая снова побывать на Берегу Маклая.
Незадолго до отплытия путешественник выступил на очередном заседании Линнеевского общества. Вежливо поблагодарив У. Маклея и Э. Рэмзи за проявленное гостеприимство и, разумеется, умолчав о разногласиях по поводу местоположения станции, он с горечью добавил: «Я могу все же только повторить, что ничего не сделано для создания зоологической станции в Сиднее. <…> Интервал между моим предложением (сентябрь 1878 года) и действительным основанием станции будет хорошим показателем степени интенсивности научной жизни в Австралии, по крайней мере в Сиднее»[680]. Миклухо-Маклай сообщил собравшимся, что отправляется на несколько месяцев в плавание по островам Океании. На время своего отсутствия он попросил продолжить сбор средств и наблюдать за строительством станции Рэмзи и Уильяма Эйтчисона Хэзуэлла — молодого английского биолога, который после учебы в Эдинбургском и Лейпцигском университетах переселился в 1878 году в Австралию; он был последователем Дарвина и Хаксли, но до поры до времени предпочитал не афишировать свои теоретические предпочтения. Отмечая легкомысленность нашего героя, покинувшего Сидней в ответственный момент, нельзя не признать, что у него были причины снова отправиться в южные моря.
Тревожные вести с Новой Гвинеи
Уйдя с головой в научную работу, настойчиво добиваясь принятия и осуществления проекта создания зоологической станции, Николай Николаевич не забывал о своих друзьях с Берега Маклая. «Здесь меня встретила неприятная, хотя уже много лет ожидаемая новость: австралийцы (белые) хотят забрать южную половину Новой Гвинеи, почему мой берег в серьезной опасности, — писал он в августе 1878 года сестре из Сиднея. — <…> Что я предприму вследствие этого обстоятельства, еще не решил. Дело это очень серьезное (также и для меня). Приходится обстоятельно обдумать мое положение (мои силы и шансы разного рода)»[681].
Озабоченность Миклухо-Маклая объяснялась слухами об открытии золотоносных пород в районе Порт-Морсби и последовавшими за этим событиями. Туда отправилось более сотни золотоискателей и других любителей легкой наживы. Под предлогом наведения порядка правительство колонии Квинсленд послало в Порт-Морсби своего представителя, который de facto начал управлять этим районом. Слухи об открытии золота дали новый толчок деятельности сторонников аннексии как в английских колониях в Австралии, так и в самой метрополии. Но скоро с Новой Гвинеи стали поступать неутешительные вести: никакого золота там найдено не было, «золотая лихорадка» прекратилась, зато другая лихорадка — тропическая малярия — свирепствовала вовсю. Оставшиеся в живых золотоискатели вместе с уполномоченным правительства Квинсленда были эвакуированы в Австралию, и в районе Порт-Морсби остались лишь английские миссионеры[682].
Судя по процитированному выше письму сестре, Миклухо-Маклай внимательно следил за происходящим на юго-восточном берегу Новой Гвинеи и, по-видимому, горько переживал свое бессилие изменить ход событий. Тем приятнее было ему узнать, что «золотая лихорадка» в районе Порт-Морсби окончилась полнейшим фиаско: как и следовало ожидать, эта неудача нанесла чувствительный удар по планам экспансионистов. Но успокаиваться было преждевременно хотя бы потому, что австралийские золотоискатели не оставляли попыток найти драгоценный металл в других районах Новой Гвинеи. Потерпев неудачу на юго-восточном берегу, они отправились на небольших судах к ее северо-восточному побережью, в том числе в залив Астролябия.
В январе и феврале 1879 года Миклухо-Маклай прочитал в газете «Сидней морнинг геральд» несколько заметок о том, что шхуна «Дав», отправившаяся из Мельбурна, и барк «Курьер», приписанный к новозеландскому порту Окленд, заходили в поисках золотоносных пород в залив Астролябия. Как сообщил Артур Пек, участник экспедиции на «Даве», находившейся в заливе с 29 августа по 10 сентября 1878 года, папуасы Бонгу, Горенду и Гумбу мирно встретили непрошеных гостей, удалив при этом почти всех женщин в лесные заросли. Они позволили чужеземцам осмотреть окрестности, вели с ними меновую торговлю, часто повторяли слово «Маклай», приглашали их в свои деревни, но не подпустили к двойному домику, который русский путешественник покинул в январе того же года. Золотоискатели посетили несколько других деревень на побережье залива и в архипелаге Довольных людей и, не обнаружив золотосодержащих россыпей, ушли на «Даве» в открытое море, почти поголовно заболев малярией. Вскоре в заливе Астролябия появился «Курьер», но и его команда не нашла здесь «новое Эльдорадо»[683].
Еще в январе 1878 года, по возвращении в Сингапур, Миклухо-Маклай получил письмо от П.П. Семенова, из которого следовало, что русское правительство не поддержит ученого в его попытке защитить права папуасов Берега Маклая, установив протекторат над этой частью Новой Гвинеи[684]. Поэтому Миклухо-Маклай решил испробовать еще одно средство — обратиться с открытым письмом к британскому верховному комиссару в западной части Тихого океана и губернатору Фиджи сэру Артуру Гордону, с которым он познакомился во дворце махараджи Джохора, где Гордон остановился по пути на Фиджи.
«Прожив около трех лет среди этих людей (папуасов Берега Маклая. — Д. Т.) и имев время судить об их характере и способностях, — писал он Гордону 23 января 1879 года, — я принимаю серьезное и бескорыстное участие в их судьбе, особенно предвидя, что нашествие белой расы на Новую Гвинею может легко, т. е. почти наверняка привести к ряду достойных сожаления катастроф. <…> Осмеливаюсь просить для защиты обитателей Берега Маклая, чтобы имперское правительство: 1) признало полное право туземцев Новой Гвинеи (Берега Маклая) на их землю; 2) запретило или сделало невероятным (благодаря очень повышенным налогам) ввоз и продажу туземцам алкогольных напитков, оружия и пороха». Заканчивая письмо, которое вскоре появилось не только в британской парламентской публикации, но и в нескольких русских и западноевропейских газетах и журналах, ученый призвал Гордона «распространить, если возможно, эти правила на другие независимые части Новой Гвинеи и на острова Меланезии».
«Я обратился к великобританскому правительству, — объяснил свой поступок Миклухо-Маклай в письме секретарю РГО, — т. к. более вероятно вторжение в эту часть Новой Гвинеи (Берег Маклая) последует из Австралии. <…> Не могу, однако же, удержаться от пессимистического замечания, что справедливость предложений, пожалуй, окажется важной причиной, что мое письмо останется без желаемых последствий…»[685]
Более эффективным ученый по-прежнему считал иной образ действий. «Имей я возможность вернуться на Берег Маклая и остаться жить среди туземцев <…> я, вероятно, не стал бы писать писем, а доказал бы на деле, что обладая терпением и необходимою для успеха толикою такта, при действительном понимании характера и положения обеих сторон, со знанием языка и обычаев туземцев, возможно обойтись без несправедливого и жестокого истребления туземцев и сохранить расу, далеко не такую кровожадную, как ее любят описывать любящие эффекты путешественники. <…> Надеюсь, однако же, и желаю иметь со временем возможность на деле подтвердить это убеждение»[686]. Приведенные строки, вероятно, свидетельствуют о том, что и в 1879 году путешественник не отказался от идеи сплотить под своим руководством — в той или иной форме — обитателей Берега Маклая.
Угроза папуасам Берега Мяклая исходила и от Германии. 7 февраля в «Сидней морнинг геральд» появилось сообщение о том, что немецкие официальные лица приобрели земли для устройства угольной станции на островках в проливе между Новой Британией и Новой Ирландией, то есть на ближних подступах к северо-восточной Новой Гвинее. Возрастающая активность европейских держав в океанийском островном мире, в том числе в районе Новой Гвинеи, серьезно повлияла на умонастроения Миклухо-Маклая. Комментируя сообщение сиднейской газеты, он 25 февраля в письме П.П. Семенову выразил мнение, что Россия тоже должна озаботиться созданием морской станции в Океании, но не на Берегу Маклая, и проявил готовность «способствовать сколько-нибудь исполнению этого плана»[687].
Глава пятнадцатая. ПО ОСТРОВАМ МЕЛАНЕЗИИ
Плавание на шхуне «Сэди Ф. Коллер»
Американский шкипер и торговец Эмос Уэббер в 1876 — 1878 годах занимался добычей гуано у северо-западного побережья Австралии и перевозкой этих удобрений на принадлежавшей ему шхуне «Сэди Ф. Коллер» в австралийские порты и гавани португальского острова Тимор. Поссорившись со своими компаньонами и оказавшись перед угрозой судебного разбирательства, он решил сменить поле своей деятельности и снарядить торгово-промысловую экспедицию в южные моря. Уэббер отремонтировал шхуну в сиднейском доке и набрал команду из бывалых моряков и торговцев, уже участвовавших в «островных рейсах». Как видно из списка, сохранившегося в бумагах Миклухо-Маклая, в команду входили уроженцы разных стран и континентов — США, Англии, Германии, Швеции, Дании, Индии и даже острова Святой Елены. Наиболее колоритной и вместе с тем зловещей фигурой был суперкарго — «кавалер» Аугусто Бруно, бывший офицер итальянской армии, набивший руку на меновой торговле с островитянами и охоте на «черных дроздов». Для успеха экспедиции Уэббер решил включить в нее человека, хорошо знакомого с обычаями и нравами обитателей южных морей. Сиднейские судовладельцы посоветовали ему обратиться к «знаменитому русскому путешественнику и исследователю барону Маклаю», и Николай Николаевич принял это предложение.
27 марта 1879 года в газете «Сидней ивнинг ньюс» появилась заметка о предстоящем плавании шхуны «Сэди Ф. Коллер». «Экспедиция преследует научные и коммерческие цели, — говорилось в заметке. — Барон Маклай, исходя из своего опыта, обещает богатый урожай, и выражается надежда, что будут сделаны некоторые важные открытия». Далее излагался предполагаемый маршрут экспедиции, включавший Новую Каледонию, Новую Британию и некоторые другие острова, после посещения которых шхуна должна была подойти к Новой Гвинее. «Прежде всего будет посещен залив Астролябия, а затем обследовано все побережье и, если удастся, приняты меры для налаживания торговли с туземцами, для чего, как надеются, весьма пригодятся знания и опыт барона Маклая»[688]. На следующий день, 28 марта, путешественник опубликовал опровержение в «Сидней морнинг геральд». В нем он утверждал, что не имеет «никакого отношения к этому плаванию как коммерческому предприятию».Миклухо-Маклай был не вполне точен в своем опровержении. В договоре, заключенном им с капитаном шхуны, говорилось, что «капитан Вебер обязывается дать всякое содействие <…> г. Миклухо-Маклаю, связанное с его научными работами, в котором случае г. Миклухо-Маклай обещает содействовать экспедиции своим знакомством с островами, нравами туземцев и т. д.». Другое дело, что путешественник не имел коммерческой заинтересованности в успехе экспедиции и обязался по договору «платить 30 шиллингов в неделю, которая плата включает содержание его слуги»[689]. Чтобы принять участие в этом плавании, Николай Николаевич, страдавший, как всегда, от безденежья, вынужден был занять 150 фунтов стерлингов у У. Маклея.
Миклухо-Маклай собирался посетить на «Сэди Ф. Коллер» несколько островных групп (преимущественно те, где ему еще не довелось побывать), чтобы продолжить изучение этнографии и антропологии меланезийцев, ибо, как он писал Вирхову, считал «весьма важным видеть самому как можно большее число ветвей меланезийского племени»[690]. Однако на сей раз, помимо решения чисто научных задач, он поставил перед собой цель: собрать материалы о похищении людей в рабство и работорговле, чтобы по возвращении в Австралию с фактами в руках развернуть борьбу против этого гнусного торга, все более угрожавшего и обитателям Берега Маклая. Об этом сообщает австралийский друг и первый биограф Миклухо-Маклая Э. Томассен. По его словам, русский путешественник предпочел шхуну «Сэди Ф. Коллер» потому, что она «участвовала в этом торге, постоянно имела на борту множество островитян южных морей, нанятых для добычи трепанга и раковин-жемчужниц, и собиралась совершить вояж, в ходе которого ей предстояло встретиться в нескольких гаванях тихоокеанских архипелагов с "рабочими" судами, пришедшими из Квинсленда, Фиджи и Новой Каледонии»[691].
Плавание обещало быть опасным, так как Миклухо-Маклай не собирался отсиживаться на борту шхуны, а намеревался при малейшей возможности съезжать на берег. Между тем островитяне, возмущенные рейдами охотников на «черных дроздов», мстили первым попавшимся европейцам за своих увезенных силой или обманом сообщинников. Так погиб, например, глава англиканской миссии в Меланезии епископ Джон Паттесон, который приложил немало усилий для распространения христианства, но выступал против работорговли и других злодеяний европейцев. В 1871 году он в маленькой шлюпке отправился с миссионерского судна на островок Нукапу, расположенный в Соломоновом архипелаге, и был убит из засады отравленной стрелой. Как установил командир английского военного корабля, присланного для расследования причин трагедии и наказания убийц, Паттесон погиб через несколько дней после того, как шхуна «Эмма Белл» похитила с Нукапу нескольких молодых меланезийцев. Николай Николаевич знал об этом и других подобных случаях, а потому включил в договор со шкипером «Сэди Ф. Коллер» такой пункт: «В случае, если г. Миклухо-Маклай будет убит туземцами одного из островов, капитан Вебер обещается не делать никаких насилий относительно туземцев под предлогом "наказания"»[692]. Этот пункт убедительнее многословных деклараций демонстрирует гуманизм нашего героя.
Выйдя 29 марта из Сиднея, «Сэди Ф. Коллер» за девять с половиной месяцев посетила Новую Каледонию, несколько островов в архипелаге Новые Гебриды, остров Вануа-Лава (в группе Банкс), риф Канделярия (Ронкадор), группы Хермит и Ниниго, островки Андра и Сорри у северного побережья острова Манус (острова Адмиралтейства), острова Тробриан, остров Симбо (Соломоновы острова), несколько островов в архипелаге Луизиада, дрейфовала у побережья Новой Ирландии и некоторых других островов. Везде, где представлялась возможность, Миклухо-Маклай съезжал на берег и поселялся в прибрежных деревнях. Он изучал антропологические особенности, культуру и быт местного населения, фиксировал изменения, происшедшие под воздействием контактов с европейскими моряками, торговцами и плантаторами, а там, где действовали миссионеры, выяснял их влияние на местный самобытный жизненный уклад. Не отказывался он и от наблюдений за островитянами, которые приезжали на лежащую в дрейфе шхуну для меновой торговли.
Первую остановку «Сэди Ф. Коллер» сделала в апреле в Нумеа — административном центре Новой Каледонии, аннексированной в 1853 году Францией и превращенной в место ссылки и каторги. Здесь Миклухо-Маклай вник в особенности французской колониальной политики, с которой он впервые познакомился во время плавания на «Витязе». В 1878 году, незадолго до прибытия «Сэди Ф. Коллер», на Новой Каледонии произошло восстание коренного населения, которое охватило те районы острова, где наиболее интенсивно шла французская колонизация. Жители этих областей больше других страдали от изъятия общинных земель, от передачи все новых и новых территорий французским колонистам и отбывшим свой срок каторжникам, от засилья католических патеров и постоянного вмешательства администрации в традиционную социальную структуру и взаимоотношения между племенами. Колониальным властям удалось внести раздор в ряды восставших и через несколько месяцев сломить их сопротивление. Как вспоминала участница Парижской коммуны Луиза Мишель, сосланная на Новую Каледонию, восстание «было подавлено в крови, мятежные трибы (племена. — Д. Т.) были наказаны расстрелом каждого десятого»[693].
Помимо уголовников в эту отдаленную колонию отправляли политических заключенных. В 1872 — 1873 годах сюда было доставлено около четырех тысяч парижских коммунаров. Тех из них, кто по приговору суда должен был отбывать каторгу, поместили в тюрьму на островке Ну, где, по высказываниям другого коммунара, Ж. Алемана, они, нередко скованные попарно, носили на ногах тяжелые цепи и подвергались жестоким истязаниям. Большинство коммунаров разместили в охраняемых поселениях на полуострове Дюко, недалеко от Нумеа.
Ко времени прибытия Миклухо-Маклая на Новую Каледонию режим каторги и ссылки для коммунаров был значительно смягчен. Левые и центристы во французском парламенте требовали амнистии участникам Парижской коммуны (она была объявлена в 1881 году). Жан Ольри, сменивший в 1878 году прежнего губернатора колонии, палача и садиста, любезно предложил знаменитому путешественнику осмотреть места, где содержатся коммунары. Небольшой пароход доставил его на остров Ну, где явно подготовились к приезду именитого лосетителя. Николай Николаевич увидел тщательно прибранные тюремные бараки с камерами-клетками, мастерские, госпиталь. О кандалах и избиениях, разумеется, не было и речи. Неизвестно, сказали ли Миклухо-Маклаю, что по приказу из Парижа каторжники-коммунары были перевезены с Ну на полуостров Дюко и уравнены в правах со ссыльными, так что в тюрьме на островке остались только уголовники.
Путешественник побывал также в поселениях ссыльных коммунаров. Многие из них построили домики и, приспособившись к жаркому климату, развели — часто коллективные — сады и огороды. Этим «фермерам» и находившимся среди них ремесленникам и художникам разрешили, с некоторыми ограничениями, продавать свою продукцию в Нумеа. Николай Николаевич внимательно приглядывался к хозяйственной деятельности белых людей в тропиках. Через несколько лет он вспомнил ссыльных коммунаров, обдумывая разные варианты Папуасского союза и русской вольной колонии на Тихом океане.
Простояв восемь дней в гавани Нумеа, «Сэди Ф. Коллер» посетила затем Лифу, один из островов Лойялти (Луайоте), расположенный к востоку от Новой Каледонии и входивший в состав этой колонии. Здесь сравнительно мирно уживались французские католические и английские протестантские миссионеры. Николай Николаевич побывал в школе, где посланцы Лондонского миссионерского общества готовили из юношей-островитян тинеров — помощников миссионеров с целью отправки их на разные острова Меланезии и на Новую Гвинею.
К сожалению, сравнительно подробные записи дошли до нас лишь о пребывании путешественника на Новой Каледонии и Лифу, а также на островах Андра и Сорри, на первом из которых ему уже довелось побывать в 1876 году во время плавания на «Си берд»[694]. Наблюдения Миклухо-Маклая, сделанные на Андре и Сорри, — несомненный вклад в этнографию Меланезии, не утративший своего значения до наших дней.
Дневники, рассказывающие о пребывании путешественника на Новых Гебридах и других посещенных шхуной островах Меланезии, не сохранились или до сих пор не разысканы. Особенно огорчительно почти полное отсутствие записей о жителях острова Симбо, где шхуна «по случаю починки снастей» простояла 20 дней. Об интенсивности полевых исследований, проводившихся ученым во время этого плавания, свидетельствуют уцелевшая записная книжка и в особенности большой альбом с несколькими десятками карандашных и акварельных рисунков. На них отображены люди, части человеческих тел, орнаменты татуировок, типы жилищ, предметы культа, оружие, пейзажи с моря, очертания береговой линии и т. д. Рисунки снабжены краткими пояснениями. По краям листов или на обороте нередко приведены маленькие словники языков обитателей посещенных островов, причем отмечено, что жители Меле, расположенного у новогебридского острова Эфате, говорят на полинезийском диалекте. Попадаются в альбоме и другие записи, не имеющие отношения к рисункам. Миклухо-Маклай записал, например, сообщение доктора Макдональда, поселившегося в одной из местных гаваней, о значительном распространении гомосексуализма у новогебридцев; в лесу на деревьях встречались зарубки с условными обозначениями, означающими соитие мужчины с мужчиной. В связи с этим Николай Николаевич сделал такую запись: «Я часто замечал особенным образом завлекающие взгляды молодых парней»[695]. Очевидно, такие предложения пользовались спросом у некоторых европейцев, посещающих эти острова.
Значительное внимание во время путешествия на «Сэди Ф. Коллер» Миклухо-Маклай уделял подготовке к печати материалов своей последней экспедиции на Новую Гвинею и других сообщений. Например, 28 дней, проведенных на рифе Ронкадор, были посвящены «письменной работе» ввиду недоступности объектов наблюдения. Ученый работал над рукописями и во время длительных морских переходов. На борту шхуны он завершил две статьи о втором пребывании на Берегу Маклая, написал письмо-отчет в РГО о своей деятельности в Австралии, три сообщения о сексуальных обычаях австралийских аборигенов для журнала, издаваемого Вирховым, и некоторые другие тексты. Эти рукописи удалось отослать с оказией в Европу.
Уже в Нумеа, куда шхуна пришла прямо из Сиднея, Миклухо-Маклай столкнулся с ужасами работорговли. Оказалось, что в этой пенитенциарной колонии не только жестоко эксплуатировалось и истреблялось коренное население, но и возник центр торговли «законтрактованными рабочими», на что закрывали глаза подкупленные французские чиновники. «Самые скандальные сцены пришлось видеть г-ну Маклаю в Нумеа, где черные продавались буквально с молотка, — писал в 1882 году известный французский историк и публицист Г. Моно со слов русского путешественника. — Легко представить себе, к какой безнравственности приводит это возрождение торговли черными, прикрытое покровом ханжества. Колонист, желающий иметь в услужении красивую негритянку (меланезийку. — Д. Г.), должен только обратиться к капитану одной из шхун, участвующих в этом торге, и заказ будет аккуратно выполнен. Однажды г-н Маклай, посетив одну из таких шхун на рейде Нумеи, увидел группу негритят в возрасте от десяти до пятнадцати лет. Он спросил капитана, а потом государственного комиссара, как случилось, что были завербованы мальчики, слишком юные для того, чтобы с пользой трудиться. Оба отвечали: "Видите ли, о вкусах не спорят"»[696].
Не все европейцы, живущие в Нумеа, одобряли эти бесчинства. Николай Николаевич прочитал 9 апреля 1879 года в местной газете письмо некоего К. Коффа, в котором автор рекомендовал властям ввести две или три тысячи белых женщин: «Они заменят новогебридцев в домах Нумеа и на фермах внутренних районов. <…> В городах Мертвого моря, уничтоженных небесным огнем, возможно, совершалось меньше мерзостей, чем безнаказанно совершается почти что при свете дня в нашей несчастной колонии. Ах, если бы были изучены болезни, от которых умирают новогебридцы!» Миклухо-Маклай так прокомментировал письмо Коффа: «К сожалению, должен сказать, что это заявление подтверждается фактами»[697].
На Новых Гебридах — основном районе «охоты на черных дроздов» — Миклухо-Маклай изучил методы, применяемые при захвате островитян, их жестокую эксплуатацию на борту европейских и американских судов, формы торговли «живым товаром», тяжкую участь большинства тех захваченных работорговцами меланезийцев, которым позднее удалось вернуться в родные места, отрицательное влияние этого торга на традиционное общество архипелага. Дополнительные факты ученый собрал на острове Симбо, в группах Ниниго и Хермит. К концу путешествия у него сложилось ясное представление о всей системе захвата островитян в неволю и последующей их продажи и перепродажи. «Самое поверхностное и беспристрастное наблюдение, — сообщал он в 1881 году в РГО, — открывает вереницу злоупотреблений, сопровождающих вывоз туземцев Меланезии на плантации в Австралию, Новую Каледонию, Фиджи, Самоа. Это весьма редко без обмана, иногда с помощью насилия обходящееся добывание темнокожих рабочих на плантации прикрывается в английских колониях эпитетом "free labour trade", так как название "slave trade"[698], хотя и более приближается к истине, не особенно благозвучно и должно быть избегнуто. <…> Собранные факты по этому вопросу <…> я считаю долгом довести до сведения лиц, имеющих возможность, если захотят, облегчить участь пострадавших и отчасти, хотя в незначительной степени, предупредить повторение постоянно повторяющихся злоупотреблений белых на островах Тихого океана»[699].
Отвратительные сцены ученому приходилось наблюдать и на самой «Сэди Ф. Коллер», на борту которой находилось 40 — 50 нещадно эксплуатируемых островитян, завербованных для добычи трепанга. Миклухо-Маклай неоднократно заступался за этих несчастных, конфликтуя со шкипером и его помощниками. В сентябре — октябре 1879 года «Сэди Ф. Коллер» находилась недалеко от северо-восточного побережья Новой Гвинеи. По условиям соглашения, заключенного со шкипером, ученый мог настаивать на посещении шхуной Берега Маклая. И хотя ему было очень важно узнать, что там происходит, он сам освободил шкипера от выполнения этого обязательства: «<…> К сожалению, — объяснил он в том же сообщении, посланном в РГО, — мое мнение о личностях, находившихся на шхуне, было таково, что я не захотел подвергнуть моих черных друзей риску этого знакомства»[700].
Загадочная «желтая раса»
В январе 1880 года Миклухо-Маклай высадился с ненавистной ему «Сэди Ф. Коллер» на острове Базилаки в архипелаге Луизиада — россыпи островов, расположенных у юго-восточной оконечности Новой Гвинеи, так как решил воспользоваться возможностью посетить еще неизвестную ему часть огромного острова, который занял столь важное место в его жизни. На корабельной шлюпке путешественник перебрался на близлежащий остров Варе (Вари), где обосновался христианский тичер, уроженец Лифу, который ожидал прихода маленького парохода «Элленгоуэн», принадлежащего Лондонскому миссионерскому обществу[701]. Не теряя времени, Николай Николаевич принялся изучать язык и культуру местных жителей, сделал несколько рисунков.
Но на третий день, 21 января, к Варе подошло суденышко водоизмещением 36 тонн, с паровым двигателем, питавшимся дровами. На «Элленгоуэне» находились два миссионера — Джеймс Чалмерс и Томас Безвик. Они собирались совершить путешествие вдоль юго-восточного побережья Новой Гвинеи с частыми остановками для встреч с подконтрольными им ти-черами и для заготовки дров. Такой маршрут очень устраивал Миклухо-Маклая, и он с благодарностью принял предложение старшего миссионера Чалмерса сопутствовать им в этом плавании. За два с половиной месяца пароходик посетил около десятка деревень (Самараи, Суру, Маупа, Керепуна, Кало и др.). В Суоу, где был построен домик для Чалмерса, Николай Николаевич получил три письма из Европы, оставленные для него командиром английской канонерской лодки «Бигль», одно из них — от его сестры Ольги, которая ответила, наконец, на его отчаянные призывы не забывать брата.
Дневник, который вел в эти месяцы Миклухо-Маклай, был впоследствии подготовлен им для публикации. Как обычно, ученый интересовался прежде всего антропологическими особенностями местного населения и, не ограничиваясь визуальными наблюдениями, произвел довольно много измерений голов островитян. Он опроверг сообщения некоторых путешественников о якобы обитающей здесь «желтой малайской расе». Более светлый цвет кожи жителей нескольких деревень в районе Порт-Морсби, говоривших к тому же не на папуасских, а на аустронезийских (малайско-полинезийских) языках, Миклухо-Маклай объяснил незначительной «полинезийской или малайской примесью»[702]. По современным научным представлениям, указанное явление отражает историю заселения Океании, скорее всего, миграции через этот регион групп протополинезийцев.
Внимание исследователя привлекли деревни островитян, многие из которых располагались не на суше, а на мелководье и состояли из длинных рядов свайных построек, соединенных шаткими мостками. Самая большая из таких деревень — Ануа-пата (совр. Хануабада), сохранившаяся до наших дней, теперь примыкает к городу Порт-Морсби, столице независимого государства Папуа — Новая Гвинея.
Сан-Франциско. Но в начале 1881 года русский генеральный консул в этом городе в ответ на запрос путешественника сообщил, что заболевший Уэббер передал на Фиджи доверенные ему ящики капитану английского барка «Чеверт» и даже оплатил их доставку по назначению. Миклухо-Маклай получил, да и то с большим опозданием, только часть ценного для него груза.
Ученый заинтересовался узорами татуировки, которая украшала тела женщин и девушек прибрежных деревень. «Татуировки представляют значительный интерес для этнолога, — объяснил Миклухо-Маклай свое увлечение, — <…> потому что известные орнаменты переходят как бы по наследству от одного поколения к другому и совершенно характеристичны для известной местности; при переселении туземцы вместе с языком и другими физическими особенностями переносят также и татуировку в свое новое местожительство»[703]. Оказалось, что некоторые детали татуировки разнились в посещенных деревнях, и Николай Николаевич везде, где представлялась возможность, часами зарисовывал ее орнаменты с охотно позировавших ему — за небольшой брикетик табака — женщин. Миссионеры и их помощники, тичеры, пытались бороться с этим обычаем, но безуспешно, так как татуировка была неотъемлемым элементом местной культуры.
В дневниковых записях путешественника несколько раз упоминается Макане — шестнадцатилетняя обитательница деревни Кало, которую миссионеры считали «заблудшей овцой». Эта девушка явно приглянулась Миклухо-Маклаю. Первый сеанс зарисовывания татуировки пришлось прервать ввиду появления миссионера. Но через три дня, когда миссионер покинул деревню, Макане сама пришла под свайную хижину, где находился Миклухо-Маклай, и терпеливо позировала ему, пока он изображал на бумаге орнаменты татуировки, покрывавшей ее грудь и плечи. «Когда дошел до пояса, — вспоминает путешественник, — Макане без всяких ужимок спустила свою юбку из бахромы ниже колен»[704]. По-видимому, и девушке понравился вежливый и обходительный чужеземец, который попросил местных женщин сделать ему татуировку на левом плече. Во всяком случае, когда Николаю Николаевичу при довольно драматических обстоятельствах пришлось через три года вновь посетить Кало, Макане прибежала на встречу с ним, и на следующий день он за несколько часов «сделал новый рисунок татуировки ее туловища и ног до колен спереди»[705].
Прибрежные низменности и мангровые болота, кишевшие комарами, «подзаразили» Миклухо-Маклая новой разновидностью малярии. Если во время плавания на «Сэди Ф. Коллер» Николай Николаевич сравнительно редко подвергался ее атакам, то на южном берегу приступы повторялись каждый день, все более изнуряя путешественника. Заметив болезненное состояние Миклухо-Маклая, Чалмерс пригласил его погостить в своей главной резиденции, построенной на холме близ Ануапаты. Сидя на веранде, обращенной к морю, Николай Николаевич наблюдал за флотилиями судов, каждое из которых состояло из нескольких лодок-долбленок, соединенных деревянной платформой, над которой возвышались напоминающие клешню краба паруса из циновок. Эти многокорпусные суда (лакатои), изготовлявшиеся мастерами из этнической группы моту, совершали дальние торговые экспедиции вдоль побережья залива Папуа.
«Пароксизмы лихорадки были не особенно сильны и позволяли мне каждый день посвящать несколько часов письменной работе», — вспоминал Миклухо-Маклай[706]. Он подолгу разговаривал с Чал мерсом, который оказался интересным собеседником.
Имя Джеймса Чалмерса (1841 — 1901) вписано в историю Новой Гвинеи. Выходец из бедной семьи (его отец был каменщиком), он после окончания начальной школы учился в английском миссионерском колледже, где наряду с богословием, методикой обращения «язычников» в христианство и различными ремеслами изучал и общеобразовательные предметы — историю, философию, естественные науки. От природы любознательный, обладающий гибким умом, Джеймс расширил свой кругозор усердным чтением — отнюдь не только Священного Писания. Исходя из церковных догматов о сотворении всех человеческих рас небесным Творцом, этот крупный, сурового вида шотландец и чернокожих «дикарей» считал за людей, старался понять их жизненный уклад. После десяти лет про-зелитической работы на островах Кука Чалмерс в 1877 году переехал на южное побережье Новой Гвинеи и вскоре стал неформальным главой английских миссионеров в Папуа.
Миклухо-Маклай обсуждал с Чалмерсом происхождение островитян, живущих в районе Порт-Морсби. Джеймс считал, что вопрос решится, «когда язык и мифология туземцев будут известны», на что русский путешественник отвечал: «Туземцы любят сказки, скоро их усваивают и хорошо помнят, хотя и примешивают много своего. Мифология поэтому никогда не может иметь одинакового значения с антропологическими наблюдениями». От обсуждения научных проблем собеседники перешли к актуальным политическим вопросам, и тут выяснилось, что их взгляды во многом совпадают. Они выступали в защиту человеческих прав островитян от посягательств чужеземных пришельцев и считали необходимым бороться против рейдов работорговцев и самой страшной угрозы — присоединения Юго-Восточной Новой Гвинеи к колонии Квинсленд, так как в этом случае их темнокожих друзей будет ждать печальная участь австралийских аборигенов[707].
Миклухо-Маклай прожил в резиденции Чалмерса более месяца, но, несмотря на прием больших доз хинина, «пароксизмы» не прекращались. Путешественник понял, что ему противопоказано пребывание в этих местах. К тому же нельзя было больше медлить с возвращением в Сидней, так как он получил известие, что после его отъезда процесс создания зоологической станции не сдвинулся с мертвой точки. 6 августа Николай Николаевич отправился на «Элленгоуэне» вдоль побережья Новой Гвинеи к Торресову проливу, чтобы на острове Терсди (Вайбин) сесть на пароход, останавливавшийся здесь на пути из Европы в Австралию.
Со дня отплытия из Ануапаты Николай Николаевич, похоже, перестал вести дневник. Во всяком случае, начиная с этой даты ни сами дневниковые записи, ни их версия, подготовленная автором к публикации, нам неизвестны. Приходится довольствоваться его записной книжкой и краткими сведениями, которые содержатся в некоторых письмах и статьях путешественника.
Несмотря на болезненное состояние и желание поскорее вернуться в Сидней, Николай Николаевич не смог побороть искушения познакомиться с созвездием небольших островов, расположенных в Торресовом проливе и у мыса Йорк — северо-западной оконечности Австралии. Поэтому он не воспользовался возможностью совершить быстрый переход на английской канонерке или торговой шхуне, а предпочел отправиться на «Элленгоуэне», которому было поручено посетить местности к западу от Порт-Морсби, где поселились тичеры, присланные Лондонским миссионерским обществом. До конца марта Николай Николаевич побывал в нескольких новогвинейских деревнях, а в апреле высаживался с «Элленгоуэна» на острова Эруб, Мер, Дауан, Сайбай и Мабиак (Мабуаиг) в Торресовом проливе. Миссионерский пароходик простаивал у каждого из этих островов не больше трех дней, но и за это короткое время Николай Николаевич успевал собрать обширную информацию о численности местных жителей, их этнорасовом составе, занятиях и особенностях культуры, своеобразии здешней фауны, приобрел несколько черепов и стал обладателем редкого сокровища: островитяне поймали дюгоня, и путешественник выменял у них голову животного, извлек и тщательно законсервировал его мозг, так как хотел продолжить в Австралии сравнительно-анатомическое изучение мозга — от акул до человека.
У ученого, как это не раз случалось в его жизни, словно открылось второе дыхание: ослабевший и измотанный злокачественной тропической малярией, он трудился буквально от зари до зари, делая краткие заметки и зарисовки в записной книжке. Восемь ее страничек, касающихся пребывания в Торресовом проливе, современная австралийская исследовательница А. Шнакел считает уникальным историческим источником[708].
Ввиду оживленных сношений через Торресов пролив коренные жители этих островов представляли как бы промежуточную ступень между населением австралийского мыса Йорк и прилегающего участка побережья Новой Гвинеи. Как установил Миклухо-Маклай, островитяне быстро вымирали, главным образом от пьянства и заразных болезней, и смешивались с поселившимися здесь полинезийцами и малайцами. Дело в том, что на отмелях близ этих островов были обнаружены богатые залежи раковин-жемчужниц. В 1880 году, по подсчетам Миклухо-Маклая, на островах Торресова пролива действовали 12 станций, созданных для добычи этих ценных даров моря. Именно сиднейские фирмы, владевшие станциями, привезли сюда ныряльщиков — малайцев и полинезийцев. Общение с ними подрывало традиционный жизненный уклад местных жителей, вело к их метисации и вымиранию.
На островах Торресова пролива находились три тичера, посланные Лондонским миссионерским обществом. Двое из них вели себя настолько не по-христиански, что вызывали ненависть у своей паствы. На острове Мабуаиг тичер Санейш, уроженец острова Маре (группа Луайоте), торговал алкогольными напитками, пьянствовал со своими земляками-ныряльщиками, насиловал женщин, натравливал на островитян собак. Другой уроженец группы Луайоте, по имени Джосиа, вел себя на острове Мер как тиран и садист. Этот «евангелист» нещадно порол кнутом мужчин и женщин за малейшие провинности, а то и без всякой причины, стравливал местных жителей и ныряльщиков. Находясь на этом острове, Миклухо-Маклай узнал о его бесчинствах и рассказал о них представителю правительства Квинсленда на острове Терсди. Чалмерс сместил Санейша и сделал строгое внушение Джосии, но не сообщил об их бесчинствах директорам Лондонского миссионерского общества, чтобы не портить благостной картины успехов возглавляемой им миссии.
20 апреля 1880 года Миклухо-Маклай покинул «Элленгоуэн» на острове Терсди, где находилась резиденция уполномоченного квинслендских властей X. Честера, призванного наблюдать за порядком в Торресовом проливе. Здесь у Николая Николаевича на фоне общего истощения произошел нервный срыв, сравнимый с тем, который он пережил по возвращении в Сингапур из экспедиции на Новую Гвинею. К счастью, в доме Честера путешественник не только отдохнул, но и встретил заботливый уход. Молодая жена квинслендского чиновника, напуганная болезненным состоянием Миклухо-Маклая, самоотверженно постаралась укрепить его дух и тело и поднять больного, как ей показалось, со смертного одра. Об этом она сама рассказывала немецкому путешественнику и исследователю Отто Финшу, неоднократно бывавшему на острове Терсди. Госпожа Честер, по-видимому, влюбилась в знаменитого скитальца, но он довольно решительно дал ей понять, что считает женщин существами низшего порядка[709]. Уже 26 апреля Миклухо-Маклай, воспрянув духом, поднялся на борт парохода «Корея», который зашел на остров Терсди для заправки углем по пути на восточное побережье Австралии.
Глава шестнадцатая. ЛЮБОВЬ И ПОЛИТИКА
Восемь месяцев в Квинсленде
Зайдя по пути в Сомерсет, Куктаун и Таунсвил, где Миклухо-Маклай «не упустил удобного случая осмотреть, измерить и сфотографировать то, что осталось от австралийских аборигенов»[710], пароход «Корея» 12 мая 1880 года прибыл в Брисбен — главный город колонии Квинсленд, образованный в 1859 году путем отделения от Нового Южного Уэльса. Николай Николаевич первоначально предполагал остаться здесь на несколько дней, но пробыл в этой колонии восемь месяцев. Его австралийские дневники (если они существовали) до нас не дошли, но письма и статьи путешественника, а также газетные сообщения позволяют довольно полно представить его жизнь и деятельность в Квинсленде и других частях Австралии[711].
Брисбен, расположенный на холмистых берегах широкой судоходной реки того же названия, недалеко от ее устья, был в то время окружен роскошными плодовыми садами, парками и виллами — усадьбами местных богачей и правительственных чиновников. В 1880 году это был небольшой город с населением 30 тысяч человек, застроенный одно-двухэтажными домами, с немощеными улицами, не имевший централизованного водоснабжения и канализации, а потому страдавший от частых эпидемий.
Миклухо-Маклай задержался в Квинсленде не только вследствие своей недостаточной целеустремленности и неувядаемого стремления постичь все незнаемое, но и потому, что здесь перед ним открылись заманчивые перспективы хорошо отдохнуть и провести интересные исследования. Если в Сиднее ощущалась острая нехватка специалистов высокой квалификации и наука находилась в «младенческом» состоянии, то Брисбен по сравнению с Сиднеем выглядел как глухое захолустье. Поэтому местные власти и самые богатые семьи колонии с распростертыми объятиями приняли знаменитого исследователя.
Вскоре по прибытии Николай Николаевич отправился с визитом к главе квинслендского правительства Артуру Пал-меру, с которым он познакомился в 1875 году все в том же Джохор-Бару — месте, где обычно останавливались крупные британские чиновники по пути в страны Тихого океана. Палмер любезно принял русского путешественника. По его указанию Миклухо-Маклаю предоставили бесплатный проезд по местным железным дорогам, выделили комнату для лабораторных работ в старом помещении Квинслендского музея, только что переехавшего в новое специально построенное для него здание, разрешили пользоваться фотоаппаратурой землемерного ведомства. Как видно из архивных документов, Палмер по просьбе русского исследователя распорядился выдать ему сразу после казни тела трех преступников — китайца, тагала и австралийского аборигена[712]. Николай Николаевич тщательно изучил и сфотографировал их мозги, а труп аборигена в специальной консервирующей жидкости отослал для исследования в Берлин Р. Вирхову[713].
В июле Миклухо-Маклай отправился в свою первую поездку вглубь австралийского континента, чтобы проверить обоснованность слухов о некоем «безволосом племени», якобы обитающем в бассейне реки Баллон в южном Квинсленде. Сначала он проехал поездом 280 миль до Тулбы, затем в повозке, запряженной быками, за два с половиной дня добрался до городка Сент-Джордж. Поездка проходила по холмистой местности с небольшими группами деревьев и сочным травяным покрытием; воздух был чист и прозрачен. В этом благодатном субтропическом климате малярия редко беспокоила Миклухо-Маклая.
Возле Сент-Джорджа находилась большая скотоводческая «станция» Гулнарбер, управляющий которой, Дж. Кирк, охотно согласился помочь исследователю. Но, по выражению Миклухо-Маклая, вблизи гора оказалась маленьким холмиком: удалось обнаружить лишь одну семью аборигенов, отдельные представители которой были лишены волосяного покрова. Николай Николаевич тщательно обмерил, зарисовал и сфотографировал этих безволосых людей и статью о них послал для публикации Вирхову. Продолжая наблюдать и измерять коренных австралийцев, Николай Николаевич вскоре присоединился к мнению своего выдающегося учителя и коллеги Т. Хаксли, который считал, что аборигены составляют особую австралийскую расу.
Вернувшись в Брисбен, Миклухо-Маклай продолжил анатомические исследования, посетил новое здание Квинслендского музея, маленький штат которого проводил разбор и инвентаризацию коллекций после недавнего переезда. Здесь он встретил У. Хэзуэлла, с которым познакомился в Сиднее накануне отплытия на «Сэди Ф. Коллер». Этот молодой биолог переехал в Брисбен, получив предложение стать куратором Квинслендского музея, а потому надежда Николая Николаевича на то, что в его отсутствие именно Хэзуэлл займется вместе с Э. Рэмзи хлопотами по устройству зоологической станции, не оправдалась. Хэзуэлл представил русского путешественника О. Грегори — члену попечительского совета музея.
Огастес Грегори (1819 — 1905) — одна из самых колоритных фигур в истории Квинсленда. Отважный путешественник и талантливый геодезист, он внес крупный вклад в исследование северных и западных районов Австралии. Много лет Грегори возглавлял землемерную службу колонии, занимаясь отведением земли для строительства новых городов и поселков, оформлением земельных блоков в еще необследованных местностях для продажи или сдачи их в аренду желающим заняться скотоводством и земледелием. При этом, как утверждают историки, он не забывал об интересах своих друзей — крупных земельных собственников, «отцов-основателей» колонии. Старый холостяк, руководитель масонской ложи Квинсленда, Грегори, будучи членом верхней (назначаемой губернатором) палаты парламента, придерживался крайне консервативных взглядов во внутренней политике и был сторонником аннексии Квинслендом Юго-Восточной Новой Гвинеи. Вместе с тем он, по меркам своего времени, был человеком широкообразованным, увлекался историей и естественными науками, выписывал из Европы несколько журналов и новинки художественной и научной литературы. Миклухо-Маклай нашел его интересным собеседником.
Несмотря на различия во взглядах, Грегори и русский путешественник стали добрыми приятелями, почти что друзьями, не касаясь по умолчанию «деликатных» тем. Огастес пригласил «барона Маклая» погостить в его имении Рейнворт, расположенном в восхитительной местности недалеко от Брисбена. «Шесть недель моего пребывания в Рейнворте, его резиденции, — писал Миклухо-Маклай, — были для меня поучительны и приятны благодаря его обширным познаниям в различных отраслях науки и большому опыту путешественника»[714].
Примеру Грегори последовали другие богатые скотоводы. Один за другим они приглашали русского ученого посетить их владения в юго-восточной части Квинсленда. В конце октября Миклухо-Маклай приехал в Джимбур — имение крупного земевладельца и политика Джошуа Белла, расположенное в плодородной холмистой долине Дарлинг-даунс, к западу от Брисбена. Один из наиболее богатых и влиятельных «патрициев» Квинсленда, Белл был председателем законодательного собрания колонии, а с марта по декабрь 1880 года исполнял обязанности губернатора, пока его друг, губернатор А. Кеннеди отдыхал в Европе.
Белл построил в глуши, в еще слабо освоенном районе усадьбу с дворцом, которую современники прозвали «Меккой Квинсленда». Брисбенский архитектор спроектировал массивное двухэтажное здание, которое было сложено из песчаника и щедро отделано кедром, вырубленным в близлежащих горах. По желанию заказчика в этом здании, окруженном регулярным парком, причудливо сочетались элементы английской и французской дворцовой архитектуры. Дом освещался газом, который вырабатывали из каменного угля на территории усадьбы, и был снабжен питьевой водой, которая подавалась по трубам из реки Кондомайна, причем насос приводился в движение ветряным двигателем. Как писал Миклухо-Маклай, в Джимбуре он «имел возможность в течение примерно четырнадцати дней в совершенном покое пересматривать свои путевые заметки и возобновить свою запущенную корреспонденцию»[715].
Обширные владения Белла в районе Джимбура стали многопрофильным и высокодоходным предприятием. Отсюда на рынок поставляли мясо, шерсть и кожи. На племенной ферме выращивались овцы-мериносы, на конном заводе — породистые лошади для скачек и верховой езды. Вблизи от усадьбы вырос поселок, в котором жили — в хижинах и бараках — сотни сельскохозяйственных рабочих, преимущественно аборигены и метисы. Николай Николаевич наведывался в этот поселок, расспрашивая о различных аспектах исчезающей культуры коренных австралийцев. Особенно интересовали его сексуальные обычаи — модная тема в журналах Вирхова.
Из Джимбура Миклухо-Маклай отправился в Пайкдейл — резиденцию другого богатого сквоттера, Доналда Ганна. За шесть недель, проведенных в Пайкдейле, путешественник, благодаря содействию гостеприимных хозяев, сумел получить для сравнительно-анатомического исследования мозги различных видов кенгуру и коала, а также утконоса и ехидны. Завершив статью о путешествии по островам Меланезии и юго-восточному побережью Новой Гвинеи, он послал отсюда рукопись в РГО[716].
Новый год Миклухо-Маклай встретил в другом имении Ганна — Клерво, где, занявшись палеонтологическими исследованиями, собрал множество окаменелых костей Diprotodon australis, Phoscolomys gigas и других давно вымерших представителей плейстоценовой австралийской фауны. Эти находки, высоко оцениваемые современными специалистами, ныне хранятся в Сиднейском университете[717]. В бумагах путешественника сохранился еще один след его пребывания в Клерво: карандашный портрет молодой девушки — англоавстралийки. Неизвестно, кем была эта девушка — родственницей управляющего имением или одной из служанок. Зная обыкновение нашего героя запечатлевать на бумаге облик понравившихся ему женщин, можно с некоторой долей вероятности включить этот портрет в галерею «женщин Маклая».
Радушный прием, оказанный Миклухо-Маклаю многими видными деятелями Квинсленда, его увлечение научными исследованиями не помешали ему разглядеть оборотную сторону быстрого развития этой переселенческой колонии, роста благосостояния колонистов. «Обращение с дикарями (аборигенами. — Д. Т.) самое антигуманное, — рассказывал он впоследствии о своих впечатлениях. — Их вытесняют внутрь страны, всячески преследуют, и убийство черного не считается даже преступлением»[718]. Свидетельства преступлений, совершенных против аборигенов полицией и белыми колонистами, путешественник обобщил в письме секретарю РГО: «В северной Австралии, где туземцы еще довольно многочисленны, в возмездие убитой лошади или коровы белые колонисты собираются партиями на людскую охоту и убивают сколько удастся черных, не думая о том, что, бттесняя каждый день туземцев из более плодородных областей, они ставят их в положение или голодать или убивать скот белых взамен растений и животных, уничтоженных или редеющих вследствие овцеводства и плантаций у белых»[719].
Отношение к аборигенам было под стать обращению с другими «черными» — меланезийцами, которых доставляли в Квинсленд охотники за «черными дроздами». Непосильный и непривычный труд на сахарных плантациях, негодная для питья вода, жестокие истязания, болезни при отсутствии медицинской помощи — все это вызывало огромную смертность в плантационных поселках. Продолжая расследование, которое он вел во время плавания на «Сэди Ф. Коллер», Миклухо-Маклай собрал большой материал о печальной участи меланезийцев в Квинсленде. Ученый пришел к выводу, что ни в коем случае нельзя допустить поглощения восточной части Новой Гвинеи Квинслендом, о чем мечтали местные плантаторы и их покровители; по сравнению с этим исходом превращение Восточной Новой Гвинеи в отдельную британскую колонию было бы меньшим злом. Такое убеждение, которого придерживался также миссионер Чалмерс, во многом обусловило позицию Миклухо-Маклая в новогвинейском вопросе на ближайшие годы.
Была еще одна причина, по которой Миклухо-Маклай — возможно бессознательно — решил задержаться в Квинсленде: проживание в качестве почетного гостя в домах местных богачей не затрагивало его тощий кошелек, а жизнь в Новом Южном Уэльсе требовала значительных расходов. К счастью, вскоре по прибытии в Квинсленд Николай Николаевич узнал, что русский консул в Сиднее Э.М. Поль получил для него из Петербурга 4500 рублей, конвертированных в 606 фунтов. Эта помощь позволила путешественнику по возвращении в столицу Нового Южного Уэльса вернуть с процентами долг У. Маклею, оплатить некоторые счета, а оставшиеся средства использовать на проживание в Австралии. Но его главный долг — батавской фирме «Дюммлер и Кº», достигший из-за нарастания процентов внушительной суммы в 13,5 тысячи гульденов, — так и остался непогашенным.
Открытие биологической станции
Николай Николаевич вернулся в Сидней в конце января 1881 года и сразу же возобновил свои усилия по созданию в Уостонс-Бей зоологической станции. За время его почти двухлетнего отсутствия дело мало подвинулось вперед. Правительство Паркса в соответствии с заявкой, поданной перед отплытием Миклухо-Маклаем, выделило безвозмездно земельный участок на мыске Лейинг, а также назначило попечительский совет, который должен был заниматься делами, связанными со строительством станции. По распоряжению Паркса председателем совета был назначен известный врач Дж. Кокс, а его почетным секретарем — Миклухо-Маклай[720]. По возвращении «барона Маклая» в Сидней министр просвещения Дж. Робертсон утвердил его почетным директором будущей станции, которую попечители — в соответствии с ее спецификой — предложили переименовать в биологическую, а потом в Морскую биологическую станцию. Под этим названием она вошла в историю австралийской науки.
Правительство Нового Южного Уэльса предусмотрело в бюджете на 1879 год выделение 300 фунтов на строительство станции при условии, что такая же сумма будет собрана по подписке. Но в одном из местных банков лежало лишь около 100 фунтов, которые Николай Николаевич, как упоминалось выше, сумел добыть перед отправлением на «Сэди Ф. Коллер». Путешественник решил предпринять «ход конем» — использовать соперничество Сиднея и Мельбурна, главного города колонии Виктория. В конце марта он отправился в Мельбурн и с помощью знакомого ему ботаника Ф. Мюллера за несколько дней вошел в доверие к директору Национального музея и профессору местного университета Ф. Маккою, президенту Королевского общества Виктории Р. Эллери, издателю газеты «Аргус» и других выдающихся личностей города. 6 апреля на совместном заседании Королевского общества Виктории и трех других, маленьких научных обществ Миклухо-Маклай произнес зажигательную речь, добившись решения поддержать его проект, причем не только индивидуальной подпиской, но также скромными пожертвованиями из фондов обществ, представленных на заседании. Не желая отставать от своих мельбурнских «собратьев», Королевское общество Нового Южного Уэльса — карликовая организация, которая не ладила с Линнеевским обществом, возглавляемым У. Маклеем, приняла аналогичное решение. В результате требуемая сумма была собрана. Министерство финансов колонии, ознакомившись со списком жертвователей, выделило обещанные 300 фунтов из резервных сумм, и работа на стройке в Уостонс-Бей закипела[721].
Чтобы дать возможность барону Маклаю начать изыскания, не дожидаясь завершения строительства Морской биологической станции, Г. Парке распорядился предоставить в распоряжение путешественника небольшой павильон в Выставочном городке — на территории Международной выставки произведений промышленности и искусства, которая была открыта с 17 сентября 1879 года по 20 апреля 1880 года. После закрытия выставки в ее главном здании, помпезном Садовом дворце, и в окружающих его небольших павильонах были размещены архивы и коллекции разных ведомств, в том числе Линнеевского общества Нового Южного Уэльса. Николай Николаевич складировал в отведенном ему павильоне ящики с материалами своих последних экспедиций, использовал его для ночлега и даже пытался начать там сравнительно-анатомические исследования, но ему сильно мешал и досаждал шум с проходившей поблизости улицы, по которой с утра до вечера громыхали телеги с грузом, проносились коляски и омнибусы.
Через три месяца после начала постройки здание станции было подведено под крышу. 14 мая 1881 года газета «Сидней мейл» опубликовала большую статью «Биологическая лаборатория в Уостонс-Бей». Рассказав историю создания станции, газета напечатала чертежи ее переднего и заднего фасада и поэтажные планы. Деревянное двухэтажное здание возводилось на склоне, а потому его центральная часть и обращенный к бухте передний фасад опирались на массивные пилоны из кирпича. В доме предусматривались две спальни и пять рабочих комнат, одна из них — в цокольном этаже, где были запроектированы также склад и, говоря современным языком, совмещенный санузел. Водопровод и канализация, разумеется, отсутствовали. Вода подавалась по трубе из артезианского колодца, расположенного вне территории станции. Усыпанная гравием дорожка вела к песчаному пляжу.
В октябре Миклухо-Маклай поселился в еще не вполне оборудованном здании станции — первой морской биологической станции в Южном полушарии. Более того, четырьмя месяцами раньше он основал Австралазийскую биологическую ассоциацию, которая должна была не только способствовать открытию биологических станций в Австралии и Новой Зеландии, но и координировать биологические исследования в Южно-Тихоокеанском регионе. После отъезда Миклухо-Маклая в Россию ассоциация прекратила свое существование.
С созданием биологической станции в Уостонс-Бей, казалось, осуществилась idee fixe Миклухо-Маклая. Как же воспользовался он предоставившимися возможностями? В первые месяцы по возвращении в Сидней Николай Николаевич, как и в Брисбене, занимался изучением мозгов представителей различных человеческих рас, а обосновавшись на биологической станции, он, кроме того, возобновил сравнительно-анатомическое изучение австралийской фауны. Обращает на себя внимание многотемье его изысканий. За год ученый сделал восемь небольших сообщений на заседаниях местного Линнеевского общества, которые были затем опубликованы в «Трудах» этого общества и в сиднейских газетах. В этих выступлениях он рассказал о плавании на «Сэди Ф. Коллер» и пребывании в Квинсленде, о деформации голов у младенцев на островах Торресова пролива и юго-восточном побережье Новой Гвинеи, о некоторых «хирургических» операциях, производимых австралийскими аборигенами, об особенностях мозга дикой австралийской собаки динго и т. д.[722]
Занятый сбором средств на сооружение биологической станции, Миклухо-Маклай все же нашел время при посещении колонии Виктория съездить в городок Стоуэл, чтобы провести геотермические наблюдения в самой глубокой шахте Австралии. Учитывая, что ранее ученый изучал особенности изменения температуры в океанических глубинах, можно предполагать, как уверяют некоторые историки науки[723], что Николай Николаевич задумал приступить в будущем к решению более общих вопросов взаимодействия глубинного тепла моря и суши. Но несомненно одно: Миклухо-Маклаю не удалось написать в 1881 году ни одной обобщающей работы по материалам своих главных экспедиций. Правда, борьба в защиту папуасов и других островитян южных морей все чаще отвлекала его от углубленных занятий наукой.
Попытка разыграть «английскую карту»
Вернувшись из путешествия по островам Океании, Миклухо-Маклай обнаружил, что в Австралии все обстоятельства, связанные с «охотой на черных дроздов» и жестоким обращением с островитянами на квинслендских плантациях, зачастую замалчиваются или намеренно искажаются. Во время пребывания в Квинсленде он писал: «Очень немногие желают видеть настоящее положение дел, которое для них самих или друзей их выгодно, почему всякий протест против этой бессовестной эксплуатации темнокожих встречает здесь положительную непопулярность. Большинство не хочет знать правду, что не помешает, однако же, этому большинству, когда будет уже слишком поздно, притворяясь, уверять, что никогда и не подозревало истинного положения дел, и негодовать против торга человеческим мясом и варварского насилия»[724]. Еще меньше правдивой информации по этим вопросам появлялось в газетах Нового Южного Уэльса и Виктории. По словам Томассена, Миклухо-Маклай был поражен «весьма односторонними сообщениями о событиях на островах южных морей, публикуемыми в печати» и поставляемыми «капитанами судов, участвующих в торговле с островами, и другими лицами, от которых вследствие их занятий и интересов нельзя ожидать сколько-нибудь беспристрастных известий»[725]. Эта тенденциозная кампания в печати еще более укрепила решимость ученого выступить с протестом против совершающихся злодеяний.
Находясь в Мельбурне, Миклухо-Маклай опубликовал в местной газете «Аргус» открытое письмо коммодору австралийской морской станции, командующему британскими военно-морскими силами в юго-западной части Тихого океана Дж. Уилсону. Это письмо, датированное 8 апреля 1881 года, было вскоре перепечатано в нескольких австралийских газетах.
«Что вывоз рабов (ибо только справедливо назвать это деяние надлежащим именем) в Новую Каледонию, на Фиджи, Самоа, в Квинсленд и другие места, посредством похищения и увоза туземцев под прикрытием фальшивых утверждений и лживых обещаний, все еще продолжается в значительных размерах, — писал путешественник, — я готов заявить и подкрепить фактами. Поведение многих белых по отношению к аборигенам островов южных морей никак не может быть оправдано, что подтверждается множеством примеров, имеющихся в моем распоряжении, и я не удивляюсь, что имеют место акты возмездия со стороны туземцев. <…> Самое меньшее из того, что черные имеют право требовать от цивилизованных народов, есть не жалость, не сочувствие, а справедливость, и я уверен, что это может быть им предоставлено. <…> Было бы желательно, чтобы в скором времени было достигнуто международное соглашение по этому вопросу»[726].
В развитие процитированного нами письма ученый через несколько месяцев представил Уилсону подробную, тщательно документированную «Записку о похищении людей и рабстве в западной части Тихого океана»[727]. В ней он ополчился против всей системы работорговли и подневольного труда, процветавших тогда в Австралии и Океании. Миклухо-Маклай рекомендовал в записке принять ряд неотложных мер, чтобы устранить или хотя бы смягчить наиболее бесчеловечные проявления этой системы. Что же касается ликвидации самой системы, то, понимая, что для этого необходимы «всеобщее согласие и единообразная политика» держав, действующих на Тихом океане, он вновь, как и в открытом письме Уилсону, призвал заключить международное соглашение по данной проблеме.
Ученый неоднократно возвращался к мысли о необходимости такого соглашения. Будучи недостаточно сведущ в вопросах международного права, он обратился к своему гейдельбергскому профессору И.К. Блюнчли, выдающемуся юристу-международнику, с просьбой указать путь, по которому можно достигнуть «международного принятия правил», касающихся уважения человеческих прав народов южных морей[728]. Но его письмо Блюнчли вернулось нераспечатанным ввиду смерти адресата.
Выступая в защиту всех угнетаемых народов Океании, русский исследователь по-прежнему принимал наиболее близко к сердцу судьбу обитателей Берега Маклая.
Почти одновременно с публикацией в «Аргусе» его письма Уилсону в другой австралийской газете появилось сообщение о подготовке в Новой Зеландии колонизационной экспедиции на Берег Маклая, которую готовил известный авантюрист и наемник «генерал» Мак-Ивер. Это сообщение не могло не встревожить ученого. 13 апреля он отправил новое письмо сэру Артуру Гордону. «Узнав из недавней заметки в "Литтлтон таймс", что в настоящее время выдвинут план поселения на Берегу Маклая, в бухте Астролябия <…>, — писал Миклухо-Маклай, — я хочу привлечь внимание Вашего Превосходительства к факту, что эта часть страны густо населена и что вся земля принадлежит различным общинам, занятым возделыванием почвы, обрабатываемой в течение столетий. <…> Опять же туземцы не имеют представления об абсолютном отказе от своей земли. <…> Будет ли справедливым делом со стороны так называемого цивилизованного народа умышленно выманить у своих простодушных ближних ценное имущество за несколько бутылок рома, старых гвоздей и "торговых" топоров?» Ученый подчеркнул необходимость официально признать «право туземцев Берега Маклая на землю, в самом полном смысле этого слова»[729].
Гордон, находившийся в Новой Зеландии, вскоре ответил русскому ученому, и ответ этот был очень любезен. Он писал, что разделяет чувства Миклухо-Маклая в отношении злодеяний, совершаемых белыми торговцами и моряками на островах Океании. «Мне очень хочется, — продолжал Гордон, — чтобы Вы приехали сюда до возвращения на Новую Гвинею. Я совершенно не в курсе того, что там происходит, и очень хочу принять эффективные меры, чтобы помешать задуманной экспедиции. Вы могли бы мне в этом существенно помочь Вашей информацией и советами». Гордон сообщил Миклухо-Маклаю, что переслал его предыдущее послание британскому министру колоний и ознакомил ученого с текстом своего сопроводительного письма. В этом письме он писал, что разделяет озабоченность и соображения «знаменитого русского исследователя», но сомневается в осуществимости его рекомендаций[730].
Сэр Артур Гордон был младшим сыном известного британского государственного деятеля графа Абердина. Он многие годы служил в колониальном ведомстве, занимая посты губернатора различных английских колоний. Сэр Артур был очень высокого мнения о себе и своем предназначении, считал себя «орудием Промысла Божьего» и утверждал, что само Провидение уготовило ему важную роль в расширении Британской империи. Вместе с тем как истинный шотландский аристократ он относился с некоторым презрением к «торгашам» и испытывал чувство брезгливости, сталкиваясь со злодеяниями европейских и американских моряков и торговцев на островах Океании.
Назначенный в 1877 году британским верховным комиссаром в западной части Тихого океана, Гордон усердно пытался проводить намеченный правительством Дизраэли курс — не прибегая к аннексиям, обеспечивать британское преобладание в океанийском островном мире. Как раз в апреле 1881 года, когда Миклухо-Маклай обратился к нему со вторым письмом, в Лондоне произошла смена кабинета. Победив на парламентских выборах, к власти пришла либеральная партия, лидер которой, У. Гладстон, в своих предвыборных речах резко критиковал экспансионистские акции консервативного правительства и обещал проводить мирную политику. Гладстон, на протяжении многих лет поддерживавший дружественные связи с Гордоном, назначил сэра Артура губернатором Новой Зеландии, сохранив за ним пост британского верховного комиссара в западной части Тихого океана. В этих условиях была бы особенно неуместной новозеландская колонизационная экспедиция на Берег Маклая, ибо она могла вынудить Лондон аннексировать восточную часть Новой Гвинеи и вовлечь правительство Гладстона в международные осложнения. Неудивительно, что Гордон, как впоследствии вспоминал Миклухо-Маклай, получив его письмо, «нашел возможным помешать, чтобы эта экспедиция состоялась бы»[731], и пригласил русского ученого в Новую Зеландию. Переговоры об этом визите продолжались несколько месяцев, но по ряду причин встреча сэра Артура с Миклухо-Маклаем в Новой Зеландии так и не состоялась.
Любезный ответ Гордона, выраженное им сочувствие гуманитарным устремлениям русского исследователя и само приглашение прибыть для консультаций в Веллингтон, по-видимому, произвели немалое впечатление на Миклухо-Маклая. Он начал надеяться на его поддержку. Впервые Миклухо-Маклаю показалось, что забрезжил свет в конце туннеля. В уже известном нам открытом письме коммодору Уилсону ученый писал: «Буду считать большой честью предоставить мое знание положения дел на островах южных морей в Ваше распоряжение»[732]. Вскоре случай для этого представился.
В Сидней поступили сообщения о том, что в деревне Кало, расположенной на юго-восточном побережье Новой Гвинеи, убито несколько христианских «тичеров». Поскольку в австралийских газетах уже критиковали Уилсона за недостаточную «решительность», проявленную во время карательных экспедиций, коммодор решил на этот раз «преподать урок» папуасам: сжечь деревню, срубить плодовые деревья и, если удастся, расправиться с самими жителями. Миклухо-Маклай в марте 1880 года побывал в этой большой деревне, население которой насчитывало около двух тысяч человек. Узнав о намерениях Уилсона, ученый явился к коммодору, с которым, как он писал, «находился в дружеских отношениях»[733], и стал убеждать его отказаться от сожжения деревни и истребления ее обитателей, ограничившись выявлением и наказанием виновника или виновников убийства. Сомневаясь в возможности обнаружить виновных, Уилсон предложил Миклухо-Маклаю сопровождать его на борту флагманского корабля «Вулверин». И хотя это предложение нарушало планы исследователя, он его принял, чтобы спасти от расправы невинных людей. План Миклухо-Маклая в основном удался: «Вместо сожжения деревни и поголовного истребления ее жителей все ограничилось несколькими убитыми в стычке, в которой пал главный виновник убийства миссионеров, начальник деревни Квайпо, и разрушением большой его хижины»[734]. Такой исход дела поднял авторитет ученого, и Уилсон проникся к нему уважением.
Итак, русскому ученому удалось установить дружественные контакты с двумя наиболее влиятельными английскими официальными лицами в Океании. Но он понимал, что это отнюдь не может гарантировать безопасность обитателей Берега Маклая. В начале 1880-х годов охотники за «черными дроздами» уже разбойничали на Новой Ирландии, Новой Британии и некоторых других островах, расположенных вблизи от северо-восточного побережья Новой Гвинеи. Значительно активизировали свою политику в этом регионе Франция, США и особенно кайзеровская Германия. Что же касается правительства Квинсленда, то оно не скрывало своего намерения явочным порядком решить вопрос об аннексии «Восточного Папуа» и даже сделать его составной частью этой самоуправляющейся британской колонии. Такая позиция во многом диктовалась желанием бесконтрольно и без всяких ограничений «вербовать» на этом огромном острове подневольных рабочих для квинслендских сахарных плантаций.
В этой сложной, чреватой многими неожиданностями обстановке — вероятно, надеясь на благожелательное отношение Гордона и Уилсона, а также учитывая приход к власти в Англии правительства Гладстона, — Миклухо-Маклай решил возродить в несколько модифицированной форме проект создания Папуасского союза, занимавший его воображение на протяжении пяти лет.
«Проект развития Берега Маклая»
Миклухо-Маклай начал работать над текстом своего проекта в октябре 1881 года, по возвращении из плавания на «Вулверине». 24 ноября документ был готов. Ученый назвал его «Проектом развития Берега Маклая» и адресовал это «открытое, но очень конфиденциальное письмо» коммодору Уилсону[735]. Он писал, что намерен вернуться на Берег Маклая, чтобы уберечь своих друзей от происков белых захватчиков. Его цель — помочь островитянам «достичь на основе уже существующих местных обычаев более высокой и всеобщей ступени чисто туземного самоуправления» и сплотить в едином союзе изолированные друг от друга деревни Берега Маклая. Он предлагал создать для решения вопросов, представляющих всеобщий интерес, Большой совет, членами которого стали бы наиболее влиятельные пожилые мужчины — тамо боро («большие люди») основных деревень, а дела «локального характера» оставить в ведении традиционных деревенских советов. В качестве первоочередных задач предусматривалось открытие школ, строительство пристаней, дорог и мостов, а также всемерное развитие местной экономики.
Если в 1876 — 1877 годах путешественник пытался начать осуществление подобного замысла, как он сам тогда писал, «один и без ничьей помощи»[736], то теперь он наметил привлечь себе в помощники нескольких ремесленников и знатоков тропического земледелия «из Австралии, Китая, Явы, Индии и Европы». «Я занял бы при Большом Совете, — писал Миклухо-Маклай, — место советника, участвовал бы в дискуссиях, а также представлял его в сношениях с иностранцами и людьми, не принадлежащими к Союзу папуасов Берега Маклая».
Миклухо-Маклай считал, что, когда начнут плодоносить растения на плантациях и разовьется взаимовыгодная торговля с другими островами Океании и с Австралией, его детище станет самоокупаемым. Но где взять деньги на первоначальное финансирование проекта? «Я предложил бы, — писал путешественник, — установить сотрудничество с несколькими филантропически настроенными капиталистами — людьми, которые не только будут искать больших прибылей, но пожелают сослужить службу человечеству, способствуя распространению цивилизации».
В заключение Миклухо-Маклай заявил, что в случае успешной реализации его проекта он «был бы в состоянии от имени Большого Совета тамо боро пригласить правительство Великобритании учредить консульство в этой части Новой Гвинеи, что, возможно, привело бы в дальнейшем даже к испрашиванию Большим Советом британского протектората над Берегом Маклая Новой Гвинеи». Это ни к чему не обязывающее упоминание о возможности протектората было включено в проект, очевидно, для того, чтобы обеспечить ему поддержку или хотя бы благожелательный нейтралитет английских властей.
При оценке документа привлекает внимание прежде всего его широкая гуманистическая направленность, которая не исчерпывается стремлением спасти обитателей Берега Маклая от колониального порабощения. Начнем с того, что в этом проекте ярко отразились антирасистские позиции ученого, его убеждение в равной способности всех народов — независимо от расы и места на шкале общественных форм — развивать свою культуру, двигаться по пути прогресса. Если многие современные Миклухо-Маклаю антропологи (не говоря уже о колониальных чиновниках и торговцах) считали папуасов «недочеловеками», то русский ученый, исходя из своих научных убеждений и личного знакомства с жителями Берега Маклая, не сомневался в возможности «поднять уровень их цивилизации».
Проект Миклухо-Маклая имел еще две примечательные особенности, необычные для той эпохи: в качестве первоочередной меры в нем выдвигалось открытие школ и в то же время ни слова не говорилось об обращении новогвинейцев в христианство, о приглашении на Берег Маклая миссионеров. Эти особенности проекта отнюдь не случайны. Путешествуя по островам Океании, ученый убедился в том, что христианские проповедники нередко выступают в качестве авангарда иностранных пришельцев. Некоторые миссионеры, как писал Миклухо-Маклай, занимались «под маскою наставников и друзей туземцев деятельностью тредоров»[737]. Но еще важнее было, по мнению путешественника, то обстоятельство, что даже те миссионеры, которые искренне желали добра островитянам, своей деятельностью фактически расчищали путь «к вторжению тредоров, с их аксессуарами: введению в употребление спиртных напитков, огнестрельного оружия, распространению болезней, проституции, вывоза туземцев силою или обманом в рабство и т. д.»[738]. Эти «благодеяния цивилизации», как подчеркивал Миклухо-Маклай, «едва ли уравновешиваются умением читать, писать и петь псалмы»[739]. Неудивительно, что путешественник отнюдь не желал содействовать появлению миссионеров на Берегу Маклая.
Встреча с миссис Кларк
В конце декабря 1881 года в Сидней пришла русская эскадра под командованием контр-адмирала А.Б. Асланбегова, в составе крейсера «Африка» и клиперов «Пластун» и «Вестник», которая совершала многомесячное учебно-тренировочное и ознакомительное плавание по портам Тихого океана. Миклухо-Маклай решил воспользоваться этим визитом, чтобы совершить давно откладываемую поездку в Россию, где он не был уже 12 лет. Путешественник решил отправиться в Россию прежде всего по финансовым соображениям: собранные для него по подписке деньги быстро таяли, а его долг батавской фирме продолжал возрастать. Более того, как видно из письма ученого П.П. Семенову от 9 ноября 1881 года, Миклухо-Маклай начал задумываться о необходимости приступить без дальнейших промедлений к обработке и подготовке к печати дневников и других материалов своих экспедиций. Он надеялся, что в Петербурге сумеет достать деньги как для уплаты тяготивших его долгов, так и на то, чтобы прожить в Австралии «года два, не думая о добывании хлеба насущного»[740] — срок, как ему казалось тогда, достаточный для осуществления его замыслов.
Была у Миклухо-Маклая и своего рода «сверхзадача»: попытаться убедить русское правительство, что, в условиях начавшегося тогда заключительного этапа колониального раздела Океании, Россия должна позаботиться о своих геополитических интересах и в этих целях поддержать его деятельность на Берегу Маклая, а также создать военно-морскую станцию на одном из островов.
Николаю Николаевичу было нелегко принять решение покинуть Австралию и отправиться в дальнюю и неизбежно длительную поездку в Россию. Ведь прошло всего лишь несколько месяцев, как осуществилась его заветная мечта о создании биологической станции и он приступил там к научным исследованиям. «Мне было весьма жаль оставить мои работы в Сиднее только что начатыми», — писал он на пути в Россию[741]. К этому примешивались сугубо личные мотивы: предстояла разлука с возлюбленной, с которой он, познавший на своем пути немало женщин, решил навсегда связать свою жизнь.
На берегу залива, в пешеходной доступности от маленького мыса, где была построена биологическая станция, находилась усадьба Кловелли — двухэтажное здание, окруженное тенистым парком. Здесь жил со своим многочисленным семейством один из известнейших австралийских политиков второй половины XIX века, крупный землевладелец Джон Робертсон (1816 — 1891). На протяжении трех десятилетий он заседал в парламенте колонии, неоднократно был министром и главой правительства Нового Южного Уэльса, но в историю Австралии вошел прежде всего как автор законов, облегчивших доступ к земле десяткам тысяч переселенцев и при этом не слишком затронувших интересы старой земельной аристократии, с которой он был тесно связан как деловыми, так и родственными узами.
Занимая различные министерские посты в коалиционном правительстве Паркса, Робертсон не только одобрил идею Миклухо-Маклая о создании биологической станции, но и помог ему в выборе подходящего участка, способствовал выделению правительственных ассигнований на сооружение станции и, более того, как свидетельствуют документы, хранящиеся ныне в архиве Сиднейского университета, наблюдал за ее сооружением, вникая в различные хозяйственные детали. Робертсон, несомненно, был личностью незаурядной. Властный нрав и изощренное политиканство, склонность к финансовым спекуляциям, не раз доводившим его до банкротства, сочетались у него с заботой о социальной стабильности и глубоким пониманием особенностей развития английских колоний на пятом континенте, ведущих их к неизбежной интеграции в рамках Британской империи.
Прожженный бизнесмен и политик, Робертсон не чужд был романтических мечтаний. В юности, едва окончив школу, он нанялся матросом на торговое судно, на котором совершил путешествие в Англию, побывал во Франции и на обратном пути посетил Бразилию и некоторые другие государства Южной Америки. Возможно, воспоминания о собственных морских скитаниях и интерес к жизни экзотических стран и народов способствовали тому, что Робертсону понравился русский путешественник «барон Маклай». Он пригласил его бывать в Кловелли и ввел «барона» в круг своего семейства. Здесь летом 1881 года Николай Николаевич познакомился с овдовевшей дочерью хозяина Маргерит Кларк. Восемнадцати лет, в 1873 году, она была выдана замуж за богатого землевладельца, выходца из горной Шотландии, но ее муж Роберт Кларк умер три года спустя, и Маргерит вернулась в дом отца.
Эта хрупкая миловидная женщина с нежным овалом лица, доверчивыми и грустными глазами, плавными неспешными движениями, обличавшими уравновешенность характера, была, как и отец, личностью неординарной. Хорошо по тем временам образованная и начитанная, Маргерит отнюдь не была «синим чулком». Глубокая религиозность сочеталась у нее с романтическими исканиями. Натура музыкально одаренная, обладавшая сильным и красивым голосом, она прекрасно и с увлечением играла на фортепьяно. Маргерит неоднократно бывала в Европе, преимущественно в Англии, где жила ее замужняя старшая сестра. У нее с Николаем оказались общие знакомые, в том числе Наталия Герцен[742].
Молодой вдове больше не был мил отчий дом. Маргерит подумывала о сценической карьере, о том, чтобы поехать для совершенствования в бельканто в Италию, а когда ею овладевали грусть и тоска, заговаривала о желании перейти из протестантизма в католичество и, дав обет безбрачия, поступить в монастырь. Но тут в Кловелли она встретила человека, не похожего на молодых джентльменов, просивших ее руки, — овеянного славой русского путешественника, симпатичного шатена с лучистыми глазами и рыжеватой бородкой, подернутой словно изморозью сединой, — и влюбилась в него без оглядки. Тридцатипятилетнему ученому тоже сразу пришлась по сердцу Маргерит. Не все верят в любовь с первого взгляда, но именно она вспыхнула при первом знакомстве Николая с дочерью Робертсона. Влюбленные пытались следовать канонам викторианской морали, но страсть оказалась сильнее предрассудков. Они тайно встречались в укромных уголках на побережье и в здании биологической станции, где тогда работал только Миклухо-Маклай. Для Николая это не было просто очередным приключением — нечто подобное он испытал лишь однажды, во время краткого, закончившегося трагически увлечения дочерью Лаудона. Но на сей раз гамма чувств была несравненно ярче и полнее. Общаясь с Маргерит, познакомившись с ее характером, взглядами и принципами, Николай решил, что она может стать его верной и любящей подругой, если понадобится — в дальних странствиях.
У нас почти нет свидетельств о развитии их отношений до отъезда Миклухо-Маклая в Россию. В его письмах, написанных в этот период, ни разу не упоминается Маргерит. Лишь на полях черновика его письма Гордону о «Проекте развития Берега Маклая» мы находим многократно повторенное слово «RITA» в обрамлении причудливых орнаментов[743]. Но историю их любви можно проследить по двум фотографиям, подаренным Николаю его возлюбленной. На обороте одной из них, датированной 22 июля 1881 года, написано: «Больше никто никогда не будет мной обладать». На обороте другой, врученной при расставании 17 февраля 1882 года, ее рукой начертаны шесть латинских букв: N. В. D. С. S. U., за которыми скрывались слова, близкие и понятные только Николаю и Маргерит, выражавшие сокровенную суть их отношений. Почти столетие спустя эту аббревиатуру разгадала жена одного из их внуков, Элис Маклай: «Nothing But Death Can Separate Us» («Ничто, кроме смерти, не может разлучить нас»)[744]. По-видимому, уже тогда они решили пожениться, но условились пока не раскрывать своих планов, предвидя отрицательную реакцию ее семейства.
Глава семнадцатая. ПОЕЗДКА В РОССИЮ И ЕВРОПУ
«Напрасная тревога в Мельбурне»
В ответ на запрос контр-адмирала Асланбегова Морское министерство разрешило принять «ученого путешественника» на борт клипера «Вестник». Узнав об этом, Миклухо-Маклай по недавно открытой беспересадочной железнодорожной линии в феврале 1882 года прибыл из Сиднея в Мельбурн, где тогда стояла русская эскадра.
Власти и жители австралийских колоний радушно принимали русских моряков. По воспоминаниям офицеров, участвовавших в этом плавании, их пребывание в Австралии превратилось в нескончаемую вереницу званых обедов, официальных приемов и увеселительных прогулок. Многие местные жители посещали русские суда, где их ждал не менее радушный прием. Но среди австралийских политиков и бизнесменов, особенно после Крымской войны, живучи были антирусские настроения: одни искренне верили в русскую угрозу, другие ссылались на нее по корыстным соображениям, чтобы заработать на строительстве оборонительных сооружений для защиты с моря крупнейших портов[745]. На этой почве разразился скандал, омрачивший пребывание русских моряков в австралийских водах.
15 и 16 февраля в мельбурнской газете «Эйдж» появились статьи, в которых со ссылкой на несуществующий документ утверждалось, что цель прихода русской эскадры — подготовка к захвату беззащитного с моря Мельбурна. Другие газеты расценили сообщение «Эйдж» как неумелую и оскорбительную для русских фальшивку. Но Асланбегов был взбешен. Он заявил формальный протест губернатору и премьер-министру Виктории, которые постарались успокоить адмирала, объяснив, что появление этой фальшивки стало возможным ввиду существования в колонии свободы печати. Казалось, инцидент исчерпан. Но 23 марта, когда эскадра находилась в Хобарте (главном городе колонии Южная Австралия), в той же газете появилась новая публикация о коварных планах «русского медведя».
В статье «Русские замыслы против Мельбурна, важное разоблачение» содержались сведения, сообщенные газете «Эйдж» неким Генри Брайантом, который якобы, общаясь с Асланбеговым, помогал ему готовить депешу русскому Морскому министерству с подробным планом нападения крейсеров на главные австралийские порты, с указанием размеров контрибуции, которая будет наложена на каждый из них, дабы спасти город от разрушения. Эта фальшивка всполошила весь Мельбурн. Первой опомнилась мельбурнская газета «Аргус», которая уже на следующий день вышла со статьей «Мистифицированная газета, или Вымышленные русские замыслы против Мельбурна». Репортеры «Аргуса» выяснили, что Брайант действительно встречался с Асланбеговым, причем предлагал адмиралу купить чертежи якобы изобретенной им подводной мины и вызывался помогать царской охранке бороться с «нигилистами» (исполнился год со дня убийства Александра II). Но Асланбегов проявил осторожность и фактически отказался от услуг этого проходимца, и тогда Брайант решил отомстить адмиралу, состряпав сенсационные разоблачения.
«Аргус» возвращался к проделкам Брайанта 27 и 30 марта. Репортеры этой газеты, как теперь говорят, провели полное журналистское расследование, которое не только показало вздорность его «разоблачения», но и установило, что Брайант в действительности не англичанин, а французский аферист экстра-класса Анри де Бомон; он бежал в Австралию с каторги, которую отбывал на Новой Каледонии, и затем просидел год в тюрьме за кражу в Сиднее. Австралийские толстосумы, обеспокоенные публикациями в газете «Эйдж», вздохнули с облегчением: никто не собирается налагать на их город контрибуцию, и антирусская кампания в прессе прекратилась.
Мы рассказали эту авантюрную историю, которую подробно изложил редактор-издатель «Кронштадтского вестника» Н.А. Рыкачев, метко назвав статью «Напрасная тревога в Мельбурне»[746], так как она коснулась Миклухо-Маклая. Заметив, что адмирал встречался с приехавшим в Мельбурн путешественником, Брайант включил в текст одной из сочиненных им «шифрованных телеграмм» Асланбегова указание на то, что «барон Маклай» — главный русский секретный агент в Австралии. Репортеры «Аргуса» установили, что такой телеграммы, написанной по-французски и содержавшей речевые обороты (например, «Его Величество, наш отец»), которые никак не могли быть использованы в русской официальной переписке, в природе не существовало. Но инсинуации Брайанта не прошли бесследно для репутации Миклухо-Маклая в Австралии в соответствии с пословицей «Нет дыма без огня». Русский путешественник Э.Р. Циммерман, находившийся тогда в Сиднее, писал в журнале «Отечественные записки», что даже газета «Аргус», защитившая нашего героя от необоснованных нападок, высказала предположение, «не состоит ли крейсировка русской эскадры по водам южного полушария в связи с пребыванием Миклухо-Маклая в Австралии». По словам Циммермана, эти опасения усилились, когда Николай Николаевич отбыл на одном из кораблей эскадры в Россию. По-видимому, такие подозрения возникли не только у газетчиков, но и у некоторых должностных лиц Нового Южного Уэльса. По возвращении Миклухо-Маклая в Сидней тайной полиции было поручено приглядывать за опасным иностранцем. Впрочем, к тому времени у губернатора Нового Южного Уэльса имелись и другие причины настороженно относиться к «барону Маклаю».
Восемь месяцев на пути в Россию
24 февраля 1882 года Миклухо-Маклай отплыл из Мельбурна с русской эскадрой на борту парусно-винтового клипера «Вестник». Обогнув с юга Австралию, «Вестник» отправился в Батавию, а оттуда в Сингапур, так как ему было предписано идти в Нагасаки. В Сингапуре путешественник пересел на крейсер «Азия», на котором через Красное море и Суэцкий канал 9 июня прибыл в Суэц, а оттуда в Порт-Саид. Предполагалось, что через несколько дней крейсер уйдет в Неаполь, о чем Николай Николаевич поспешил сообщить своим друзьям и знакомым, в том числе Дорну. Но случилось иное: 11 июня в Александрии началось народное восстание против местного правителя, ставленника западных держав. Английская и французская эскадры начали блокаду Александрии. Морское министерство приказало командиру «Азии» до прекращения волнений в Египте оставаться на местном рейде в распоряжении русского генерального консула. Когда беспорядки усилились, британский адмирал подверг бомбардировке не только форты, но и сам город, который сильно пострадал от пожаров. «Успокоение» наступило лишь 15 июля, когда в Александрии был высажен английский десант. Через три дня, после полуторамесячной задержки, «Азия» получила указание продолжать плавание, но не покидать Средиземное море. Поэтому в Генуе Николай Николаевич перебрался на броненосец «Петр Великий», который шел из Черного моря на Балтику.
Миклухо-Маклай воспользовался пребыванием в милой его сердцу Италии, чтобы хоть мельком полюбоваться ее красотами и встретиться с друзьями. Пока броненосец стоял в Генуе, он съездил во Флоренцию, где после многолетней разлуки по-братски обнялся и расцеловался с Александром Мещерским и Наталией Герцен, которая познакомила его с другими членами своего семейства, в том числе с мужем сестры — известным французским историком и публицистом профессором Габриэлем Моно.
Николай Николаевич подарил Моно тоненькую книжку — экземпляр своей биографии, написанной его другом Э. Томассеном фактически под диктовку самого путешественника и весьма своевременно опубликованной в 1882 году, накануне его отъезда в Европу[747].
В Неаполе, куда «Петр Великий» зашел после Генуи, Миклухо-Маклая ждало разочарование: Дорн не дождался его визита и уехал в запланированное ранее путешествие. Николай Николаевич осмотрел зоологическую станцию и ознакомился с организацией ее работы, но не смог договориться с ее создателем о сотрудничестве этого процветающего научно-просветительного учреждения с биологической станцией в Уостонс-Бей.
Из Неаполя «Петр Великий» отправился в Кронштадт, с заходом в Кадикс, Лиссабон и Шербур для пополнения запасов топлива, так как прожорливым топкам его паровых машин угля хватало, как писал брату Миклухо-Маклай, лишь на 12 дней хода. Вблизи от Шербура находились вилла и виноградники, принадлежавшие семейству Моно. По приглашению профессора сюда приехали погостить Наталия Герцен, Мещерский и профессор-литературовед Гастон Парис. Воспользовавшись недельной стоянкой броненосца в Шербуре, Миклухо-Маклай в конце августа вновь встретился со своими друзьями. Никаких подробностей об этой встрече не сохранилось. Удалось найти лишь краткое упоминание о ней в одном из писем Наталии Парису, хранящемся в отделе рукописей парижской Национальной библиотеки. Но несомненно, что, прочитав книжку Томассена, Габриэль Моно заинтересовался деяниями и личностью Миклухо-Маклая и во время этой встречи расспрашивал путешественника о его жизненных принципах, философских предпочтениях и планах на будущее. В результате 15 ноября в редактируемом Моно парижском журнале «Нувель ревю» («Новое обозрение») появилась его большая статья о Миклухо-Маклае[748].
Темпераментный оратор и тонкий стилист, Моно не пожалел красок для прославления Маклая. По его словам, Маклай — один из величайших путешественников в области изучения народов Океании, ему не было и нет равных в ученом мире. Кратко изложив, по Томассену, его биографию, Моно в патетических тонах описал его основные экспедиции, уделив основное внимание пребыванию на Берегу Маклая. Поразительных свершений среди папуасов Маклай добился благодаря безграничному хладнокровию и терпению, которые составляют основу его героизма. Изучение папуасов и других океанийцев было неотделимо для него от борьбы за их человеческие права. В связи с этим Моно разразился гневной филиппикой против всей системы колониальной эксплуатации, которая проявлялась не только в Океании, но и в Африке — везде, куда проникли европейские любители легкой наживы.
Французский профессор попытался нарисовать психологический портрет Миклухо-Маклая. При всех комплиментарных и легковесных характеристиках, которыми изобилует статья, одно высказывание не только заслуживает пристального внимания, но и становится все актуальнее по мере того, как человечество отдаляется от эпохи, в которой жил и творил Маклай: «Этот человек не менее, а может быть, еще более интересен, чем его труды». Моно изображает Маклая подвижником, всегда готовым положить свою жизнь на алтарь науки: «Эта преданность, скажу даже, вера в науку была его единственным вдохновением и единственной поддержкой при самых неслыханных опасностях. <…> Маклай ненавидит шарлатанство и рекламу. Он служит науке, как иные служат религии; он отрешился, насколько это возможно для человека, от всякого личного интереса».
Моно завершил статью таким пассажем: «Кант — его любимый философ. В часы болезни и упадка духа, в дни вынужденного бездействия и терпеливого ожидания этот русский стоик облегчал свои страдания чтением "Критики чистого и практического разума". В своей одинокой хижине в Аиру он мог на досуге созерцать две вещи, которые Кант назвал самыми возвышенными в мире: звездное небо над головой и чувство долга в глубине своего сердца. Этот человек — самый искренний и последовательный идеалист, которого мне довелось встречать. В то же время он человек вечно деятельный. Идеалист и человек действия — разве это не признаки истинного героя? Г-н Миклухо-Маклай и есть герой в самом возвышенном и всеобъемлющем смысле этого слова».
Журнал «Нувель ревю» читали политические деятели и интеллектуалы не только во Франции, но и в других европейских странах, особенно по другую сторону Ламанша. В 1883 году вольный перевод этой статьи был напечатан в русском журнале «Век»[749]. Своей статьей — плодом собственного восхищения путешественником и, возможно, влияния жены и ее сестры, которые желали помочь «белому папуасу», — Моно внес новый значительный вклад (причем не только в России) в превращение Маклая в живую легенду. Возникнув в общественном сознании и муссируемый в печати, этот мифологический образ начал развиваться по законам жанра, порой значительно отличаясь от реального прототипа.
Моно сообщил в статье, явно со слов самого Миклухо-Маклая, что тот прибыл в Европу, чтобы достать деньги для подготовки и издания своих трудов. Ученый предполагает уже осенью вернуться в Сидней, чтобы за два года подготовить к печати исследования, которые обессмертят его имя в науке. Эта «утечка» о целях его поездки в Европу не была единственной. Миклухо-Маклай рассказал об этом корреспонденту петербургской газеты «Новое время» в Египте, в письмах великому князю Александру Михайловичу и, конечно, Ф.Р. Остен-Сакену[750]. Во всех случаях он добавлял, что, не получив финансовой поддержки в России, будет вынужден «запродать свои сочинения английскому издателю», от которого якобы получены заманчивые предложения. Эти предупреждения призваны были повлиять на позицию совета РГО, который на протяжении нескольких месяцев рассматривал его очередные запросы о помощи.
Несмотря на строжайшую экономию, быстро истощались средства, полученные путешественником благодаря подписке, устроенной газетой «Голос». Добыть деньги на жизнь в Австралии, занимаясь научными исследованиями, не представлялось возможным. Совет РГО все более прохладно относился к «ученому путешественнику», в том числе потому, что он — вопреки принятым на себя обязательствам — не представил обществу сколько-нибудь значительные тексты. Чтобы не нарваться на решительный отказ, Николай Николаевич решил в качестве «приманки» обещать обязательно взяться за подготовку к печати материалов своих экспедиций.
9 ноября 1881 года, еще не зная о скором приходе в Австралию русской эскадры, исследователь отправил П.П. Семенову письмо, в котором заявил о намерении «перед новыми путешествиями приготовить результаты странствований от 1871 — 1881 гг. к печати. <…> Я желал бы знать, найдет ли Императорское Русское географическое общество возможность содействовать мне при этом предприятии (издании моих работ), именно, пожелает ли оно дать мне возможность прожить в Европе два года, потребное для приведения в порядок и напечатания рукописи. В таком случае, если Совет <…> сочтет желательным напечатать работы мои в изданиях Общества, я приготовлю манускрипт на русском языке»[751].
Письмо было рассмотрено на заседании совета РГО 12 января 1882 года, и через четыре дня Петр Петрович отправил Миклухо-Маклаю следующий ответ: «Встречая с сочувствием Ваше желание возвратиться в Европу и приступить к разработке и изданию собранного Вами научного материала, Совет Общества выразил в принципе свою готовность послужить посредником между Вами и русским правительством и ходатайствовать о назначении Вам пособия, которое дало бы Вам возможность прожить в России или за границей те два года, которые необходимы Вам для предложенной Вами цели. Тем не менее Совет не находит возможным принять на себя этого ходатайства ранее, нежели в состоянии будет обставить его достаточно определенными данными. Совет желал бы получить от Вас, с одной стороны, некоторые, хотя бы самые общие сведения о плане предполагаемого Вами издания, его содержании и размерах, с другой стороны, о минимальных размерах той субсидии, которую Вы считаете необходимою для обеспечения Вашего пребывания в Европе»[752].
Письмо не застало путешественника в Сиднее, так как он, не дожидаясь ответа, воспользовался возможностью отправиться в Россию на одном из кораблей эскадры Асланбегова. Почта в XIX веке работала четко и надежно. Письмо Семенова нагнало Миклухо-Маклая в Александрии. 29 июня Николай Николаевич ответил на вопросы, заданные вице-председателем РГО, в двух письмах — официальном и «конфиденциальном».
В первом из них Николай Николаевич сообщил, что «предполагаемое издание будет иметь характер строго научный и будет распадаться на несколько разделов. Рядом с кратким историческим очерком (изложением обстановки и событий путешествия) будут следовать специально научные отделы по антропологии, сравнительной анатомии, этнологии, метеорологии и т. п.». Для этой работы, рассчитанной на два года, понадобится ежегодная субсидия в 350 — 400 фунтов. В декабре 1881 года Миклухо-Маклай писал, что намерен заняться подготовкой этого издания в Европе, но за полгода его планы существенно изменились: он хотел бы провести эти два года в Сиднее. Там более подходящий климат, удобное помещение в биологической станции, хорошие библиотека и музеи, этот город находится «вблизи поля моих исследований (о-вов Тихого океана)» и т. д.[753] Перечисленные аргументы действительно заслуживали внимания. Но Николай Николаевич умолчал о «личном факторе»: он соскучился по Маргерит и не представлял себе длительного проживания в разлуке с любимой. Почти одновременно с ответом Семенову он отправил из Александрии письмо дочери Робертсона с формальным предложением стать его женой[754].
В «конфиденциальном», как он назвал его, письме Миклухо-Маклай коснулся состояния своего здоровья, а также финансовых проблем и возможностей их решения. Он признался, что решил более не откладывать подготовку издания материалов своих экспедиций еще и потому, что «здоровье мое бывает по временам весьма плохо». Далее он привел расчет своих долгов, главным образом фирме «Дюммлер и Кº», которые в связи с нарастанием процентов достигли внушительной суммы в 1221 фунт. Эта задолженность его «сильно тяготит» и не позволяет спокойно заниматься подготовкой рукописей. Путешественник выразил надежду, что правительство или совет РГО возьмут на себя уплату этих долгов. В противном случае ему придется на время оставить занятия наукой и приступить к осуществлению «обширного плана (о котором сообщу при свидании)»[755]. Это позволит самостоятельно погасить задолженность и отложить кое-что на будущее. Но учитывая, что здоровье хромает и «выполнение моего плана сопряжено со значительным риском», возникает вопрос, «что станется тогда с результатами моих путешествий?». Ведь кто-либо другой едва ли сумеет «разработать результаты моих странствований, даже имея в распоряжении все мои дневники, журналы, заметки, рисунки, фотографии, негативы и коллекции!»[756]. Рассмотрение этих двух писем на заседании совета РГО произошло в октябре 1882 года, когда их автор уже находился в Петербурге, и мы вернемся к этому вопросу, рассказывая о его пребывании в России.
Другая проблема, которая волновала Николая Николаевича на его восьмимесячном пути домой, — это отношения с матерью, братьями и сестрой, предстоящая встреча с ними в Петербурге. После того как к «блудному сыну» пришла известность, даже слава, Екатерина Семеновна изменила свое отношение к Николаю, хотя по-прежнему не одобряла его занятий и странствий. Летом 1882 года, после многолетнего перерыва, она написала ему несколько строк. Перемены в отношениях с семьей проявились и в переписке, развернувшейся между путешественником и его младшим братом Михаилом, студентом Горного корпуса. По дороге в Россию с борта крейсера «Азия» Николай Николаевич отправил короткое письмо сестре: «Дорогой друг Оля! Нахожусь наконец на пути в Европу. <…> Несмотря на твое долгое и упорное молчание (которое никогда не понимал и не понимаю), решаюсь просить тебя написать мне несколько строк о себе и о матери»[757]. Ответа не последовало. Михаил в своих письмах избегал малейшего упоминания о сестре. Только в июне 1882 года из полученного в Александрии письма Мещерского Николай узнал, что Оли давно уже нет в живых.
Несколько лет Ольга состояла в гражданском браке с Г.Ф. Штендманом — вопреки укорам матери и советам Мещерского и Наталии Герцен. В мае 1879 года она забеременела, но не захотела избавиться от ребенка. Быть может, Ольга надеялась, что Георгий Федорович, находившийся тогда в научной командировке в Париже, став отцом, пожелает узаконить их отношения. Но случилось непоправимое: Оля скончалась 31 января 1880 года, сразу после родов, произведя на свет здорового младенца. Чтобы избежать скандала и сплетен, высокоморальная Екатерина Семеновна спрятала новорожденного, а Михаилу приказала всем сообщить, что дочь скоропостижно скончалась от некой заразной болезни. Сохранилась написанная явно второпях записка, адресованная С.К. Кавелиной (по мужу Брюлловой): «Милая Оля скончалась от дифтерита и тифа. Михаил Миклуха»[758].
После похорон дочери Екатерина Семеновна тайно увезла новорожденного в Малин, где он находился почти безвылазно многие годы. Бабушка усыновила его как подкидыша. При крещении, по труднообъяснимому желанию «приемной матери», младенца нарекли Михаилом. Так в семье Е. С. Миклу-хи появился Михаил-младший. Смерть Ольги, по-видимому, примирила Екатерину Семеновну со Штендманом. Он часто приезжал в Малин, чтобы повидаться с Мишуком, привозил ему сласти и игрушки и постепенно стал своим человеком в семействе вдовы. Однако Михаил-младший, по крайней мере до его совершеннолетия и смерти Штендмана, не знал (хотя, возможно, смутно догадывался), кто его отец. Георгий Федорович умер в 1903 году, шестидесяти семи лет от роду, так и оставшись холостяком[759].
Узнав от Мещерского о смерти Ольги, Николай Николаевич 17 июня 1882 года написал Михаилу письмо, в котором попенял на то, что ни он, ни мать не известили его об этой трагедии. Путешественник скорбел об утрате любимой сестры, корил себя за то, что своим отсутствием и просьбами о высылке денег взвалил на Олю дополнительную ношу, которая, возможно, способствовала ее кончине. Но жизнь продолжалась. И в следующих письмах брату, узнав, что Екатерина Семеновна будет вместе с Михаилом ожидать его прибытия в Петербурге, путешественник с подкупающей непосредственностью довел до их сведения свой распорядок дня и желательный пищевой рацион. «Я предпочитаю самый простой стол — много зелени, мало говядины, которую стараюсь заменять рыбою, где могу, — писал он 15 августа, — много молока, никаких положительно напитков (даже пива), кроме чая, кофе или какао. Ложусь по вечерам, с весьма редкими исключениями, около 9 часов вечера, встаю до 6 часов утра. Мое правило ложиться в 9 часов вечера избавляет меня от скуки принимать приглашения на обеды или вечера (я положительно надеюсь, что и в СПб оно избавит меня от такого неудобства)»[760].
Пройдя Северное море, «Петр Великий» вышел на просторы Балтики. Несмотря на лето, Николай Николаевич, привыкший к жизни в тропиках, отчаянно мерз, особенно по вечерам, и это отрицательно сказывалось на его здоровье. 31 августа броненосец бросил якорь на Кронштадтском рейде. Михаил Николаевич встретил брата на паровом катере, предоставленном начальником порта М.Н. Кумани, бывшим командиром «Изумруда». Экипаж катера помог быстро выгрузить объемистый багаж путешественника и перевез братьев в пассажирскую гавань Кронштадта, откуда они на рейсовом пароходе добрались до Петербурга.
Вечером в неуютной квартире на Малом проспекте Васильевского острова, которую издавна снимали Миклухи, когда жили в Петербурге, собрались родственники и школьные товарищи путешественника. Забыв о своих привычках, усталости и мучившей его невралгии, Николай до поздней ночи просидел под зеленым абажуром у самовара. Он рассказывал матери, брату и друзьям о своих странствиях, узнавал, что произошло в семье и в стране за 12 лет с тех пор, как он отправился в дальний вояж на «Витязе». Им было о чем поговорить.
Миклухо-Маклай прибыл в Россию, существенно отличающуюся от той, которую он оставил в 1871 году. После убийства Александра II новый император взял курс на сворачивание «великих реформ» и сохранение незыблемости самодержавной власти. Революционное движение было разгромлено — наиболее активных террористов казнили, прочих приговаривали к длительным срокам тюрьмы и каторги. Величайший русский историк XIX века Василий Ключевский на закате своих дней записал в дневнике невеселые размышления о режиме Александра III: «Решено было окорнать реформы и добросовестно, открыто признаться в этом. Правительство прямо издевалось над обществом, говорило ему: вы требовали новых реформ — у вас отнимут и старые»[761]. Ключевский подчеркивал, что такими методами «крамола» не излечивалась, а лишь загонялась внутрь, в подполье, что предвещало в недалеком будущем великие потрясения. Вторя ему, Александр Блок писал:
Раскинулась необозримо Уже кровавая заря, Грозя Артуром и Цусимой, Грозя Девятым января.Уже в первый вечер после прибытия в Петербург Миклухо-Маклай узнал много подробностей о положении в стране от младшего брата, связанного с революционными народниками, и от гимназического приятеля Василия Филипповича Суфщинского — присяжного поверенного, близкого к либерально-демократическому крылу освободительного движения. Однако Николай Николаевич, еще в 1864 году провозгласивший отказ от революционной борьбы во имя служения науке, отнюдь не помышлял о присоединении к либералам или народникам. Полученная информация ему была нужна для определения правильной тактики, которая позволит добиться поставленных целей. Путешественник понял, что все будет зависеть от позиции царя. Поэтому он сразу же обратился к Семенову и Остен-Сакену с просьбой помочь получить аудиенцию у Александра III и стал искать подходы к всемогущему обер-прокурору Священного синода Победоносцеву, которого столичные остряки прозвали «вице-императором».
Восторженный прием в России
Русская общественность с нетерпением ожидала приезда легендарного путешественника. Как только стало известно, что он выехал из Сиднея на родину, в печати стали появляться статьи о Миклухо-Маклае, снабженные его портретами и репродукциями его рисунков. Корреспонденты газет и журналов, находившиеся в портах, куда заходил корабль с именитым путешественником, старались брать у него интервью. Особенно усердствовала газета «Голос», которая отслеживала все этапы пути Миклухо-Маклая и стремилась выяснить точную дату его прибытия на родину. Николай Николаевич, который — вопреки утверждениям Моно — был отнюдь не чужд саморекламе, посылал в «Голос» по просьбе редакции короткие телеграммы по этим вопросам.
Не имея возможности представить в РГО доказательства важности и многообразия своих исследований в виде рукописей, Николай Николаевич тщательно обдумал и подготовил за время плавания подробные конспекты лекций о своих экспедициях и лабораторных изысканиях, чтобы представить «товар лицом» Географическому обществу. В просторной каюте, отведенной ему на «Петре Великом», он на больших листах ватмана вычертил схематические карты, изобразил в красках увеличенные копии своих рисунков, отобрал для демонстрации на лекциях и беседах образцы оружия, одежды и утвари папуасов и других океанийцев, взятые для этой цели из Сиднея.
Работа над лекциями была весьма полезной и по другой причине: впервые исследователь попытался обобщить весь собранный материал, расположить его в определенной последовательности, сочетать увлекательный рассказ о своих странствиях с сообщением строго научных результатов проведенных исследований. В этом смысле лекции стали одним из этапов в мучительном для него процессе обдумывания структуры обещанных трудов.
По прибытии в Петербург Миклухо-Маклай нанес визит Семенову и попросил дать ему возможность прочитать три-четыре лекции. Петр Петрович удовлетворил просьбу путешественника и приказал напечатать в газетах объявление о предстоящих «Чтениях». Но переговоры об оказании финансовой помощи Миклухо-Маклаю подвигались вперед туго. Чтобы оказать давление на Географическое общество, Николай Николаевич организовал, — вероятно, с помощью Суфщинского — «утечку» в газеты: совет РГО якобы принял решение не выделять путешественнику никаких средств. Этот слух вызвал шквал возмущения в печати. Семенову пришлось, воспользовавшись случаем, публично его опровергнуть. Он дипломатично заявил, что РГО «сделает со своей стороны все возможное, чтобы при содействии правительства и всего русского общества напечатать труды нашего знаменитого путешественника»[762].
Первое «Чтение» состоялось 29 сентября в зале Географического общества. Зал был заполнен до отказа, люди толпились в проходе и даже в смежной комнате. Репортеры разглядели среди присутствовавших товарища (заместителя) министра иностранных дел, генералов и адмиралов. При появлении путешественника, которого вел под руку П.П. Семенов, раздался оглушительный, долго не смолкавший гром аплодисментов. После короткого приветственного слова Семенова Николай Николаевич начал выступление в разом притихшем зале. Люди с огромным любопытством рассматривали поседевшего исследователя, жадно внимали каждому его слову. Точнее всех Маклая-лектора охарактеризовал известный историк русской литературы Петр Николаевич Полевой, издатель еженедельника «Живописное обозрение»: «Миклухо-Маклай довольно плохо говорит по-русски — результат его 12-летних странствований и пребывания на чужбине — и не обладает способностью к гладким фразам и ярким эффектам. Говорит он тихо, вяло, ищет иногда подходящие выражения и за недостатком их иногда вставляет иностранные слова. <…> Главное достоинство и главный недостаток этих лекций заключались в их замечательной простоте и в том полнейшем равнодушии, с которым автор относился к своему собственному рассказу. Каждый слушавший его понимал, что он говорит только правду, что он рассказывает только о том, что сам видел. <…> Но под этим равнодушием, под этой правдивой красотой рассказа, слышалось глубокое сознание совершенного подвига, глубокое сознание того, что рано или поздно подвиг должен быть оценен по заслугам и достоинству»[763].
Свое первое «Чтение» Николай Николаевич посвятил в основном двум пребываниям на Берегу Маклая. Если вчитаться в текст лекции (ее стенограмма на следующий день была напечатана в столичных и провинциальных газетах), можно разглядеть за внешней индифферентностью цепочку увлекательных приключений и подвигов, несколько приукрашенных по сравнению с полевыми записями. Но в целом автор правдиво показал процесс своего вхождения в папуасский мир и превращения в каарам тамо — «человека с Луны». Поэтому его выступление произвело сенсацию. Имя путешественника было у всех на устах. Маклай стал, как тогда говорили, героем дня.
Николай Николаевич в той же манере прочитал еще три лекции — 4, 6 и 8 октября. В них он рассказал о путешествиях на Берег Папуаковиай и на юго-восточное побережье Новой Гвинеи, о странствиях по джунглям Малакки, о плаваниях на «Си берд» и «Сэди Ф. Коллер», о жизни и исследованиях в Австралии. Ввиду огромной популярности «человека с Луны» его «Чтения» перенесли в Большой зал Технического общества, вмещающий 800 человек. Но и там яблоку негде было упасть. «Вот обширный зал, — вспоминал в 1898 году путешественник и исследователь К.Д. Носилов, — <…> в зале тысячная толпа <…> почти нечем дышать, но все слушают, слушают слабый, но внятный голос. <…> Голос его то и дело прерывается, чтобы дать этой разнообразной толпе <…> выразить свой восторг, симпатию, порывы души этому хорошему русскому человеку. <…> Это было истинное увлечение, какого теперь не видать»[764].
Утром после каждой лекции Миклухо-Маклай проводил «демонстрационные беседы», на которых — наряду с учителями, газетчиками и любопытствующими дамами из общества — присутствовало много молодежи. В неформальной обстановке путешественник показывал развешанные по стенам карты и рисунки, объяснял назначение каменных топоров и других диковинных предметов, отвечал на многочисленные вопросы.
Большой интерес к Миклухо-Маклаю проявили самые разные слои русского общества — от знати до революционно настроенного студенчества; встреч с ним добивались просвещенные купцы-меценаты, видные деятели науки и искусства. Дважды путешественник позировал знаменитым портретистам — Константину Маковскому и Александру Корзухину. Маковский в своей работе подчеркнул артистичность натуры Миклухо-Маклая, сосредоточенность, глубину его взора на мир. На портрете Корзухина наш герой изображен в костюме путешественника, с записной книжкой и карандашом в руке; на лице следы пережитых испытаний[765]. Среди многочисленных приветственных писем и телеграмм выделяется адрес, врученный депутацией студентов физико-математического факультета Петербургского университета. В нем подчеркивается, что путешественник многие годы держал «знамя человечности и науки» и выражается надежда на скорую публикацию его трудов[766].
Такое внимание к выступлениям и личности Миклухо-Маклая объяснялось не только его огромной популярностью, окружающим его романтическим ореолом, но и начавшейся в стране политической реакцией, одним из проявлений которой был курс на ускоренную русификацию «инородцев». В этой обстановке идеи, которые высказывал Миклухо-Маклай — о единстве человечества, о равенстве рас, о возможности взаимопонимания между людьми разной расовой и племенной принадлежности, не исключая «дикарей», — находили живой отклик у широких кругов русской интеллигенции. Несмотря на цензурные рогатки, непосредственную связь нравственной проповеди Миклухо-Маклая с реалиями русской жизни сумел довольно ясно показать в газете «Восточное обозрение» известный исследователь Сибири и прогрессивный общественный деятель Н.М. Ядринцев.
«Изучать мир инородцев и дикарей, способствовать здравому взгляду на жизнь этой чуждой для цивилизации среды, рассеять предрассудки и установить правильное к ней отношение, — писал Ядринцев, — задача эта, даже в самых скромных научных пределах, имеет огромное общественное и нравственное значение». Выражаясь «эзоповым языком», ни разу не упомянув Россию, он показал значение проблем, разрабатываемых Миклухо-Маклаем, для многонациональной Российской империи: «Несмотря на то, что наблюдения ученого путешественника касаются туземцев Новой Гвинеи, Малайского архипелага и Австралии, в общем расовом вопросе они могут иметь поучительное значение и для нас. <…> Мы не можем не припомнить по этому поводу слова г. Миклухо-Маклая о его расставании с берегом дикарей. "Жалели они вас?" — спросили его. "Жалели, — ответил сдержанный Маклай, — и даже плакали", — сказал он задумчиво. Может быть, потрясающая грустная сцена прошла в воспоминаниях путешественника. "Разве они умеют плакать?" — спросила наивная петербургская дама-слушательница. "Да, умеют, — сказал Маклай, — но зато редко смеются". Этот ответ рисует целую драму инородческой души. <…> Так называемые низшие расы и другие племена есть только часть того же единого великого целого — человечества. <…> Эта идея родства и единства со временем еще более озарит историю и философию жизни и укажет великий нравственный закон, по которому дитя-человек, дикарь и инородец, заслуживает не унижения и истребления, но сострадания, сочувствия, помощи и восприятия в полноправную среду человеческого братства»[767].
Отношение к Миклухо-Маклаю не было, однако, единодушным: в консервативных кругах ученой и чиновничьей бюрократии нашлись «правоверные», видевшие в путешественнике человека с вредными и опасными мыслями; зашевелились также завистники и интриганы. Никто из них не решился выступить против всеобщего любимца в печати, с открытым забралом. Но в кулуарах, шепотком распространялись разного рода сплетни и небылицы, даже обвинения в авантюризме и шарлатанстве. П.Н. Полевой, присутствовавший на всех чтениях Миклухо-Маклая и ставший свидетелем этой закулисной возни, с возмущением поведал о ней читателям своего издания: «"Помилуйте, — говорили одни, — что же он сделал? Привез какие-то рисунки, нового ничего не рассказал". <…> "Помилуйте, — говорили другие, — он ничего не привез, никаких коллекций". <…> Третьи, более бойкие на язык, решались даже негодовать: "Это шарлатанство! Какой-то недоучившийся студент! В Робинзоны играть вздумал, а теперь, когда мы ему понадобились, он приехал сюда нам очки втирать!"». Дав достойную отповедь этим злопыхателям, Полевой подчеркнул, что заметил среди них членов Географического общества[768].
Восторженный прием, оказанный Миклухо-Маклаю, повлиял на позицию П.П. Семенова. 30 сентября он отправил письмо министру внутренних дел графу Д.А. Толстому: «Имею честь представить Вашему Сиятельству краткую записку о Миклухо-Маклае и его деятельности и напомнить о том, что Маклай желал бы иметь счастие представиться Государю Императору. Я решился представить Вам записку о Маклае не раньше первого его сообщения, которое было встречено русским обществом с живым интересом и несомненным сочувствием к личности путешественника». Ответ, полученный Семеновым, гласил: «Государь Император изволит принять г. Маклая в среду 6 октября в 12 ч. в Гатчине»[769].
У Александра III была еще одна черта, которая играла важную роль в его отношениях с Миклухо-Маклаем: он нелегко сходился с людьми, но отличался устойчивой привязанностью к тем, кто ему однажды понравился. Оказывается, он впервые встретился с молодым путешественником еще весной 1871 года, посетив великую княгиню Елену Павловну в Ораниенбауме, и был увлечен его планом отправиться на далекую и неведомую Новую Гвинею, а впоследствии следил за его странствиями. Британский посол в Петербурге сообщил в 1886 году в Лондон со слов русского министра иностранных дел, что Миклухо-Маклай «весьма заинтересовал нынешнего императора, когда тот был цесаревичем, своими удивительными путешествиями в странах дикарей»[770].
Царская резиденция в Гатчине размещалась в построенном в готическом стиле дворце, в котором некогда жил Павел I. Дворец был одновременно и крепостью. Его защищали рвы со сторожевыми башнями, откуда потайные лестницы вели в царский кабинет. Дворец с примыкавшими к нему озерами и великолепным парком был обнесен высокой оградой, вдоль которой несли круглосуточную службу сотни полицейских и агентов в штатском, разъезжали казачьи патрули. Здесь, под надежной защитой, Александр III предавался радостям семейной жизни, ловил рыбу, охотился, принимал высших сановников, занимался другими государственными делами.
Император любезно принял Миклухо-Маклая, который доложил о проведенных экспедициях, не умолчал о своих нуждах. Царь внимательно выслушал нашего героя. Но особенно заинтересовалась услышанным Мария Федоровна. Через пять дней Николай Николаевич снова приехал в Гатчину, чтобы по желанию императрицы рассказать царской семье и придворным наиболее занимательные эпизоды своих странствий. Вероятно, уже тогда царь дал принципиальное согласие урегулировать финансовые проблемы Миклухо-Маклая, ибо 12 октября, накануне решающего заседания совета РГО, созываемого для обсуждения его запросов, путешественник позволил себе вместе с Суфщинским уехать на неделю в Москву.
«Златоглавая» превзошла Северную столицу по размаху, хлебосолью и торжественности, с которыми москвичи принимали Миклухо-Маклая. Еще накануне приезда ученого годичное собрание Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ) избрало его своим непременным членом и присудило ему золотую медаль. 15 октября путешественник выступил с докладом о своих исследованиях на Новой Гвинее в Большом зале Политехнического музея. Послушать именитого гостя собралась «вся Москва», в том числе генерал-губернатор, митрополит, ученые, чиновники, местные толстосумы. Собралось более семисот человек. «Давка у дверей была страшная, — сообщал он младшему брату. — Наконец, толпа без билетов ворвалась. Женщины, как и в СПб., теснились и бросались вперед»[771].
Николай Николаевич говорил около часа, тихим прерывистым голосом, временами с трудом подыскивая подходящее слово или выражение. Но большинство присутствовавших не очень-то вслушивались в его слова: они пришли, чтобы поглазеть на «белого папуаса», выразить ему свое уважение и восхищение. После торжественного вручения золотой медали состоялся банкет, который дали в его честь «профессора и другой ученый люд московский». Нервный подъем помогал путешественнику держаться на плаву, но он чувствовал себя все хуже в сыром и дождливом осеннем климате. Банкет грозил затянуться допоздна. Но усталый и нездоровый Миклухо-Маклай, привыкший рано укладываться спать, не стал обижать отказом своих коллег, а только поставил условие: «Дать мне бифштекс и молоко и не заставлять говорить»[772]. На следующий день после лекции, уступая многочисленным просьбам, он устроил в Политехническом музее две «демонстрационные беседы» — одну для ученых, другую для прочей публики.
На банкете присутствовал старый знакомый — Егор Иванович Барановский, который, вернувшись в Россию, занялся коммерческой деятельностью и с 1880 года после смерти хозяина управлял предприятиями знаменитого миллионщика-золотопромышленника и сахарозаводчика В.Н. Солдатенкова. Барановский привез путешественника в огромный дом Солдатенкова на Арбате, познакомил с его детьми. Уютно устроившись на тигровой шкуре возле кресла, в котором сидела одна из осиротевших дочек, Антонина, сразу влюбившаяся в него, Николай Николаевич, попивая кофе из чашечки, рассказывал благодарным слушателям увлекательные эпизоды своих скитаний. Побывал он и у купца-мецената П.Н. Третьякова, который по просьбе Тургенева участвовал в сборе денег для помощи путешественнику[773]. Д.Н. Анучин — тогда приват-доцент Московского университета, много лет следивший за экспедициями Миклухо-Маклая по иностранным публикациям и знакомивший с ними русскую публику, — встретился с путешественником и имел с ним обстоятельную беседу. Николай Николаевич показался ему уставшим и изнуренным. Анучин откликнулся на приезд Миклухо-Маклая статьей в либеральной московской газете «Русские ведомости». Высоко оценив его путешествия и исследования и подчеркнув, что «человек с Луны» занимался не только чистой наукой, но и защищал интересы папуасов и других островитян, Дмитрий Николаевич тактично рекомендовал почтенному ученому поскорее сделать свои труды достоянием человечества.
Пока Миклухо-Маклай находился в Москве, пришли в движение бюрократические механизмы, призванные обеспечить решение его финансовых проблем. Получив «отмашку» из придворных кругов, П.П. Семенов провел 13 октября заседание совета РГО в ключе, выгодном для нашего героя. Подводя итоги обсуждения, он заявил, что « Н.Н. Миклухо-Маклай как путешественник, приносящий честь русскому имени, вполне заслуживает уважения Географического общества». Но, к сожалению, оно не может оказать ему необходимую помощь «как по недостаточности собственных средств, так и потому, что предметы исследований г. Маклая не входят непосредственно в круг деятельности Географического общества, точно определенный его уставом и ограниченный лишь изучением отечества и стран сопредельных. Ввиду всего этого единственным исходом для совета общества является обращение к покровительству Государя Императора, уже обратившего свое милостивое внимание на труды г. Маклая». Совет постановил обратиться к министру финансов «с изложением всех обстоятельств, относящихся до путешествий, совершенных г. Миклухо-Маклаем»[774].
Выполняя постановление совета РГО, его вице-председатель направил 29 октября министру финансов Н. X. Бунге подробное письмо, в котором подчеркнул огромное значение исследований Миклухо-Маклая и изложил основные запросы путешественника: выплачивать ему ежегодно 400 фунтов для завершения в двухлетний срок в Сиднее его труда, а также уплатить лежащий на нем долг в размере 300 фунтов. Семенов просил это ходатайство «повергнуть на Высочайшее воззрение».
В тот же день Бунге доложил о письме Семенова царю, и тот повелел представить ему специальный доклад по этому вопросу, а 31 октября начертал на полученном докладе резолюцию, адресованную управляющему его канцелярией С.А. Танееву: «Не желая увеличивать расходы государственного казначейства, я передал министру финансов, что беру эти расходы на себя. Поэтому пригласите к себе Маклая и переговорите с ним обо всем этом, и когда желает он получить деньги, т. е. теперь же или переводом в Сидней. Передайте ему, что расходы на издание его труда я беру также на себя, но чтобы он был напечатан по-русски и издан в России. Все эти расходы произвести из моих сумм, находящихся в вашем ведении»[775]. Как видим, Александр III со свойственной ему расчетливостью в денежных делах вошел в детали своего «благодеяния». 2 ноября Бунге известил Семенова о «воспоследовавшем» решении, причем ознакомил его с рескриптом царя: «Передайте Географическому обществу, что я беру на себя все расходы по путешествию Маклая и по изданию его сочинений»[776]. 6 ноября, перед отъездом из России, Николай Николаевич получил у Танеева 1800 фунтов — на уплату долгов и на первый год пребывания в Сиднее. Таким образом, Миклухо-Маклай получил финансовую помощь в тех размерах, в каких добивался.
Чем объяснить этот широкий жест русского самодержца? Быть может, Николай Николаевич сумел затронуть какие-то струны в царской душе и Александр III, не мудрствуя лукаво, решил, как это с ним случалось, помочь «хорошему человеку». Но не исключено, что, обласкав путешественника, ставшего настоящим кумиром русского общества, царь хотел вместе с тем увеличить свою популярность в среде интеллигенции, недовольной реакционным курсом нового царствования.
В письме министру финансов, датированном 22 ноября, П.П. Семенов, поблагодарив за содействие, выразил убеждение, что высочайшее покровительство Маклаю будет способствовать новым достижениям отечественной науки, пойдет «на пользу и славу России»[777]. На следующий день, возможно по совету многоопытного и мудрого Петра Петровича, Николай Николаевич отправил подобострастное благодарственное письмо императору: «Не умею иначе выразить мою глубокую верноподданнейшую признательность, как просить Всемилостивейшего Вашего Императорского Величества разрешения посвятить мое сочинение имени Вашего Величества. Со своей стороны я употреблю все усилия, чтобы труд мой оказался достойным высокого внимания Вашего Величества и принес бы пользу отечественной науке и просвещению, заботы о которых всегда были близки Вашему сердцу»[778].
Как расценить с морально-этической стороны эти верноподданнические строки? Их никак не мог написать студент-бунтарь Николай Миклуха, который по идейным соображениям едва ли счел бы вообще допустимым принимать царскую помощь. Однако с тех пор много воды утекло. Поглощенный своими планами в отношении Берега Маклая, перипетиями борьбы в защиту островитян Океании, тосковавший по Маргерит, Николай Николаевич, по-видимому, спокойно относился к событиям в России, которую он собирался вскоре опять покинуть на длительный срок. Царская милость позволяла Миклухо-Маклаю продолжить деятельность, которую он считал смыслом своей жизни. К тому же оказалось, что и вторая главная цель его приезда в Россию нашла поддержку у «гатчинского пленника».
Если завтра война
Неизвестно, поднимал ли Миклухо-Маклай на первой встрече с Александром III вопрос об активизации русской политики в Океании. Но, как показывают архивные материалы, этот вопрос обсуждался во время нескольких последующих аудиенций, состоявшихся в октябре — ноябре 1882 года. Мало разбираясь в хитросплетениях мировой политики и русской военно-морской доктрине, царь увлекся идеей поднять русский флаг на одном из отдаленных островов Южной Пацифики и поручил проработать этот вопрос главному начальнику флота и морского ведомства генерал-адмиралу великому князю Алексею Александровичу и управляющему Морским министерством вице-адмиралу И.А. Шестакову.
Алексей Александрович (1850 — 1908), младший брат императора, в июне 1881 года сменил на посту морского министра великого князя Константина Николаевича, который впал в немилость. По наущению Победоносцева новый царь лишил его всех постов, кроме во многом церемониального председательствования в РГО, и по существу отправил дядю в изгнание — в его крымское имение Ореанда. Алексей Александрович получил соответствующее образование, готовясь к морской службе, и несколько лет проплавал на военных судах. Однако он не обладал ни широким кругозором, ни организаторскими способностями и, оставаясь два десятилетия генерал-адмиралом, вошел в историю как один из виновников плачевного состояния флота накануне Русско-японской войны 1904 — 1905 годов.
Гораздо более крупная фигура — Иван Алексеевич Шестаков (1820 — 1888). Человек умный, с развитым чувством собственного достоинства, он в начале своей морской карьеры ушел в отставку, поссорившись с непосредственным начальником, но потом вернулся на флот, поддавшись уговорам великого князя Константина Николаевича. Шестаков провел многие годы за рубежом — в США и странах Западной Европы, сначала наблюдая за строительством судов для русского флота, а затем в качестве военно-морского агента (атташе). Это позволило ему узнать состояние иностранных флотов, новейшие морские доктрины и развитие военно-морского дела в этих странах, их политические системы и государственное устройство. Поэтому он хорошо знал не только технические аспекты строительства и эксплуатации судов, основы управления флотом, но и особенности международных отношений своего времени. Назначенный в январе 1882 года управляющим Морским министерством, Иван Алексеевич использовал свой богатый опыт для восстановления Черноморского и укрепления Балтийского флотов, реконструкции морских портов, прежде всего Севастополя, составления новых уставов и наставлений и т. д. Его кипучая деятельность оборвалась в ноябре 1888 года, когда он скоропостижно скончался.
Обсуждение вопроса о возможности приобретения Россией опорного пункта в Океании, разумеется, было строго конфиденциальным. Скудные сведения по этому вопросу, сохранившиеся в архивных документах, дополняются записями в до сих пор не опубликованном дневнике Шестакова. Судя по этим записям, адмиралу с самого начала не понравился Миклухо-Маклай. Шестакова раздражали его самоуверенность, легковесные суждения о политике великих держав на Тихом океане и интересах России в этом регионе. После первой встречи, состоявшейся еще 30 сентября, когда путешественник увлекательно рассказал о том огромном влиянии, которым он пользуется на северо-восточном берегу Новой Гвинеи, Шестаков записал в дневнике, что его собеседник, похоже, хочет стать там «царьком»[779]. А 20 октября в дневнике появилась такая запись: «Миклухо-Маклай <…> склонил Государя занять или приобрести в Полинезии (Океании. — Д. Т.) какое-нибудь складочное место для наших судов. Для чего? По-моему, если уж непременно хотят, то пусть Маклай купит его и там поселится, чего он только и хочет. Придет завтра меня сверлить»[780].
Проницательный Шестаков заметил некоторую недосказанность в рассуждениях Миклухо-Маклая, его попытки вести какую-то сложную игру. Действительно, путешественник едва ли ознакомил царя, генерал-адмирала и Шестакова с «Проектом развития Берега Маклая», имевшим значительный «английский компонент», хотя надеялся со временем получить поддержку русского правительства, если удастся начать осуществление этого замысла. Скептическое отношение Шестакова к предложениям и личности Миклухо-Маклая проявилось, как увидим в дальнейшем, когда от Николая Николаевича стали поступать в Петербург настойчивые призывы создать русскую колонию в Океании.
Между тем надлежало выполнить повеление Александра III о приискании подходящего места для устройства «складочного места» для русских судов, и Шестаков со своими особо доверенными помощниками начал вместе с Маклаем рассматривать предложения, поступившие от «белого папуаса».
В 60 — 80-х годах XIX века произошло быстрое расширение границ Российской империи на Азиатском континенте. Действуя по возможности мирными средствами, подкупая и подчиняя местных правителей, но не отказываясь от применения военной силы, Россия овладела Средней Азией (Кокандским и Хивинским ханствами и Бухарским эмиратом). Русские аванпосты приблизились к Афганистану, за которым раскинулась Индия, покоренная английскими завоевателями. Одновременно, воспользовавшись слабостью циньского Китая, Россия присоединила к своим владениям Приморье и Приамурье, прочно утвердившись на дальневосточном берегу Тихого океана.
На Особых совещаниях, регулярно созывавшихся по приказу Александра III для рассмотрения проблем этого региона и подготовки к войне на море, речь шла — как и в 1870 году, когда был отвергнут колонизационный проект барона Каульбарса, — не о территориальной экспансии на просторах Пацифики, а главным образом об обеспечении надежной защиты других дальневосточных окраин. Аналитики в канцелярии Морского министерства и в Главном морском штабе разрабатывали разные сценарии будущей войны на море, причем наиболее вероятным противником неизменно называлась Англия. Отряд русских судов на Тихом океане, базировавшийся на Владивосток, не смог бы противостоять британской эскадре. Поэтому главное внимание уделялось развитию концепции крейсерской войны. Крейсеры, действующие на трансокеанских морских путях, могли бы причинить огромный урон торговому флоту противника, нападать на его базы на тихоокеанских островах и даже совершать опустошительные рейды на слабо-защищенные с моря порты Австралии и Новой Зеландии.
Но активная деятельность русских крейсеров была бы невозможной без их исправного снабжения каменным углем, запасов которого на борту при тогдашнем уровне кораблестроения могло хватить лишь на две недели плавания. Поэтому концепция крейсерской войны предусматривала снабжение топливом этих кораблей в портах дружественных держав, путем захвата вражеских припасов и с российских судов-«угольщиков», для встреч с которыми следовало заранее присмотреть укромные бухточки в разных районах Океании.
Как видно из дневника Шестакова, путешественник рекомендовал осмотреть Порт-Алексей на Берегу Маклая, гавани на островах Пелью (Палау) и Хермит в архипелаге Адмиралтейства. Шестаков полагал, что русская угольная база на официально аннексированном острове, создание которой не удастся сохранить в тайне, в случае войны с морской державой будет захвачена превосходящими силами неприятеля, не успев выполнить свое предназначение. Но по желанию генерал-адмирала и самого царя было решено снарядить для осмотра упомянутых гаваней экспедицию на корвете «Скобелев» (бывшем «Витязе», переименованном в честь безвременно скончавшегося генерала Скобелева).
25 октября Шестаков записал в своем дневнике: «Сговорившись с Маклаем, велел написать корвету "Скобелев" идти в Сидней и быть там в исходе марта, взять Маклая, идти с ним на Адмиралтейские острова, в бухту Астролябия и на острова Пелью»[781]. В инструкциях командиру «Скобелева» капитан-лейтенанту В.В. Благодареву предписывалось «внимательно осмотреть и описать берега, наметив пункты, где <…> было бы удобно устроить склады угля, произвести промер этих мест, обратить особенное внимание <…> могут ли суда получить на месте провизию, какую именно и в каком количестве». Благодареву поручалось также собирать сведения о «климатических условиях местности», «состоянии погоды и господствующих ветрах в разное время года» и вообще составить самое подробное и точное описание этих гаваней. Инструкция предписывала, проявляя должное уважение к Миклухо-Маклаю и пользуясь его знакомством с посещаемыми местностями, «с осторожностью относиться к увлечениям отчаянного путешественника»[782].
Тем временем начинания Миклухо-Маклая начали выходить из-под контроля властей. Путешественник получал множество писем и телеграмм от лиц, относящихся к самым разным слоям русского общества. Привлекает внимание письмо крестьянина И.А. Киселева из села Мегрино Новгородской губернии. Этот «плебей-труженик» не только описал бедственное положение своей семьи, но и говорил о страданиях «великих тысячей», о «нравственном давлении, которое испытывает бедняк». «Для таких бедных, но честных и мыслящих тружеников, желающих устроить жизнь на новых началах, без золотого кумира, самое лучшее средство — это переселение хотя бы на необитаемые, но производительные острова Океании»[783]. Николай Николаевич нашел время ответить Киселеву, подчеркнув, что бедняку, обремененному многодетной семьей, знающему лишь русский язык, переселение на острова Океании — дело неподъемное. Но прочитав это письмо, путешественник, возможно впервые, задумался о том, что вблизи от военно-морской станции можно разместить общину русских переселенцев.
Николай Николаевич стремился поскорее вернуться в Сидней, чтобы повидать Маргерит, прежде чем принять участие в экспедиции на «Скобелеве». Но ему пришлось отправиться в Австралию через Западную Европу, где у него были важные дела, прежде всего намечены встречи с возможными английскими спонсорами «Проекта развития Берега Маклая». Казалось, его участие в плавании на «Скобелеве» и сроки проведения этой экспедиции были полностью согласованы и утверждены. Но по зрелом размышлении Миклухо-Маклай решил оставить себе свободу маневра до тех пор, пока не прояснится «английский компонент» его замыслов. 19 ноября он написал Шестакову, что не вполне уверен в том, что сумеет в марте 1883 года отправиться из Сиднея в экспедицию на острова. Причина -плохое состояние здоровья, которое ухудшилось за время пребывания в России. Путешественник просил не посылать за ним корабль в Сидней, пока не выяснится, в каком состоянии он прибудет в Австралию, и обещал извещать адмирала о своем здоровье на пути из Западной Европы в Сидней.
Впрочем, ссылки на нездоровье были не так уж безосновательны, хотя Николай Николаевич прекрасно знал о своих недугах и тогда, когда предложил прислать за ним корабль в Сидней. «Не было сомнения, — писал репортер одной из петербургских газет, — что и худые щеки, и тусклый взор, и впалая грудь, и еле слышный голос, и частое хватание за бок достались путешественнику как вечные, неудалимые знаки, которые положили на него испытанные им лишения и болезни»[784]. Сам Миклухо-Маклай в письме Вирхову жаловался на «отвратительный мышечный ревматизм» и «невралгии всех видов», из-за чего он «несколько раз откладывал отъезд» из Петербурга[785]. Наконец 28 ноября (10 декабря) путешественник выехал поездом в Западную Европу, чтобы оттуда возвратиться в Австралию.
В Западной Европе
Уже через шесть дней, 16 декабря 1882 года, Миклухо-Маклай присутствовал на заседании Берлинского общества антропологии, этнологии и первобытной истории, руководимого Вирховым. На этом заседании он выступил в прениях по докладу немецкого орнитолога и этнолога Отто Финша с сообщением об океанийской керамике[786]. Финш вернулся из длительного путешествия по островам Океании, имевшего не только научный, но и разведывательный характер. Николай Николаевич еще не подозревал, что Финшу предстоит сыграть зловещую роль в истории Берега Маклая.
Полностью расплатившись в Амстердаме со своим главным кредитором X. Я. Анкерсмитом, Миклухо-Маклай отправился в Париж. Здесь он встретился с Александром Мещерским, Наталией Герцен и семейством Моно. Габриэль Моно был президентом Парижского исторического общества, при котором в мае 1882 года основал клуб, названный «Кружком Сен-Симона». Клуб, занимавший особняк в одном из аристократических кварталов французской столицы, сразу стал важным центром интеллектуальной жизни Парижа. Здесь в непринужденной обстановке собиралась элита — известные политики, ученые, деятели литературы и искусства. Профессор Моно попросил Миклухо-Маклая посетить «Кружок Сен-Симона» и рассказать там о папуасах Новой Гвинеи. Председательствуя 28 декабря на этом торжественном приеме, Габриэль познакомил присутствующих с русским ученым, рассказал о его путешествиях, причем зачитал обширные выдержки из своей статьи о Миклухо-Маклае, напечатанной в «Нувель ревю». Николай Николаевич тихим прерывистым голосом произнес довольно путаную речь[787]. Затем состоялся банкет, на котором, как тогда выражались, шампанское лилось рекой.
Куда более прозаическим и даже печальным был визит, который Николай Николаевич в сопровождении Мещерского нанес на следующий день тяжелобольному Ивану Сергеевичу Тургеневу. Писатель жестоко страдал от болезни и мало верил в успех ожидавшей его очередной урологической операции. Тургенев вспомнил их первое знакомство в Веймаре, расспросил Миклухо-Маклая о его путешествиях и планах на будущее, подробно рассказал о своей болезни. После ухода Мещерского разговор перешел на отвлеченные темы. Путешественник не очень тактично поднял вопрос о старости и природе счастья, и Иван Сергеевич ответил, что в некотором роде счастлив, несмотря на смертельный недуг, так как на закате своих дней уже почти что ничего не желает.
Накануне визита Миклухо-Маклай дал знать Тургеневу, что хотел бы достать брошюры, написанные коммунарами о их жизни в ссылке на Новой Каледонии, и Иван Сергеевич тут же послал записку старейшине русских эмигрантов в Париже П.Л. Лаврову с просьбой срочно доставить ему эти брошюры. Вероятно, Миклухо-Маклай, получив письмо крестьянина Киселева, продолжал обдумывать план создания русской переселенческой колонии в Океании, и ему важно было учесть опыт ссыльнопоселенцев на Новой Каледонии, которые, как он убедился в 1879 году, сумели адаптироваться к непривычному для них тропическому климату и успешно занимались различной хозяйственной деятельностью. Но ко времени посещения Тургенева путешественником эти брошюры не были доставлены, и остается неизвестным, выполнил ли Лавров просьбу писателя и тем более дошли ли эти материалы до Миклухо-Маклая.
Николай Николаевич впоследствии написал воспоминания о визите к Тургеневу, которые были обнаружены в его бумагах Л.Б. Модзалевским и впервые опубликованы в 1933 году. Воспоминания написаны сдержанно и раздумчиво, с огромным пиететом к великому писателю[788]. Что же касается Тургенева, то он дал в своем дневнике такую оценку «знаменитому путешественнику», которая несказанно оскорбила бы и обидела Миклухо-Маклая, если бы он о ней узнал: «Черт знает почему мне кажется, что ведь этот господин — пуф и никакой такой работы после себя не оставит»[789]. Биографы Миклухо-Маклая либо умалчивали об этой оценке, либо приписывали ее крайней раздражительности терзаемого болезнью Тургенева, бестактному поведению путешественника во время беседы или недостаточной осведомленности Ивана Сергеевича. Последний аргумент не выдерживает критики, так как Тургенев постоянно интересовался деятельностью Миклухо-Маклая и получал подробную информацию от Мещерского и Наталии Герцен, с которыми часто виделся в Париже. Похоже, писатель знал, что Маклай нередко «разбрасывается», не доводит до конца начатые предприятия и до сих пор не ознакомил читающую публику с основными результатами своих путешествий и исследований. Мудрый старик предположил, что Николай Николаевич может уйти из жизни, не сумев сказать свое слово в науке.
В январе 1883 года Миклухо-Маклай провел больше недели в Англии. В это время здесь находился сэр Артур Гордон, который принял путешественника в своем родовом поместье в Эскоте и посоветовал не мешкая приступить к реализации «Проекта развития Берега Маклая». Из Лондона путешественник отправился поездом в Шотландию, в город Абердин, для встречи с банкиром и судоходным магнатом Уильямом Маккинноном, рекомендованным ему коммодором Уилсоном в качестве одного из возможных спонсоров «Проекта». Такая встреча состоялась, но нам неизвестно конкретное содержание их бесед. В архивном фонде Маккиннона в департаменте рукописей Национальной библиотеки Шотландии автор этих строк не нашел упоминаний о Миклухо-Маклае. Судя по дальнейшему ходу событий, конкретных договоренностей достигнуто не было. Но встреча оказалась все же небесполезной: Маккин-нон снабдил гостя бесплатным билетом в каюте первого класса от Порт-Саида до Брисбена на пароходе принадлежащей ему компании.
«Я виделся с разными личностями в Англии и Шотландии, — писал Николай Николаевич младшему брату, — и полагаю, что мои шансы относительно Берега Маклая осуществятся, но за него я могу взяться серьезно не ранее двух лет»[790]. Путешественник надеялся, что за это время успеет подготовить к печати обобщающие труды, обещанные совету РГО и лично Александру III. Но его подготовительные меры по созданию Папуасского союза входили во все большее противоречие с обязательствами по подготовке научных трудов и участием в экспедиции на «Скобелеве».
Миклухо-Маклай едва ли рассказал русским дипломатам в Лондоне о своих усилиях по привлечению британских бизнесменов к финансированию «Проекта». Между тем в посольстве получили указание поднять престиж путешественника в лондонских «коридорах власти» и обеспечить благожелательное отношение правительства Гладстона к деятельности русского путешественника в Австралии и Океании. Еще 3(15) ноября, не зная об отсрочке отъезда Миклухо-Маклая из России, Остен-Сакен отправил советнику посольства Алексею Петровичу Давыдову депешу, в которой говорилось: «Поручаю особому вниманию Вашего Превосходительства известного путешественника Миклуху-Маклая, отправившегося ныне в Лондон, и покорнейше прошу Вас, милостивый государь, оказать Ваше содействие к представлению его Ее Императорскому Высочеству великой княгине Марии Александровне, герцогине Эдинбургской. Ввиду того же, что г. Миклуха-Маклай отправляется опять в далекое путешествие в Тихий океан, не оставьте также рекомендовать его великобританским властям, которые смогут оказать ему свое содействие в дальнейших его путешествиях»[791].
Аудиенция у сестры Александра II, вышедшей в 1874 году замуж за второго сына английской королевы Виктории, привлекла внимание высшего света к русскому путешественнику. Давыдов организовал также прием Миклухо-Маклая министром колоний лордом Дерби, который заверил его в том, что британское правительство не помышляет о территориальных приобретениях в Океании. Алексей Петрович ведал в посольстве «деликатными делами», в том числе контактами с агентурой и живущими в Лондоне соотечественниками, которые, не состоя на службе в русской разведке или охранке, готовы были оказывать разные услуги. Через одну из вращавшихся в высшем обществе россиянок он сумел еще до приезда путешественника в Англию привлечь благосклонное внимание к Миклухо-Маклаю самого премьер-министра Уильяма Гладстона.
Как сообщает известный историк разведки Ричард Дикон, в 1870-х годах царское правительство отправило в столицы нескольких государств группу очаровательных русских дам. Они стали теми, кого разведчики называют «агентами влияния». Например, в США успешно действовала Анна Попова. В Англии такую роль выполняла Ольга Новикова[792].
Ольга Алексеевна Киреева (1840 — 1912), сестра известного славянофила А.А. Киреева, молоденькой девушкой вышла замуж за генерала И.П. Новикова. Их семейная жизнь не заладилась, и через несколько лет супруги разъехались, не оформив развода. Хорошо образованная, свободно владеющая несколькими европейскими языками, Ольга стала литератором и публицистом славянофильского направления и придерживалась ультраконсервативных взглядов. По отзывам современников, Ольга Алексеевна была очень хороша собой и одинаково умело использовала свое перо и женские чары. Она вела свободный образ жизни, имела много любовников, среди которых был император Александр II. Именно ее с санкции царя отправили в Лондон с ответственной миссией защищать и пропагандировать всеми доступными ей средствами русскую политику на Ближнем Востоке, прежде всего на Балканах, восстанавливать британских политиков и общественное мнение против Оттоманской империи, неустанно клеймя турецкие зверства в Болгарии, и тем самым в меру сил торить дорожку к «вратам Царьграда», то есть к Константинополю и проливам, овладение которыми оставалось главной задачей русской дипломатии на протяжении всего XIX века.
Ольга Новикова выпустила несколько книг на английском языке, публиковала или инспирировала статьи в газетах и журналах, пользуясь услугами продажных писак. Она числилась корреспондентом газеты «Московские новости», издаваемой М.Н. Катковым, и посылала туда статьи, придерживаясь политической линии этого апологета самодержавия. П.Н. Кропоткин, живший в те годы в Лондоне, утверждает, что Новикова была не только рупором и единомышленником Каткова, но и наблюдала за русскими эмигрантами, то есть была связана с охранкой[793].
Впрочем, этим не ограничивалась многогранная деятельность Ольги Алексеевны в Лондоне. Будучи уже не первой молодости, она сохранила свою сексапильность и обаяние. От нее без ума были некоторые высокопоставленные английские джентльмены. Уступая их ухаживаниям, она ненароком узнавала важные новости и обрабатывала своих воздыхателей в пророссийском духе. Среди почитателей Ольги Новиковой был сам Уильям Юарт Гладстон. Ричард Дикон, специально изучавший этот вопрос, не нашел явных доказательств того, что Ольга была любовницей британского премьера. Но биографы Глад стона отмечают многолетние приятельские отношения, установившиеся между ним и русской красавицей: они часто встречались в неофициальной обстановке и находились в постоянной переписке.
Давыдов поручил Новиковой соответствующим образом подготовить Гладстона к приезду Миклухо-Маклая, и она выполнила это поручение с присущей ей элегантностью, благо появилась такая возможность. В Лондон поступил свежий номер «Нувель ревю» со статьей Моно, восхваляющей Миклухо-Маклая, и Ольга Алексеевна послала премьер-министру экземпляр журнала с запиской, в которой просила обратить внимание на описанные в статье деяния и особенности личности «белого папуаса».
Ответ не заставил себя ждать. В письме, посланном Новиковой 5 декабря 1882 года, с которым автор этих строк ознакомился в архивном фонде Гладстона, содержится любопытная характеристика нашего героя:
«Моя дорогая мадам Новикова,
Возвращаю "Обозрение" («Нувель ревю». — Д. Т.). Статья очень интересна, но еще больше — человек, которому она посвящена. Прилагаю книжку, в которой, если Вы соблаговолите прочесть <главу> "Епископ Паттесон", который был одним из самых благородных порождений английской расы в XIX веке, Вы найдете материал об аборигенах и торге людьми, неправильно называемом торговлей свободным трудом. Боюсь, что у Миклухо-Маклая мы не найдем христианский элемент, который питал героизм Паттесона. И все же существует братство между ними.
Искренне Ваш У.Ю.Г.»[794].
Нужно отдать должное широте взглядов Гладстона. Глубоко верующий человек, автор богословских трактатов, он, не колеблясь, поставил рядом миссионера Паттесона и агностика, если не атеиста, Миклухо-Маклая, так как оба боролись с работорговлей и другими злодеяниями европейских моряков и торговцев и искренне старались помочь островитянам. Разумеется, Гладстон и раньше слышал о русском путешественнике, но мифологизированный образ «белого папуаса», возникающий при чтении статьи Моно, побудил премьер-министра с большей симпатией отнестись к реальной деятельности Миклухо-Маклая.
Подготовительная работа, искусно проделанная Давыдовым, позволила посольству выполнить и вторую часть директивы Остен-Сакена. 18 января 1883 года русский посол барон
А.П. Моренгейм обратился к английскому министру иностранных дел графу Гренвиллу с нотой, в которой просил, чтобы министр колоний граф Дерби выдал Миклухо-Маклаю, «одному из самых выдающихся исследователей», письма губернаторам английских колоний в Австралии и Новой Зеландии. 5 февраля, когда Николай Николаевич плыл по Красному морю на пути в Австралию, Моренгейм получил ответную ноту, к которой были приложены рекомендательные письма для Миклухо-Маклая. Неизвестно, дошли ли эти письма до путешественника. Но одновременно Дерби послал их копии губернаторам в Австралию и Новую Зеландию, и эти рекомендации оказались весьма кстати для русского ученого.
Посетив на французском судне Геную и Неаполь, где Миклухо-Маклай на сей раз встретился с Дорном, путешественник в конце января прибыл в Порт-Саид, где пересел на английский пароход «Чайбаса», билет на который ему предоставил Маккиннон. В итальянских портах и Порт-Саиде Николай Николаевич получил несколько писем, в том числе долгожданное послание от Маргерит — ответ на его предложение руки и сердца, посланное из Александрии в июле 1882 года. Письмо любимой не застало его в России и лишь теперь нагнало адресата. Маргерит сообщала, что согласна стать его женой.
Путешественник мог прибыть в Сидней не ранее 20 марта. А в конце марта — согласно плану, разработанному в Петербурге, — за ним должен был прийти туда русский военный корабль. Неужели ему придется почти сразу покинуть невесту и еще до свадьбы отправиться в новое плавание на острова Океании? В Порт-Саиде Миклухо-Маклай написал новое письмо Шестакову.
В этом письме он утверждал, что за время путешествия по Западной Европе и плавания по Средиземному морю его здоровье еще более ухудшилось. «Доктора, с которыми мне пришлось встретиться, — писал Миклухо-Маклай, — советовали мне заняться серьезно состоянием моего здоровья <…> и находили необходимым: продолжительный отпуск, известную диэту и, если возможно, употребление Карлсбадских вод на месте (т. е. в Карлсбаде) или по крайней мере в Австралии. <…> Они советовали мне ни в коем случае не подвергаться некоторое время, т. е. пока не поправлюсь достаточно, продолжительному пребыванию под тропиками, который "эксперимент" может, по их мнению, кончиться для меня весьма трагически»[795].
Кроме того, продолжал Миклухо-Маклай, если русский корабль придет за ним в Сидней в соответствии с планом, у него останется меньше двух недель «для устройства моих дел в этом городе». За этими невнятными словами явно скрывались взаимоотношения с Маргерит, переговоры с ее отцом и возможная подготовка к свадьбе. Так к его и без того едва ли стыкующимся, далекоидущим планам прибавился новый, личный элемент.
В заключение Николай Николаевич заверил Шестакова, что только плачевное состояние здоровья может заставить его отказаться от экспедиции на острова Тихого океана, и просил дождаться его телеграммы с условными словами, одно из которых (decided) будет означать готовность присоединиться к экспедиции на присланном за ним судне, а другое (defered) — невозможность участвовать в этом предприятии, ввиду чего отпадает необходимость в заходе корабля в Сидней[796].
По пути в Австралию «Чайбаса» 22 февраля бросила якорь на рейде Батавии. Согласно расписанию рейса пароход должен был простоять здесь несколько дней. Путешественник хотел использовать заход в столицу Нидерландской Ост-Индии для решения нескольких дел: во-первых, получить свои коллекции, которые находились до уплаты долга в закладе у фирмы «Дюммлер и Кº»; во-вторых, возобновить утраченные права на аренду земельного участка в местности Кема (остров Целебес), так как в его мозгу, затуманенном многими проектами, высветилась мысль — позаботиться о повышении благосостояния семьи. С борта «Чайбасы» он написал два письма брату, окончившему Горный институт и обдумывавшему свое будущее. Николай Николаевич предложил Михаилу приехать на Целебес и заняться в Кеме выращиванием тропических сельскохозяйственных культур, то есть сделаться плантатором, сообщив заодно слух, что в «реках Целебеса много золота»[797]. Человек нерасчетливый, визионер, Миклухо-Маклай как будто вознамерился погнаться за несколькими зайцами, но, как гласит пословица, «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь»[798].
Впрочем, случай внес коррективы в намерения и надежды Миклухо-Маклая. Когда пароход «Чайбаса» встал на якорь в аванпорте Батавии, путешественник увидел на рейде хорошо знакомый ему военный корабль. Это был корвет «Скобелев», на который перенес свой флаг новый начальник отряда русских судов на Тихом океане контр-адмирал Н.В. Копытов.
Николай Васильевич Копытов (1833 — 1901) принадлежал к элите российского флота и пользовался полнейшим доверием генерал-адмирала и управляющего Морским министерством. Он познал все тонкости морской службы и подобно Шестакову глубоко изучил хитросплетения мировой политики, будучи русским военно-морским агентом в Лондоне. Не случайно именно его назначили командовать маленькой русской эскадрой на Тихом океане, когда возросла напряженность в этом регионе. Посвященный в секретный план экспедиции, разработанный в Петербурге, Николай Васильевич готов был отправить в Сидней один из клиперов своей группы, чтобы забрать Миклухо-Маклая, а если тот сообщит о невозможности участвовать в экспедиции — без него посетить Берег Маклая и другие указанные в секретной инструкции острова.
Поэтому Копытов очень обрадовался, когда путешественник на нанятой лодке прибыл с визитом на милый его сердцу «Витязь», на котором почти ничего не изменилось после переименования. Николай Васильевич предложил Маклаю не мешкая отправиться на «Скобелеве» в плавание по известному ему маршруту. Но путешественник ответил, что «частные дела» вынуждают его, задержавшись на несколько дней в Батавии, не покидать «Чайбасу», чтобы поскорее прибыть в Сидней. Понадобились долгие уговоры, лесть, а возможно, и скрытые угрозы. Наконец, исследователь сдался, выговорив себе комфортные условия размещения на судне. Что заставило путешественника уступить настояниям Копытова и тем самым отсрочить по крайней мере на полгода встречу с невестой? Прежде всего — боязнь лишиться царских милостей и дальнейшей поддержки. Но несомненно, была и другая причина: уже на следующий день он отправится на «Скобелеве» к своим друзьям на Берег Маклая!
Неизвестно, как путешественник объяснил Маргерит свое — внезапное для нее — участие в дальней морской экспедиции. В архивном деле, в котором собраны материалы плавания на «Скобелеве», имеется любопытное письмо Миклухо-Маклая великому князю Алексею Александровичу, написанное вскоре после ухода корвета из Батавии. В противоположность Копытову, который в рапорте генерал-адмиралу и в письме жене сообщал, что ему с трудом удалось уговорить Миклухо-Маклая отправиться в круиз прямо из Батавии, Николай Николаевич утверждал, что сам предложил этот вариант контр-адмиралу. В письме не говорилось ни слова о грозных предостережениях врачей, якобы рекомендовавших ему до прохождения курса лечения карлсбадскими водами воздерживаться от пребывания в тропиках. Наоборот, путешественник сообщил, что «здоровье мое, бывшее плохо при выезде из Европы, значительно поправилось».
Столь противоречивые оценки состояния здоровья были не только лукавством. Как не раз случалось в жизни «белого папуаса», он в ответственный момент сумел на нервном подъеме приглушить свои недуги, чтобы отправиться, как он чувствовал, в последнюю в своей жизни большую морскую экспедицию. Письмо генерал-адмиралу заканчивалось такими словами: «Обстоятельство, что не заходя в Сидней, где у меня много разного рода дел, мне приходится отправляться на острова Тихого океана, представляет для меня лично очень много серьезных неудобств, но все эти соображения я заставил отступить на второй план перед возможностью <…> способствовать таким образом к более скорому и более успешному исполнению задачи, которой осуществление может принести со временем отечеству нашему, весьма вероятно, немаловажную пользу»[799].
Миклухо-Маклай понимал, что его пересадка в Батавии на русское военное судно не останется незамеченной в Сиднее и Лондоне — хотя бы из попавших в газеты рассказов пассажиров «Чайбасы». Чтобы развеять возможные подозрения правителей Туманного Альбиона, он одновременно с письмом русскому генерал-адмиралу отправил письмо своему приятелю Джону Уилсону, произведенному в контр-адмиралы и переведенному на службу в британское Адмиралтейство. Путешественник сообщил, что, встретив в Батавии Копытова, совершающего на корвете «Скобелев» плавание по островам Тихого океана, он воспользовался его любезностью, чтобы посетить залив Астролябия. Миклухо-Маклай просил передать сэру Артуру Гордону, что он действует так, следуя его совету безотлагательно начать подготовку к осуществлению «Проекта развития Берега Маклая»[800]. Было бы неправильно расценить это письмо лишь как дезинформацию: отправляясь на «Скобелеве» в залив Астролябия в соответствии с планом приискания местностей, пригодных для устройства русской военной базы, Николай Николаевич не забывал о своем «Проекте». Он хотел ознакомиться со сложившейся там обстановкой, чтобы быть готовым приступить к практической реализации «Проекта», пусть в модифицированной форме, если «кривая вывезет», то есть позволит ход событий.
24 февраля 1883 года корвет «Скобелев» ушел с батавского рейда и взял курс на Новую Гвинею.
Глава восемнадцатая. СНОВА НА БЕРЕГУ МАКЛАЯ
«Я чувствовал себя как дома»
Контр-адмирал Копытов сначала отнесся к путешественнику с некоторым предубеждением. Он много слышал от морских офицеров о бесцеремонности и эксцентричности «белого папуаса», о его нежелании подчиняться строгому распорядку, существующему на русских военных судах. И действительно, находясь в крайнем возбуждении, Миклухо-Маклай повел себя довольно надменно. На «Скобелеве» не было свободной каюты, так как адмирала сопровождали несколько офицеров его штаба. Однако путешественник категорически отказался поселиться вместе с одним из них и требовал предоставить ему отдельную каюту. Копытов, как умный и практичный человек, нашел выход: на палубе под полуютом для Николая Николаевича оборудовали просторное помещение с брезентовыми «стенами». «Кроме подвешенной офицерской койки, служившей мне постелью, — вспоминает Миклухо-Маклай, — стол, стул и кресло были помещены в моей временной каюте, которая, находясь на палубе, была прохладна и светла»[801].
Свежий морской ветерок при небольшом волнении на море благотворно подействовал на Маклая. Он успокоился, перестал «ершиться» и охотно подолгу беседовал с Копытовым, рассказывая ему о своих прошлых экспедициях и, главное, об островах, которые им предстоит посетить. Уже через три дня после ухода из Батавии Николай Васильевич написал жене: «Без Миклухо-Маклая я бы мог выполнить чрезвычайно поверхностно свое дело. Теперь же, имея его с собою, мне будет все вдесятеро легче. Он же сам по себе человек чрезвычайно интересный, проделавший вещи почти невероятные во время жизни с дикарями и при различных путешествиях по всем углам Тихого океана. Слушать рассказы о его приключениях доставляет мне много удовольствия и часто не верится, чтобы такой маленький и слабенький человек мог бы делать такие дела. <…> Думая найти дикаря, убежавшего от людей на Новую Гвинею, я встретил человека, у которого теперь учусь светскости и общественности»[802]. Как видим, путешественник не утратил способности быстро очаровывать нужных ему людей.
Посетив по пути Макасар и Амбоину, «Скобелев» 17 марта вошел в залив Астролябия и стал на якорь в бухте Константина. Началось третье, весьма непродолжительное пребывание путешественника на Берегу Маклая.
Подготавливая в 1887 году к печати свои дневники, Николай Николаевич лишь кратко, в очерковой форме, описал последнюю встречу со старыми друзьями, ситуацию на заветном берегу, а также работу, которую провели там русские моряки. Полевые записи, которые он использовал при подготовке рукописи и письма, написанные им в этот период, содержат немного полезной информации. Но сохранились в архиве репортажи Копытова и другие материалы экспедиции на «Скобелеве», а также его подробные и частые письма жене, в совокупности похожие на дневник, которые позволяют довольно полно представить последнее пребывание нашего героя на Новой Гвинее.
Очерк, продиктованный Миклухо-Маклаем, окрашен в элегические тона. «Я чувствовал себя как дома, — писал он, съехав на берег возле деревни Бонгу. — <…> Каждое дерево казалось мне старым знакомым»[803]. Николай Николаевич обнаружил, что два квартала в Бонгу полностью обезлюдели: их открытые площадки поросли травой и на развалинах окружающих хижин рос кустарник. По знакомой тропинке он отправился в Горен-ду и был поражен увиденным: «Вместо значительной деревни оставались только две-три хижины; все заросло до неузнаваемости. Мне стало почему-то так грустно, что я поспешил выйти к морю и отправиться обратно на корвет»[804].
Сами бонгуанцы объяснили убыль населения болезнями, насланными колдунами из предгорных деревень, и переселением многих людей из «зачумленной» местности в другие прибрежные и островные селения. Николай Николаевич не застал в живых нескольких тамо боро, в том числе своего друга Туя. «Многие, — писал он, — показались мне совершенно незнакомыми: в мой последний приезд они были еще юношами, а теперь у них самих были дети»[805]. За шесть лет, истекших со времени предыдущего пребывания Миклухо-Маклая, бонгуанцы немало натерпелись от своих врагов из предгорий; они опасались и европейцев, несколько раз высаживавшихся на их берегу. «Всем хотелось, — вспоминает путешественник, — чтобы я по-старому поселился между ними, но на этот раз уже в самой деревне; хотели также знать, когда я опять вернусь и что им делать, если "тамо инглис" снова появятся»[806].
Миклухо-Маклай не оставлял надежды прочно осесть на «своем» Берегу. Но, видя упадок и уныние, овладевшие бонгуанцами и их соседями, убедившись в непрекращающейся вражде между папуасскими деревнями и племенами, путешественник глубже осознал тщетность попыток создать здесь единое независимое самоуправляющееся сообщество. Теперь он мыслил Папуасский союз как некую управляемую им территорию, находящуюся под протекторатом одной или нескольких европейских держав, причем не обязательно России.
Николай Николаевич искренне стремился помочь своим темнокожим друзьям. Чтобы разнообразить их пищевой рацион и прекратить их хроническое недоедание, он привез в Бонгу несколько домашних животных, семена и саженцы неизвестных им культурных растений. Среди них — хлебное дерево, манго, апельсин, лимон, ананас. Матросы и слуги путешественника расчистили в зарослях земельный участок и развели огород, причем Миклухо-Маклай попытался объяснить бонгуанцам, как выращивать и употреблять в пищу эти растения. Кроме того, Николай Николаевич привез зерна кофе, который лучше растет в более сухом и прохладном климате. Он вручил этот ценный подарок своему старому знакомому Саулу — там о боро Бонгу и посоветовал использовать зерна в меновой торговле с обитателями горных деревень, причем просил сообщить горцам, что Саул получил их от таморусс Маклая.
Путешественник привез бонгуанцам бычка и телку индийской породы, козла и двух коз. Папуасы видели таких животных лишь на палубе «Изумруда» и тогда же, как мы помним, назвали бычка «буль боро рус» — «большой русской свиньей». Козла и коз поместили в одной из хижин, и матросы показали папуасам, как их доить. Но бонгуанцы не отважились попробовать козье молоко. Судьба этих животных была печальной — после ухода «Скобелева» козла и коз зарезали перед большим пиром, чтобы приготовить из их мяса вкусное угощение. Что же касается бычка и телки, то их поместили на огороженной поляне на краю деревни. Бык вел себя очень беспокойно и после нескольких неудачных попыток сумел перескочить через изгородь. За ним последовала телка, и эта, по выражению Миклухо-Маклая, «интересная парочка» убежала на покрытые лесом холмы; поймать ее не удалось[807]. Но большинство культурных растений, привезенных путешественником, прижилось и обогатило пищевой рацион обитателей Берега Маклая[808].
В отличие от первых двух посещений залива Астролябия Миклухо-Маклай не только общался с бонгуанцами и их соседями, но и активно помогал Копытову и его офицерам провести работы, предусмотренные инструкцией Морского министерства. Еще в 1872 году он обнаружил удобную гавань между архипелагом Довольных людей и «материком» Новой Гвинеи и в письме-отчете о своем втором пребывании в этих местах назвал ее в честь великого князя Алексея Александровича[809]. Именно на нее он обратил внимание Шестакова. Но перейти на корвете из Порт-Константина в Порт-Алексей оказалось нелегким делом из-за опасных отмелей и коралловых рифов. Опираясь на советы своих друзей с архипелага Довольных людей, Николай Николаевич помог Копытову найти безопасный проход в Порт-Алексей. Эта гавань очень понравилась адмиралу. В рапорте Шестакову он написал, что Порт-Алексей «представляет по своим гидрографическим условиям не только хорошую угольную станцию, но и прекрасный опорный для крейсеров порт», что, учитывая уровень развития и численность местных жителей, занятие примыкающих к порту островов не представит «никаких затруднений»[810]. В соответствии с инструкцией русские моряки на гребном судне приступили к точной описи берегов и промеру глубин в разных местах порта.
20 марта Николай Николаевич вместе с мичманом В.Л. Баршем совершил на паровом катере поездку к «материку» в район, где обитали людоеды племени эремпи, а на следующее утро отправился туда в каноэ вместе со своим старым приятелем Каином — тамо боро острова Били-Били. Путешественник проплыл несколько миль по речке и посетил деревню Эремпи, где приобрел копье, лук и стрелы, отличающиеся от тех, которыми пользовались другие обитатели Берега Маклая. Эта речка на карте, составленной офицерами «Скобелева», названа рекой Миклухо-Маклая.
Как подметил Копытов, климат на архипелаге Довольных людей, где бросил якорь «Скобелев», суше и здоровее, чем в бухте Порт-Константин — месте стоянки «Витязя» и «Изумруда». Но, помня, что десятки моряков на этих судах заболели «перемежающейся лихорадкой», Николай Васильевич решил поскорее покинуть берега Новой Гвинеи, пока у него на борту не появились заболевшие этой коварной болезнью.
Миклухо-Маклаю понравился необитаемый островок Маласпена, покрытый пышной растительностью. Путешественник решил закрепить его за собой — на всякий случай. Узнав о скором отплытии корвета, Маклай через Каина спросил 22 марта у владевших Маласпеной жителей острова Сегу, «согласны ли они дать мне этот остров для того, чтобы поставить там дом в случае моего возвращения». «Все оказались не только согласными, но даже очень довольными, — рассказывает он, — услышав, что я поселюсь недалеко от них»[811]. Никакого столба или знака на Маласпене, подтверждающего его «права», путешественник не поставил. Впрочем, островитяне едва ли поняли истинный смысл его вопроса. При расставании Миклухо-Маклай обещал своим друзьям не оставлять их в беде и «со временем» поселиться в этих местах. На рассвете 23 марта «Скобелев» покинул Берег Маклая.
«Скобелев» в Микронезии. Итоги экспедиции
Корвет отправился на север к меланезийским островам Адмиралтейства и 25 марта бросил якорь у северо-восточной оконечности Мануса — главного острова этой группы. Миклухо-Маклай впервые побывал здесь в 1876 году на шхуне «Си берд». Воспользовавшись случаем, он съехал на берег со свободными от вахты офицерами и осмотрел несколько деревень. Между тем Копытов остался недоволен местным рейдом, рекомендованным путешественником, и так как опись этого рейда уже была сделана английским океанографическим судном «Челленджер», он, дождавшись возвращения путешественника и его спутников, приказал немедленно сняться с якоря и направиться к следующему пункту, включенному в программу экспедиции — лежащим примерно в 100 милях от Мануса островам Хермит, где Маклай высаживался в 1876 и 1879 годах.
26 марта корвет вошел в лагуну, образованную несколькими небольшими островками группы Хермит. «Впечатление, произведенное этим портом, — написал в отчете Копытов, — делает его весьма удобным опорным пунктом военного времени, и перегрузка угля и других запасов с судов здесь всегда легко может быть исполнена, особенно если эти острова будут принадлежать частным русским лицам»[812]. Так в отчете впервые прозвучала его главная рекомендация: не захватывать какие-либо территории, а способствовать водворению на них доверенных лиц.
Два дня русские моряки обследовали лагуну, выявляя удобные проходы в нее через кольцевой риф. Николай Николаевич использовал это время для осмотра местности и общения с островитянами. То, что он узнал на берегу, не только глубоко опечалило его, но и нашло взволнованный отклик у адмирала — человека консервативных взглядов, свысока смотревшего на островитян южных морей: «По существующим порядкам, англичане, немцы, американцы, в случае если на каком-либо из островов будет кто-либо из их нации убит туземцами — наказывают такой остров, стреляя их и сжигая их селения, почти не входя в разбирательство, кто прав, кто виноват, несмотря на то, что в большинстве случаев виноваты торговцы-европейцы своими безмерными злоупотреблениями, насилиями, обманом и проч. По рассказам жителей г-ну Миклухе-Маклаю, такая экзекуция на этих островах была произведена американскими и германскими военными судами, причем сожжено две деревни, убито 7 человек»[813]. В досье путешественника, содержавшее факты злодеяний европейских и американских моряков и торговцев на островах Океании, добавился новый хорошо документированный эпизод.
27 марта «Скобелев» отправился далее — к микронезийскому архипелагу Палау. Здесь 1 апреля он бросил якорь у северо-западной оконечности острова Бабелтуап. С разрешения адмирала Николай Николаевич высадился на берег и отправился в деревню Малегиок к местному правителю (раклаю) Темолю (Темолу), у которого гостил в 1876 году. Подружившись с этим вождем, он приобрел тогда два небольших земельных участка, Комис и Оберамис. Темоль и теперь признал этот дар. В Малегиоке путешественник встретился с Мирой (племянницей раклая) и Мёбли, которые прислуживали ему во время второго пребывания на Берегу Маклая. Миклухо-Маклай, как мы помним, позаботился о безопасном возвращении их на родину. Они радостно приветствовали своего бывшего господина, и Мёбли согласился присматривать за его земельными участками, засаженными кокосовыми пальмами.
В Малегиоке Николай Николаевич познакомился с натуралистом и этнографом Яном Станиславом Кубари, которого гамбургский музей, принадлежавший фирме Годефруа, послал в Океанию для собирания коллекций[814]. Он обосновался на По-напе, откуда совершал путешествия по Микронезии и другим регионам Океании, причем занимался не только собиранием коллекций и написанием статей, но и выполнял деликатные поручения своих немецких хозяев. Посещение Палау русским военным кораблем и активность Миклухо-Маклая не понравились Кубари, и он сознательно ввел в заблуждение русского путешественника, подтвердив ложный слух, что одним из островков владели англичане. На следующий день Николай Николаевич вернулся на «Скобелев» и подробно рассказал адмиралу обо всем, что ему довелось увидеть и узнать. «Я узнал, что у восточного берега острова находится за рифом близ берега удобная якорная стоянка для больших судов», — сообщил он Копытову[815]. Но когда он добавил, что, по словам Кубари, островок в бухте у южного побережья этого острова принадлежит англичанам, адмирал счел избрание Бабелтуапа «для указанных мне целей невозможным, по совместности его с английской территорией», и, отказавшись от проведения гидрографических изысканий, приказал сняться с якоря.
Архипелаг Палау был последним из пунктов, которые надлежало посетить экспедиции на «Скобелеве». Поэтому отсюда Копытов отправился в Манилу, где надеялся получить телеграмму из Петербурга.
В письме Копытову, написанном на борту «Скобелева», Миклухо-Маклай намекнул, что из осмотренных во время плавания местностей Порт-Алексей наименее пригоден для «известной цели» как ввиду «нездоровости берегов Новой Гвинеи», так и из-за опасной близости к английским колониям в Австралии[816]. Вероятно, Николай Николаевич по-прежнему не хотел форсировать решение вопроса о создании русской военно-морской станции в районе залива Астролябия.
Путешественник не подозревал, что в итоговом отчете, посланном Шестакову, Копытов, не умолчав о наличии удобных гаваней, пришел к заключению, что ни одна из местностей, посещенных «Скобелевым», по разным причинам не подходит для устройства угольного склада и использования в случае войны в качестве опорного пункта для крейсеров. Он указывал, что все предложенные пункты «не представляют вообще удобств для устройства на них угольных складов по своему удаленному положению — в таких местах, прибытие к которым, через большие штилевые пространства, потребуют расхода более нежели полного судового запаса угля и столько же понадобится для возвращения этого судна на место действия»[817]. Этот аргумент будет неизменно использоваться в будущем при обсуждении аннексионистских проектов Миклухо-Маклая.
Отклонив его предложения, Копытов вместе с тем отдал должное «белому папуасу»: «Во время всех посещений, равно как и в продолжение всего плавания, я пользовался весьма существенными услугами г. Миклухо-Маклая по исполнению поручения, в чем я ему очень обязан. Его знание местных языков чрезвычайно облегчало наши сношения с дикарями. Сведения, полученные на островах о их посетителях европейцах, получены все от него. <…> Я нашел справедливым выдать ему из экстраординарных сумм 320 доллар, на проезд до Сиднея, порта его пребывания». Адмирал добавил, что путешественнику «ничего не известно из настоящего донесения»[818].
Глава девятнадцатая. МИКЛУХО-МАКЛАЙ В АВСТРАЛИИ
«Закрепиться, пока не поздно»
Покинув «Скобелев» в Маниле 17 апреля 1883 года, Николай Николаевич на испанском судне перебрался в Гонконг, чтобы дождаться там парохода, следующего в Австралию. В Гонконге Миклухо-Маклая ждало крайне неприятное известие. Произошло то, чего он боялся больше всего: правительство Квинсленда, действуя на свой страх и риск, 4 мая объявило об аннексии восточной части Новой Гвинеи и обратилось к имперскому правительству в Лондоне с просьбой одобрить эту аннексию.
Явно преувеличивая свое влияние на ход событий, Николай Николаевич вообразил, что акция Квинсленда была спровоцирована экспедицией «Скобелева» и страхом австралийских политиков перед возможной аннексией Восточной Новой Гвинеи Россией. «Мне стало ясно, — написал он в Петербург, — что мое переселение с почтового австралийского парохода на русское военное судно не прошло незамеченным в Австралии и что в Брисбейне, куда отправился пароход "Chyebassa", это обстоятельство так встревожило тамошнее правительство, которое, надо заметить, уже не раз изъявляло желание занять Новую Гвинею, что, боясь опоздать, убедило <…> губернатора сэра Артура Кеннеди сделать этот поспешный шаг»[819].
Однако материалы, хранящиеся в архиве Квинсленда, не подтверждают мнение Миклухо-Маклая. Как видно из этих материалов, глава правительства Квинсленда Т. Макилрейт и его представитель в Лондоне Т. Арчер в своих пояснениях имперским властям ссылались на необходимость установить контроль над колонистами, поселившимися на Новой Гвинее, обеспечить судоходство через Торресов пролив и создать там угольную станцию, а также предотвратить угрозу британским колониям в Австралии, которая возникла бы в случае захвата Восточной Новой Гвинеи какой-либо европейской державой. В этих официальных документах держава не была названа, но из газет и заявлений политиков явствует, что в Австралии, в том числе в Квинсленде, особенно опасались возможного захвата части Новой Гвинеи Германией. Эти опасения приняли в Австралии буквально панический характер после появления 27 ноября 1882 года во влиятельной немецкой газете «Альге-майне цайтунг» большой статьи с призывом безотлагательно присоединить Новую Гвинею к германским владениям. Что касается Миклухо-Маклая, то он упоминается в материалах этого фонда лишь как исследователь Новой Гвинеи[820].
Узнав из газет об акции квинслендских властей, Миклухо-Маклай спешно отправил 2 — 3 мая из Гонконга два письма сэру Артуру Гордону, в которых вновь призвал его защитить человеческие права папуасов Берега Маклая и других районов Новой Гвинеи. Считая меньшим злом присоединение Восточной Новой Гвинеи (или ее юго-восточной части) непосредственно к Великобритании, путешественник просил не допустить поглощения этой территории Квинслендом[821].
Как свидетельствуют документы, Гордон, назначенный генерал-губернатором Цейлона, но еще остававшийся в Англии, в принципе не возражал против присоединения Восточной Новой Гвинеи к Британской империи, но считал такую акцию несвоевременной по политическим соображениям. Переписка с русским путешественником и встреча с ним в Англии в январе 1883 года, по-видимому, оказали определенное влияние на Гордона. 20 апреля, то есть еще до того, как были написаны два упомянутых письма Миклухо-Маклая, сэр Артур направил Гладстону письмо, в котором рекомендовал дезавуировать правительство Квинсленда. Гордон подчеркивал, что в случае включения Восточной Новой Гвинеи в состав этой колонии папуасы окажутся во власти «невежественной и эгоистичной олигархии, принадлежащей к другой расе и имеющей интересы, прямо противоположные интересам туземцев», что квинслендские власти и колонисты будут обращаться с папуасами, как с австралийскими аборигенами — по мнению квинслендских обывателей, «вредными тварями, которых следует смести с лица земли»[822]. Гордон написал также министру колоний лорду Дерби и канцлеру лорду Селборну, опубликовал письмо по этому вопросу в газете «Тайме». Информация, полученная от Гордона, равно как его юридические аргументы (колония не может иметь колоний) побудили кабинет Гладстона 2 июня 1883 года объявить действия властей Квинсленда «неоправданными» и отвергнуть провозглашенную аннексию[823].
Еще не зная, чем закончится экспансионистская акция Квинсленда, Миклухо-Маклай вслед за письмами Гордону отправил письмо великому князю Алексею Александровичу. Как видно из этого документа, в связи с серьезной угрозой, нависшей над Берегом Маклая, путешественник решил вернуться к возникшей у него еще в 1875 году, но отвергнутой царским правительством идее установления над Берегом Маклая российского протектората, вероятно, надеясь совместить его — пусть в модифицированной форме — с Папуасским союзом. Вместе с тем, «ввиду бесцеремонного захвата островов Тихого океана Англиею, Германиею и Франциею», Николай Николаевич призвал в цитируемом письме приобрести в Океании «русский порт (или несколько таковых)», предпочтительно в одном из архипелагов Микронезии[824]. Миклухо-Маклай развивал эти мысли и варьировал их в зависимости от текущей политической обстановки в письмах Александру III и его сановникам. «Жаль, однако же, будет, очень и очень жаль, если Россия упустит время заявить свое положительное желание занять <…> одну из групп островов Тихого океана», — писал он Копытову в октябре 1883 года[825]. Путешественник пытался привлечь к поддержке своих планов К.П. Победоносцева. «В настоящее время, — писал он двумя месяцами позже всемогущему обер-прокурору Святейшего синода, — более или менее явно в водах Тихого океана происходит дележ. <…> Надеюсь, что Россия не опоздает в этом дележе и возьмет себе подходящее. <…> Следует ковать железо, пока оно горячо»[826].
Как совместить призывы Миклухо-Маклая к созданию военно-морской базы на тихоокеанских островах с его борьбой в защиту человеческих прав островитян Океании? Сам путешественник прямо не ответил на этот вопрос. Попробуем высказать некоторые соображения, опираясь на логику его поступков.
Прежде всего Миклухо-Маклай исходил из предпосылки, высказанной Александром III в Гатчине, что «Россия не нуждается в "завоеваниях" на островах Тихого океана, а что приобретение местности или местностей, удобных для склада угля и проч., может быть сделано путем мирным, без нарушения прав собственности туземцев»[827] или, как он сам позднее подчеркивал, «с полного согласия туземцев, без малейшего обмана и насилия»[828]. Более того, русские военные моряки, в отличие от европейских и американских шкиперов, торговцев и плантаторов, не только не стали бы эксплуатировать обитателей этих местностей, но самим фактом своего присутствия защитили бы их от «охотников на черных дроздов» и других чужеземных угнетателей. Сходную функцию, по мнению путешественника, выполнял бы русский протекторат над Берегом Маклая, который, как он полагал, «избавит многие тысячи туземцев, с одной стороны, от постоянных войн и постоянного страха быть ограбленными, убитыми и подчас съеденными соседними племенами, а с другой — от нередко встречающихся в этой части света случаев людокрадства, рабства, насилия, несправедливого захвата земли белыми и т. д.»[829]. Иными словами, Миклухо-Маклай, «переходя с чисто русской точки зрения на более обширную точку зрения человеколюбия, гуманности и цивилизации»[830], довольно самонадеянно надеялся совместить геополитические интересы России с защитой островитян от злодеяний колонизаторов.
Свадьба с препятствиями
В Торресовом проливе на острове Терсди (Вайбин) у Миклухо-Маклая, плывшего из Сингапура в Сидней на пароходе «Венис», появился попутчик — английский миссионер Дж. Чалмерс, с которым путешественник познакомился в 1880 году на юго-восточном побережье Новой Гвинеи. Обсудив создавшееся положение, Миклухо-Маклай и Чалмерс пришли к выводу, что необходимо любой ценой предотвратить поглощение части Новой Гвинеи Квинслендом. По инициативе русского путешественника 1 июня 1883 года ими было написано совместное письмо лорду Дерби на случай, если английское правительство решит присоединить Восточную Новую Гвинею к британским владениям. Миклухо-Маклай и Чалмерс просили уважать «права туземцев на их земле», полностью запретить вывоз рабочих с Новой Гвинеи, ибо он на практике неминуемо вылился бы в какую-нибудь систему «приличного» людокрадства, совершенно воспретить ввоз на остров спиртных напитков[831]. Копию этого послания Миклухо-Маклай отправил Гладстону, выразив в сопроводительном письме надежду, что имперское правительство не поддержит политику «насилия, людокрадства и невольничества»[832]. Чалмерс высадился на берег в Куктауне, а Николай Николаевич проследовал далее в Сидней, куда прибыл 10 июня.
Вскоре по возвращении в Сидней Миклухо-Маклай узнал, что непосредственная угроза Восточной Новой Гвинее со стороны Квинсленда на сей раз миновала. Но путешественник понимал, что для благодушия нет оснований. «Я полагаю, — писал он Копытову еще до прибытия в Австралию, — что английское правительство не захочет ссориться с австралийскими колониями ради Новой Гвинеи и что "by and by" согласится на это увеличение своих колоний под предлогом, что не может потерпеть, чтобы какая-нибудь другая держава утвердилась бы так близко от Австралии»[833].
В Сиднее Николая Николаевича ждала крупная неприятность. 28 сентября 1882 года, когда он находился в Европе, сильный пожар в Выставочном городке, раздуваемый шквальными порывами ветра, уничтожил за несколько часов Садовый дворец и окружавшие его павильоны. Ходили слухи, что пожар устроили злоумышленники, чтобы сжечь хранившиеся во дворце полицейские архивы. Полагаясь на полицейских, охранявших выставочный городок, Миклухо-Маклай оставил в павильоне, предоставленном ему правительством Паркса, часть своих вещей и после открытия биологической станции. Теперь на месте павильона он обнаружил кучу пепла и покореженный металлический каркас. Нам неизвестен размер причиненного ему ущерба, но путешественник скорбел об этой утрате.
Прожив несколько дней в Австралийском клубе, Миклухо-Маклай обосновался в здании биологической станции и занялся прежде всего матримониальными делами. Невеста с нетерпением ждала его приезда и — по возможности скрытно от окружающих — возобновила с ним интимные отношения. Но ее семья всячески стремилась воспротивиться браку. «Все родственники, — писал Николай Николаевич брату Михаилу, — против нашей свадьбы, выдумывают разные препятствия. <…> Рита бедная не знает, кого слушаться, меня или отца своего, которого она очень любит и который не особенно дружественно смотрит на нашу свадьбу»[834].
Несмотря на широкую известность и дворянское происхождение, Николай был для сэра Джона и его родни человеком иного круга. Как они считали, этот чужеземец не имел устойчивых источников дохода, отличался сомнительным здоровьем и к тому же мог увезти Маргерит на Новую Гвинею или, чего доброго, в далекую, утопающую в снегах Россию. Молодой женщине внушали, что Николай ее там бросит, что у него могла остаться в России жена и т. д.
Существовала и другая, вполне меркантильная причина противодействия родственников Маргерит, о которой мы узнали из письма сотрудника Австралийского музея А. Мортона куратору этого музея Э. Рэмзи, находившемуся тогда в Европе: согласно завещанию ее покойного мужа, Маргерит теряла две тысячи фунтов годового дохода в случае вступления в новый брак, а эти деньги — важное подспорье для семьи Робертсон, оказавшейся в трудном финансовом положении. Но, как писал Мортон, она «не хочет их слушать», ибо «безумно влюблена» в русского путешественника[835]. Чтобы быть вместе с любимым, Маргерит готова была обречь себя на жизнь, полную лишений, пойти на разрыв или, во всяком случае, на ссору со своей семьей.
Тогда сэр Джон выдвинул последний и, как ему казалось, решающий аргумент: брак православного на иноверке, к тому же заключенный по протестантскому обряду, не будет признан законным в России. Николаю Николаевичу пришлось послать в ноябре 1883 года телеграмму гофмаршалу князю В.С. Оболенскому: «Прошу разрешения Государя на мою женитьбу на протестантке с условием, что потомство женского пола будет протестантского вероисповедания»[836].
Однако всесильный и своенравный обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев, которому царь приказал передать телеграмму, счел ее «чересчур бесцеремонною да и странною» и положил ее под сукно. Лишь по получении письма от Миклухо-Маклая и личного указания Александра III (узнавшего о задержке от Оболенского) Победоносцев в конце января отправил в Сидней телеграмму, которая, по словам Миклухо-Маклая, «благодаря своей большой ясности и счастливому для меня обстоятельству, что была послана на английском языке», совершенно устранила «всякое недоразумение и новые проволочки»[837]. Сэр Джон вынужден был уступить. Свадьба Нильса и Риты, как называли друг друга влюбленные, состоялась 27 февраля 1884 года.
Проведя неделю в Голубых горах, молодая чета поселилась в арендованном особняке в престижном сиднейском районе Балмейн. «Вы вполне правы, называя меня счастливым человеком, — писал Миклухо-Маклай вскоре после женитьбы Дж. Уилсону. — Действительно, я теперь понимаю, что женщина способна внести истинное счастье в жизнь мужчины, который никогда не мог поверить, что оно существует на свете»[838]. Маргерит быстро и легко вошла в дела мужа и искусно выполняла роль его секретаря. В ноябре 1884 года в семье родился первенец, которого назвали двойным именем — Александр Нильс.
Молодая семья вскоре начала ощущать материальные тяготы. «Жизнь здесь, в Сиднее, очень дорога, — писал путешественник младшему брату в апреле, — и я не знаю, как мне будет возможно ухитриться прожить этот год»[839]. Миклухо-Маклай убедился, что полученная от царя субсидия, «достаточная для человека холостого, оказалась нехватающею для самой скромной жизни человека женатого в Австралии»[840]. Временное облегчение принес денежный перевод (около 200 фунтов) от Екатерины Семеновны — первый после многолетнего перерыва. В конце года Николай и Маргерит перебрались в более скромное жилище в Уостонс-Бей, поблизости от биологической станции. В этом домике в декабре 1885 года родился их второй сын — Владимир Аллен.
Попытка написания книги
Пока продолжались хлопоты, связанные с женитьбой и устройством семейного очага, о серьезной работе над книгой нечего было и думать. В этот период Миклухо-Маклай выступил на заседаниях местного Линнеевского общества с сообщениями на такие разные темы, как форма черепа у австралийских аборигенов, температура тела утконоса, мозг дюгоня и панцирь краба, якобы используемый при метеорологических наблюдениях. Приезжая на биологическую станцию, ученый занимался главным образом приведением в порядок коллекций и других материалов своих экспедиций. Кроме того, он возобновил совместно с У. Маклеем сравнительно-анатомическое изучение акул.
Судя по письму брату[841], лишь в апреле 1884 года Миклухо-Маклай решился приступить к подготовке к печати своих новогвинейских дневников, которые должны были составить основу капитального труда, обещанного им совету РГО и Александру III. Тетрадку с записями за 1871 год сразу отыскать не удалось, а потому он начал с января 1872 года. Сохранилась любопытная рукопись — фрагмент подготовленного к печати дневника с 1 по 24 января в переводе на английский язык. Почерк принадлежит Маргерит, рукопись содержит небольшую авторскую правку. Этот текст был впоследствии опубликован в австралийском географическом журнале[842]. Но работа по подготовке к печати дневников, по-видимому, не заладилась или, во всяком случае, крайне медленно подвигалась вперед, и путешественник снова занялся изысканиями в области антропологии, зоологии и других естественных наук. Пришлось в сентябре 1884 года обратиться к царю с просьбой «продлить дарованную мне годовую субсидию (400 фунтов) еще на один год, в течение которого я надеюсь прибыть в Петербург с готовыми для печати рукописями»[843]. Просьба Миклухо-Маклая была удовлетворена, но и в конце 1885 года работа над книгой все еще оставалась в самой начальной стадии.
Ряд обстоятельств сдерживал подготовку главного труда его жизни: хлопоты, связанные с женитьбой и устройством семейного очага, хроническая нехватка денег и болезни, в том числе медленно развивавшийся страшный недуг, не распознанный лечившими его врачами. Состояние его здоровья по временам было таково, что невозможно было даже задумываться о капитальных трудах, которые потребуют много месяцев упорной работы. К этим негативным факторам прибавился колониальный раздел Восточной Новой Гвинеи, глубоко потрясший путешественника и заставивший его мобилизовать свои интеллектуальные силы для защиты прав обитателей Берега Маклая. Однако дело не только в этих неблагоприятных для повседневной и систематической работы над книгой обстоятельствах, но и в творческой индивидуальности исследователя.
«Миклухо-Маклай, — справедливо отмечает Б.Н. Путилов, глубоко изучивший психологию «белого папуаса», — предстает перед нами как ученый, для которого работа по обобщению научных результатов многолетних путешествий оказалась чрезвычайно сложной не только из-за внешних обстоятельств (самих по себе очень важных), но и по причинам внутреннего, творческого порядка. Как и что писать, в каком объеме, в каких границах и в какой форме изложить итоги того, чему были отданы годы жизни, — эти вопросы, решавшиеся многими предшественниками Миклухо-Маклая с завидной легкостью и простотой, предстали перед ним как мучительно сложные»[844]. Если в 1882 году ученый считал, что «предполагаемое издание будет иметь характер строго научный» и «рядом с кратким историческим очерком (изложением обстановки и событий путешествия) будут следовать специально научные отделы по антропологии, сравнительной анатомии, этнологии, метеорологии и т. п.»[845], то уже в 1884 году в его замыслах на первый план вышел «подробный рассказ» о путешествиях, интересный как для специалистов, так и для более широкого круга читателей, а «чисто научные добавления по разным специальностям» переместились в «отдельные выпуски», которые намечалось печатать «по мере окончания некоторых добавочных исследований»[846]. План издания менялся и в дальнейшем, но так и не был до конца определен.
Флибустьеры на Берегу Маклая
Находясь в Австралии, Миклухо-Маклай все время внимательно следил за развитием событий, касающихся Новой Гвинеи. В сентябре — октябре 1883 года в австралийской печати появились сообщения о том, что авантюрист Генри Мак-Ивер (в современной транскрипции — Макайвер) готовит военизированную колонизационную экспедицию на Берег Маклая.
Шотландец Мак-Ивер — один из наиболее известных «солдат удачи» XIX века. В 1860-х годах он участвовал на стороне южан в американской Гражданской войне, примкнул к волонтерам Гарибальди в борьбе за воссоединение Италии, «отметился» в военных конфликтах в Аргентине и Мексике, а в 1870-х годах сражался на Балканах, где получил чин сербского бригадного генерала[847]. Мак-Ивер вполне мог бы быть прообразом одного из героев Дюма или Майн Рида. Но с годами в его действиях все более проявлялся трезвый меркантильный расчет. Он облюбовал британские колонии в Австралии и Новой Зеландии, обзавелся там связями с местными дельцами и политиками авантюрного толка.
Выше уже упоминалось о попытке Мак-Ивера снарядить в 1881 году колонизационную экспедицию из Новой Зеландии на Берег Маклая. Эта попытка провалилась из-за противодействия сэра Артура Гордона. Осенью 1883 года Мак-Ивер решил, что обстановка для осуществления его замысла стала более благоприятной. Вместе со своими деловыми партнерами он основал Новогвинейскую колонизационную и торговую компанию, купил пароход и начал прием заявок от желающих принять участие в экспедиции. В «Проспекте» компании, в частности, говорилось, что предполагается основать укрепленное поселение и «приобрести» у папуасов 500 тысяч акров плодородной земли на побережье в районе бухты Константина, а затем распродать ее крупными блоками колонистам. Чтобы поднять респектабельность этой затеи, Мак-Ивер заявлял, что намерен взять с собой миссионеров. Внимательно изучив этот «Проспект», Николай Николаевич писал в газете «Новости»: «Я весьма сомневаюсь, чтобы даже с помощью миссионеров генералу Мак-Иверу удалось отобрать у туземцев "миролюбивым" образом 400 или 500 000 акров плодородной земли!»[848]
Видя серьезность намерений Мак-Ивера и зная о наличии у него влиятельных друзей, Миклухо-Маклай 27 октября послал лорду Дерби телеграмму: «Туземцы Берега Маклая требуют политической автономии под европейским покровительством», а на следующий день отправил Дерби письмо, в котором разъяснил, зачем была послана телеграмма, и раскрыл смысл содержащейся в ней формулы. Как «выразитель интересов и представитель (pro tempore) туземцев Берега Маклая», путешественник потребовал, «чтобы в случае прибытия белых на этот берег либо в случае дарования протектората или принятия решения об аннексии туземные установления, обычаи и порядки не были уничтожены и чтобы туземцы сохранили свое самоуправление», «чтобы земля осталась собственностью туземцев»[849]. Несмотря на давление сторонников Мак-Ивера в прессе и парламенте, Гладстон и Дерби, опираясь на мнение большинства лидеров либеральной партии, решили помешать флибустьерской экспедиции. Дерби дал знать Мак-Иверу, что имперское правительство не признает его земельные захваты на Новой Гвинее и даст указание командирам британских военных судов не допустить нарушения прав туземцев. «Солдат удачи» пытался маневрировать. Он создал якобы новую компанию и опубликовал ее менее одиозный «Проспект». Но Дерби не изменил своего решения. Среди основных акционеров компании начались раздоры, и весь проект с треском провалился[850].
Корреспонденции о телеграмме и письме Миклухо-Маклая лорду Дерби были напечатаны во многих английских газетах, причем иногда в вольной интерпретации. Эти корреспонденции вызвали отклик в петербургской праворадикальной и шовинистической газете «Новое время». 7 января 1884 года в ней появилась редакционная статья, грубо оскорблявшая «белого папуаса»: «Наш известный путешественник Миклухо-Маклай ударился в политику. По сообщению лондонских газет, Миклухо-Маклай, в качестве представителя папуасов Новой Гвинеи, написал лорду Дерби письмо, в котором просит его от имени папуасов принять их под покровительство Англии. Вероятно, за это приятное англичанам посредничество в Лондоне величают Миклухо-Маклая "бароном"»[851]. Выступление путешественника в защиту обитателей Берега Маклая суворинская газета трактовала как проанглийскую акцию, которую Англия использует для присоединения «под шумок» Новой Гвинеи к «своим колониальным владениям». Узнав об этой вылазке «Нового времени» из сиднейских газет, сообщивших, что русская газета нападает на Маклая за «недостаток патриотизма», путешественник немедленно отправил опровержение в «Новое время». Там 24 февраля напечатали его письмо с издевательским примечанием, что оно исходит от «кандидата в короли папуасов». В этом опровержении Николай Николаевич обещал в скором времени ознакомить русскую публику с подлинным содержанием переписки по поводу Берега Маклая.
Клеветническая кампания «Нового времени» вызвала возмущенный отклик петербургского корреспондента «Сидней морнинг геральд». Изложив обстоятельства дела и посочувствовав путешественнику, корреспондент выразил мнение, что от «Нового времени» ничего иного и нельзя было ожидать: эта газета известна «умышленным искажением народных идей и действий, грубым осмеянием всего выходящего за рамки обычного»[852].
Николай Николаевич выполнил свое обещание, но сделал это на страницах враждующей с «Новым временем» либеральной газеты «Новости». Переписка о Береге Маклая и соответствующие комментарии выглядели вполне убедительно. Но путешественнику пришлось слукавить, чтобы объяснить, почему его «величают бароном»: «Английский перевод Hereditary Nobleman (родовой или потомственный дворянин), будучи слишком длинен и неупотребителен в Англии, был заменен прессою, при моем прибытии в Австралию в 1878 г., более коротким титулом "барон". Я много раз замечал моим знакомым, что я не "барон" и никогда не претендовал и не претендую на этот титул»[853]. В действительности, как уже знают читатели, Николая Николаевича начали именовать бароном еще до приезда в Австралию и титуловали так не только в газетах, но и в официальных документах лондонского кабинета и правительств британских колоний. Сам путешественник остерегался называть себя в своих письмах бароном, но не протестовал против применения к нему этого титула в печати и официальной переписке. Суворинская газета, отнюдь не по указанию «свыше», потешила публику, сообщив об этой мистификации.
Отто Финш поднимает германский флаг
Как видно из письма Гордону, написанного в апреле 1884 года, путешественник не отказался от осуществления «Проекта развития Берега Маклая», но думал всерьез приступить к нему по окончании работы над книгой, пока же осторожно подбирал себе соратников и помощников. Николаю Николаевичу казалось, что у него осталось еще «достаточно времени» для надлежащей подготовки. Между тем трагическая развязка быстро приближалась.
Отказ правительства Гладстона признать провозглашенную квинслендскими властями аннексию Восточной Новой Гвинеи вызвал недовольство и протесты не только в Квинсленде, но и в других английских колониях в Австралии. В декабре 1883 года в Сиднее состоялась межколониальная конференция, участники которой потребовали от имперского правительства обеспечить «присоединение к Британской империи всей той части Новой Гвинеи и прилегающих маленьких островов, на которые не притязает правительство Нидерландов»[854]. Дерби назвал решения конференции провозглашением австралийской доктрины Монро для Океании, так как ее участники постановили, что «Австралия не может находиться в безопасности, если какой-либо другой державе будет позволено обосноваться где-то между австралийским побережьем и Южной Америкой»[855]. Конференция предложила создать Федеральный совет Австралазии, чтобы координировать политику отдельных австралийских колоний в отношении тихоокеанских островов.
Под объединенным нажимом правительств британских колоний на пятом континенте и экспансионистских кругов в самой Англии кабинет Гладстона в мае 1884 года согласился рассмотреть вопрос об установлении протектората над Восточной Новой Гвинеей при условии, что колонии возьмут на себя часть расходов, связанных с управлением аннексируемой территорией. Согласие на это было получено, но в правительстве Гладстона возникли разногласия относительно границ намечаемого протектората. В октябре было принято решение на первых порах ограничиться юго-восточной частью Новой Гвинеи, сделав предметом дипломатических переговоров судьбу ее северо-восточного побережья. 6 ноября в Порт-Морсби был торжественно поднят английский флаг.
Узнав из газет о позиции правительства Гладстона, Миклухо-Маклай решил воспользоваться сложившейся обстановкой, чтобы без дальнейших отлагательств попытаться реализовать свои планы в отношении Берега Маклая. Путешественник отправил великому князю Алексею Александровичу и министру Гирсу письма, в которых убеждал, что наступил удобный момент для закрепления России на северо-восточном берегу Новой Гвинеи. Миклухо-Маклай предложил Гирсу на выбор два варианта: «Даровать Берегу Маклая в Новой Гвинее русский протекторат или, если такой шаг покажется неуместным, признать независимость Берега Маклая, чем Берег этот будет огражден от попыток других держав завладеть им <…>». Как видно из письма великому князю, ученый предпочитал «признание Россией) самостоятельности Берега Маклая под верховным протекторатом России». Явно имея в виду свой заветный «Проект», он писал: «Придание туземному управлению Берега Маклая форм, более соответствующих европейским понятиям, зная туземные обычаи и отношения между деревнями, я вполне возьму на себя»[856].
Миклухо-Маклай послал также письмо лорду Дерби, в котором, «как выразитель интересов туземцев этой части Новой Гвинеи», просил британское правительство «признать автономию Берега Маклая» и тем самым воспрепятствовать «его захвату другими державами». «Согласившись с этой просьбой, — убеждал Миклухо-Маклай, — имперское правительство не только совершит акт справедливости в отношении туземцев, но и удовлетворит австралийские колонии, которые стремятся предотвратить попадание северного берега Новой Гвинеи под власть другой державы»[857].
Вероятно, пределом мечтаний для Миклухо-Маклая было тогда установление над автономным Папуасским союзом совместного протектората России и Англии, который — ввиду обостренных отношений между этими державами — предоставил бы ему широкую свободу действий. Путешественник отнюдь не был сторонником включения в Британскую империю всей Восточной Новой Гвинеи, хотя, разочарованный пассивностью России в этом вопросе, по временам рассматривал такую аннексию как меньшее зло. Более того, когда в начале октября в сиднейской газете появилось инспирированное в целях дезинформации сообщение о том, будто Бисмарк «организовал союз с другими европейскими державами, чтобы защитить еще не занятую территорию мира от английской агрессии», Миклухо-Маклай немедленно написал письмо «железному канцлеру». Он просил, чтобы Бисмарк «во имя справедливости и гуманности» склонил эти державы «не просто предохранить от захвата англичанами саму землю, но и взять под защиту права темнокожих туземцев островов Тихого океана, как людей, от бессовестной», несправедливой и жестокой эксплуатации (похищение людей, рабство и т. п.) не только англичанами, но и всеми белыми вообще»[858].
Комментируя почти одновременные обращения ученого к правительствам России, Великобритании и Германии с различными, нередко противоречившими друг другу предложениями, И.А. Шестаков писал, что не мог «постичь привыкшим к дисциплине соображением моим такие совместные поступки г. Миклухи»[859]. Действительно, не искушенный в хитросплетениях европейской политики и тонкостях дипломатической переписки ученый порой действовал наивно, недостаточно обдуманно, даже на первый взгляд противоречиво. Но в этих его поступках просматривалась определенная логика: он пытался использовать противоречия между великими державами, чтобы создать благоприятные внешние условия для учреждения независимого или автономного Папуасского союза. Известный филолог и публицист профессор В.И. Модестов, близко познакомившийся с Миклухо-Маклаем в последние годы его жизни, писал о своем друге: «Препятствия, насколько они зависели от рук человеческих, для него не существовали. <…> Если нельзя чего сделать, например, при помощи русских, то можно сделать при помощи англичан, если нельзя сделать и при помощи англичан, то можно сделать каким-нибудь другим способом»[860]. С этих позиций только что процитированное письмо Бисмарку воспринимается не только как курьез, не только как продукт излишней доверчивости ученого, его недостаточной осведомленности в международной обстановке, но и как отчаянная попытка сыграть на англо-германских противоречиях.
Действительность опрокинула расчеты и иллюзии Миклухо-Маклая. Его письма в европейские столицы, отправленные в октябре — ноябре 1884 года, еще находились в пути, когда на Берегу Маклая был внезапно поднят германский флаг. Как впоследствии выяснилось, подготовка к этому захвату велась на протяжении нескольких лет. В начале 1880-х годов в Германии резко усилилось движение в пользу колониальных захватов. Немецких экспансионистов привлекала прежде всего Африка, но они не обходили своим вниманием и Океанию. Здесь действовали две крупные немецкие компании, имеющие угольные склады, фактории и плантации на Самоа, Новой Британии и некоторых других островах. Однако в качестве основной пружины германской колониальной экспансии в Океании выступала группа влиятельных финансистов во главе с Ганземаном и Блейхредером (личным банкиром и другом Бисмарка), решившая овладеть северо-восточной Новой Гвинеей и прилегающими островами. Эти дельцы, основавшие Новогвинейскую компанию, послали в Австралию и на острова южных морей уже известного нам Отто Финша в качестве своего разведчика и доверенного лица для подготовки колониальных захватов[861].
Еще в 1881 году Финш встретился в Сиднее с Миклухо-Маклаем, причем выдал себя за его единомышленника. Русский ученый сообщил немецкому коллеге ценную информацию о Береге Маклая, которую тот не постеснялся затем использовать в своих книгах. Получив приказ форсировать захват этого берега, Финш летом 1884 года снова появился в Сиднее. Он сумел узнать у Миклухо-Маклая некоторые слова из языка обитателей деревни Бонгу и даже условные знаки, по которым местные жители должны были отличить друзей от недругов. И когда Финш на маленьком пароходе ушел из Сиднея и, обманув бдительность англо-австралийских властей, в октябре высадился на Берегу Маклая, он выдал себя за брата тамо русс и сумел «купить» (а вернее, получить в обмен на грошовые подарки) участки земли для устройства плантаций и угольных баз. Месяцем позже, в соответствии с заранее разработанным планом, северо-восточное побережье Новой Гвинеи и острова северо-западной Меланезии, вскоре названные архипелагом Бисмарка, обошел немецкий военный корабль, всюду провозглашая германский протекторат.
Был ли шпионом Миклухо-Маклай?
Первые сведения о захвате Берега Маклая были получены в Сиднее 17 декабря 1884 года и через два дня появились в местных газетах. Тогда же об этом узнал Миклухо-Маклай. Внезапная аннексия «его» берега явилась для ученого тяжелым ударом. Он отправил Бисмарку телеграмму: «Туземцы Берега Маклая отвергают германскую аннексию»[862]. Но, понимая, что телеграмма едва ли способна что-либо изменить, исследователь решил действовать против немецких колонизаторов их же оружием. Германия обосновывала свои «права» на Берег Маклая «приобретениями», сделанными Финшем в октябре. В ответ Миклухо-Маклай стал ссылаться на то, что задолго до Финша получил от местных жителей несколько земельных участков на этом берегу и прилегающих островках, что еще в 1871 году моряки «Витязя» подняли русский флаг возле его хижины на мысе Гарагасси. В начале января 1885 года ученый заявил об этом в Мельбурне английскому генералу П. Скрэтчли, назначенному специальным комиссаром на Новую Гвинею, и повторил свои аргументы в письме, опубликованном в австралийских газетах[863].
В своих обращениях к британскому правительству Миклухо-Маклай просил не признавать германскую аннексию, пока «продолжается переписка с правительствами Англии, России и Германии касательно автономии Берега Маклая под международным протекторатом и контролем»[864]. Но как раз тогда резко обострились отношения между Англией и Россией из-за столкновения интересов этих держав в Афганистане, и никакого обмена мнениями по новогвинейскому вопросу между Лондоном и Петербургом не произошло. Зато английский посол в Берлине, ведя переговоры о разграничении на Новой Гвинее, ссылался на то, что жители Берега Маклая через своего представителя неоднократно просили о британском протекторате. Однако Бисмарк отказался идти на уступки в этом вопросе, и кабинету Гладстона в интересах обеспечения британской экспансии в других районах земного шара пришлось смириться с немецким присутствием на Берегу Маклая и прилегающих к нему местностях. В апреле 1885 года Великобритания и Германия достигли соглашения о разграничении своих владений на Новой Гвинее. Лорд Дерби поручил Скрэтчли сообщить русскому ученому, что по всем вопросам, касающимся Берега Маклая, ему следует обращаться к германским властям.
Не более успешными оказались попытки Миклухо-Маклая найти поддержку своим замыслам в Петербурге. Долгое время он вообще не получал оттуда откликов на свои письма о геополитических интересах России в Океании и судьбе Берега Маклая, хотя, как показывают архивные документы, эти письма внимательно изучались и обсуждались высокопоставленными сановниками и самим Александром III.
Еще 31 октября 1884 года Гире запросил мнение Шестакова по поводу соображений Миклухо-Маклая о необходимости создания русской сферы влияния в Океании. Адмирал ответил уже через два дня: «По моему мнению, нельзя предвидеть никакой пользы от водружения русского флага в отдаленных местностях, которых мы не будем в состоянии удержать за собой»[865]. В этом духе и была подготовлена всеподданнейшая записка царю, причем напоминалось, что просьба ученого о русском протекторате над Берегом Маклая уже была отклонена в декабре 1875 года. Однако Александр III, передав Гирсу новые письма, поступившие от Миклухо-Маклая, потребовал вторично рассмотреть этот вопрос.
В секретной переписке, которая последовала за этим повелением, участвовали Гире, Шестаков и Остен-Сакен, продолжавший занимать тогда пост директора департамента внутренних сношений МИДа. Участники обсуждения подчеркивали, что в свете быстрых политических перемен на Тихом океане России необходимо прежде всего укрепить свою военно-морскую базу во Владивостоке и добиваться преобладающего влияния в странах, сопредельных с ее дальневосточными владениями, особенно в Корее, хотя в Петербурге не могут относиться с безразличием и к ситуации в Океании. В ходе обсуждения, вероятно под влиянием Александра III, возникла идея отправить к Берегу Маклая военное судно «с целью наблюдательною и на случай необходимости защитить личные интересы русского подданного»[866]. Но после того как 27 декабря 1884 года германский посол в Петербурге Г.Л. Швейниц передал в МИД ноту, извещающую об установлении немецкого протектората над северо-восточным побережьем Новой Гвинеи, предложение об отправке судна было исключено из проекта новой докладной записки царю. Примечательно, что в ходе обсуждения проявилась настороженность царских сановников в отношении Миклухо-Маклая. Так, Шестаков писал Гирсу, что «основываясь на некоторых фактах, я позволяю себе сомневаться в стойкости предложений и намерений г. Миклухи-Маклая»[867]. С этой оценкой соглашался даже Остен-Сакен, многие годы покровительствовавший ученому.
Решено было действовать по схеме, предложенной Шестаковым: «не прерывая сношения с г. Миклухо-Маклаем, ввиду возможной пользы от знакомства его с краем», не сообщать ему «о наших намерениях» и в то же время использовать его как источник информации о положении в Австралии и Океании. 20 декабря 1884 года Гире отправил Миклухо-Маклаю письмо, одобренное Александром III.
«Министерство иностранных дел, — говорилось в письме, — отдавая полную справедливость Вашей долговременной деятельности на островах Тихого океана, направленной главным образом к ограждению туземцев от пагубного влияния чуждой им цивилизации, находило бы в настоящее время крайне желательным получать от Вас по мере возможности постоянные сообщения обо всем происходящем на тихоокеанских материках и архипелагах. Что же касается до последовавшего ныне объявления германского протектората над частью северного берега Новой Гвинеи, то Министерство иностранных дел ныне же обратилось к берлинскому кабинету с предупреждением о том, что могущие оказаться на означенном берегу Новой Гвинеи частные права Ваши, истекающие из соглашения с туземцами, не должны быть нарушены»[868].
Новый тур секретной переписки по поводу предложений Миклухо-Маклая начался после того, как в феврале 1885 года в Петербурге были получены его письма с призывами воспрепятствовать германскому захвату Берега Маклая и установить над ним, в той или иной форме, международный протекторат. На одном из писем, присланных ученым Александру III, царь сделал пометку: «Его просьба скромная и, мне кажется, следует поддержать его»[869]. Однако в результате дальнейшего обмена мнениями возобладала взвешенная оценка интересов и возможностей России на Тихом океане, подкрепленная нежеланием осложнять отношения с Германией в период обострения русско-английских отношений из-за Афганистана.
Но подготовка ответа «белому папуасу» была осложнена сенсацией: письмом Гирсу от Миклухо-Маклая, в котором он сообщал, будто генерал Скрэтчли заявил ему в Мельбурне, что «правительство британское не только ничего не будет иметь против признания Россиею независимости Берега Маклая под моим управлением, но что таким признанием оно останется совершенно довольным и, следуя примеру России, оно признает самостоятельность этого Берега»[870]. В другом письме Гирсу Николай Николаевич сообщал, что передал Скрэтчли карту и рисунок флага Берега Маклая.
Заявление Скрэтчли заставило заколебаться царских сановников. Даже адмирал Шестаков, наиболее последовательный противник принятия предложений Миклухо-Маклая, написал Гирсу 19 февраля: «Принимая во внимание дележную лихорадку, обуявшую все европейские государства, зная из истории, что нередко не совсем вменяемые люди, самой невменяемостью своей, приносили пользу отечеству, и допуская, что никто не может предвидеть будущее, я полагал бы, пользуясь обстоятельствами, сделать попытку удовлетворить г. Миклуху», а именно попытаться «принять Берег Маклая под наше покровительство», с тем чтобы в случае необходимости «выгодно отказаться от царства г. Миклухи в обмен на приобретение, более близкое и более для нас нужное»[871].
Впрочем, многоопытные руководители МИДа с недоверием встретили сенсационное сообщение Миклухо-Маклая. Обмен шифрованными телеграммами с русским послом в Лондоне показал, что английскому правительству ничего не известно о заявлении, сделанном Скрэтчли, и что оно совсем иначе смотрит на этот вопрос. Вряд ли Миклухо-Маклай сознательно ввел в заблуждение Гирса. Просто путаник и визионер услышал в дипломатично обтекаемых словах Скрэтчли то, что хотел услышать[872]. С получением разъяснений из Лондона суматоха улеглась, и 6 марта Гире подписал одобренное царем письмо Миклухо-Маклаю.
«Признание полной независимости Берега Маклая, — говорилось в письме, — в качестве независимого государства, под Вашим управлением, возможно было бы лишь в том случае, ежели бы такое новое государство было бы в состоянии исполнить предварительные условия, требующиеся от всякого ответственного правительства, и имело бы возможность представить достаточные обеспечения торговым интересам тех наций, кои таковые в означенной территории имеют.
Устройство же международного протектората или контроля над Берегом Маклая, посредством соглашения со всеми державами, в данном случае представляло бы многосторонние неудобства и является вследствие сего неудобоисполнимым.
Что же касается до взятия Берега Маклая под формальное русское покровительство, то сопряженные с таковым действием обязательства и ответственность едва ли были бы оправданы выгодами для России такового протектората.
В этих обстоятельствах Высочайшее благорасположение, коим Вы осчастливлены во внимание Ваших ученых трудов и благих стремлений, может лишь выразиться заступничеством в Вашу пользу для достижения наивыгоднейших для Вас и для туземцев Берега Маклая условий путем переговоров. В такие переговоры предстоит Вам вступить с державою, под покровительством которой будет находиться часть гвинейского прибрежья, состоящая в Вашем владении. <…>
В содействии России Вам не будет отказано, как скоро вопрос будет поставлен Вами на эту почву. Но непременными условиями такого содействия и заступничества, конечно, было бы, во-первых, полное невмешательство Ваше в англо-германский спор и борьбу интересов на берегах Гвинеи и, во-вторых, устранение прямого столкновения и неприязненных действий между туземцами и германскими или английскими властями»[873].
Сущность ответа была кратко сформулирована в телеграмме без подписи, отправленной Миклухо-Маклаю два дня спустя: «Протекторат затруднителен. Для автономии требуются определенные гарантии. Договаривайтесь с державой, которая будет владеть побережьем. Вас поддержим, но избегайте конфликтов»[874].
Таким образом, в Петербурге отвергли предложения путешественника и лишь обещали поддержать его в имущественных спорах с немецкими властями. Зато Николая Николаевича дипломатично, но настоятельно попросили регулярно информировать Петербург «обо всем происходящем» в Австралии и Океании. В своем ответе Гирсу Миклухо-Маклай не скрыл, что неохотно принимает столь деликатное поручение, ибо оно создает «значительное затруднение» и отнимает время от подготовки научных работ. «Постараюсь, однако же, — написал он, — сообщать по возможности Вашему Высокопревосходительству важнейшие события, происходящие или ожидающиеся в этом регионе»[875].
При всем эмоциональном неприятии возложенного на него поручения Николай Николаевич не мог ответить отказом, так как понимал, что, проявив строптивость, лишится надежды на поддержку его планов относительно Берега Маклая в неминуемой тяжбе с германским правительством. Он запросил перечень вопросов, которые наиболее интересуют петербургских политиков и стратегов, и отправил через Вену три объемистых отчета. Первый из них, помеченный 9 июня 1885 года, был посвящен военно-политической обстановке и росту антирусских настроений в Австралии в связи с обострением англо-русских отношений, военным приготовлениям на случай нападения на порты пятого континента русских крейсеров. 26 сентября Миклухо-Маклай отправил второй отчет, в котором уделил основное внимание британской колониальной политике в только что аннексированной Юго-Восточной Новой Гвинее и развитию германской экспансии в Океании, в том числе в Микронезии. В третьем отчете, завершенном в марте 1886 года в Индийском океане, на пути из Австралии в Европу, путешественник рассмотрел широкий круг проблем: описал события в Британской Новой Гвинее, кратко осветил этнополитическую обстановку в Нидерландской Ост-Индии и выдвинул нереальную идею приобрести там остров для устройства военно-морской базы.
Чем дальше выходил Николай Николаевич за пределы своей профессиональной компетенции, тем поверхностнее становились сообщенные им сведения, тем меньшую ценность они представляли для МИДа и Морского министерства. При подготовке своих докладных записок путешественник пользовался только «открытыми источниками» — австралийскими газетами и сведениями, которые сообщали ему при личных встречах политические и общественные деятели Англии, Австралии и Нидерландской Ост-Индии. Можно смело утверждать, что Николай Николаевич не выведывал никаких военных секретов и тем более не покупал нужную ему информацию у австралийских чиновников. В связи с этим историк А.Я. Массов делает такой вывод: «Использование Н.Н. Миклухо-Маклаем исключительно открытых источников уже само по себе позволяет решительно и однозначно отвергнуть возможность обвинения русского ученого в шпионаже. Его донесения не были результатом "разведывательной деятельности"»[876]. В то же время известно, что значительная часть разведывательных данных извлекалась и извлекается из «открытых источников», в том числе из невинных на первый взгляд бесед с лицами, располагающими секретными сведениями. Предоставляем читателям судить, стал ли Николай Николаевич, сам того не желая, разведчиком-дилетантом.
Англо-германское соглашение о разграничении на Новой Гвинее и явное нежелание русского правительства выступить против германского протектората над Берегом Маклая вынудили исследователя искать компромисса с немецкими властями. В мае 1885 года он написал Гирсу, что согласен признать верховную власть Германии над Берегом Маклая при условии предоставления этой территории автономии и создания там местного правительства, которое он сам сформирует и возглавит. Такое правительство смогло бы «гарантировать, что торговля, интересы и жизнь белых будут вне всякой опасности, разумеется в том случае, если белые, в свою очередь, будут уважать жизнь, свободу и права туземцев»[877]. Вероятно, ученый в глубине души надеялся, что это позволило бы ему осуществить, пусть в урезанном, модифицированном виде, «Проект развития Берега Маклая». Как он указывал в цитированном письме, предложенное им административное устройство возможно лишь в том случае, если Берег Маклая не будет включен в территорию, передаваемую под управление монопольной германской Новогвинейской компании. Но когда русский МИД сообщил в Берлин эти предложения Миклухо-Маклая, немецкая сторона ответила, что император Вильгельм предоставил Новогвинейской компании привилегию на всю аннексированную территорию и для Миклухо-Маклая не может быть сделано исключение.
Путешественнику пришлось пойти на новые уступки. В августе он сообщил Гирсу, что согласен «удовольствоваться пока меньшим (как, например, признанием со стороны Германии моей частной собственности), надеясь со временем добиться желаемого не на бумаге, a de facto на месте»[878]. У него возник план: отправиться из Сиднея на зафрахтованном судне на Берег Маклая и поселить там одного или двух своих представителей, что укрепило бы его позиции при переговорах с немецкими властями. Этот план, как писал Миклухо-Маклай, пришлось «отложить» главным образом из-за отсутствия средств на наем судна и закупку снаряжения для экспедиции. Между тем берлинское правительство избрало тактику проволочек в вопросе о признании прав ученого на земельные участки, расположенные на «его» Берегу. Германский посол в Петербурге сообщил в российский МИД, что его правительство поручило своим эмиссарам изучить на месте притязания Миклухо-Маклая, и запросил более подробные данные «о характере и объеме прав, которые, как утверждает г-н Маклай, он приобрел на Новой Гвинее»[879]. Извещенный об этом запросе путешественник в ноябре 1885 года написал Гирсу, что «не замедлит» представить соответствующие материалы и «для более удовлетворительного и скорого решения дела о Береге Маклая» собирается вскоре «прибыть на время в Европу»[880].
Закрытие биостанции
Через три месяца после того, как ученый узнал о внезапном захвате Германией Берега Маклая, на него обрушился еще один тяжелый удар: правительство колонии Новый Южный Уэльс, в составе которого больше не было сэра Джона Робертсона, приняло решение использовать земельный участок, на котором была построена биологическая станция, и само ее здание «для военных целей». Это решение обосновывалось необходимостью расширить оборонительные сооружения при входе в залив Порт-Джексон, хотя ранее военные не возражали против сооружения здесь биологической станции. Миклухо-Маклай тщетно протестовал против решения, которое «сделает невозможным какой-нибудь прогресс в моей научной работе»[881]. 12 июля 1885 года он получил от властей предписание освободить здание станции.
Решение о фактическом закрытии биологической станции, основанной и используемой Миклухо-Маклаем, было напрямую связано с ростом антирусских настроений в Австралии, который был вызван резким обострением русско-английских отношений из-за Афганистана[882]. «В Австралии, — писал ученый, — опасение войны с Россиею принимает очень значительные размеры»[883]. Многие колонисты всерьез опасались нападения русских крейсеров на австралийские порты и в каждом российском подданном видели «тайного агента, шпиона и т. п.». «Ожидание войны с Россиею в 1885 г., — рассказывал год спустя Миклухо-Маклай, — имело последствием то, что правительство колонии New South Wales взяло назад землю, где находилась станция. <…> Очень вероятно, что при конфискации земли немалую роль играло то обстоятельство, что я русский»[884].
Всплеск шовинистических настроений в Австралии начался еще до обострения англо-русского конфликта в связи с отправкой отряда волонтеров (около 750 человек) из Нового Южного Уэльса в Судан для участия в операциях английской армии по подавлению Махдистского восстания. 3 марта 1885 года проводить волонтеров на улицы Сиднея вышло более двухсот тысяч человек, размахивавших британскими флагами и несших плакаты «Вперед, Австралия!» и «Задайте перцу Махди!». Отряд почти не принимал участия в военных действиях и по их окончании через три месяца вернулся в Сидней, вызвав новую вспышку шовинистического угара. Отрядом командовал полковник Дж. Ричардсон — командир добровольческих военных формирований Нового Южного Уэльса, — и, как видно из архивных документов, этому новоиспеченному герою захотелось поселиться в здании биологической станции, которая была отобрана якобы для военных целей по его настоянию[885].
Решение правительства колонии о закрытии биологической станции вызвало недоумение не только у натуралистов, но и у многих свободомыслящих людей как в Европе, так и в Австралии. Но совет РГО и высшие петербургские сановники проявили полнейшее равнодушие к этому постыдному шагу. Сообщая об их позиции, петербургский корреспондент газеты «Сидней морнинг геральд» писал: «Г-н Маклай — замечательный пример справедливости пословицы, что нет пророка в своем отечестве. <…> Когда его научные труды приобретут всеобщую известность, Россия явится с распростертыми руками, чтобы признать его своим, и кто знает, может быть, после его смерти даже воздвигнет ему памятник»[886].
Впрочем, не все считали русского ученого «нежелательным иностранцем». Миклухо-Маклай пользовался известностью и уважением во всех английских колониях в Австралии, приобрел влиятельных друзей и знакомых в высших слоях местного общества и еще более упрочил свое положение женитьбой на дочери Джона Робертсона. Поэтому сиднейские власти так и не решились выдворить ученого из здания станции, а сам он заявил 31 августа 1885 года в местной газете, что «решил продолжать трудиться там до последней возможности», хотя «не очень-то приятно находиться в постоянном ожидании того, что придется освободить Биологическую станцию»[887].
Неминуемая потеря станции, с которой было связано так много планов и надежд, заставила Миклухо-Маклая серьезно задуматься не просто об очередной поездке в Россию, а о перспективе возвращения на родину, то есть о крутом повороте в его жизни[888]. Но, прежде чем отправиться в Россию, ученый решил по возможности завершить те работы, при подготовке которых ему были необходимы консультации австралийских коллег и сравнительный материал из сиднейских музеев. Результаты этих изысканий он докладывал на заседаниях Линнеевского общества Нового Южного Уэльса и после некоторой доработки публиковал в его «Трудах».
В 1884 — 1885 годах ученый посвятил шесть сообщений сумчатым Новой Гвинеи. Эти сообщения были основаны как на собственных фаунистических сборах, так и на коллекциях, привезенных другими путешественниками с юго-восточного побережья Новой Гвинеи в музей У. Маклея. Из семи форм новогвинейских сумчатых, объявленных Миклухо-Маклаем новыми видами, позднейшие систематики признали только один, названный им Dorcopsis Macleayi (в честь У. Маклея). Если бы русский ученый опубликовал данные о своих находках сразу по возвращении из первого путешествия на Берег Маклая, по крайней мере два вида сумчатых вошли бы в науку под его именем.
Миклухо-Маклай, по-видимому, не собирал систематического гербария. Однако во время путешествий он засушивал (иногда заспиртовывал) плоды, листья и цветы заинтересовавших его растений. Использовав его сборы, зарисовки и устные пояснения, выдающийся австралийский ботаник Ф. Мюллер описал два новых вида с Берега Маклая, причем назвал их в честь русского ученого: банан Musa maclayi и Bassia maclayana (дерево со съедобными плодами). Сам Миклухо-Маклай описал в качестве нового вида дерево Canarium gutur тоже с Берега Маклая[889]. Благодаря очным и заочным консультациям с Мюллером, а также с итальянским путешественником О. Беккари (ботаником по образованию) и директором ботанического сада в Бейтензорге Р. Шеффером Миклухо-Маклай смог создать в 1885 году свою известную работу «Список растений, используемых туземцами Берега Маклая на Новой Гвинее»[890]. Эта статья позволяет считать ее автора одним из зачинателей этноботаники.
В том же году было напечатано сообщение Миклухо-Маклая о температуре морской воды у восточного побережья Австралии. В нем излагались и анализировались наблюдения, сделанные автором в 1878 и 1883 годах на борту пассажирских судов по пути в Сидней. Эта работа не только продолжала океанографические исследования, производившиеся ученым во время плавания на «Витязе», но и, возможно, была связана с геотермическими наблюдениями, которые он провел в 1881 году в самом глубоком руднике Австралии, о чем мы упоминали выше. Не исключено, что Миклухо-Маклай намеревался в дальнейшем рассмотреть более общие вопросы взаимодействия глубинного тепла моря и суши, но ранняя, преждевременная смерть помешала ему осуществить этот замысел.
Учитывая большой интерес австралийских геологов к Новой Гвинее, лежащей на северных подступах к пятому континенту, Миклухо-Маклай обработал и опубликовал в 1885 году свои полевые материалы о землетрясениях, вулканических извержениях и признаках поднятия береговой полосы в районе Берега Маклая[891]. Ранее, в 1878 году, Миклухо-Маклай уже осветил некоторые аспекты данной проблематики в небольшой статье, напечатанной в немецком географическом журнале. Это были первые научные сообщения о тектонических и вулканических явлениях на северо-восточном побережье Новой Гвинеи и прилегающих островах. Впервые описав морские террасы на Берегу Маклая и выявив причины их образования, ученый внес значительный вклад в изучение геоморфологии и тектоники этого региона.
В последний период своего пребывания в Австралии Миклухо-Маклай, к сожалению, почти не обращался к этнографической и антропологической проблематике. Единственные исключения — «Заметка о "кеу" Берега Маклая на Новой Гвинее»[892] и «Вторая заметка о "макродонтизме" меланезийцев»[893], доложенные на заседании местного Линнеевского общества в октябре 1885 года. Примечательна вторая работа, дающая представление о научной этике Миклухо-Маклая. Собираясь покинуть Австралию, ученый, по-видимому, счел своим нравственным долгом сообщить коллегам, что в более ранних публикациях о «макродонтизме» он допустил неверную интерпретацию «большезубости» меланезийцев и прстарался раскрыть подлинную сущность этого явления.
Миклухо-Маклай провел в Австралии в общей сложности около пяти лет. За эти годы он опубликовал 30 работ по самой разнообразной проблематике в «Трудах» Линнеевского общества Нового Южного Уэльса, основал биологическую станцию в Уостонс-Бей, став одним из пионеров научных исследований на пятом континенте. Но до возвращения в Россию он так и не приступил к созданию обобщающего труда о своих путешествиях и исследованиях.
Глава двадцатая. ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ. БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ
Проект создания русской колонии в Океании
Миклухо-Маклай намеревался отправиться в Россию в ноябре или декабре 1885 года, но из-за длительного нездоровья («селезенка и печень») он выехал из Брисбена на английском пароходе «Меркара» лишь в конце февраля 1886 года[894]. Воспользовавшись заходом «Меркары» в Батавию, путешественник получил там находившиеся в закладе рукописи и этнографические коллекции, собранные им на Берегу Маклая. Он полностью расплатился с заимодавцем еще в 1883 году, но только теперь получил возможность забрать эти материалы. В Египте Николай Николаевич пересел на русский пароход, на котором 12 апреля прибыл в Одессу. Здесь к новогвинейским коллекциям он присоединил несколько ящиков с материалами своего плавания на «Витязе». Доставленные корветом в Японию, эти ящики хранились в русском консульстве и лишь в 1884 году были переправлены в Одессу[895]. Путешественник отправил эти ящики в Петербург[896].
Александр III с семьей и многими приближенными к нему сановниками находился тогда в Крыму, недалеко от Ялты, в своем имении Ливадия. Прибыв в Одессу, Николай Николаевич «удостоился получить разрешение прибыть в Ливадию для представления Государю Императору»[897]. 18 апреля на пароходе «Пушкин» он перебрался из Одессы в Ялту, где был встречен с почетом и поселен в доме управляющего имением Ливадия полковника Плеца.
Миклухо-Маклай был принят царем 23 и 24 апреля. Александр III расспрашивал своего любимца о его планах, интересовался, когда будут готовы к печати обещанные им обобщающие труды. К сожалению, на аудиенциях присутствовали Н.К. Гире и И.А. Шестаков, отрицательно относившиеся к планам путешественника, а потому он говорил с царем о своих замыслах лишь в общих чертах. «Мне удалось устроить отчасти, что хотел или за чем приехал в Ливадию, но далеко не все, — писал путешественник брату Сергею. — Может быть, улажу остальное в С.-Петербурге и в Берлине (касательно Берега Маклая). Государя Императора видел 2 раза, но все-таки не успел сказать ему все, что думал <…> передать ему лично, а не через посредство г-на Гирса»[898]. Через полтора месяца в письме Гирсу Миклухо-Маклай утверждал, что в Ливадии Александр III «изъявил высочайшее согласие на мое предложение поднять русский флаг на некоторых, еще не занятых другими державами, островах Тихого океана»[899]. Но путешественник, по-видимому, не получил никаких новых заверений относительно Берега Маклая, так как ни царь, ни тем более германофил Гире, соглашаясь осторожно поддерживать его права как «русского помещика в германской территории»[900], не желали осложнять отношения с Германией из-за Новой Гвинеи.
Миклухо-Маклай встречался в неформальной обстановке с императрицей Марией Федоровной. Она расспрашивала его о житье-бытье, подарила на память несколько фотографий.
На одной из них она изображена в русском традиционном костюме, с кокошником на голове, на другом — со своими детьми, в том числе с наследником престола — последним русским императором[901]. Ученый побывал в Ореанде — расположенном поблизости от Ливадии имении великого князя Константина Николаевича. Великий князь дружески принял путешественника, которому помог в 1871 году отправиться в экспедицию на «Витязе». Летом и осенью 1887 года Миклухо-Маклай будет неоднократно встречаться с отставным генерал-адмиралом и его сыном Константином Константиновичем (офицером и талантливым поэтом, известным под псевдонимом К. Р.). Путешественник надеялся, что эти великие князья поддержат его колонизационные проекты, но они при всем желании не смогли бы ему помочь, так как не пользовались влиянием при дворе.
В Одессе произошла знаменательная, во многом ностальгическая встреча. Миклухо-Маклай навестил выдающегося ученого И.И. Мечникова, с которым был заочно знаком многие годы. Илья Ильич рассказал коллеге-натуралисту о создании в Одессе бактериологической станции.
Посетив по пути Киев, где он знакомился с историческими достопримечательностями и навестил своего гимназического учителя М.П. Авенариуса, ставшего профессором местного университета, Николай Николаевич отправился в Малин, расположенный примерно в 100 километрах к северо-западу от Киева. Здесь в кругу семьи он провел более месяца.
К концу 1880-х годов — благодаря росту рыночных цен на древесину и зерновые культуры — материальное положение владельцев Малина заметно улучшилось, и Екатерина Семеновна начала думать, что не зря купила это имение. Она расплатилась с большинством кредиторов и исправно вносила в банк проценты по закладной. На доходы от сбыта леса и сельскохозяйственной продукции, а также продажи или сдачи в аренду земельных участков удалось выстроить большой двухэтажный кирпичный дом и флигель с примыкающими к ним хозяйственными постройками, прудами и фруктовыми садами. Усадьба располагалась в обширном парке с беседками, крокетными площадками и т. д.[902]
Имением по-прежнему управлял Сергей, который жил в доме со своей семьей, тогда как Екатерина Семеновна облюбовала флигель. Тут же проживал до отъезда на учебу Михаил-младший. Братья Михаил и Владимир бывали в Малине только наездами. Летом 1886 года здесь гостили их жены — Мария Васильевна и Юлия Николаевна. Все члены семьи, особенно невестки, окружили ученого-путешественника заботой и вниманием, ему выделили самую лучшую комнату. «Он был замечательно трудоспособен, — вспоминал полвека спустя Михаил-младший. — <…> День его был всегда заполнен с утра, а вставал он всегда в 6 ч. утра, до обеда в 3 часа он занимался у себя за составлением записок и его добровольные секретари — жены братьев едва успевали переписывать его рукописи. Он редко выходил на прогулку, больше сидел с матерью на балконе в саду. Вечерами вся семья собиралась у него в комнате после вечернего чая и слушала его оживленные, яркие рассказы о путешествиях. Говорил он всегда с увлечением, в его рассказах переплетались и события раннего детства и студенчества, и жизни в тропических странах»[903]. В Малине Николай Николаевич отдохнул, что называется, и телом и душой. Но задерживаться здесь он не мог: неотложные дела призывали его в столицу.
22 июня 1886 года Миклухо-Маклай приехал в Петербург, и уже через пять дней в газете «Новости и Биржевая газета» появилось объявление, в котором он приглашал желающих «поселиться или заняться какою-нибудь деятельностью на Берегу Маклая в Новой Гвинее или на некоторых других островах Тихого океана»[904]. По словам ученого, он стремился «найти тот десяток (не более) людей, которые мне необходимы как личные помощники»[905]. Но объявление, перепечатанное другими газетами, дало неожиданный результат: на него откликнулись со всех концов России многие сотни желающих — людей самых разных профессий и образцов. Среди них, по данным Департамента полиции, были и лица, замеченные в связях с революционерами и находящиеся под полицейским надзором.
Столь массовый отклик произвел огромное впечатление на Миклухо-Маклая и, как он писал царю, имел «прямым следствием расширение моего первоначального плана»[906]: у него возник рискованный замысел создать переселенческую колонию. «Не имев сначала в виду образование целой колонии, — заявил Николай Николаевич в газетном интервью, — я в настоящее время тружусь над выработкой подробностей условий этого переселения»[907]. Уже 1 июля он обратился к Александру III с просьбой разрешить основание такой колонии «в порте Великого Князя Алексия на Берегу Маклая <…> или на одном из не занятых другими державами островов Тихого океана»[908].
Объясняя широкий отклик на обращение путешественника, ученый и публицист В.И. Модестов писал в газетной статье, что дело не только в романтике дальних странствий и магнетической личности Миклухо-Маклая. Массовый приток заявлений был вызван, как он считал, наличием большого контингента людей, недовольных «своим положением в отечестве» и «считающих себя угнетенными в экономическом, нравственном, религиозном или ином каком-нибудь отношении». По мнению Модестова, эти люди сохранили «веру в прогресс человечества, в наступление лучших времен, хотя бы в отдаленном будущем». Миклухо-Маклай, говорилось далее в статье, предоставляет переселенцам возможность «завести у себя такое общинное устройство, какое они сочтут для себя наиболее удобным. <…> Они могут завести у себя русский сельский мир. <…> Могут, если сумеют, осуществить в южном полушарии идеальную республику Платона, могут испробовать суровой жизни в фаланстерах Фурье, никто им во вкусах перечить не станет. На своем пустынном острове они совершенно свободны»[909].
Прочитав эту статью, Николай Николаевич узнал домашний адрес Модестова и поздно вечером пришел поблагодарить автора за статью, ему «сочувственную». За чаем выяснилось, что у них сходные взгляды по многим вопросам. «С этого дня, — вспоминает Модестов, — мы стали знакомы и сошлись хорошо, хотя виделись и не так часто»[910].
Снова, как в 1882 году, Миклухо-Маклай оказался в центре общественного внимания, причем наибольший интерес, понятно, вызывал его колонизационный проект. У этого проекта нашлись не только восторженные сторонники, но и непримиримые противники, прежде всего в среде столичной бюрократии, и острая полемика выплеснулась на страницы печати. Путешественника поддерживали и защищали «Новости и Биржевая газета» и некоторые другие либеральные издания. Масла в огонь подлила статья Модестова, в которой, как мы только что видели, допускалась возможность, что поселение на далеком острове будет основано то ли на республиканских принципах, то ли на идеях Фурье, то есть социалистов-утопистов. Несколько официозных и бульварных газет и журналов во главе с суворинским «Новым временем» развернули против Миклухо-Маклая клеветническую кампанию. Его обвиняли в научной несостоятельности, попытке подорвать «государственные устои», в недостатке патриотизма, высмеивали в язвительных карикатурах. Характерны заголовки некоторых из них: «В приемной Маклая I», «Его благородие Миклухо-Маклай — новый тихоокеанский помещик»[911].
Русский посол в Берлине граф П.А. Шувалов прислал в июле Гирсу частное письмо, в котором выразил пожелание, чтобы «Новое время» прекратило глумление над Миклухо-Маклаем, так как это подрывает престиж ученого за границей и ставит в неловкое положение русскую дипломатию, ходатайствующую о признании его имущественных прав на Новой Гвинее. Суворину, вероятно, было сделано внушение, поскольку с августа 1886 года «Новое время» перестало нападать на путешественника и начало более объективно освещать его деятельность.
Не имея возможности лично ответить всем желающим отправиться с ним на Новую Гвинею, Миклухо-Маклай в первой декаде июля дважды собирал у себя на квартире группы лиц, откликнувшихся на его призыв. Он отвечал на их вопросы, подробно рассказывал о природе и обитателях Берега Маклая, разъяснял свои намерения. Газетные отчеты репортеров, присутствовавших на этих встречах, ознакомили публику с замыслами Миклухо-Маклая.
По словам ученого, он собирался по прибытии на Берег Маклая разместить переселенцев на одном из необитаемых островков в прибрежном архипелаге Довольных людей, обладающем более здоровым климатом, чем «материк». Миклухо-Маклай предупредил, что «первая партия переселенцев будет очень невелика. <…> Эти лица явятся пробным камнем — для выяснения, насколько вообще мыслима колонизация Новой Гвинеи и что может дать в будущем это предприятие?»[912]. Большое внимание во время этих встреч он уделял взаимоотношениям с папуасами. «Я настолько пользуюсь у туземцев авторитетом, — сказал ученый, — и настолько хорошо сошелся с ними в течение моего 4-летнего (на самом деле трехлетнего. — Д. Т.) там пребывания, что препятствий к устройству колонии не вижу и уверен, что пришлое население не будет враждебно принято папуасами, язык и нравы которых я изучил в достаточной мере обстоятельно»[913]. «Земли, необходимой для возделывания и построек, можно иметь в достаточном количестве, — продолжал он. — Преимущественно можно брать земли, лежащие между враждующими селениями и никем не возделываемые из опасения обоюдных набегов и убийств. Само собою разумеется, что никакие аферы по скупке и перепродаже земель у нас не могут и не должны быть допущены. В интересах самих колонистов жить в наилучших отношениях с туземцами и не обижать их, чтобы не обратить их во врагов»[914]. Характеризуя особенности переселенческой колонии, задуманной Миклухо-Маклаем, такой хорошо осведомленный человек, как П.П. Семенов, впоследствии писал, что ученый имел в виду «установить между русскими колонистами и туземцами такие отношения, которые соединили бы интересы этих колонистов с интересами туземцев и вместо эгоистической их эксплуатации обеспечили бы их от грозящего им полного уничтожения»[915].
Миклухо-Маклай неосторожно заявил в интервью, которое он дал в июле 1886 года репортеру петербургской немецкоязычной газеты «Герольд», что после признания германскими властями его прав на землю на Берегу Маклая он свяжет эту территорию с Россией путем ее заселения русскими колонистами. Но как раз такого развития событий стремились избежать берлинский кабинет и тесно связанные с ним руководители монопольной немецкой Новогвинейской компании. Как свидетельствуют документы, хранящиеся в Германском центральном архиве в Потсдаме, сам канцлер Бисмарк координировал действия правительственных ведомств, направленные на срыв замыслов Миклухо-Маклая. По указанию Бисмарка тактика проволочек в вопросе о признании земельных прав Миклухо-Маклая сочеталась с попытками опорочить его в глазах петербургских властей. В дипломатических нотах и на страницах немецких газет утверждалось, будто русский ученый действует в британских интересах, подчеркивалось, что он женат на дочери видного англо-австралийского политика, напоминалось о его политической «неблагонадежности» в юношеские годы и т. д. Кроме того, Новогвинейская компания поспешно основала свою станцию на побережье залива Астролябия, вблизи от деревни Бонгу. Петербургские власти, несомненно, отвергли бы проект, предусматривающий высадку русских переселенцев в этом районе без предварительного согласия германских властей и приняли бы меры, чтобы помешать такой экспедиции.
Миклухо-Маклаю пришлось склониться перед суровой реальностью и внести коррективы в свой замысел. Уже в августе в конфиденциальной записке, представленной великому князю Алексею Александровичу, он фактически признал невозможность устройства русской колонии в районе Берега Маклая и предложил учредить ее в некоей островной группе, не занятой другими державами, «название которой, в видах сохранения тайны, считаю более удобным сообщить Вашему Высочеству на словах», а пока «назову группою М.»[916]. Однако ученый так и не решился объявить сотням россиян, откликнувшимся на его призыв, о вынужденном изменении своих планов, и эти люди вплоть до марта 1887 года полагали, что отправятся вместе со своим кумиром в «край папуасов», на ставший широко известным в России Берег Маклая.
Загадка «группы островов М» давно привлекает внимание историков. В 1970 году Б.А. Вальская высказала гипотезу, что Миклухо-Маклай имел в виду островок Маласпена в архипелаге Довольных людей, который подарили ему папуасы[917]. Через 14 лет эту гипотезу поддержала и даже объявила единственно возможной австралийская исследовательница Э.М. Уэбстер[918]. Однако данная гипотеза представляется несостоятельной. Во-первых, остров Маласпена, расположенный в непосредственной близости от новогвинейского «материка», был несомненно включен в 1884 году в состав германских владений, а потому там невозможно было бы основать русскую колонию. Во-вторых, сам ученый в процитированном письме великому князю Алексею Александровичу писал, что предполагает «на пути к группе М заглянуть на Берег Маклая» (для того, чтобы формально установить границы моих участков земли в портах: Великий князь Константин и Великий князь Алексей)»[919]. Следует также учитывать, что Миклухо-Маклай упоминал в этом письме не отдельный остров, незанятый другими державами, а группу островов. Судя по довольно туманным пояснениям, которые путешественник дал на заседании Особого комитета, созванного для рассмотрения его предложений, он, вероятно, имел в виду микронезийский атолл Макин (Бутаритари) в архипелаге Гилберта. Этот атолл, имеющий хорошую якорную стоянку, расположен примерно на 4° северной широты. Британский протекторат над островами Гилберта (ныне Кирибати) был установлен в 1892 году.
Подготовка печатных трудов
Хлопоты, связанные с колонизационным проектом и отстаиванием имущественных прав на Берегу Маклая, были важной, но не единственной стороной деятельности ученого в 1886 — 1887 годах. Как мы знаем, он обещал завершить подготовку дневников к печати в 1885 году, но не смог осуществить задуманное. Прибыв в столицу, Миклухо-Маклай, несмотря на занятость другими делами, приложил все усилия к тому, чтобы наверстать упущенное.
Ученый решил разделить подготавливаемое издание на два тома, посвятив первый том своим экспедициям на Новую Гвинею, а второй — путешествиям в другие районы Океании, на Филиппины, в Нидерландскую Ост-Индию (Индонезию) и на полуостров Малакку. Обобщающие труды по антропологии, сравнительной анатомии и некоторым другим отраслям науки предполагалось опубликовать позднее, после проведения дополнительных исследований.
Как уже говорилось, работа над подготовкой дневников к печати предусматривала несколько стадий. Вначале Миклухо-Маклай, имея перед собой полевые дневники и записные книжки, диктовал текст, скорее всего родным и близким. Этот текст подвергался доработке самим автором, а затем и достаточно деликатной стилистической правке одним из переписчиков (вероятно, гимназическим приятелем Миклухо-Маклая адвокатом В.Ф. Суфщинским), ибо ученый, по его собственным признаниям, за долгие годы жизни за границей начал забывать русский язык. Как впоследствии писал ближайший друг Миклухо-Маклая А.А. Мещерский, именно Суфщинский сыграл большую роль в подготовке вместе с автором первого тома[920]. Приглашенные по газетному объявлению переписчицы должны были «перебелить» рукопись, но если ее беловой, то есть наборный, вариант и существовал, то до нас он не дошел.
В письме брату, датированном 15 сентября, ученый сообщал, что диктовка дневников «идет не так успешно, как я бы того желал», так как приходится часто отрываться от работы для переговоров с Гирсом и другими руководителями МИДа. Все же, по его словам, к середине сентября был «продиктован весь первый том»[921]. Очевидно, ученый имел в виду промежуточный текст, подлежащий доработке и редактированию.
Узнав, что Л.Н. Толстой интересуется «некоторыми эпизодами моих странствий», Миклухо-Маклай 19 сентября отправил ему «две брошюры, касающиеся моего пребывания в Новой Гвинее», и выразил надежду, что сможет навестить писателя в Ясной Поляне[922]. Уже 25 сентября Толстой послал ответное письмо. «Вы первый несомненно опытом доказали, что человек везде человек, т. е. доброе, общительное существо, в общение с которым можно и должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой. И вы доказали это подвигом истинного мужества, — говорилось в письме. — <…> Ради всего святого изложите с величайшей подробностью и с свойственной вам строгой правдивостью все ваши отношения человека с человеком, в которые вы вступили там с людьми. Не знаю, какой вклад в науку, ту, которой вы служите, составят ваши коллекции и открытия, но ваш опыт общения с дикими составит эпоху в той науке, которой я служу — в науке о том, как жить людям друг с другом. Напишите эту историю, и вы сослужите большую и хорошую службу человечеству»[923]. Прислушавшись к совету великого писателя, ученый решил оставить в подготавливаемых к печати дневниках эпизоды, казалось бы, личного характера, рассказывающие о его взаимоотношениях с островитянами, — «многое, что прежде, т. е. до получения Вашего письма, думал выбросить». Об этом он сообщил Толстому в марте 1887 года, когда первый том был уже почти полностью готов к печати. «Ваше письмо сделало свое дело», — подчеркнул Миклухо-Маклай[924].
Этнографические коллекции путешественник решил принести в дар Петербургской академии наук, предварительно показав их широкой публике. Но у Миклухо-Маклая нашлись недоброжелатели не только в среде столичной бюрократии и в газетном мире, но и среди чиновников от науки. Ящики с коллекциями, прибывшие из Одессы, долгое время оставались в станционном пакгаузе. Лишь после вмешательства Александра III комитет правления Академии наук выделил зал для их временного размещения. В сентябре прибыли еще десять ящиков, которые Миклухо-Маклай отправил из Сиднея морем через Лондон; в них находились предметы, собранные на островах Меланезии и в Австралии в 1879 — 1885 годах. По получении этих коллекций ученый начал готовить выставку, которая официально открылась 22 октября. «Маленький, тщедушный человек, с изможденным лихорадкой лицом <…> быстро бегал по зале, окруженный толпой народа, показывая разные предметы, скороговоркой объясняя их употребление и рассказывая целые истории из жизни океанийцев», — вспоминал один из посетителей[925]. Выставка пользовалась успехом, особенно у учащейся молодежи; ежедневно ее посещало до тысячи человек. В декабре Миклухо-Маклай передал экспонаты выставки в академический Музей антропологии и этнографии (МАЭ)[926], где они хранятся до наших дней[927].
Своего рода продолжением выставки этнографических коллекций стал цикл из семи публичных лекций, прочитанных ученым в ноябре — декабре 1886 года в зале городской думы[928]. Лекции были платные и, по словам Миклухо-Маклая, читались ради заработка, чтобы хоть в какой-то мере облегчить его стесненное материальное положение. Однако эти лекции явились как бы подведением итогов его многолетних исследований в области антропологии и этнографии океанийцев. В отличие от «Чтений» 1882 года, содержавших прежде всего описание его путешествий, лекции 1886 года, построенные по тематическому принципу, представляли собой последовательное изложение, систематизацию и обобщение огромного фактического материала, в совокупности позволяющего судить об образе жизни и обычаях народов Океании, главным образом папуасов и меланезийцев. По существу, это были краткие конспекты, наброски обобщающих трудов, которые ученому так и не довелось написать. В последней лекции Миклухо-Маклай рассказал также о печальной участи островитян в связи с разделом Океании между великими державами и вновь коснулся перспектив создания русской колонии в этом регионе.
«Считать дело конченным»
Между тем в МИДе и других правительственных ведомствах на протяжении нескольких месяцев конфиденциально рассматривались предложения Миклухо-Маклая. Гире с самого начала был настроен отрицательно. Уже 14 июля он сообщил в доверительном письме товарищу министра внутренних дел, что в МИДе «не имеется никаких данных, на основании которых можно было бы допустить, что упомянутое намерение г. Миклухо-Маклая могло бы увенчаться успехом»[929]. Однако в связи с позицией Александра III, благосклонно относившегося к замыслам ученого, Гире, как опытный дипломат и искушенный царедворец, действовал очень осторожно и при встречах с «белым папуасом» даже делал вид, будто сочувствует его планам. Ознакомившись с обращением Миклухо-Маклая к царю от 1 июля, Гире подготовил докладную записку, в которой указал, что «Берег Маклая вошел уже два года тому назад в пределы новогвинейской территории, находящейся под покровительством германского императора. Следовательно, разрешение устроить там колонию не может зависеть от российской верховной власти». Что же касается проекта основания колонии на одном из еще не занятых другими державами островов Океании, то он вызывает немало вопросов. «Поэтому, — говорилось в записке, — казалось бы необходимым истребовать предварительно от Миклухо-Маклая обстоятельные соображения относительно его колонизационных предположений»[930]. 28 июля царь согласился с этим предложением Гирса, и на следующий день тот направил ученому письмо, в котором «с высочайшего соизволения» запросил ответы на целый ряд вопросов.
Миклухо-Маклай оказался в трудном положении: откровенно рассказать об особенностях задуманной им колонии значило восстановить против себя высших правительственных сановников и обречь всю затею на неминуемый провал. Поэтому, сообщая 9 августа Гирсу «данные, которые будут иметься в виду при основании русской колонии», ученый тщательно подбирал слова и соблюдал всю возможную осторожность. «Колония, — писал он, — образуется <…> на землях, вполне свободных, т. е. не занятых местными жителями или добровольно уступленных последними. <…> Колония устраивается на частные средства лиц, изъявивших желание переселиться. <…> Поселенцы, сознавая свое единство с Россией, их отечеством, подчиняясь установленному в ней правительству и сохраняя все права русских граждан, пользуются следующими правами, которые должны быть предоставлены им правительством особым "Статутом", именно правами: самоуправления, самообложения налогами на колониальные нужды, религиозной свободы, <…> составления и введения обязательных постановлений и правил, касающихся общежития, внутреннего управления и распорядка дел, владения и пользования землею, отношений к туземцам. <…> Колония составляет общину и управляется: старшиною, советом и общим сходом, или общим собранием поселенцев. <…> Как учредитель колонии я приму на себя должность старшины на первые года по основании колонии»[931]. В документе почти ничего не говорилось о производственных отношениях в проектируемой колонии, но в «Набросках правил для желающих поселиться на островах Тихого океана», написанных почти одновременно Миклухо-Маклаем, содержались следующие положения: «Вознаграждение за труд будет соответствовать работе. <…> Ежегодно вся чистая прибыль от эксплуатации островов будет делиться между всеми участниками предприятия соразмерно их положению и труду»[932]. В этих осторожно сформулированных текстах все же достаточно отчетливо проступало намерение ученого создать общину вольных поселенцев с распределением материальных благ в соответствии с количеством и качеством труда и демократическим самоуправлением, при котором в колонии не осталось бы места для начальствующего лица, назначенного правительством. Отвечая на вопросы, Миклухо-Маклай сообщил Гирсу, что «для успешного выполнения предприятия» он предпочитает сообщить название острова или группы островрв «при личном свидании»[933].
Разъяснения, представленные ученым, едва ли удовлетворили Гирса и его окружение. По совету Гирса Александр III решил учредить Особый комитет для рассмотрения предложений Миклухо-Маклая. «Не льстя себя надеждою, чтобы план мой был принят благосклонно» членами этого комитета, ученый попытался перехватить инициативу. 28 сентября он обратился к царю с просьбой немедленно послать военное судно «для занятия мною указанных островов, при котором занятии мне необходимо, по многим причинам, присутствовать непременно лично»[934]. Александр III приказал заняться этим делом начальнику Главного морского штаба вице-адмиралу Н.М. Чихачеву Однако Гире, не смея открыто перечить царю, предложил увязать вопрос о посылке судна с решениями Особого комитета. Отправка судна была отложена.
«В видах сохранения секретности» заседание Особого комитета было проведено вечером 9 октября на квартире у Гирса, расположенной в здании Главного штаба на Дворцовой площади. Как видно из архивных документов, заседание тщательно готовилось. Его подробная программа и список вопросов, которые предполагалось задать Миклухо-Маклаю, а также копии писем путешественника были заблаговременно разосланы приглашенным сановникам. Не забыли и о том, что теперь называется «дресс-кодом». Чтобы подчеркнуть рабочий, а не парадный характер заседания, в сопроводительных письмах рекомендовалось являться не во фраках и мундирах, а в сюртуках.
Об особой секретности свидетельствует такой факт. Гирсу понадобилось получить соизволение царя на то, чтобы на заседании, помимо утвержденных Александром III представителей министерств, присутствовал допущенный к секретному делопроизводству чиновник МИДа, которому поручалось вести протокол. Мы изложим ход заседания и принятые на нем решения по хранящейся в архиве беловой копии этого протокола («Журнала»)[935].
Однако соблюсти секретность все же не удалось: царь разрешил участвовать в заседании «ветерану» МИДа барону Жомини, который, прослышав о создании Особого комитета, попросил включить его в список приглашенных.
Александр Генрихович Жомини (1817 — 1888) — колоритная фигура в истории русской дипломатии. Многие годы он был помощником канцлера А.М. Горчакова, а после смерти престарелого канцлера его пожилого наперсника назначили старшим советником МИДа. Знающие люди отзывались о нем критически. Д.А. Милютин — военный министр и один из ближайших сподвижников Александра II — записал в своем дневнике в июле 1878 года: «Барон Жомини — отличный редактор; но без всяких убеждений, совершенный космополит, ко всему равнодушный; при том же очень болтливый»[936]. В «Воспоминаниях» немецкого посла в России генерала Г.Л. фон Швейница, изданных после его смерти в сокращенном и отредактированном виде его сыном, сообщается, что немецкое посольство получило от Жомини много секретной информации. Разумеется, в «Воспоминаниях» ничего не говорится о противозаконной деятельности, о шпионах, платных информаторах и т. д.; составитель особо подчеркивает, что из текста удалены факты, не подлежащие оглашению. Швейниц писал, что после воцарения Александра III стало гораздо труднее добывать информацию, так как произошли большие перемены при дворе и в руководящем составе министерств. Тем важнее были его доверительные отношения с Жомини. Итак, на заседании Особого комитета присутствовал соглядатай немецкого посла.
В заседании участвовали заместители министров или главы департаментов пяти министерств: иностранных дел, финансов, внутренних дел, военного и морского. Пока Миклухо-Маклай, испытывая недомогание, временами переходившее в сильную дрожь, ожидал приглашения в соседней комнате, члены комитета в кабинете хозяина сообщили свои взгляды по обсуждаемому вопросу.
Представитель Морского министерства контр-адмирал П.П. Тыртов, коснувшись военного аспекта проблемы, изложил разработанную Шестаковым и его сотрудниками концепцию войны на море. Он подчеркнул, что Россия в случае войны не сможет удержать остров, занятый ею на Тихом океане, а должна озаботиться приисканием укромных бухт и бухточек на еще не захваченных другими державами островах, которые можно будет использовать для снабжения углем русских крейсеров. К тому же, как подчеркнул Тыртов, согласно туманным пояснениям Миклухо-Маклая, намеченная им группа островов лежит в стороне от морских путей.
Начальник юридического управления МИДа, всемирно известный специалист по морскому праву Ф.Ф. Мартене, представитель Военного министерства генерал-лейтенант М.Ф. Миркович, экономисты и статистики М.Ф. Кобеко и Н.А. Тройницкий, возглавлявшие департаменты в министерствах финансов и внутренних дел, в своих выступлениях связали предложения Миклухо-Маклая с происходившими во всем мире процессами колонизации и ее особенностями в границах Российской империи. Они выразили мнение, что нужно поощрять переселенческое движение в Сибирь, на Дальний Восток и в Среднюю Азию. Такая колонизация больше подходит для «трудящихся классов», особенно крестьянства, так как на новых землях переселенцы смогут использовать свой опыт и трудовые навыки, тогда как на островах Тихого океана колонисты попадут в чуждые им условия, должны будут приспособиться к местному климату и научиться выращивать тропические культуры. Кроме того, Мартене и Кобеко справедливо подчеркнули, что переселение на острова Океании — дело дорогостоящее, каждая семья должна обладать капиталом, составляющим не менее двух-трех тысяч рублей. Велика вероятность неудачи, и правительство должно будет понести значительные расходы, чтобы вызволить попавших в беду соотечественников.
Тройницкий, как представитель МВД, обратил внимание комитета на социальный состав россиян, заявивших о своем желании последовать за Миклухо-Маклаем. Среди них много лиц без определенных занятий, неудачников и авантюристов, которые, не имея ни кола ни двора, надеются разбогатеть в «тропическом раю».
Настороженность членов комитета вызвали принципы управления колонией, изложенные Миклухо-Маклаем в письме Гирсу «Не подлежит сомнению, — заявил Кобеко, — что проектируемую колонию невозможно будет оставить не только без правительственного надзора, но и без назначения начальником ее правительственного лица».
Все эти выступления, по существу, предопределили решение комитета еще до того, как в кабинет был приглашен Миклухо-Маклай. Взяв себя в руки, Николай Николаевич постарался обстоятельно ответить на многочисленные вопросы, которые вытекали из этих выступлений.
Путешественник заявил пытливо разглядывавшим его сановникам, что среди 1500 лиц, изъявивших желание основать переселенческую колонию, люди разных состояний и возрастов — много дворян, отставных офицеров, врачи, инженеры, православные священники, «большинство — великороссы». Пусть не все они обладают необходимыми средствами, но если найдется 10 — 15 «энергичных людей», располагающих необходимым капиталом, это позволит положить основание колонии. «Переселенцы, оставаясь русскими подданными, должны подчиняться закону о всеобщей воинской повинности и, в случае нужды, все население колонии поголовно восстанет для отражения неприятеля». Вместе с тем он подчеркнул, что «полагает возможным основание и преуспевание колонии только при условии вполне независимого самоуправления».
Миклухо-Маклай далее сказал, что готов отправиться на корабле «один, с тем чтобы занять остров и в случае надобности войти в сношения с туземным населением относительно отчуждения в пользу колонии земли. Только по принятии этих предварительных мер сделается возможным приступить к переселению колонистов».
Членов комитета очень интересовало, где будет располагаться проектируемая колония. Но тут Николай Николаевич был предельно осторожен. Расшифровав ранее в беседе с генерал-адмиралом и Гирсом, что скрывается за буквой «М», он на сей раз, как видно из протокола заседания, «не нашел возможным сообщить гг. членам Комитета название островов, которые он предполагает занять, а ограничился указанием, что они расположены между Г и 10° северной широты, более в восточной части Тихого океана, чем в западной, и в значительном удалении от английских и германских владений. <…> Часть имеет туземное население, другая часть не населена».
Осторожность, проявленная путешественником, оказалась не напрасной. Уже на следующий день Жомини, посетив немецкое посольство, рассказал Швейницу о ходе заседания и принятом решении, и «строго доверительная» депеша об этом была немедленно отправлена со специальным курьером в Берлин[937]. Если бы члены комитета, зная о мечте Александра III поднять русский флаг на одном из островов Океании, рекомендовали паче чаяния принять предложение Миклухо-Маклая, эта информация помогла бы германским властям помешать созданию такой колонии, хотя Жомини не смог раскрыть Швейницу загадку «группы островов М».
Выслушав ответы путешественника, его попросили удалиться. Его ответы не переубедили собравшихся сановников. Все члены комитета, кроме Гирса, который, судя по протоколу, лишь вел заседание и внешне сохранял полный нейтралитет, вновь отрицательно отозвались о проекте Миклухо-Маклая. Выражались, в частности, сомнения в отношении предложенной им формы управления колонией и благонадежности переселенцев. Выводы комитета были недвусмысленными: «Усматривая, с одной стороны, что острова, находящиеся в месте, указанном Миклухо-Маклаем, не могут представлять выгод для России ни в торговом, ни в военно-морском отношении; с другой же, что сообщенные сведения о характере и занятиях населения, управлении и т. п. в предполагаемой колонии мало внушают доверия к возможности ее успеха как частного предприятия, Комитет пришел к заключению: что занятие одного или нескольких островов в Тихом океане, с целью основать там колонию, не представляется желательным»[938].
Бюрократическая машина действовала неторопливо. Почти месяц ушел на подготовку протокола заседания и его согласование с членами комитета. Наконец 6 ноября Гире представил его царю. Однако Александр III отказался утвердить заключение комитета и приказал запросить отзывы по этому вопросу у четырех министров — внутренних дел, финансов, военного и морского. Все министры поддержали заключение Особого комитета. 9 декабря Гире представил царю докладную записку, излагающую выводы министров, и Александр III скрепя сердце наложил на ней резолюцию: «Считать это дело окончательно конченным. Миклухо-Маклаю отказать»[939].
Теперь Гире мог, не опасаясь вызвать недовольство «обожаемого монарха», решительно объясниться с Миклухо-Маклаем. 18 декабря он направил ученому письмо, в котором сообщил об отрицательном заключении комитета, одобренном министрами и утвержденном царем, который повелел «в ходатайстве Вашем отказать». В связи с этим, как подчеркнул Гире, отпал и вопрос о посылке военного судна к островной группе, намеченной Миклухо-Маклаем[940].
Ученый тяжело переживал крах своих замыслов. «В деле относительно Берега Маклая я потерпел почти полное фиаско, — писал он брату. — Подобным же фиаско заключился поднятый мною вопрос об основании русской колонии на островах Тихого океана. Хотя Государь был, кажется, не прочь, но гг. министры решили иначе и в конце концов одолели»[941]. Миклухо-Маклаю пришлось сообщить через газеты, что «основание русской колонии в Тихом океане пока состояться не может по обстоятельствам, от меня совершенно не зависящим»[942]. Но не в его обычае было смиряться с неудачами. Как вспоминает В.И. Модестов, и после отрицательного решения «верховной власти» ученый «не переставал думать о том, чтобы отнять у Германии захваченный ею Берег Маклая, как и о том, чтобы вывести русскую колонию на один из островов Великого океана»[943]. Однако к этому времени на ход событий стал все больше влиять новый грозный фактор — неуклонно прогрессирующая болезнь Миклухо-Маклая. Она сделала несбыточными его и без того зыбкие замыслы.
Говорят, что история не терпит сослагательного наклонения. Но представим, к чему мог привести колонизационный проект путешественника, если бы он был одобрен российскими властями.
В 1971 году, участвуя в экспедиции на научно-исследовательском судне «Дмитрий Менделеев», автор книги посетил атоллы, входящие в архипелаг Гилберта, в том числе Макин, который, вероятно, имел в виду Миклухо-Маклай. Островки, находящиеся на коралловом рифе, окаймляют здесь лагуну, которая имеет три прохода в открытое море и образует хорошую гавань даже для крупных судов. Перебираясь с островка на островок вброд или на каноэ с балансиром, члены экспедиции заметили, что не все эти клочки суши населены, но каждый из них принадлежал какому-нибудь клану; на незаселенных островках островитяне выращивали кокосовую пальму, панданус и хлебное дерево. Свободной, то есть неосвоенной территории не было, ощущалась острая нехватка плодородной земли.
Как могла разместиться на Макине или другом атолле русская переселенческая колония? Хорошо, если бы Миклухо-Маклай первоначально отправился туда на русском военном судне один и на месте осознал неосуществимость своего замысла. Результатом были бы новые насмешки врагов, тягостное недоумение друзей, потеря авторитета в правительственных кругах и разочарование тысяч потенциальных переселенцев в своем кумире. Но скорее Миклухо-Маклай взял бы с собой, как объявил еще в июне, десяток помощников — «энергичных людей», и тогда помимо его воли после ухода русского корабля дело могло бы дойти до столкновения с островитянами, которые уже обладали огнестрельным оружием, вымененным у европейских торговцев, то есть привести к кровавой трагедии. Назовем еще несколько возможных последствий этой авантюры: тропическая лихорадка и цинга у русских переселенцев, огромный нервный стресс как «последний звонок» для самого Миклухо-Маклая.
Как мог опытный путешественник добиваться создания русской переселенческой колонии в «группе островов М»? Сам он не посещал архипелаг Гилберта и соседние гроздья атоллов, но должен был представлять их специфику хотя бы из статей в немецких географических журналах. Так что дело не в его неосведомленности, а в роковом сплетении внешних факторов и особенностей его психического склада. Человек импульсивный, мечтатель, неспособный трезво просчитывать отдаленные последствия своих шагов, к тому же склонный полагаться на русское «авось», Николай Николаевич сам загнал себя в угол осенью 1886 года, когда выяснилась невозможность устройства переселенческой колонии на Берегу Маклая. Быстро ухудшающееся здоровье, лихорадочные усилия по спешной подготовке к печати своих экспедиционных дневников, хлопоты по устройству этнологической выставки и чтению публичных лекций… В его воспаленном мозгу возник проект, который мог стать непоправимым. Взвешенный консерватизм царских сановников, особенно членов Особого комитета, предотвратил эту авантюру. Вспоминается пословица: «Нет худа без добра».
Обострение загадочной болезни
Уже вскоре по приезде путешественника в Петербург журналисты обратили внимание на перемены, которые произошли в нем за четыре года, со времени его предыдущего посещения России. «Мы настолько были поражены его дряхлым внешним видом, что когда он приветливо вышел к нам, несколько секунд не могли опомниться, — сообщил в июне 1886 года в одной из московских газет литератор и врач Н.Н. Вакуловский. — Перед нами стоял <…> пожилой человек <…> крайне исхудалый, с желтизною кожи, морщинами, проседью в волосах и в кругло подстриженной бороде»[944]. Здоровье Миклухо-Маклая продолжало ухудшаться, но, поглощенный подготовкой к печати своих дневников, проведением выставки, чтением публичных лекций и, главное, хлопотами по колонизационному проекту, ученый превозмогал телесные страдания. Однако, когда в конце декабря стало известно, что проект Миклухо-Маклая окончательно отклонен царем, в нем словно что-то надломилось.
Уже давно беспокоившие его боли значительно усилились и сконцентрировались в правой стороне лица; в феврале там появился отек.
В марте 1887 года Миклухо-Маклай написал своему другу с юношеских лет профессору-медику И.Р. Тарханову, что изнемогает «от сильной боли в лице, особенно в нижней челюсти. Выдернутый зуб весьма мало изменил status quo, и сильная опухоль нижней части щеки и покровов правой стороны нижней челюсти почти что не опала»[945]. Врачи, лечившие ученого, в том числе пользовавшийся большой известностью профессор Дмитрий Иванович Кошлаков, не смогли разобраться в его болезни и в соответствии с медицинскими представлениями того времени приписали мучившие его боли ревматизму и невралгии. Лишь 75 лет спустя, в 1962 году, рентгено-анатомическое исследование черепа Миклухо-Маклая выявило «картину ракового поражения с локализацией в области правого нижнечелюстного канала», причем «поражение нижнечелюстного сустава было связано с поражением нижней ветви тройничного нерва»[946]. Как уже упоминалось, еще в 1875 году Николай Николаевич написал о первых проявлениях этого недуга («невралгии тройничного нерва») профессору Вирхову. С годами воспаление тройничного нерва — то усиливаясь, то ослабевая — приобрело злокачественный характер[947]. Физиотерапевтические процедуры, назначавшиеся ученому, лишь ускоряли течение болезни и приближали трагический конец.
К концу 1886 года первый том дневников был в основном подготовлен к печати. Однако Миклухо-Маклаю, по-видимому, не удалось начать систематическую работу над вторым томом. Ради заработка он, превозмогая болезнь, обработал дневниковые записи о своем последнем посещении Батавии; вскоре этот очерк появился в журнале «Книжки "Недели"». Помимо интересных биографических сведений он содержит анализ этнополитической ситуации в Нидерландской Индии — одну из первых попыток такого рода в отечественной литературе.
Миклухо-Маклай понимал, что ввиду «сильного нездоровья» его работа над подготовкой и изданием дневников может затянуться «на неопределенное время». «Соображая все, что мне осталось сделать, — сообщил он общему собранию РГО в феврале 1887 года, — не упуская из вида и самого печатания обоих томов с их дополнениями, рисунками и картами, я, не без сожаления, должен сознаться, что двух третей работы еще не сделано»[948]. Между тем длительная жизнь «на два дома» была ему просто не по карману. Миклухо-Маклай решил съездить в Сидней и перевезти семью в Россию. Пришлось снова обращаться за финансовой помощью к царю, и Александр III распорядился выдать ему на эту поездку 400 фунтов[949].
Путешественник предполагал выехать из Петербурга в конце февраля и по пути в Австралию посетить Западную Европу, чтобы в Берлине попытаться решить вопрос о своей «недвижимости» на Берегу Маклая. Николай Николаевич продолжал настаивать на признании своих прав на несколько небольших земельных участков прежде всего потому, что даже его символическое присутствие на Берегу Маклая могло бы оказывать сдерживающее влияние на немецких колонистов и помогать ему защищать интересы своих темнокожих друзей. Из опубликованного в «Кронштадтском вестнике» извлечения из рапорта командира клипера «Вестник», который, совершая «ознакомительное» плавание по Тихому океану, зашел в июне 1886 года в залив Астролябия, Миклухо-Маклай узнал, что немецкие колонисты уже обосновались в бухте Порт-Константин, валят там лес, расчищая место для плантации, и находятся в неприязненных отношениях с папуасами, которые «благодаря отсутствию у них огнестрельного оружия <…> не решаются на открытое нападение»[950].
Откликаясь на просьбу Миклухо-Маклая, Гире отправил русскому послу в Берлине депешу с просьбой оказать Миклухо-Маклаю содействие в его переговорах с германскими властями. Но уже не было сил на трудные переговоры в Берлине. Как писал путешественник в марте 1887 года, «мое нездоровье принуждает меня все еще не выходить почти из комнаты и откладывать со дня на день мой отъезд»[951]. Он решился выехать из столицы лишь 17 марта, причем отправился кратчайшим путем: «прямо в Одессу (3 дня), затем в Порт-Саид (7 дней) и затем в Сидней (дней 25)»[952].
Миклухо-Маклай надеялся, что «перемена климата, жара тропиков, спокойствие и far niente на корабле <…> благотворно повлияют на мое здоровье»[953]. Но эта надежда не оправдалась. В начале мая, приближаясь к Австралии, он писал Наталии Герцен: «Мы уже покидаем тропики, а я не вижу явного улучшения в своем состоянии. Мой ревматизм, моя несчастная невралгия меня беспокоят днем и ночью и, таким образом, во время путешествия я не мог работать»[954]. Однако путешественник не терял присутствия духа и в том же письме сообщил о своих планах выпустить подготавливаемый труд в переводах на английский и французский языки.
Николай Николаевич скучал по жене и сыновьям и, несомненно, неоднократно писал Маргерит из далекой России, слал «каблограммы» по дороге в Австралию, но до нас не дошло ни одно из этих посланий. Зато в архиве сохранились два ответных письма Маргерит, исполненные нежной любви, ожидания встречи и готовности в любой момент к отъезду в Россию. Более раннее датировано 25 января 1887 года: «При мысли увидеть тебя я чувствую себя такой счастливой. Еще не могу это ясно себе представить и ощущаю себя взволнованной с самого утра. <…> Я буду совершенно готова уехать с тобой, когда ты захочешь. <…> Со своей стороны я подготовлю все. <…> Меня очень радует мысль, что ты сам приедешь за мной… До скорого свидания, мой любимый»[955].
Второе письмо окрашено в светлые, но грустные тона. «Страшно огорчена известием о твоей болезни, мой бедный, мой любимый, — писала Маргерит 1 мая. — Вчера я получила твое письмо от 12 марта, в котором ты описываешь свои страдания. Невралгические боли, конечно, невыносимы. Очень беспокоюсь о тебе и так хочу скорее встретиться с тобой, мой дорогой. <…> Очень боюсь, что пройдет еще много времени, пока ты поправишься от этой болезни, однако серьезно надеюсь, что путешествие пойдет тебе на пользу и не будет иметь никаких плохих последствий»[956]. Оба письма заканчивались близкой и понятной только им монограммой «N.B.D.C.S.U.».
Будучи осведомлена о том, что ее ожидает, Маргерит заблаговременно подготовилась к отъезду. Распродав мебель, посуду и другую утварь, Миклухо-Маклай с семьей уже 24 мая, через четыре дня после приезда в Сидней, отправился на том же пароходе «Неккар» в обратный путь. Объясняя такую поспешность, он писал, что не может откладывать публикацию дневников, ибо «здоровье мое постепенно ухудшается»[957].
Возвращение в Россию
Семейство покинуло пароход в Генуе и поездом выехало в Россию, сделав небольшую остановку в Вене. Здесь Николай и Маргерит вторично обвенчались, на сей раз по православному обряду, хотя это и не было обязательно после разрешения от Победоносцева. Четыре десятилетия священником посольской церкви в Вене был М.Ф. Раевский. Тесно взаимодействуя с русскими военными агентами, в том числе с Каульбарсом, отец Михаил не только выполнял пастырские обязанности, не только успешно вел миссионерскую деятельность по распространению православия на Балканах, но и отстаивал государственные интересы России в этом регионе. Раевский умер в 1884 году, и обряд венчания в посольской церкви провел его преемник, имя которого нам неизвестно. Но он подарил чете Маклай свою фотографию, которая ныне хранится в музее Маклея в Сиднее[958].
Миклухо-Маклай с семьей прибыл в Петербург 14 июля 1886 года и, пока шли поиски подходящей квартиры, остановился в гостинице. Информируя читателей о его приезде, газета «Новости» сообщала: «Здоровье его неудовлетворительно, страдающую ревматизмом руку он носит на перевязи. Мысли об основании русской колонии на островах Тихого океана он не покидает»[959].
Супруги поселились по адресу: Галерная улица, д. 53, кв. 12 (семь комнат на четвертом этаже с окнами на улицу и во двор) — в не самом престижном районе, но недалеко от центра. Необходимо было расплатиться в отеле, дать задаток за квартиру, приобрести посуду и мебель, нанять прислугу — повариху, горничную и мужика на подхвате (колоть дрова, топить печи, переносить тяжести и т. д.). Поэтому сразу по приезде Николай Николаевич послал письмо в Малин брату Сергею со слезной просьбой о присылке денег («У меня осталось только несколько рублей»)[960]. Однако наиболее неотложной и трудной задачей было найти бонну для детей, говорящую по-английски, так как Маргерит и маленькие сыновья совершенно не знали русский язык. Несколько англоязычных бонн, давших объявления в газетах, оказались несимпатичными старухами, ранее жившими в богатых семьях и требовавшими высокой оплаты за свой труд. Тут на помощь пришла Юлия Николаевна, жена Владимира Миклухи, которая, как и ее муж, поддерживала отнюдь не афишируемые связи с революционным подпольем. Она привела на Галерную скромную девушку в бедной одежде, которая просила называть ее просто Марией. Девушка согласилась ухаживать за детьми и служить хозяйке переводчицей всего за 15 рублей в месяц.
По данным охранного отделения Департамента полиции, напавшего на ее след полтора года спустя, уже после смерти путешественника, это была мещанка Мария Дмитриевна Аронова, уроженка города Порхова Псковской губернии — «особа интеллигентная, знающая языки, ни по манерам, ни по образованию не похожая на няньку, уже бывавшая за границей»[961]. Агенты охранки обнаружили ее имя в перлюстрированных письмах и записных книжках нескольких революционеров, в том числе Екатерины Бартеневой и Германа Лопатина, но в каких именно «преступных деяниях» она участвовала, охранке установить не удалось. В конце 1880-х годов, в годы безвременья, когда были разгромлены основные организации революционных народников, когда возникали и подавлялись полицией первые марксистские социал-демократические кружки, многие подпольщики, избежавшие арестов, рассеялись по стране и затаились, ожидая подъема новой революционной волны. К этому кругу людей, вероятно,, и принадлежала «бонна» в семье Миклухо-Маклая. Знал ли Николай Николаевич, кого рекомендовала ему невестка? Если не знал, то, несомненно, догадывался, ибо Мария действительно не была похожа на няньку, вела себя загадочно и избегала говорить о своем прошлом. Путешественник понимал, что рискует, но это его не остановило. Значит, в господине де Маклае не вполне умер шестидесятник — студент-бунтарь Николай Миклуха.
Маргерит быстро сблизилась с Марией, которая отлично справлялась со своими обязанностями, и давала ей ответственные поручения. Не зная всей подноготной, она выделяла Марию среди прочих слуг и скорее относилась к ней как к компаньонке. «Я пригласила Марию в свою комнату, — записала, например, она в своем дневнике 18 февраля 1888 года, — пела и играла для нее на фортепьяно. Думаю, ей понравилось. Она так хорошо относится к моим малышам, что мне захотелось проявить к ней внимание»[962].
Последние месяцы жизни
Летом 1887 года болезнь, терзавшая Миклухо-Маклая, казалось, несколько отступила. Боли продолжались, но были не так мучительны, как зимой и весной. В августе Николай Николаевич даже смог съездить в Малин, чтобы навестить заболевшую мать[963]. Но путешественнику не удалось приступить к планомерной работе над вторым томом своих дневников. Вместо этого ради заработка он занялся подготовкой очерков, в которых, правда, широко использовал дневниковые записи. «Работать над книгою еще не начал, — писал он Михаилу в середине сентября, — т. к. приходится писать статью для "Нового времени", в редакции которой я взял <…> 150 руб., чтобы уплатить за квартиру, жалованье прислуге и т. д. Досадно, что приходится так бросать время»[964].
В середине октября Миклухо-Маклай передал в «Новое время» первую часть очерка «На несколько дней в Австралию», в котором рассказал о своем плавании к берегам пятого континента в апреле — мае этого года[965]. Быстро опубликовав полученный текст, руководители газеты намекнули, чтобы путешественник не спешил с его продолжением. Поэтому в октябре — ноябре Миклухо-Маклай продиктовал для журнала «Северный вестник», который в отличие от «Нового времени» находился на левом фланге русской журналистики, большой очерк «Островок Андра (Из дневника 1879 г.)», вскоре напечатанный в двух номерах этого журнала[966]. Очерк, насыщенный ценным этнографическим материалом, свидетельствует о том, что тяжелобольной исследователь продолжал искать оптимальную форму для рассказа о своих путешествиях: дневниковым записям здесь предпосланы общие сведения об островах Адмиралтейства, об истории их открытия и исследования европейцами, а сами дневниковые записи перемежаются разного рода воспоминаниями и сведениями, поступившими позднее, а также рассуждениями на чисто научные темы. Что же касается второй части очерка «На несколько дней в Австралию», то ученый отослал ее в редакцию газеты в январе 1888 года. В этом тексте он рассказал об актуальных проблемах, занимавших тогда австралийцев, и о бесчинствах английских миссионеров на островах Тонга[967].
Миклухо-Маклай завершил подготовку очерка для «Нового времени» ценой огромных усилий, вопреки требованиям врачей прекратить всякую работу. Дело в том, что состояние его здоровья становилось все более тревожным. Если в сентябре он каждый день ходил пешком в лечебницу, расположенную на углу Невского и Литейного проспектов, на физиотерапевтические процедуры, то с ноября почти перестал выходить из дому. У ученого фактически отнялась правая рука, что, возможно, свидетельствовало о появлении ракового метастаза в левом полушарии головного мозга. Целыми днями Миклухо-Маклай лежал на диване в комнате с занавешенными окнами. В.И. Модестов вспоминает, что, «чувствуя сильнейшие <…> боли почти в каждой точке тела и, между прочим, в челюстях, когда ему приходилось говорить, он не только не подавал вида, как он страдает, но продолжал вести разговор, несмотря на страшную боль, ему этим причиняемую»[968]. Когда наступало кратковременное облегчение, Николай Николаевич пытался работать — диктовал письма и очерки. Маргерит преданно заботилась о муже, стараясь уменьшить его страдания.
С 1 января 1888 года по совету мужа Маргерит начала вести дневник, используя для него домашнюю расходную книгу, купленную в лавке; в ней отводилось по одной странице на каждый день. Этот волнующий человеческий документ — главный источник сведений о последних месяцах жизни «белого папуаса». Он воссоздает не только ход событий, но и моральную атмосферу тех месяцев. Конечно, в дневнике женщины, впервые приехавшей в Россию, не говорящей по-русски, многое предстает в странном обличье. Она не всегда правильно понимает происходящее, безбожно коверкает в английской транскрипции русские фамилии и имена, так что автору книги пришлось немало потрудиться, разгадывая эти ребусы. Но все записи отражают восприятие людей и событий любящей и страдающей женщиной с добрым сердцем и подвижническим чувством долга.
Дневник позволяет очертить круг лиц, которые приезжали в квартиру на Галерной. Не считая лечащих врачей, это прежде всего братья Михаил и Владимир с женами, старые друзья путешественника В.Ф. Суфщинский, К.А. Поссе и И.Р. Тарханов, его новый друг В.И. Модестов, «друг семьи» Г.Ф. Штендман (отец Михаила-младшего). Посетить больного путешественника изволили великий князь Александр Михайлович и великий князь Николай Михайлович. Лишь однажды заехал с визитом П.П. Семенов. В январе пожаловал один из братьев Сибиряковых — известных золотопромышленников и меценатов, который пожелал узнать, нельзя ли прикупить землицы в Океании. В квартиру наведывались репортеры петербургских газет, чтобы узнать о состоянии здоровья путешественника, хотя популярность его упала после провала колонизационного проекта. По мере ухудшения самочувствия Николай Николаевич все реже принимал посетителей, так что общаться с ними приходилось Маргерит. Это было непростым делом, так как отнюдь не все из них знали английский язык. В этих случаях в роли переводчицы иногда выступала Мария.
Среди петербуржцев, наиболее часто посещавших квартиру Миклухо-Маклая, была дама — корреспондент газеты «Сидней морнинг геральд». Ее «письма» без подписи регулярно появлялись на страницах этой газеты. Написанные элегантно, образно, со строгим соблюдением классических «оксфордских» норм синтаксиса и фразеологии, с применением идиоматических оборотов, нехарактерных для газетчиков, эти корреспонденции обличали в авторе человека, превосходно освоившего английский язык, который все же не был для него родным. В юбилейном издании, посвященном 150-летию этой газеты, нет ни слова, кто представлял ее в России и в других европейских государствах во второй половине XIX века[969]. Но в архивном фонде Миклухо-Маклая обнаружилось письмо некоей Сюзанны Богдановой, написанное по-английски 14 марта 1887 года, накануне отъезда путешественника «на несколько дней» в Австралию. Любезно осведомившись о его здоровье, Богданова добавила: «Я готовлю статью для Геральда. О чем Вам хотелось бы, чтобы я написала?»[970] Теперь стали понятны фразы в ее анонимных корреспонденциях 1886 — 1888 годов — «ко мне пришел Миклухо-Маклай», «мы провели вечер с Маклаем» и т. д. По своим взглядам Богданова была близка к умеренно-либеральному курсу газеты «Новости» и всегда поддерживала и защищала Маклая. Будущие исследователи, возможно, сумеют больше узнать об этой женщине, которая сыграла видную роль в истории русско-австралийских отношений. Рискну предположить, что владелец газеты Джон Фэрфакс познакомился с ней и ее мужем, финансистом или дипломатом, во время длительного пребывания в Европе в середине 1880-х годов.
Богданова часто посещала в эти месяцы квартиру Миклухо-Маклая, чтобы узнавать новости о его здоровье. Более того — вероятно из лучших побуждений — Сюзанна попыталась вывезти его жену в свет. «Она сказала мне, — записала Маргерит 6 января, — что обо мне говорит весь Петербург, что люди спрашивают: "Видели Вы английскую красавицу?", что они полагают: "Миклухо-Маклай так ревнив, что держит ее взаперти, чтобы она принадлежала только ему". Идиоты! <…> Нечего и говорить, что я отказалась»[971]. Маргерит не понравилась Сюзанна с ее светскими замашками и душевной глухотой: она предложила ей блистать в обществе, когда ее дорогой, любимый Нильс тяжело болен, страдает от ломоты в суставах и лежит плашмя в зашторенной комнате. 21 января (2 февраля), в день рождения Маргерит, братья ее мужа с женами пришли ее поздравить, принесли угощение и подарки, но Николай не смог выйти к накрытому столу из своей комнаты[972].
Как видно из дневника Маргерит, помимо болезни супруга ее угнетали непрерывные холода и хроническое безденежье. Приходилось одалживать небольшие суммы у Михаила, чтобы свести концы с концами. В феврале 1888 года пришел наконец долгожданный перевод из Малина, но этих денег хватило ненадолго, так как нужно было рассчитаться с долгами и уплатить деньги за квартиру[973].
Между тем болезнь продолжала прогрессировать. В конце января появились отеки ног и живота. Пользовавший путешественника опытный терапевт доктор Николай Петрович Черепнин, личный врач Ф.М. Достоевского, и приглашенный Николаем Николаевичем для консультаций знакомый ему военный врач и путешественник Николай Васильевич Слюнин, не сумев распознать истинную причину тяжкого недуга, нашли ее в поражении печени и селезенки и начали лечить больного, в соответствии с медицинскими представлениями того времени, рыбьим жиром, мясным соком, овощами, фруктами и коньяком, (что опустошало тощий кошелек Маргерит), а ломоту в суставах и головную боль — компрессами, пропитанными разными лекарствами. Но боли не проходили, началась бессонница. Облегчение приносил лишь прием морфия[974].
Черепнин предложил отвезти больного в Крым, в Балаклаву, для лечения сакскими грязями. Этот замысел подхватили братья и невестки, предложившие отправить детей путешественника, плохо переносивших необычно холодную зиму, в Малин в сопровождении «няни» Марии. Однако Слюнин, поддержанный Тархановым, ставшим к тому времени известным профессором-физиологом, заявил, что Миклухо-Маклай не выдержит дальней дороги, польза от лечения грязями в данном случае проблематична, что его нужно незамедлительно положить для лечения в госпиталь Военно-медицинской академии. Созванный 9 февраля консилиум принял сторону Слюнина, и Тарханов договорился со знаменитым профессором Сергеем Петровичем Боткиным, что тот положит путешественника в свою клинику. На следующий день Николая Николаевича перевезли в экипаже в Военно-медицинскую академию. Над его больничной койкой, как видно на сохранившейся фотографии, поместили табличку «Дворянин Миклухо-Маклай».
В течение полутора месяцев дневниковые записи Маргерит фиксируют беспрерывные переходы от отчаяния к надежде. Но отчаяние преобладало. Посещая каждый день мужа в больнице, она возвращалась домой обессиленная, в подавленном состоянии, так как видела, что ее Нильсу становилось все хуже и хуже. С помощью Богдановой Николай Николаевич устроил ей к Рождеству сюрприз: взял напрокат фортепьяно за десять рублей в месяц. Пение и музицирование, обычно в одиночестве, помогали Маргерит в какой-то мере восстанавливать душевное равновесие. Но, подсчитав предстоящие расходы, она решила, что это непозволительная роскошь. 23 марта пришли люди и увезли так много значивший для нее инструмент.
Родные Николая Николаевича старались, как могли, ее морально поддержать. Оставляя Михаила дежурить у койки брата, они уговорили Маргерит два раза побывать в опере, посетить Эрмитаж, где наибольшее впечатление, судя по записи в дневнике, произвели на нее не произведения искусства, а сам Зимний дворец. Но во время этих спектаклей и экскурсий она мысленно была в госпитале, где страдал и слабел день ото дня ее «darling» — горячо любимый супруг.
Осмотрев пациента, Боткин предупредил родных, что состояние очень серьезно. По его словам, больного лечили неправильно и много времени утрачено безвозвратно; впрочем, все возможное будет сделано. Водянка организма усиливалась, отдельные отеки слились воедино, опухающее тело требовало принятия срочных мер. Не сумев поставить подобно Слюнину и Черепнину правильный диагноз, Боткин стал бороться не с причиной болезни, а с ее проявлениями. Чтобы изгнать скопившуюся жидкость, профессор 17 февраля предписал «паровую баню» и прием мочегонных средств. В результате, как видно из записей Маргерит, Николай Николаевич ежедневно терял с потом до килограмма веса. Применение «паровой бани» вконец изнурило Миклухо-Маклая. Путешественник сильно исхудал. У него начались приступы рвоты; организм не принимал никакой пищи. 9 марта Боткину пришлось отменить «паровую баню»; арсенал известных ему медицинских средств оказался исчерпанным[975].
Воспользовавшись кратковременным улучшением в состоянии здоровья Миклухо-Маклая, Боткин заявил 21 марта, что его можно выписать из клиники. Похоже, маститый профессор не хотел терять свое реноме, предпочитая, чтобы знаменитый путешественник умер не в клинике, а в своей квартире. Впрочем, с высоты сегодняшних медицинских знаний легко упрекать Боткина во врачебной ошибке. Сам Сергей Петрович умер в 1889 году от рака легких.
Узнав о решении Боткина, Николай Николаевич, не терявший присутствия духа даже в самом плачевном состоянии, обрадовался: в больнице он не может работать, завершить редактирование новогвинейской части дневников, заняться рисунками и таблицами. Обрадовалась и Маргерит. Она устроила генеральную уборку в квартире, приказала тщательно протопить кабинет, в котором она поместит постель, чтобы Нильс был поближе к своим рукописям и библиотеке. Помешало резкое похолодание. «Так холодно, так ветрено, идет снег — ужасная погода! — записала Маргерит в своем дневнике 26 марта. — Нева сегодня снова замерзла в тех местах, где уже начала появляться вода»[976]. Выписку из госпиталя пришлось отложить.
С 29 марта началось быстрое ухудшение состояния больного. Николай Николаевич простудился: боль в горле, кашель. Ослабевший организм «тамо русс» не мог сопротивляться инфекции. Простуда осложнилась бронхитом и воспалением легких. «Бедный, дорогой мой, он ужасно болен, — говорится в дневнике Маргерит. — <…> Я никогда не видела его прежде в таком плохом положении. <…> Боже, помоги мне в это печальное время и пощади любимого»[977].
Тарханов предупредил ее, что приближается трагический конец. «Я отправилась за детьми, чтобы они смогли увидеть его, — записала Маргерит 1 апреля. — Его дорогие глаза больше никогда не посмотрят на их лица. Я никогда не смогу забыть выражения ужасной печали на дорогом лице, когда я подняла Алика (Аллена. — Д. Т.), чтобы он поцеловал отца в последний раз»[978]. На следующий день Николай Николаевич находился в забытьи, но иногда приходил в сознание и, обращаясь к жене, шептал: «Моя любимая».
Записи Маргерит дополняются воспоминаниями научного обозревателя «Нового времени» Л.К. Попова, проникшего в палату умирающего путешественника, очевидно, без ведома его жены. Десять лет спустя Попов писал, что больного не покидала тревога за судьбу его неопубликованных работ: «Я наклонился над его кроватью, он посмотрел на меня взглядом полного отчаяния и едва слышно произнес: "Погиб мой труд"; две крупные слезы скатились с судорожно закрытых век… "Мой труд погиб" — этот шепот умиравшего и сейчас раздается у меня в ушах; эти две слезы… я вижу их и теперь на ввалившихся щеках несчастного»[979].
Вечером 2 апреля 1888 года в 8 часов 15 минут неутомимый путешественник окончил свой земной путь на руках у Маргерит.
Вдова добилась от Боткина согласия на то, чтобы вскрытие не производилось, а потому истинная причина смерти осталась непроясненной. Отпевание состоялось в госпитальной церкви. Хотя газеты оповестили петербуржцев о месте и времени похорон, к выносу тела из госпиталя утром 5 апреля, по сообщению «Новостей», помимо родных и близких «явилось очень немного публики. <…> Большинство присутствовавших состояло из учащейся молодежи, преимущественно студентов-медиков»[980]. На гроб были возложены только два венка: от семьи и с надписью «От друзей и почитателей». Среди шедших за гробом журналисты заметили несколько членов РГО во главе с П.П. Семеновым, адмиралов П.Н. Назимова и Н.Н. Копытова, известного путешественника А.В. Елисеева, профессоров В.И. Модестова, К.А. Поссе и И.Р. Тарханова.
Больше народу пришло отдать последний долг путешественнику прямо на Волково кладбище. Здесь гроб был покрыт венками и цветами. Над раскрытой могилой прощальное слово произнес В.И. Модестов. «Мы хороним человека, — сказал он, — который стяжал себе всемирную славу <…> самоотверженной преданностью науке, самой редкой энергией. Он открывал неведомые страны, изучал никем не виденные народы. Перед его воображением были открыты постоянно самые широкие горизонты, среди которых могли бы проявиться ум и деятельность человека; и для его железной воли не представлялось ничего невозможного. <…> Мы в лице Николая Николаевича хороним человека, который прославил наше отечество в самых отдаленных уголках мира»[981]. В некрологе, опубликованном в «Сыне отечества» были такие строки: «Пожелаем, чтобы его пример не прошел бесследно для последующих путешественников. <…> Пусть то братское отношение к так называемым дикарям, которое проявил Миклухо-Маклай, ляжет впредь в основу отношений европейцев к обитателям мало известных стран. Недаром на одном из венков, покрывавших фоб покойного, было написано: "Другу человечества". Но любовь к людям вообще он умел соединять с горячей любовью к родине. <…> И русская наука с большим почетом будет упоминать на страницах своей истории славное имя Николая Николаевича Миклухо-Маклая»[982].
Некрологи появились в газетах и журналах всех направлений — от официозных до сочувствующих народникам. В «Новом времени» с прочувствованной статьей о «человеке с Луны» выступил А.В. Елисеев, который, в частности, написал, что для Миклухо-Маклая «вся жизнь была одним сплошным путешествием, и Австралия была такою же близкою, как для нас Тверь или Москва»[983]. В либеральной московской газете «Русские ведомости» профессор Д.Н. Анучин, более десятилетия пристально следивший за научной и общественной деятельностью Миклухо-Маклая, напомнил о заслугах покойного, а затем привлек внимание читателей к судьбе его научного наследия: «Было бы жаль, если со смертью Николая Николаевича погибли бы бесследно его записки, рисунки и коллекции. Желательно, чтобы они были изданы с дополнением их результатами его же наблюдений, рассеянных в различных статьях в русских и иностранных журналах»[984].
На уход из жизни знаменитого путешественника откликнулись крупнейшие газеты Западной Европы и Австралии, в том числе «Сидней морнинг геральд», куда сообщение о его последних днях и кончине послала С. Богданова, английский журнал «Nature», редактируемый Т. Хаксли, немецкие географические журналы. Не промолчал и главный враг «белого папуаса» Отто Финш, «укравший» у него Берег Маклая. Он выступил с большой статьей, в которой, несмотря на некоторое лукавство, воздал должное покойному, а потому более неопасному сопернику. «Печальная весть о безвременной кончине в С.-Петербурге известного путешественника и исследователя Николаса фон Миклухо-Маклая, — говорилось в статье, -вызвала живой отклик в широких кругах и была с огромной скорбью воспринята наукой. <…> В Южном полушарии, в Австралии, он, похоже, нашел свою вторую родину. <…> Энергичность сочеталась у него с личным бесстрашием. <…> Как великий филантроп и гуманист, он всегда выступал в защиту прав туземцев. <…> Миклухо-Маклай выступает перед нами как истинный деятель науки, а потому она, несмотря на незавершенность его научных трудов, имеет все основания с благодарностью сохранить о нем вечную память»[985].
Впрочем, Финш — в отличие от других авторов некрологов — не последовал латинской максиме «De mortuis aut bene aut nihil» («О мертвых или хорошо, или ничего»). Он — к сожалению, справедливо — отметил разбросанность в деятельности покойного, его склонность начинать новые работы, не кончив старые, то, что в последние годы жизни в Австралии путешественник вместо подготовки к печати дневников и материалов основных экспедиций предпочел вновь заняться сравнительной анатомией. Немецкий ученый и путешественник, поставивший свой талант и организаторские способности на службу германскому колониализму, в заключение выразил надежду на скорую публикацию двух томов трудов Миклухо-Маклая, о чем сообщали, ссылаясь на петербургские источники, многие газеты.
Проникнутое неподдельным горем и сочувствием послание пришло из Парижа от Наталии Герцен. Что касается Александра Мещерского, ставшего бессарабским помещиком, то, занятый судебной тяжбой, он не смог приехать на похороны и ограничился телеграммой.
Николая Николаевича похоронили рядом с отцом, инженер-капитаном Миклухой, и сестрой Ольгой в одной ограде. У Михаила, который взял на себя печальные хлопоты, не было денег на организацию похорон. «Глупые гроши» преследовали путешественника и после смерти. Даже на эти скромные похороны пришлось занять деньги у Поссе и Суфщинского. Маргерит заказала черную мраморную плиту, на которой, кроме имени и фамилии покойного и отрывка из Библии, должна была быть выгравирована аббревиатура N.B.D.C.S.U. Да, только смерть разлучила ее с супругом.
На заседании Географического общества, состоявшемся 6 (18) апреля, П.П. Семенов произнес краткое слово об ушедшем из жизни сочлене; память о нем была почтена вставанием. Кроме того, в отчет РГО за 1888 год был включен суховатый некролог, написанный секретарем общества А.В. Григорьевым[986]. Как разительно отличалось это от пышных траурных церемоний, организованных в том же году в связи со смертью Н.М. Пржевальского, скончавшегося от холеры во время очередной экспедиции! Такое различие не случайно: Пржевальский помимо научных изысканий занимался территориальным приращением империи и разведкой сопредельных с ней центральноазиатских областей, а Миклухо-Маклай лишь выдвинул авантюрный колонизационный проект, отвергнутый российскими властями. В РГО решили: по Сеньке и шапка.
Руководители РГО ожидали, что родственники Миклухо-Маклая передадут в общество пусть не вполне готовые к печати дневники его экспедиций, подготовка которых велась на средства, «высочайше» пожалованные Александром III. Но тут произошла неожиданная заминка.
В квартире на Галерной улице разгорелись драматические события. Обезумевшая от горя и отчаяния Маргерит лихорадочно рылась в бумагах Нильса и никого не допускала в его кабинет. «Поссе и Суфщинский пришли с Владимиром и Миком (Михаилом. — Д. Т.) посмотреть бумаги, касавшиеся первого тома книги моего любимого, — записала она в дневнике 7 апреля. — Я испытала ужасную боль, разбирая эти бумаги, чтобы выдать их им. <…> Они хотели, чтобы я отдала им дневники, но я ни за что не дам; он велел мне сжечь их, и я это сделаю»[987]. С трудом братья путешественника уговорили отдать переписанные набело, хотя и с некоторыми пропусками, дневники путешествий на Новую Гвинею, и эта рукопись была отвезена в РГО. Но Маргерит и слышать не хотела о том, чтобы передать для обработки «чужим людям» черновики, записные книжки, полевые дневники, а также сотни писем, заботливо сохраняемых Миклухо-Маклаем. Вот что писала она 12 дней спустя: «Не могу выразить, как глубоко огорчает меня одна лишь мысль о возможности того, что кто-нибудь дотронется до бумаг моего любимого. О, это слишком жестоко, слишком мучительно и ужасно. <…> Весь день я жгла письма и бумаги, пока моя голова не раскололась. <…> Никто не увидит дневников моего любимого мужа или частные письма; все, что по-русски, я сожгу, а все, что по-английски, сохраню»[988].
Маргерит занималась этим малопочтенным делом не один день, так как она просматривала бумаги, прежде чем бросить их в огонь. Наконец Михаил и Владимир уговорили ее прекратить это «аутодафе». В огне погибли материалы невосполнимой научной ценности. К счастью, большая часть тех рукописей, которые находились в квартире путешественника, была сохранена[989].
Через несколько дней после смерти Миклухо-Маклая одна из газет сообщила, что его вдова «по-видимому, не уедет на свою родину», так как хочет воспитать сыновей «русскими и для России»[990]. Но молодая женщина, потеряв мужа, не могла долго оставаться в России. Получив телеграммы из Сиднея от родных, приглашавших ее вернуться в отчий дом, она решила возвратиться в Австралию. Но где взять деньги на это дальнее, требующее больших затрат путешествие? На сей раз ей улыбнулась удача.
30 апреля Маргерит приехала по приглашению императрицы в Гатчину. Вопреки придворному этикету Мария Федоровна приняла ее во внутренних покоях и долго беседовала с ней наедине. От своего имени и от имени царя она прежде всего выразила Маргерит глубокое соболезнование, расспросила о сыновьях и условиях жизни в Петербурге, а затем поинтересовалась, что она собирается делать в будущем. Гостья ответила, что хотела бы возвратиться к родителям в Сидней, но у нее нет на это денег. Судя по записям в дневнике, императрица сказала примерно следующее: «Не тревожьтесь, мы оплатим ваш проезд в Австралию и в дальнейшем не оставим на произвол судьбы вдову и детей русского путешественника. Этим займется князь Оболенский»[991]. И действительно, Оболенский вскоре сообщил Маргерит, что она может получить в банке деньги, достаточные для комфортного путешествия на пятый континент, и, более того, Александр III повелел назначить ей пожизненную пенсию — пять тысяч рублей, или 350 фунтов в год, которые будет выплачивать русский консул в Сиднее. Эту пенсию Маргерит исправно получала до 1917 года, когда Австралия отказалась признать молодую Советскую республику и русский консул покинул Сидней.
Лето 1888 года, с 18 мая по 26 августа, Маргерит с сыновьями и «няней» Марией провела в Малине[992]. Здесь она познакомилась с матерью Николая, которая «нежно и с любовью» приняла его вдову. «У нее такое же лицо, как у моего любимого, — записала Маргерит в день приезда, — она так похожа на него, так похожа, что я не могу смотреть на нее, не думая о нем»[993]. Екатерина Семеновна прихварывала и ездила лечиться к докторам в Киев, но по-прежнему искусно управляла разросшейся семьей, все члены которой приехали летом отдохнуть в Малин. Только тут Маргерит впервые увидела Александра Мещерского, который прибыл 17 августа в Малин, чтобы навестить семью своего старого друга и познакомиться с его вдовой.
Бегло ознакомившись с достопримечательностями Киева и Москвы, Маргерит и ее спутники 31 августа прибыли в Петербург. Началась подготовка к длительному путешествию. Теперь главной заботой вдовы Миклухо-Маклая было добиться скорейшего издания его трудов. Как она утверждала впоследствии, П.П. Семенов обещал ей, что первый том дневников выйдет в свет «следующей весной» и будут приняты надлежащие меры для подготовки к печати других трудов. Сфотографировавшись с сыновьями на память в Петербурге, она отправилась на готовый к отплытию пароход «Траве».
23 сентября (5 октября) Маргерит простилась с Михаилом — и с Россией — в Кронштадте. Через две недели путешественники прибыли в Лондон, где их любезно встретили старшая сестра Маргерит, вышедшая замуж за брата ее первого мужа, и его родственники. Мария по-прежнему отлично справлялась со своими обязанностями, но Маргерит решила, что она будет «чужой» в Австралии. Поэтому друзья помогли ей нанять бонну-англичанку. Марию пришлось отправить обратно в Россию[994].
В конце декабря 1888 года леди Маклай, как ее стали называть в Англии и Австралии, с сыновьями и новой бонной отплыла из Портсмута в Сидней на пароходе «Аркадия». Незадолго до этого в журнале «Наблюдатель» появилось стихотворение известного журналиста, поэта и бытописателя Москвы Владимира Гиляровского «Памяти Н.Н. Миклухо-Маклая»[995]:
Он в душной больнице один умирал, Жестоко пред смертью страдая. Но в грёзах порою пред ним возставал Далекого моря рокочущий вал И берег цветущий Маклая. Он видел: в широкой, туманной дали Полоска блестит золотая — То берег неведомый новой земли… Он видел: летят по волнам корабли На берег цветущий Маклая. И рвался он жаждавшей воли душой Из нашего бедного края, Из этой столицы туманной, сырой, На южное море, под свод голубой, На берег цветущий Маклая. В приюте усопших, меж разных могил, С крестом есть могилка простая. Там, в снежных сугробах, навеки почил, Кто новую землю на юге открыл И берег цветущий Маклая.Дон Кихот на Тихом океане
«Для оценки деятельности и заслуг покойного Миклухо-Маклая не наступило еще время», — писал в 1888 году В.И. Модестов[996]. С тех пор прошло больше столетия, и теперь можно высказать некоторые суждения, хотя их затрудняют многообразие деятельности путешественника и плотная пелена легенд, преданий и просто небылиц, которая заслоняет его подлинный облик. «В газетах печатают интервью, которые он не давал, — подчеркивал в июле 1886 года корреспондент немецкоязычной петербургской газеты. — И пишут о нем, что угодно: одни — что он людоед, поедающий каждый день на завтрак кого-нибудь из своих подданных, другая крайность — авантюрист, который вообще не был на Новой Гвинее. Внешность описывают по-разному, а возраст произвольно — от 30 до 60 лет. Эти газетчики вообще не видели Миклухо-Маклая»[997]. Даже почтенный датский литературовед Георг Брандес, который посетил больного путешественника в ноябре 1887 года, не удержался от нелепой выдумки, написав в книге, изданной по возвращении из России, что на «своем» острове таморусс имел гарем из 147 туземных жен[998].
Волна вздорных вымыслов коснулась и вдовы «белого папуаса». В марте 1899 года петербургская газета «Народ», ратующая за неограниченное самодержавие, оповестила читателей, что «17-го марта скончалась Татьяна Ивановна Миклухо-Маклай, вдова известного путешественника и естествоиспытателя Н.Н. Миклухо-Маклая. Покойная была еще не старою женщиною. Она сопровождала своего мужа в его путешествиях, делила с ним все труды и опасности»[999]. К счастью, Маргерит, которая почти на полвека пережила своего супруга[1000], едва ли узнала о своих «похоронах».
Итак, кто вы, доктор Миклухо-Маклай?
«Тамо русс» — один из последних в истории мировой науки известных натуралистов широкого профиля, который не только поставил в центр своих исследований человека и проявления его культуры в рамках географической среды, но и активно работал в отраслях естествознания, непосредственно не связанных с этой проблематикой (океанография, геология и др.). Разумеется, за столетие далеко продвинулись вперед все науки, которыми занимался «белый папуас», так что его труды представляют теперь интерес главным образом для историков этих научных дисциплин. Зато жизненный путь и сама личность Миклухо-Маклая характеризуют его как одного из самых замечательных людей богатого талантами XIX века. «Время убирает ненужное, — резонно считает известный медик и литератор, профессор М.И. Буянов, — поэтому образ этого человека сейчас интереснее, чем его труды»[1001].
Русский эмигрант Лев Мечников (брат знаменитого физиолога) — друг и соратник Элизе Реклю и Петра Кропоткина и сам один из теоретиков анархизма — в 1888 году назвал Миклухо-Маклая «самым симпатичным из современных Дон Кихотов»[1002]. «Донкихотством» предпочел расценить в сентябре 1886 года проект путешественника по созданию русской переселенческой колонии на Новой Гвинее Н.К. Гире в конфиденциальном разговоре с британским послом[1003]. Да и сам Николай Николаевич полушутя-полусерьезно уподобил себя еще в 1877 году в связи с безуспешными попытками учредить зоологические станции в Юго-Восточной Азии «illastrissimo Hidalgo de la Mancha» («достославному идальго Ламанчскому»), то есть пресловутому Дон Кихоту[1004].
Конечно, во всех этих случаях имелся в виду не герой Сервантеса, а определенный социально-психологический тип личности, названный в середине XIX века в русской литературе и публицистике, с легкой руки Герцена и особенно Тургенева, именем Дон Кихота. При всех различиях в трактовке этого образа можно все же выделить некоторые присущие ему черты. Это бескорыстный, наивный мечтатель с фанатическим упорством, но безуспешно стремящийся приносить пользу человечеству в соответствии со своими идеалами.
«Дон Кихот проникнут весь преданностью идеалу, для которого он готов подвергаться всевозможным лишениям, жертвовать жизнью, — писал Тургенев, — самую жизнь свою он ценит настолько, насколько она может служить средством к воплощению идеала, к водворению истины и справедливости на земле. <…> Кто, жертвуя собою, вздумал бы сперва рассчитывать и взвешивать все последствия, всю вероятность пользы своего поступка, тот едва ли способен на самопожертвование. <…> Дон-Кихот глубоко уважает все существующие установления, религию, монархов и герцогов, и в то же самое время свободен и признает свободу других»[1005].
В биографии Николая Николаевича действительно можно найти эпизоды, отдающие «донкихотством». Но с годами, к концу жизни, у него стали проявляться другие черты: нарастающий практицизм, забота о приобретении материальных благ, стремление к сближению и дружбе с сильными мира сего. Характерно, что, выдвинув проект русской вольной переселенческой колонии, Миклухо-Маклай, не особенно надеясь на то, что правительство одобрит публично защищаемый им проект, разработал запасной план, предусматривавший создание Русского Тихоокеанского товарищества под эгидой московских толстосумов. Судя по сохранившейся «Памятной записке», это должна была быть крупная привилегированная компания, которая не просто занималась бы меновой торговлей на островах Океании с принадлежавших ей судов, но и учреждала бы на них торговые фактории, а также плантации для выращивания тропических культур с использованием труда местного населения. «В устроенных Товариществом торговых факториях, — говорилось в «Памятной записке», — русские военные суда будут запасаться топливом, производя исправления и починки судов, покупать необходимые запасы провианта и материалов. Ввиду этого Товарищество с своей стороны может рассчитывать на содействие правительства: на приобретение от него тех или других выгод и привилегий. Полагаю, что мы окажемся не менее счастливыми и энергичными, чем англичане и немцы, и возьмем свою долю пользы с колониальной торговли далекого востока»[1006]. Но дальше «Памятной записки» дело не пошло: обострившаяся болезнь и смерть поставили крест на этом и других проектах Миклухо-Маклая.
Приметив эволюцию во взглядах и социально-психологических установках «белого папуаса», австралийский историк О. Спейт в 1984 году впал в другую крайность — он назвал путешественника «неудавшимся раджой Бруком», уподобив его английскому авантюристу Дж. Бруку, ставшему наследственным правителем Саравака[1007]. Нелегко предсказать, каким бы стал Миклухо-Маклай, проживи он еще два десятилетия. Но к 1888 году эта эволюция только начиналась, а потому — при всей условности подобных сопоставлений — сравнение, сделанное Мечниковым, ближе к истине, чем то, которое сделал Спейт.
Для правильного понимания идей и поступков тамо русс Маклая важно учитывать особенности его личности. Это был человек романтического склада, фантазер и мечтатель с непоколебимой верой в общественное предназначение науки. Смелый и решительный в чрезвычайных ситуациях, он был непрактичен в обыденной жизни и нередко страдал от излишней доверчивости. Эти качества сочетались с необыкновенным упорством, с которым он, несмотря на неудачи, стремился к поставленной цели, не всегда сообразуясь с реальностью. Не сведущий в хитросплетениях европейской политики и тонкостях дипломатического этикета, он действовал часто необдуманно, порой наивно, попадая при этом в щекотливые ситуации. Подобно герою Сервантеса, «белый папуас», выражаясь фигурально, нетвердо сидел в седле и, случалось, сражался с ветряными мельницами, думая, что воюет с грозными великанами.
Миклухо-Маклай оставил в скрижалях истории яркий, неоднозначный, но в целом позитивный след. «А все-таки без этих смешных Дон-Кихотов <…>, — подчеркивал Тургенев, — не подвигалось бы вперед человечество и не над чем было бы размышлять Гамлетам»[1008].
Через столетие эту мысль продолжила поэтесса Юлия Друнина:
Ах, донкихоты! Как вы ни смелы, Геройства ваши — тема для острот… И все-таки, да здравствуют орлы, Бросающиеся на самолет![1009]СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АВПРИ — Архив внешней политики Российской империи. Москва
АРГО — Архив Русского географического общества. С.-Петербург
БКМ — Боровичский краеведческий музей
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации. Москва
ГАЧО — Государственный архив Черниговской области
ГИМ — Государственный исторический музей. Москва
ИРГО — Известия Русского географического общества. С.-Петербург
ИЭА — Институт этнологии и антропологии РАН. Москва
МАЭ — Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера). С.-Петербург
ОВ — Отрывки воспоминаний о Н.Н. Миклухо-Маклае его брата Михаила Николаевича / Сост. Д.С. Миклухо-Маклай // АРГ О.Ф. 6. Оп. 4. Д. 3.
ОПИ ГИМ — Отдел письменных источников Государственного исторического музея. Москва
ОР ИРЛИ — Отдел рукописей Института русской литературы РАН. С.-Петербург
ОР РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Москва
ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. С.-Петербург
ПМ — <Подготовительные материалы М.Н. Миклухо-Маклая к биографии его брата-путешественника> // ПФ АРА Н.Ф. 143. Оп. 1. Д. 34.
ПФ АРАН — Петербургский филиал Архива РАН
РГА ВМФ — Российский государственный архив Военно-морского флота. С.-Петербург
РГАДА — Российский государственный архив древних актов. Москва
РГИА — Российский государственный исторический архив. С.-Петербург
РГО — Русское географическое общество. С.-Петербург
СС — Миклухо-Маклай Н.Н. Собрание сочинений: В 6 т. / Под ред. Д.Д. Тумаркина и др. М., 1990-1999.
СЭ — Советская этнография (журнал). Москва
ЦГИА СПб. — Центральный государственный исторический архив С.-Петербурга
ЭО — Этнографическое обозрение (журнал). Москва
ADAW — Archiv der Deutschen Akademie der Wissenschaften. Berlin
AMA — Australian Museum Archives. Sydney
ASZN — Archivio della Stazione Zoologica di Napoli
BL — The British Library. London
BN — Bibliotheque Nationale. Paris
DZP — Deutsches Zentralarchiv. Potsdam
EHH — Ernst Haeckel House. Jena
GBPCP — Great Britain. Parliament. Command Papers
ICSTA — Imperial College of Science and Technology Archives. London
JZMN — Jenaische Zeitschrift fur Medicin und Naturwissenschaft. Jena
ML — Mitchel Library. Sydney
NTNI — Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie (журнал). Batavia
PRO -Public Record Office. London
Proc. LSNSW — The Proceedings of the Linnean Society of New South Wales (журнал). Sydney
QSA — Queensland State Archives. Brisbane
SUA — Sydney University Archives. Sydney
UJ — Universitatsarchiv Jena
UL — Universitatsarchiv Leipzig
Verhl. BGAEU — ferchandlungen der Berliner Gesellschaft fur Anthropologic, Ethnologie und Urgeshcihte. Berlin
VGKA — Verlagsarchiv der Geographisch-Kartographischen Anstalt Hermann Haack. Gotha
ZE — Zeitschrift fur Ethnologie (журнал). Berlin
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н.Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ
1846, 17 июля (н. ст.) — родился в селе Рождественском близ города Боровичи Новгородской губернии в семье инженера-путейца Николая Ильича Миклухи и его жены Екатерины Семеновны, урожденной Беккер.
1857 — поступление в школу Святой Анны в Петербурге. Декабрь — смерть отца.
1858 — перевод во Вторую Петербургскую гимназию.
1863 — исключение из гимназии и поступление вольнослушателем в С.-Петербургский университет.
1864 — исключение из университета. Отъезд в Германию. Поступление на философский факультет Гейдельбергского университета.
1865 — поступление на медицинский факультет Лейпцигского университета.
1866 — переезд в Йену. Занятия в Йенском университете на медицинском факультете.
1866 — 1868 — путешествие на Канарские острова и в Марокко.
1869 — путешествие на берега Красного моря. Возвращение в Россию. Занятия в зоологическом музее Академии наук.
1870 — 1871 — путешествие на Новую Гвинею на корвете «Витязь».
1871, 20 сентября — 1872, 22 декабря — пребывание на Новой Гвинее, на побережье залива Астролябия.
1872-1873 — отъезд на клипере «Изумруд» с Берега Маклая. Пребывание в Батавии и Бейтензорге (Богоре).
1873 — 1874 — второе путешествие на Новую Гвинею. Двукратное посещение берега Папуаковиай.
1874-1875 — два путешествия по полуострову Малакка. Постановка вопроса о необходимости взятия папуасов Берега Маклая под покровительство России ввиду угрозы аннексии Новой Гвинеи Англией.
1876-1877 — путешествие в Западную Микронезию и Северную Меланезию. Второе посещение Берега Маклая.
1878 — 1882 — жизнь в Австралии. Вступление в члены Линнеевского общества и участие в его работе. Организация зоологической станции в Сиднее. Подготовка и издание ряда научных статей.
1879 — путешествие по островам Меланезии. Письмо верховному комиссару Западной Океании Гордону о работорговле.
1880 — 1881 — два путешествия на южный берег Новой Гвинеи.
1881 — смерть сестры Ольги.
1882-1883 — поездка из Сиднея в Россию. Поездка в Германию, Францию, Англию.
1883 — третье посещение Берега Маклая.
1884, февраль — женитьба на Маргерит Робертсон.
18 ноября — рождение сына Александра Нильса. 1884-1886 — жизнь в Сиднее.
1885, 9 января — телеграмма канцлеру Бисмарку с протестом от имени папуасов против захвата Новой Гвинеи Германией.
29 декабря — рождение сына Владимира Аллена. 1886 — поездка в Россию. Выдвижение проекта организации русской колонии на Новой Гвинее. 1887 — поездка в Австралию и переезд с семьей в Петербург. Болезнь. 1888, 14 апреля — смерть.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
1. Публикации трудов Н. Н. Миклухо-Маклая
Собрание сочинений. В 6 т. / Под ред. Д.Д. Тумаркина и др. М., 1990 — 1995.
Собрание сочинений. В 5 т. / Под ред. С.П. Толстого и др. М.; Л., 1950-1954.
Путешествия. М., 1923/ Сост. Д.Н. Анучин. М., 1923.
Путешествия. Т. 1 — 2 / Подг. к печати И.Н. Винников, А.Б. Пиотровский. М., 1940-1941.
Путешествия на Берег Маклая. М., 2008.
Путешествия на Новую Гвинею: дневник путешествий. М., 2009.
Travels to New Guinea. Diaries. Letters. Documents / Translated from the Russian with Biographical Comments by С L. Sentinella. Madang, 1975.
2. Книги о Н.Н. Миклухо-Маклае
Лренский П. Путешествия Миклухо-Маклая. 2-е изд. М., 1935.
Колесников М. Миклухо-Маклай (серия «ЖЗЛ»). М., 1965.
Массов А.Я. Россия и Австралия во второй половине XIX века. СПб., 1998.
На Берегу Маклая (этнографические очерки) / Под ред. С.А. Токарева и др. М., 1975.
Петриковская А.С. Российское эхо в культуре Австралии. М., 2002.
Путилов Б.Н. Миклухо-Маклай. Путешественник, ученый, гуманист. М., 1985.
Семенов П.П. История полувековой деятельности Императорского Русского географического общества. 1845-1895. СПб., 1896.
GreenopF. S. Who Travels Alone. Sydney, 1944 (сокр. пер.: Гриноп Ф.С. О том, кто путешествовал в одиночку. М., 1989, со ст. и коммент. Б.А. Вальской).
Paton W. Nikolai and Australian Connections. A Brief History of the Life and Achievements of Nikolai Nikolaevich Mikloucho-Maclay. 2nd ed. Sydney, 2002.
Schneider F. Mikloucho-Maclay und die Heroische Ethnologic Die Neu-Guinea Tagebucher. Hausweiler, 1997.
Thomassen E. S. A Biographical Sketch of Nicholas de Mikloucho-Maclay, the Explorer Brisbane, 1882.
Webster E. M. The Moon Man. A Biography of Nikolai Mikloucho-Maclay. Carlton, Vic, 1984.
Wotte E. M. Kaaram Tamo. Man von Mond. Leben und Reisen Miklucho-Maklais. Leipzig, 1973.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Дом в селе Рождественском, где в 1846 году родился Миклухо-Маклай
Екатерина Семеновна Миклуха (Беккер)
Николай Ильич Миклуха
Ольга — сестра путешественника
Николай Миклуха — студент Петербургского университета (на фото слева)
Николай в год исключения из университета
Факультет гистологии Иенского университета. Крестиком выделены окна кабинета Эрнста Геккеля
Э. Геккель и Н. Миклухо-Маклай на Канарских островах. 1866 г.
Замок Синтра. Португалия. Рисунок Н. Миклухо-Маклая
Миклухо-Маклай и его друг — зоолог Гельмут Фоль
Антон Дорн
Миклухо-Маклай в арабской одежде
Томас Гексли и Иван Тургенев — фото с дарственными надписями Миклухо-Маклаю
П.П. Семенов
Ф.П. Литке
Здание Русского географического общества в Санкт-Петербурге
Великий князь Николай Михайлович
Великий князь Константин Николаевич
Князь А.А. Мещерский с дочкой
Комната Миклухо-Маклая в Петербурге перед его отъездом на Новую Гвинею
Корвет «Витязь». Фото 1871 г.
Патагонка. Рисунок Н. Миклухо-Маклая. 1870 г.
Остров Мангарева. Рисунок Н. Миклухо-Маклая. 1871 г.
Карта Берега Маклая
Хижина Миклухо-Маклая на мысе Гарагаси
Друзья путешественника — папуасы Саул и Туй
Каин, «большой человек» с острова Били-Били
Участник обрядовой пляски
Листок из полевого дневника Миклухо-Маклая за 1872 год
Папуасские орудия труда и идолы — часть коллекции, собранной Миклухо-Маклаем
Деревня Горенду. Рисунок Н. Миклухо-Маклая. 1872 г.
Миклухо-Маклай на Новой Гвинее Н.Н. Миклухо-Маклай. Фото 1886г.
Н. Н. Миклухо-Маклай. Фото 1886 г.
Миклухо-Маклай в Бейтензорге (Богоре). Фото 1873 г.
Клипер «Изумруд»
Луиза Лаудон — предмет романтического увлечения Миклухо-Маклая
Путешественник с семьей генерал-губернатора Лаудона
Тамбуна — папуасское хранилище черепов предков
Урумбай (туземная лодка) у берегов Папуаковиай. Рисунок Н. Миклухо-Маклая. 1873 г.
Татуировка папуасской женщины
«Одежда» жителей Папуаковиай
Папуаска Бунгарая
Юная микронезийка Мира — «временная жена» Миклухо-Маклая
Путешественник со своим слугой Ахматом
Украшение, сделанное из нижней челюсти человека
Хижина Миклухо-Маклая в Бугарломе
Австралийский политик Джон Робертсон — будущий тесть Миклухо-Маклая
Уильям Маклей
Эдуард Рэмзи
Маргарет Кларк-Робертсон. Фото, подаренное Миклухо-Маклаю с надписью: «Больше никто никогда не будет мной обладать»
Здание морской биостанции в Сиднее
Миклухо-Маклай с матерью, братом Михаилом и племянником Мишей
Братья путешественника — Михаил и Владимир с женой Юлией
Старший брат Миклухо-Маклая Сергей с женой
Ольга Миклуха в последние годы жизни
Портрет Миклухо-Маклая кисти художника А. Корзухина. 1882 г.
Письмо путешественника Александру III с предложением установить русский протекторат над Новой Гвинеей
Лев Толстой. Фото с дарственной надписью Миклухо-Маклаю
А.А. Половцов
К.П. Победоносцев
Карикатура на Миклухо-Маклая. 1886 г.
Рукопись «Проект развития Берега Маклая»
Маргарет Миклухо-Маклай с сыновьями Александром Нильсом и Владимиром Алленом. Фото 1887 г.
Миклухо-Маклай в клинике Виллие. Март 1888 г.
Последнее фото
Автор книги записывает предания жителей Бонгу о «тамо рус» Маклае. 1977 г.
Внуки Миклухо-Маклая Пол и Кеннет у бюста их знаменитого деда в Сиднейском университете
1
Штукенберг Л.И. Очерки сооружения и эксплоатации в первой время Николаевской дороги между Петербургом и Москвою // Журнал Министерства путей сообщения. 1887. № 5. Отд. X. С. 33.
(обратно)2
Подготовительные материалы М.Н. Миклухо-Маклая к биографии его брата-путешественника (далее — ПМ) // Петербургский филиал Архива Российской академии наук (далее — ПФ АРАН). Ф. 143. Оп. 1. Д. 34. Л. 387 об.
(обратно)3
Миклухо-Маклай Н.Н. Собрание сочинений (далее — СС). В 6 т. / Под ред. Д.Д. Тумаркина. Т. 5. М., 1996. С. 568.
(обратно)4
Басов Д.С. Генеалогия рода Миклухо-Маклаев // Человек из легенды. К 150-летию со дня рождения Н.Н. Миклухо-Маклая. М., 1997. С. 39. В цитате сохранен стиль автора.
(обратно)5
Государственный архив Черниговской области (далее — ГАЧО). Ф. 712. Оп. 1. Д. 228. Л. 65 об.; Д. 231. Л. 87 об.; Д. 232. Л. 51 об., 54.
(обратно)6
Романович-Славатинский А.В. Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права. СПб., 1870. С. 24.
(обратно)7
Там же. С. 21-22.
(обратно)8
Письмо директора ГАЧО Р.В. Воробей от 21 февраля 2006 г. //Личный архив автора книги.
(обратно)9
ГАЧ О.Ф. 127. Оп. 14. Д. 216. Л. 6 об.-7; Д. 226. Л. 6; Д. 359. Л. 195— 195 об., 229. В Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (далее — ОР РГБ) хранится копия аттестата и формулярного списка, выданных в 1836 году Илье Степановичу Миклухе. В этих документах также говорится, что он происходит «из корнетских детей» (ОР РГ Б.Ф. 10. Папка 21. Д. 24. Л. 2 об.-3).
(обратно)10
Метельский Г. Листья дуба. М., 1974. С. 154.
(обратно)11
ОРРГБ.Ф. 10. Папка 21. Д. 24. Л. 1-3. ГАЧ О.Ф. 127. Оп. 14. Д. 216. Л.6 об.-7; Д.359. Л. 195-196об.,223; Ф. 133.Оп. 1. Д. 215. Л. 1094, 1188об.; Д. 259. Л. 59.
(обратно)12
[Копии документов, представленных Н.И. Миклухой при поступлении в Институт Корпуса инженеров путей сообщения] // ОР РГ Б.Ф. 10. Папка 21. Д. 24. Л. 2 об.-З.
(обратно)13
Там же. Л. 1.
(обратно)14
Там же. Л. 11-11 об.
(обратно)15
Формулярный список <…> инженер-капитана Миклухи (копия) // Архив Русского географического общества (далее — АРГО). Ф. 6. Оп. 4. Д. 4. Л. 1-2.
(обратно)16
С С.Т. 5. С. 568.
(обратно)17
М.Н. Миклухо-Маклай-младший — И.Ю. Крачковскому, 28 апреля 1938 г. // АРГ О.Ф. 6. Оп. 4. Д. 3. Л. 3.
(обратно)18
Журнал пребывания Его Величества Короля Польского Станислава- Августа в Гродне 1795—1797 годов, веденный приставом при нем генерал- поручиком Ильей Андреевичем Безбородком. Извлечен из архива Виленского генерал-губернатора М.Ф. Де-Пуле. М., 1870; Де-Пуле М. Станислав-Август Понятовский в Гродне и Литва в 1794-1797 годах. 2-е изд. СПб., 1871. В «Журнале» Безбородко и, соответственно, в книге Де-Пуле говорится о докторе Беклере, реже — Бекклере. Но это, несомненно, неточность. Безбородко неверно записал и некоторые другие иностранные фамилии.
(обратно)19
Отрывки воспоминаний о Н.Н. Миклухо-Маклае его брата Михаила Николаевича / Сост. Д.С. Миклухо-Маклай (далее — ОВ) // АРГО. Ф.6.0п.4.Д. З.Л. 12-12 об.
(обратно)20
М.Н. Миклухо-Маклай-младший — И.Ю. Крачковскому. Л. 3.
(обратно)21
ОВ.Л. 12 об.
(обратно)22
Здесь и далее даты жизни и деятельности Н.Н. Миклухо-Маклая даются по старому стилю в период его пребывания в России и по новому (григорианскому) — во время заграничных путешествий. — Прим. ред.
(обратно)23
Бриккер Л.Э. Наш земляк — Н.Н. Миклухо-Маклай. Окуловка, 2005. С. 10-11.
(обратно)24
ЦГИА СПб. Ф. 2104. Оп. 1. Д. 3. Л. 3.
(обратно)25
[Краткая автобиография Н.Н. Миклухо-Маклая] // Отдел письменных источников Государственного исторического музея (далее — ОПИ ГИМ). Ф. 329. Д. 27. Л. 2. Процитированная автобиография написана от третьего лица в конце 1873 года. Впервые опубликованный в 1910 году без комментариев, этот текст до недавнего времени воспринимался биографами ученого как очерк, основанный на воспоминаниях его друзей и знакомых. Ознакомление с рукописью позволило нам установить, что она написана характерным для тех лет почерком Н.Н. Миклухо-Маклая. См. об этом: Тумаркин Д.Д. Материалы по отечественной истории и культуре XIX века в архивном фонде князя А.М. Мещерского // Отечественная история. 2006. № 1. С. 170.
(обратно)26
Воронин М. И., Воронина М.М. Павел Петрович Мельников. Л., 1977. С. 52.
(обратно)27
ПМ.Л. 388,392.
(обратно)28
См. об этом: Шафрановская Т.К. О художественном и научном значении рисунков Н.Н. Миклухо-Маклая // Курьер Петровской Кунсткамеры. Вып. 4-5. СПб., 1996. С. 139.
(обратно)29
ПМ.Л.393.
(обратно)30
Формулярный список <…> инженер-капитана Миклухи. Л. 3; Шmyкенберг А.И. Из истории железнодорожного дела в России. Николаевская железная дорога в 1842-1852 гг. // Русская старина. Т. 49. № 1. 1886. С. 124—125. В октябре 1851 года Н.И. Миклуха был назначен начальником VI отделения дороги. Это объяснялось укрупнением отделений (с восьми до пяти), а не перемещением по службе.
(обратно)31
Штукенберг А.И. Из истории железнодорожного дела… С. 125.
(обратно)32
Формулярный список <…> инженер-капитана Миклухи. Л. 4—5.
(обратно)33
Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. Дневник. 1855—1882. Т. 1.М., 1928. С. 73.
(обратно)34
Михаил Николаевич — горный инженер и геолог по специальности — еще в начале XX века задумал написать биографию своего брата- путешественника. Поселившись в предреволюционные годы в имении Малин, где хранилась большая часть семейного архива, Михаил Николаевич снял копии с множества писем брата родным и черновиков его писем разным лицам. Созданный таким образом фонд имеет уникальное значение в связи с тем, что подавляющее большинство подлинников писем погибло в 1918 году в результате пожара в Малине. В начале 1920-х годов, вернувшись в столицу и возобновив свою профессиональную деятельность, Михаил Николаевич стал одновременно готовить черновые наброски к биографии Н.Н. Миклухо-Маклая. Сохранился план этой биографии, представленный в одно из петроградских издательств (ПФ АРА Н.Ф. 143. Оп. 1. Д. 52. Л. 11-13). Но вначале Михаил Николаевич решил опубликовать свои воспоминания о революционных народниках 1870-х годов, где лишь мимоходом упоминаются его братья и сестра Ольга. Он передал рукопись известному историку П.Е. Щеголеву, редактору журнала «Былое», но она осталась неопубликованной, так как в начале 1926 года выпуск журнала был прекращен. Написав воспоминания о народниках, Михаил Николаевич продолжил подготовку биографии своего знаменитого брата, но смерть в 1927 году прервала эту работу. См.: Д.С. Миклухо-Маклай — Е. И. Глейберу, 8 февраля 1938 г. // АРГ О.Ф. 6. Оп. 4. Д. 3. Л. 10-10 об.; Троицкий Н.А. Записки М.Н. Миклухо-Маклая // Освободительное движение в России. Вып. 16. Саратов, 1997. С. 157-164.
(обратно)35
ПФАРАН.Ф. 143. Оп. 1. Д. 51. Л. 25.
(обратно)36
ПМ.Л. 405.
(обратно)37
[Краткая автобиография Н.Н. Миклухо-Маклая]. Л. 2.
(обратно)38
РГИ А.Ф. 1343. Оп. 25. Д. 3740. Л. 1. Этот документ был впервые опубликован Б.А. Вальской, которая не смогла объяснить, почему Е. С. Миклуха не получила запрошенной ею выписки из Чернигова. См.: Вольская Б.А. Н.Н. Миклухо-Маклай и книга о нем австралийского писателя Ф.С. Гринопа // Гриноп Ф.С. О том, кто странствовал в одиночку / Пер. с англ. М., 1989. С. 205.
(обратно)39
См., например: ПФАРАН.Ф. 143. Оп. 1.Д.40.Л. 117-121.
(обратно)40
[Краткая автобиография Н.Н. Миклухо-Маклая]. Л. 2.
(обратно)41
Ганелин Р. Ш. Очерки по истории средней школы в России второй половины XIX века. 2-е изд. М., 1954. С. 9.
(обратно)42
Грумм-Гржимайло А.Г. Н.Н. Миклухо-Маклай на фоне современной ему эпохи // Известия Государственного географического общества (далее — ИРГО). Т. 71. Вып. 1-2. М.; Л., 1939. С. 158.
(обратно)43
[Краткая автобиография Н.Н. Миклухо-Маклая]. Л. 2.
(обратно)44
Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (далее — ОР РНБ). Ф. 601. Д. 1444. Л. 6.
(обратно)45
Шелгунов Н.В. Воспоминания // Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М.Л. Воспоминания. В 2 т. М., 1967. Т. 1. С. 94.
(обратно)46
Историческая записка 75-летия С.-Петербургской второй гимназии. Ч. 2. 1831-1880. СПб., 1894. С. 152.
(обратно)47
Менделеев Д.И. Дневник 1861 г. // Научное наследство. М., 1951. С.190.
(обратно)48
ОВ. Л. 13 об.
(обратно)49
Цит по: Комиссаров Б.Н. Ранние годы… С. 131.
(обратно)50
Там же. С. 132. Изучив архивные материалы, Б.Н. Комиссаров счел беспочвенным семейное предание о том, что Екатерина Семеновна вызволила сыновей из-под ареста. Однако сохранились два относящихся, очевидно, к 1861 году, но недатированных письма Александры Васильевны Миклухи сенатору Половцеву. В первом из них содержится настоя тельная просьба безотлагательно приехать к Екатерине Семеновне для «дружеского совещания», во втором выражается глубокая благодарность за «все сделанное» сенатором (ОР РН Б.Ф. 601. Д. 1444. Л. 40,42). Разумеется, гимназистов все равно в непродолжительном времени выпустили бы из крепости, но заступничество влиятельного сановника могло ускорить рассмотрение их дел и, во всяком случае, оставить в неведении гимназическое начальство.
(обратно)51
ПМ.Л. 404-405.
(обратно)52
ЦГИАСПб.Ф.2104.Оп. 1.Д. 1.
(обратно)53
[Краткая автобиография Н.Н. Миклухо-Маклая]. Л. 2.
(обратно)54
Робер А.Н. Организация учебной части в гимназиях// Русский вестник. 1860. № 18. С. 275.
(обратно)55
М.Н. Миклухо-Маклай-младший — И.Ю. Крачковскому, 28 апреля 1938 г. // АРГ О.Ф. 6. Оп. 4. Д. 3. Л. 7.
(обратно)56
Миклухо-Маклай Л.Д. Новые данные о Н.Н. Миклухо-Маклае и его родных. С. 181.
(обратно)57
ПМ.Л.401; Л. 13 об.
(обратно)58
Там же. Л. 399.
(обратно)59
Цит. по: Эйгмонтова Р.Г. Идеи просвещения в обновляющейся России (50-60-е годы XIX века). М., 1998. С. 90.
(обратно)60
ПФ АРА Н.Ф. 143. Оп. 1. Д. 2. Л. 4-4 об.
(обратно)61
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 16238. Л. 188.
(обратно)62
ПМ.Л. 390-391; Миклухо-Маклай А.Д. Новые данные… С. 193. Утверждение автора этой статьи о том, что два брата Сергея Семеновича «участвовали в польском восстании, были разжалованы в солдаты и сосланы на Кавказ» (Там же), не подтверждается фактами.
(обратно)63
М.Н. Миклухо-Маклай-младший — И.Ю. Крачковскому, 18 марта 1938 г. // АРГ О.Ф. 6. Оп. 4. Д. 3. Л. 7.
(обратно)64
Комиссаров Б.Н. Ранние годы… С. 135.
(обратно)65
ОПИ ГИ М.Ф. 448. Д. 13. Л. 5—5 об. (копия из университетского архива, полученная Д.Н. Анучиным). См. также: Комиссаров Б.Н. Ранние годы… С. 136-137.
(обратно)66
СС.Т. 5. С. 568.
(обратно)67
Анучин Д.Н. Н.Н. Миклухо-Маклай, его жизнь и путешествия // Миклухо-Маклай Н.Н. Путешествия. Т. 1. М., 1923. С. 24-25.
(обратно)68
Комиссаров Б.Н. Ранние годы… С. 135.
(обратно)69
Само письмо В.В. Миклашевского обнаружить не удалось. Мы излагаем его содержание по краткому пересказу, который содержится в подготовительных материалах к биографии ученого, задуманной его братом Михаилом (О В.Л. 14; ПМ.Л. 406).
(обратно)70
ПФ АРА Н.Ф. 143. Оп. 1. Д. 52. Л. 32.
(обратно)71
Общее дело. 1881. № 51. Дек. С. 13-14.
(обратно)72
Кашкин Ю. В Гейдельбергском университете // Голос минувшего. 1923. № 2. С. 45. Отец автора этих воспоминаний привлекался по делу декабристов, брат был петрашевцем, но сам Ю.С. Кашкин не принимал активного участия в освободительном движении.
(обратно)73
Де-Воллан Г.А. Воспоминания о Гейдельберге // Гейдельбергский сборник (История одного несостоявшегося издания) / Под ред. В. Биркенмайера, М. Ш. Файнштейна. Гейдельберг, 1994. С. 47.
(обратно)74
Сватиков Г. Русские студенты в Гейдельберге // Новый журнал для всех. 1912. №12. С. 72.
(обратно)75
Кашкин Ю. В Гейдельбергском университете. С. 44.
(обратно)76
Де-Воллан Г.А. Воспоминания о Гейдельберге. С. 54-55.
(обратно)77
ПФАРАН.Ф. 143. Оп. 1. Д. 52. Л. 31.
(обратно)78
Там же.
(обратно)79
Там же. Л. 39.
(обратно)80
ОВ.Л. 13об.-14.
(обратно)81
ПФ АРА Н.Ф. 143. Оп. 1. Д. 52. Л. 39. Дата на копии отсутствует, но, судя по содержанию, письмо написано в мае или июне 1864 года.
(обратно)82
Там же. Л. 36.
(обратно)83
Там же. Л. 38.
(обратно)84
СС.Т. 5. С. 14.
(обратно)85
Люце М.Ф. Воспоминания // Гейдельбергский сборник. С. 60.
(обратно)86
ПФ АРА Н.Ф. 143. Оп. 1. Д. 52. Л. 38.
(обратно)87
Там же. Л. 39.
(обратно)88
СС.Т. 5. С. 13.
(обратно)89
Там же.
(обратно)90
Там же. С. 12.
(обратно)91
ПФ АРА Н.Ф. 143. Оп. 1. Д. 52. Л. 34-35, 39.
(обратно)92
См.: Эйгмонтова Р.Г. Идеи просвещения в обновляющейся России (50-60-е годы XIX века). М., 1998. С. 90.
(обратно)93
Universitatsarchiv Leipzig (далее — UL). Matrikel der Universitat 1864/65. Lfd. 45.
(обратно)94
UL. Rep. I/XVI/C/VII. № 26. Bd. 2. Lfd. 132.
(обратно)95
CC. T 5. С 568.
(обратно)96
Gunther J. Jena und die Umgegend. Jena, 1857. S. 1-18; Schmidt S., Elm L., Steiger G. Alma mater Jenensis. Geschichte der Universitat Jena. Weimar, 1983. S. 180-181.
(обратно)97
Haeckel E. Die Radiolarien. Berlin, 1862. S. 232.
(обратно)98
Воронцов Н.Н. Эрнст Геккель и судьбы учения Дарвина // Природа. 1984. №8. С. 77.
(обратно)99
Шаксель Ю.Ю. Геккель как человек и ученый // Природа. 1934. № 4. С. 40—45. К концу XIX века воззрения Геккеля существенно изменились. Он перешел на позиции социал-дарвинизма, а в политике из демократа превратился в восторженного поклонника Бисмарка.
(обратно)100
Universitatsarchiv Jena (далее — UJ). Bestand BA. 1665d. № 39.
(обратно)101
АРГ О.Ф. 6. Оп. 1. Д. 7. Л. 52. Недатированный черновик этого письма обнаружен мной среди записей лекций по анатомии, которые читал профессор Гегенбаур. Письмо, скорее всего, было написано в начале декабря 1865 года в СС (Т. 5. С. 15—16), где впервые был опубликован этот черновик, я ошибочно датировал его февралем 1866 года.
(обратно)102
ПФ АРА Н.Ф. 143. Оп. 1. Д. 40. Л. 43.
(обратно)103
Ernst-Haeckel-Haus (далее — ЕНН). Bestand An 0024. S.p.
(обратно)104
ОПИ ГИ М.Ф. 329. Д. 27. Л. 2 об.
(обратно)105
ЕНН. Bestand An 0024. S.p.
(обратно)106
Uschmann G. Geschichte der Zoologie und der zoologischen Anstalten in Jena. 1779-1919. Jena, 1959. S. 68.
(обратно)107
Александр Александрович Мещерский (1844 —?) принадлежал к одной из ветвей старинного княжеского рода. В 1861 году за участие в студенческих волнениях в Петербургском университете он был арестован и заключен на короткое время в Петропавловскую крепость, о чем сообщил герценовский «Колокол». Александру пришлось отправиться для продолжения образования в Германию, где он учился в Берлинском, Гейдельбергском и Иенском университетах. Вскоре революционный настрой сменился у него умеренно либеральными воззрениями, которых он придерживался и в последующие десятилетия. Мы будем встречаться с Мещерским во многих главах книги.
(обратно)108
UJ. Verzeichniss der Lehrer, Behorden, Beamten und Studierenden. 1865-1868. №80.
(обратно)109
ОПИ ГИ М.Ф. 329. Д. 46, 47.
(обратно)110
Поссе В.А. Пережитое и продуманное. Т. 1. Л., 1933. С. 153, 160—169; Иванов А.Е. Студенческая корпорация России конца XIX—начала XX века: опыт культурной и политической самоорганизации. М., 2004. С. 158—198. А.Е. Иванов исследовал историю студенческих корпораций Дерптского (Юрьевского) университета, копировавших организационную структуру и формы деятельности немецких буршеншафтов.
(обратно)111
М.Н. Миклухо-Маклай-младший — И.Ю. Крачковскому, 28 апреля 1938 г. // АРГ О.Ф. 6. Оп. 4. Д. 3. Л. 7-7 об.
(обратно)112
Аренский П. Путешествия Миклухо-Маклая. 2-е изд. М., 1935. С. 6-7.
(обратно)113
Там же. С. 6.
(обратно)114
СС.Т. 5. С. 15.
(обратно)115
ПФАРАН.Ф. 143. Оп. 1. Д. 41. Л. 43.
(обратно)116
СС.Т. 5. С. 18. Сохранилось девять писем А. Зелигман будущему путешественнику, написанных в период с мая 1867-го по июль 1868 го да. После резкого ответного письма Николая Аугуста отправила ему еще три письма. Похоже, он не реагировал на эти послания. См.: ПФ АРА Н.Ф. 143. Оп. 1. Д. 41. Л. 39-48.
(обратно)117
Там же. Л. 136—136 об. Письмо датировано 14 октября, но год не указан и не ясен из его содержания.
(обратно)118
ОПИ ГИ М.Ф. 329. Д. 26. Л. 296-300 об.; Д. 68. Л. 1-113.
(обратно)119
Там же. Д. 26. Л. 297.
(обратно)120
ПФ АРА Н.Ф. 143. Оп. 1. Д. 55. Л. 9.
(обратно)121
ПМ.Л. 408; М.Н. Миклухо-Маклай-младший — И.Ю. Крачковскому, 18 марта 1938 г. // АРГ О.Ф. 6. Оп. 4. Д. 3. Л. 7 об.
(обратно)122
Brandes G. Impressions of Russia. N.Y., 1966 (Reprinted from the English edition of 1889). При описании лампы мной использованы отдельные де тали, сообщенные Брандесом.
(обратно)123
ЕНН. Bestand An 0024. S.p.
(обратно)124
ЕНН. Bestand A. № 1337. S.p.
(обратно)125
СС.Т. 5. С. 16.
(обратно)126
Цит. по: Wotte Н. Kaaram Tamo. S. 27. Man von Mond. Leben und Reisen Miklucho-Maklais. Leipzig, 1973. S. 27.
(обратно)127
Haeckel E. Eine Besteigung des Pik von Teneriffa // Zeitschrift der Gesell- schaft fur Erdkunde zu Berlin, 1870. Bd. 5. Hf. 1. S. 2.
(обратно)128
См.: Wotte H. Kaaram Tamo. S. 34.
(обратно)129
Назимов Н. Н. Записка о пребывании натуралиста Миклухи-Маклая на корвете «Витязь» и о доставлении его на остров Новая Гвинея в заливе Астролябия / Публ. Б.П. Полевого // С.Э. 1986. № 1. С. 71-81.
(обратно)130
ОВ.Л. 14 об. Михаил, по-видимому, узнал об этом от самого Николая.
(обратно)131
Часть гуанчей была истреблена в XV веке испанскими завоевателями, часть увезена в рабство, остальные, утратив свой язык, смешались с испанскими колонистами.
(обратно)132
Цит. по: Wotte Н Kaaram Tamo. S. 38.
(обратно)133
Haeckel E. Eine zoologische Excursion… S. 317—318.
(обратно)134
ОВ.Л. 14 об.
(обратно)135
ЕНН. Bestand An 0024. S. p.
(обратно)136
CC.T 5.C. 17.
(обратно)137
EHH. Bestand An 0024. S. p. По словам В.А. Поссе, ученика Геккеля в 1890-х годах, профессору постоянно оказывал «особенное покровительство» великий герцог Карл Александр, и это заставляло осторожничать его противников. См.: Поссе В.А. Пережитое и продуманное. Т. 1. С. 152.
(обратно)138
Miklucho-Maclay N. Ueber ein Schwimmblasenrudiment by Selachiern // JZMN. 1867. Bd. 3. Hf. 4. S. 448-456. Перевод: Миклухо-Маклай Н.Н. Собрание сочинений. В 5 т.: Т. 3. Ч. 2. М.; Л., 1952. С. 7-14. Далее труды Миклухо-Маклая, опубликованные на иностранных языках и переведенные на русский, даются в наших примечаниях только в переводе.
(обратно)139
Imperial College of Science and Technology Archives (далее — ICSTA). Vol. 17. Fol. 186.
(обратно)140
ОПИ ГИ М.Ф. 448. Д. 13. Л. 3-4.
(обратно)141
Там же. Л. 1—2. См. также: Лнучин Д. Н. Н.Н. Миклухо-Маклай, его жизнь и путешествия // Миклухо-Маклай Н.Н. Путешествия. Т. 1. М., 1923. С. 23.
(обратно)142
См. об этом: Бриккер Л. Э. Наш земляк — Н.Н. Миклухо-Маклай. Окуловка, 2005. С. 12-13.
(обратно)143
Версия Штендмана, приведенная в 1923 году в статье Д.Н. Анучина, была в 1938 году воспроизведена без ссылки на источник в книге Н.В. Водовозова, который утверждал, что церковная запись гласила: «Миклуха, Маклай, 5 июля 1846 г.». См.: Водовозов Н. Миклуха-Маклай. М., 1938. С. 3.
(обратно)144
Боровичский краеведческий музей (далее — БКМ). Ф. 57. Д. 184. Л. 9-9 об. Выражаю признательность историку и краеведу Л.Э. Бриккеру, ознакомившему меня с перепиской между С.Н. Поршняковым и ленинградскими племянниками Н.Н. Миклухо-Маклая.
(обратно)145
Бутинов Н. А. Н.Н. Миклухо-Маклай (Биографический очерк)// Миклухо-Маклай Н.Н. Собрание сочинений. В 5 т.: Т. 4. М.; Л., 1953. С. 486.
(обратно)146
БК М.Ф. 57. Д. 184. Л. 9 об.
(обратно)147
См.: Российский государственный архив Военно-морского флота (далее — РГА ВМФ). Ф. 406. Оп. 3. Д. 57; Ф. 417. Оп. 5. Д. 1508, 4331; Н. Вечеслов — А. Новикову-Прибою, 24 мая 1940 г. // Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (далее — ОР РНБ). Ф. 524. Оп. 3. Д. 30. Л. 2-3.
(обратно)148
Бутинов Н.А. Николай Миклуха и Эрнст Геккель // Маклаевские чтения (1998-2000). СПб., 2001. С. 5. Н.А. Бутинов ошибочно считал, что «удвоение» фамилии произошло после 1868 года (Там же).
(обратно)149
ЕНН. Bestand An 0024. S. p.
(обратно)150
Haeckel E. Eine zoologische Excursion… S. 313.
(обратно)151
Анучин Д.Н. Н.Н. Миклухо-Маклай, его жизнь и путешествия. С. 24.
(обратно)152
III. Einnahme manuale <…> G/Abt. I/. N 181-182.
(обратно)153
Миклухо-Маклай Н.Н. Собрание сочинений. В 5 т.: Т. 3. Ч. 2. М., 1952. С. 33.
(обратно)154
См.: Н.Н. Миклухо-Маклай — К.М. Бэру, сентябрь 1870 г. // СС.Т. 5. С. 62; Gegenbaur С. Grundzüge der vergleichenden Anatomic Leipzig, 1870. S. 724.
(обратно)155
ПФАРАН.Ф. 143. On. 1.Д. 52.Л.46.
(обратно)156
АРГ О.Ф. 6. On. 1. Д. 85. Л. 1-6.
(обратно)157
ОПИ ГИ М.Ф. 329. Д. 50. Л. 13.
(обратно)158
См.: Тумаркин Д.Д. Материалы по отечественной истории и куль туре XIX в. в архивном фонде князя А.А. Мещерского // Отечественная история. 2006. № 1. С. 169-172.
(обратно)159
ОПИ ГИ М.Ф. 329. Д. 51. Л. 35.
(обратно)160
Там же. Д. 49. Л. 37-49.
(обратно)161
См., например: ОПИ ГИ М.Ф. 329. Д. 26. Л. 37.
(обратно)162
СС.Т. 5. С. 33.
(обратно)163
ПФ АРА Н.Ф. 143. Оп. 1. Д. 41. Л. 1. Впервые письмо Норденшельда опубликовал В.М. Пасецкий, который ошибочно утверждал, что Миклухо-Маклай находился тогда в Петербурге. См.: Пасецкий В.М. Нильс Адольф Эрик Норденшельд. 1832-1901. М., 1979. С. 46-47. Иную версию излагает X. Вотте. Он сообщает без ссылки на источник, будто Миклухо-Маклай обратился со своей просьбой к Норденшельду, посетив его в Стокгольме. «Атлетически сложенный швед с взъерошенными усами разглядывает через пенсне узкогрудого молодого человека: преисполнен добрых намерений, самоуверен, но не имеет ни малейшего опыта пребывания в Арктике и слишком тщедушен для полярного морехода. Норденшельд ему отказывает» (Wotte H. Kaaram Tamo. S. 44). Хорошо написано, но не согласуется с фактами.
(обратно)164
СС.Т.5.С20.
(обратно)165
Там же.
(обратно)166
Там же. С. 21.
(обратно)167
Там же. С. 22.
(обратно)168
СС.Т. 5. С. 22-23.
(обратно)169
Там же. С. 24.
(обратно)170
Цит. по: Wotte H. Kaaram Tamo. S. 53.
(обратно)171
Archivio della Stazione Zoologica di Napoli (далее — ASZN). Ba 1241. S.f.
(обратно)172
Dr. H. E. Die Einweihung der Zoologischen Station in Neapel // Preussische Jahrbücher. 1875. Bd. 35. Hf. 5. S. 542-556. Статья написана самим Дорном. Станция приняла первых исследователей в октябре 1873 года; аквариум был открыт для публики в январе 1874-го, а торжественное открытие лабораторий состоялось в апреле 1875 года.
(обратно)173
Миклухо-Маклай Н.Н. Собрание сочинений. В 5 т. М., 1952. Т. 3. 4.2. С. 123-125.
(обратно)174
СС.Т. 5. С. 25.
(обратно)175
Миклухо-Маклай Н.Н. Заметки о фауне губок Красного моря // СС.Т. 4. С. 128, 130.
(обратно)176
СС.Т. 5. С. 23-24.
(обратно)177
Там же. С. 25-26.
(обратно)178
Там же. С. 28.
(обратно)179
Там же. С. 27.
(обратно)180
Там же. С. 28-29.
(обратно)181
Миклухо-Маклай Н.Н. О путешествии по берегам Красного моря // СС.Т. 4. С. 244.
(обратно)182
Воробьев Н.Н. Н.Н. Миклухо-Маклай и арабский мир: становление ученого (1866-1869) // Человек из легенды. К 150-летию со дня рождения Н.Н. Миклухо-Маклая. М., 1997. С. 13—14. К сожалению, автор этой статьи принял на веру недостоверные подробности, которые содержатся в од ной из научно-популярных биографий «белого папуаса» {Колесников М. Миклухо-Маклай. М., 1965. С. 67-68).
(обратно)183
ПМ.Л.412.
(обратно)184
СС.Т. 5. С. 29-30.
(обратно)185
Там же. С. 34.
(обратно)186
Тамже. С.31.
(обратно)187
Миклухо-Маклай Н.Н. Зоологическая экскурсия на Красное море // СС.Т. 4. С. 204.
(обратно)188
Тамже.Т.5.С31.
(обратно)189
Там же. С. 34.
(обратно)190
[Миклухо-Маклай Н.Н] О путешествии по берегам Красного моря // СС.Т. 4. С. 244.
(обратно)191
Там же. С. 246.
(обратно)192
Там же. С. 248.
(обратно)193
Там же. С. 249.
(обратно)194
Там же. С. 249-250.
(обратно)195
СС.Т. 5. С. 35.
(обратно)196
Там же. С. 36.
(обратно)197
Там же. С. 32.
(обратно)198
Там же. С. 31.
(обратно)199
Там же. С. 33. Вторая немецкая полярная экспедиция была снаряжена в 1869 году на двух судах — «Германии» и «Ганзе». Суда потеряли друг друга в густом тумане и более не встречались. «Германия» внесла большой вклад в изучение восточного побережья Гренландии. Что же касается «Ганзы», то она была затерта и раздавлена льдами, и ее команда совершила вынужденный 200-дневный дрейф на льдине, закончившийся высадкой у эскимосского поселка на южной оконечности Гренландии.
(обратно)200
Verlagsarchiv der Geographisch-Kartographischen Anstalt Hermann Haack (далее — VGKA). Petermann-Brierwechsel. Bl. 3. Письмо Миклухо-Маклая из Александрии и черновик (отпуск) ответа Петермана мне удалось обнаружить в архивном фонде последнего в Готе. Они впервые опубликованы в СС (Т. 5. С. 33, 585), причем второе напечатано с мелкими неточностями.
(обратно)201
СС.Т. 5. С. 36.
(обратно)202
Аренский П. Путешествия Миклухо-Маклая. С. 8. Про это «чудачество» Николая, как и про мистификацию, якобы устроенную им в Ива нов день в Йене, Аренскому рассказал биолог Н.Ю. Зограф, который мог услышать эти фольклорные истории в московских салонах.
(обратно)203
СС.Т. 5. С. 36, 38.
(обратно)204
Там же. С. 37.
(обратно)205
Там же. С. 39.
(обратно)206
Там же. С. 36.
(обратно)207
Там же. С. 38-39.
(обратно)208
Там же. 4.1. С. 347.
(обратно)209
Там же. С. 66.
(обратно)210
Второй съезд русских естествоиспытателей в Москве <…> Протоколы заседаний. М., 1869. С. 3.
(обратно)211
Труды Второго съезда… Ч. 1. С. XLV.
(обратно)212
Описание мозга химеры, доложенное на конгрессе, в основном повторяет маленькое сообщение, которое Миклухо-Маклай послал Гегенбауру из Мессины в начале 1869 года. Как уже упоминалось, это со общение было опубликовано в 1870 году в «Йенском журнале медицины и естествознания».
(обратно)213
Труды Второго съезда… Ч. 2. С. X.
(обратно)214
Там же.
(обратно)215
Санкт-Петербургские ведомости. 1869. 19 (31) октября. С. 2.
(обратно)216
Там же.
(обратно)217
Протоколы. Ч. 2. С. XXIV
(обратно)218
Зоологическая (морская биологическая) станция была открыта в Севастополе уже в 1871 году. Она разместилась на Приморском бульваре в специально выстроенном красивом здании, в первом этаже которого был устроен большой аквариум, плата за осмотр которого служила одним из источников ее финансирования. До конца своих дней Миклухо-Маклаю ни разу не довелось посетить эту станцию. Но ее сотрудники и ведущие отечественные морские биологи не забыли, кто первым выдвинул идею создания такого научно-исследовательского учреждения. В 1971 году, когда отмечалось столетие станции, у входа в ее здание был установлен бюст Миклухо-Маклая.
(обратно)219
Семенов П.П. История полувековой деятельности Императорского Русского географического общества. 1845-1895. СПб., 1896. Ч. 1. С. XXI.
(обратно)220
Цит. по: Берг Л.С. Всесоюзное географическое общество за сто лет. М.; Л., 1946. С. 73. О П.П. Семенове см. также: Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский. Сборник статей по поводу столетнего дня его рождения. Л., 1923; Алдансеменов А. Семенов-Тян-Шанский. М., 1965.
(обратно)221
Цит. по: Райков Б.Е. Русские биологи-дарвинисты до Дарвина. Т. 4. М.; Л., 1959. С. 62.
(обратно)222
РГАДА- Ф. 1385. Оп. 1. Д. 1575. Л. 50. Письмо не датировано.
(обратно)223
Там же. Л. 54.
(обратно)224
[Миклухо-Маклай Н.Н.] О путешествии по берегам Красного моря // СС.Т. 4. С. 243.
(обратно)225
РГАД А.Ф. 1385. Оп. 1.Д. 1575. Л. 54 об.
(обратно)226
Кропоткин П. Записки революционера. М., 1920. С. 177.
(обратно)227
Известия Императорского Русского географического общества (далее — ИРГО). 1869. Т. 5. № 8. Отд. 1. С. 298-299. Мы цитируем проект Миклухо-Маклая по протоколу заседания совета РГО, состоявшегося 28 октября (9 ноября) 1869 года. Сохранился черновик первоначального варианта проекта, датированный 27 сентября (9 октября), который несколько отличается от зачитанного на заседании совета РГО (СС.Т. 5. С. 41-43).
(обратно)228
ИРГО. 1869. Т. 5. № 8. Отд. 1. С. 299.
(обратно)229
СС.Т. 5. С. 42.
(обратно)230
ПФ АРА Н.Ф. 143. Оп. 1. Д. 40. Л. 56.
(обратно)231
Цит. по: История Русской Америки. Т. 3: Русская Америка от зенита к закату. 1825-1867 / Под ред. Н.Н. Болховитинова. М., 1999. С. 342.
(обратно)232
ПФ АРА Н.Ф. 143. Оп. 1. Д. 40. Л. 55.
(обратно)233
ИРГО. 1869. Т. 5. № 8. Отд. 1. С. 299.
(обратно)234
РГАД А.Ф. 1385. Оп. 1. Д. 1575. Л. 54 об. Мной использован черновик воспоминаний Остен-Сакена, написанных для Д.Н. Анучина. Последний использовал в своей статье присланный ему беловик, который в этом месте отличается от черновика более уважительным отношением к Литке и Миклухо-Маклаю. В беловике, в частности, говорится: «Пришлось мне изумиться дипломатическому искусству Миклухи, который весьма ловко распространился насчет давнишних физико-географических и этнографических исследований старого адмирала в Тихом океане и по его берегам, вследствие чего адмирал, казалось, отрешился на время от своей обычной сухости и подозрительности ко всем первым проявлениям таланта и самостоятельности» (Лнучин Д.Н. Н.Н. Миклухо-Маклай. Его жизнь и путешествия // Миклухо-Маклай Н.Н. Путешествия. Т. 1. М., 1923. С. 29). Следует учитывать, что в старости Остен-Сакен изменил свое мнение о Миклухо-Маклае и его деятельности. При подготовке книги не удалось отыскать беловой вариант воспоминаний Остен-Сакена.
(обратно)235
ПФАРАН.Ф. 143. Оп. 1. Д. 40. Л. 57.
(обратно)236
ИРГО. 1869. Т. 5. № 8. Огд. 1. С. 297-300. См. также: ПФ АРА Н.Ф. 143. Оп. 1. Д. 40. Л. 58. 20 ноября (2 декабря) 1869 года состоялось обсуждение проекта Миклухо-Маклая на заседании отделения физической географии РГО. П.П. Семенов, изложив суть проекта, снова указал на его актуальность и связь с проблематикой отделения физической географии РГО. Учитывая дальность путешествия, отделение решило, что будет справедливым «назначить ему до 1200 р. пособия» и постановило «войти об этом с представлением в Совет» (ИРГО. 1870. Т. 6. № 1. Отд. 1. С. 18-19).
(обратно)237
Миклухо-Маклай Н.Н. Собрание сочинений. В 5 т.: Т. 3. М.; Л., 1953. С. 33-123.
(обратно)238
Там же. С. 120.
(обратно)239
Пузанов П.И. Н.Н. Миклухо-Маклай как натуралист и путешественник // Там же. С. 420.
(обратно)240
ОВ.Л. 15.
(обратно)241
Petermann A. Neu-Guinea. Deutsche Rufe von den Antipoden // Peter- mann'sGeographische Mittheilungen. 1869. Hf. 11. S. 405—406. Антиподы — здесь люди, находящиеся на противоположной стороне земного шара. Миклухо-Маклай, несомненно, читал эту статью, но лишь однажды со слался на приложенную к ней карту. См.: СС.Т. 3. С. 7.
(обратно)242
ПФ АРА Н.Ф. 143. Оп. 1. Д. 40. Л. 64. Это письмо, отправленное 16 февраля 1870 года, к сожалению, не сохранилось и цитируется по ответному письму Остен-Сакена от 2 марта.
(обратно)243
СС.Т. 5. С. 46.
(обратно)244
АРГ О.Ф. 1-1869. Оп. 1. Д. 19. Л. 18-19. Некоторые документы о подготовке экспедиции Миклухо-Маклая были впервые опубликованы в 1872 года Б.А. Вальской. См.: Вольская Б.А. Неопубликованные материалы о подготовке экспедиции Н.Н. Миклухо-Маклая на Новую Гвинею в 1871 году и о плавании корвета «Скобелев» к этому острову в 1883 году // Страны и народы Востока. Вып. 13. М., 1972. Первоначально предполагалось отправить Миклухо-Маклая на клипере, уходящем в Тихий океан. Но потом решили, что ученый будет испытывать неудобства на этом маленьком судне, имеющем лишь одну каюту.
(обратно)245
Петерман приветствовал и популяризировал географические открытия и исследования, совершаемые путешественниками и учеными разных стран. Но больше всего он заботился о развитии немецкой географической науки и осторожно готовил почву для активной колониальной политики рождавшейся в те годы Германской империи. Характерны в этом отношении его контакты с орнитологом и этнографом Отто Финшем (1839 — 1917), тогда директором естественно-исторического и этнографического музея в Бремене, который опубликовал в 1865 году книгу «Новая Гвинея и ее обитатели» — обобщение скудных сведений о неисследованном острове. В ноябре 1869 года Петерман послал Финшу свою статью, сопроводив ее откровенным письмом: «Что Вы думаете об экспедиции на Новую Гвинею? Наконец пришла пора этого острова». В конце 1870-х -начале 1880-х годов Финш совершил большое путешествие по островам Океании, посетив юго-восточное побережье Новой Гвинеи. Как мы увидим ниже, Финш вошел в доверие к Миклухо-Маклаю, обманул русского ученого и в 1884 году руководил германской аннексией северо-востока Новой Гвинеи, включая Берег Маклая.
(обратно)246
СС.Т. 5. С. 45.
(обратно)247
ОПИ'ГЙ М.Ф. 329. Д. 68. Л. 12 об.
(обратно)248
См.: Uschmann G. Geschichte der Zoologie und der zoologischen Anstalten in Jena 1779-1919. Jena, 1959. S. 114; Wotte H. Kaaram Tamo, Mann vom Mond. Leben und Reisen Miklucho-Maklais. Leipzig, 1973. S. 52—55.
(обратно)249
CC.T 5. С 31, 37.
(обратно)250
Время излечивает обиды и предрассудки. 30 июня 1908 года престарелый йенский профессор сообщил Д.Н. Анучину, что собирается включить «интересные воспоминания о моем в высшей степени талантливом и незаурядном ученике Николае Миклухо-Маклае» в задуманные мемуары. Эти мемуары так и не были написаны, но в феврале 1919 года, за три месяца до смерти, 85-летний профессор с теплотой вспоминал свое путешествие на Канарские острова, упомянув из спутников только Миклухо-Маклая.
(обратно)251
ПФ АРА Н.Ф. 143. On. 1. Д. 41. Л. 21-22.
(обратно)252
CC. T. 5. C. 44, 46.
(обратно)253
Там же. Т. 5. С. 54.
(обратно)254
Там же.
(обратно)255
Там же. С. 51.
(обратно)256
Там же. С. 52.
(обратно)257
См.: Свет Я.М. История открытия и исследования Австралии и Океании. М., 1966. С. 274.
(обратно)258
ICSTA. Huxley Papers. Vol. 13. F. 176.
(обратно)259
См.: Stocking G. W. Victorian Anthropology. N.Y.; L., 1987. P. 248-252. К концу 1860-х годов Лондонское антропологическое общество пришло в упадок. По инициативе Хаксли вместо двух конкурирующих обществ был создан Антропологический институт Великобритании и Ирландии. Хаксли, ставший в 1870 году президентом Британской ассоциации по поощрению развития науки, отказался возглавить новый институт и добился, чтобы его президентом был избран археолог и этнолог-эволюционист Дж. Лёббок (Ibid. P. 150-156, 256-257).
(обратно)260
СС.Т. 5. С. 53.
(обратно)261
Там же. С. 51.
(обратно)262
После смерти ученого его младший брат получил из Йены его вещи — «письма, записки по лекциям, а также несколько книг. Среди этих книг мне бросился в глаза роман "Что делать?" Чернышевского» (ПМ.Л. 404). Рукописи и корректуры статей с многочисленными иллюстрациями попали к А.А. Мещерскому и теперь хранятся в его архивном фонде в ОПИ ГИМ (Ф. 329. Д. 26).
(обратно)263
СС.Т. 5. С. 55.
(обратно)264
См. об этом комментарии: СС.Т. 3. С. 350-351.
(обратно)265
Миклухо-Маклай Н.Н. Почему я выбрал Новую Гвинею полем моих исследований // СС.Т. 3. С. 8.
(обратно)266
Семенов П.П. История полувековой деятельности… Ч. 2. С. 923.
(обратно)267
BaerK. E. von. Ueber Papuas und Alfuren // Memoirs de l'Academie Im perial des Sciences de St. Peterbourg. Sixieme Serie. Sciences Naturelles. 1859. N. 8. S. 339.
(обратно)268
Миклухо-Маклай Н.Н. Антропологические заметки о папуасах Берега Маклая на Новой Гвинее // СС.Т. 3. С. 10.
(обратно)269
Bericht uber Zusammenkunft einiger Anthropologen im September 1861 in Godttingen, zum Zwecke gemeinsamer Besprechungen, erstatted von К.Е. Baer und Rud. Wagner. Leipzig, 1861. S. 24.
(обратно)270
См. подробнее: Левин М.Г. Очерки по истории антропологии в России. М., 1960. С. 37; Lienchardt G. Social Anthropology. London, 1966. P. 6-9.
(обратно)271
Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений. Т. 4. М., 1948. С.476.
(обратно)272
См.: Кондратьев Л. Адрес — Лемурия? Л., 1978. Современные исследования дна Индийского океана опровергли эту гипотезу.
(обратно)273
Миклухо-Маклай Н.Н. Почему я выбрал Новую Гвинею полем моих исследований // СС.Т. 3. С. 8.
(обратно)274
ПФАРАН.Ф. 143. Оп. 1. Д. 40. Л. 82.
(обратно)275
АРГ О.Ф. 6. Оп. 2. Д. 28. Л. 1-5 об.
(обратно)276
Там же. Л. 1 об.
(обратно)277
Там же. Л. 4.
(обратно)278
Там же.
(обратно)279
Там же. Л. Зоб., 5 об.
(обратно)280
Там же. Л. 6—6 об.
(обратно)281
Барон Николай Васильевич Каульбарс (1844-1905) окончил училище гвардейских юнкеров и Николаевскую академию Генерального штаба. В 1870-х годах он специализировался в основном по Балканам, где выполнял как официальные, так и конфиденциальные поручения. В 1881-1886 годах был военным атташе в Вене, которая превратилась при нем в один из важных центров русской разведки в Европе. Многие годы он занимался изучением армий западноевропейских государств.
(обратно)282
АРГ О.Ф. 6. Оп. 2. Д. 28. Л. 5.
(обратно)283
СС.Т. 5. С. 60.
(обратно)284
ПФ АРА Н.Ф. 143. Оп. 1. Д. 40. Л. 13-13 об.
(обратно)285
СС.Т. 5. С. 69.
(обратно)286
Там же. С. 63.
(обратно)287
Парусновинтовой девятипушечный корвет «Витязь» водоизмещением в 2156 тонн был построен в 1861 году на верфи финского города Або. В 1863 году, в разгар Гражданской войны в США, «Витязь» в составе русской эскадры совершил знаменитый переход из Балтики в Нью-Йорк, воспринятый во всем мире как демонстрация поддержки северян. В сентябре 1870 года экипаж корвета состоял из 16 офицеров, 12 гардемарин и кондукторов, врача, священника, 304 нижних чинов и 6 юнг. В 1882 году «Витязь» был переименован в «Скобелев». В следующем году именно на этом судне Миклухо-Маклай в третий раз посетил северо-восточную Новую Гвинею. В 1886 году со стапелей был спущен новый корвет, названный «Витязем»; он был специально приспособлен для океанографических исследований. Известный мореплаватель С.О. Макаров, впоследствии адмирал, в 1886 — 1889 годах совершил на нем кругосветное плавание, в ходе которого основательно изучил температурный режим и течения в северной части Тихого океана. В 1949 году экспедиционный флот Академии наук СССР пополнился «Витязем» нового поколения — научно-исследовательским судном, которое на протяжении нескольких десятилетий бороздило просторы Тихого океана. Превращенный в 1994 году в океанографический музей, этот корабль пришвартован теперь в порту Калининграда.
(обратно)288
СС.Т. 5. С. 62.
(обратно)289
Там же. С. 63.
(обратно)290
АРГ О.Ф. 6. Оп. 2. Д. 28. Л. 17.
(обратно)291
См.: Кони А.Ф. Очерки и воспоминания. СПб., 1906. С. 460.
(обратно)292
СС.Т. 5. С. 63—64.
(обратно)293
ОПИГЙ М.Ф. 329. Д. 26. Л. 18.
(обратно)294
ПФ АРА Н.Ф. 143. Оп. 1. Д. 39. Л. 48-48 об. Автор книги опубликовал этот текст в пятом томе собрания сочинений Миклухо-Маклая (с. 61) с вынужденными купюрами из-за аварийного состояния рукописи. Особенно плохо сохранился последний абзац, в котором читаются, да и то предположительно, лишь отдельные слова. Среди многочисленных посетителей Ораниенбаума, похоже, упоминается цесаревич — будущий царь Александр III.
(обратно)295
СС.Т. 5. С. 65.
(обратно)296
ПМ.Л. 339.
(обратно)297
ОВ.Л. 15.
(обратно)298
АРГ О.Ф. 6. Оп. 1. Д. 72. Л. 25. При публикации этого текста эротическое воспоминание было опущено составителем тома Б.Н. Путиловым со следующей оговоркой: «Здесь мы выпускаем фразу, связанную с интимным воспоминанием Миклухо-Маклая, навеянным зрелищем танца» (СС.Т. 1.С. 369).
(обратно)299
См.: ПФ АРА Н.Ф. 143. Оп. 1. Д. 37. Л. 49-50 об.
(обратно)300
Миклухо-Маклай Н.Я. Программа предполагаемых исследований во время путешествия на острова и прибрежья Тихого океана // СС.Т. 3. С. 296.
(обратно)301
Там же.
(обратно)302
РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Д. 1575. Л. 55 об.
(обратно)303
Миклухо-Маклай Н.Н. Программа предполагаемых исследований… С. 297.
(обратно)304
Там же. С. 307-308.
(обратно)305
РГАД А.Ф. 1385. Оп. 1. Д. 1575. Л. 55 об.
(обратно)306
АРГ О.Ф. 1-1869. Оп. 1.Д. 19. Л. 26-27.
(обратно)307
Там же. Л. 27. Оригинал паспорта хранится в архивном фонде ученого, находящемся в Митчелловской библиотеке в Сиднее (ML. A 2889. F. 1-3).
(обратно)308
Кронштадтский вестник. 1870. 18 (30) октября.
(обратно)309
Там же.
(обратно)310
Назимов П.Н. Записка о пребывании натуралиста Миклухи-Маклая на корвете «Витязь» и о доставлении его на остров Новая Гвинея в заливе Астролябия / Публикация Б.П. Полевого // С.Э. 1986. № 1. С. 74.
(обратно)311
Миклухо-Маклай Н.Н. Первое пребывание на Берегу Маклая в Новой Гвинее // СС.Т. 1. Примеч. на с. 88.
(обратно)312
ОПИ ГИ М.Ф. 329. Д.26. Л. 290.
(обратно)313
СС.Т. 5. С. 69.
(обратно)314
Гончаров И.А. Фрегат «Паллада». Л., 1986. С. 14. Книга впервые увидела свет в 1858 году и с тех пор неоднократно переиздавалась.
(обратно)315
Там же. С. 618. Письмо Языковым, ноябрь 1852 года.
(обратно)316
СС.Т. 5. С. 79. Судя по письмам ученого из Чили и Самоа, он при подготовке своих сообщений для РГО черпал материал как из дневника, так и из записных книжек (Т. 5. С. 87—88, 91). Однако дневник этот не сохранился или, во всяком случае, не обнаружен.
(обратно)317
«Во время стоянки корвета в Копенгагене, — говорится в «Записке», — господин Миклуха-Маклай имел время посетить многих датских ученых, которые, сочувствуя смелым его предприятиям, распространили в газетах новость о присутствии на копенгагенском рейде русского корвета "Витязь", который имеет назначение отправиться к малоизвестным берегам Новой Гвинеи для доставки туда русского натуралиста Миклухи-Маклая, имеющего целью проникнуть внутрь этой неведомой страны. <…> Наш посланник в Голландии Кноринг (так в тексте. — Д. Т.) много содействовал Миклухе-Маклаю, взяв на себя труд рекомендовать его министру колоний. Министр снабдил Миклуху голландскими картами тех стран и письмами к батавскому губернатору (генерал-губернатору Нидерландской Индии. — Д. Т.), в котором просил оказывать ему всевозможное содействие».
(обратно)318
СС.Т. 5. С. 72.
(обратно)319
Там же. С. 71.
(обратно)320
VGKA. Petermanns-Briefwechsel. B1. 18.
(обратно)321
Wallace A. R. My Life. A Record of Events and Opinions. London, 1905. Vol. 2. P. 35.
(обратно)322
Малиновский Б. Избранное. М., 2004. С. 467.
(обратно)323
Миклухо-Маклай Н.Н. Острова Рапа-Нуи… С. 64.
(обратно)324
Дарвин Ч. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль» / Пер., вступ. ст. и прим. С.Л. Соболя. М., 1953. С. 532.
(обратно)325
Назимов Н. Н. Записка о пребывании… С. 75.
(обратно)326
Там же. С. 76.
(обратно)327
АРГО.Ф.6.0п. 1.Д.23.Л. 18 об.
(обратно)328
Там же.
(обратно)329
РГА ВМ Ф.Ф. 410. Оп. 2. Д. 3068. Л. 357-361.
(обратно)330
Там же.
(обратно)331
Гончаров И.А. Фрегат «Паллада». С. 85.
(обратно)332
РГА ВМ Ф.Ф. 410. Оп. 2. Д. 3068. Л. 391-395.
(обратно)333
Кролевецкий Ф.К. Медицинский корабельный журнал корвета «Витязь» в кампанию 1870-1874 годов // Медицинские прибавления к Морскому сборнику. Вып. 17. СПб., 1878. С. 177.
(обратно)334
СС.Т. 5. С. 78.
(обратно)335
Назимов П.Н. Записка о пребывании… С. 76. См. рисунок палатки, поставленной на берегу бухты Порто-Гранде, и несколько портретов местных жителей (СС.Т. 6. Ч. 2. С. 363—366).
(обратно)336
РГА ВМ Ф.Ф. 410. Оп. 2. Д. 3068. Л. 399.
(обратно)337
Миклухо-Маклай Н. Н Об исследовании температуры глубин океана// СС.Т. 4. С. 223-229.
(обратно)338
Там же. С. 229.
(обратно)339
Назимов П. Н. Записка о пребывании… С. 76.
(обратно)340
Там же.
(обратно)341
Там же.
(обратно)342
Миклухо-Маклай Н.Н. <Южная Америка> // СС.Т. 1. С. 37.
(обратно)343
Там же.
(обратно)344
СС.Т. 5. С. 83.
(обратно)345
Там же.
(обратно)346
Назимов П.Н. Записка о пребывании… С. 76.
(обратно)347
РГА ВМ Ф.Ф. 410. Оп. 2. Д. 3063. Л. 504-505.
(обратно)348
Миклухо-Маклай Н.Н. < Южная Америка> С. 57.
(обратно)349
См.: Там же. С. 48-49, 56-57.
(обратно)350
Кролевецкий Ф. К Медицинский корабельный журнал… С. 181.
(обратно)351
СС.Т. 5. С. 81 — 82. К письму Остен-Сакену от 7 апреля 1871 года была приложена переписанная набело рукопись статьи «Об исследовании температуры глубин океана», которая вскоре была напечатана в ИРГО.
(обратно)352
Там же. С. 84.
(обратно)353
Записная книжка № 2 «Amerika (Februar-Mai 1871)» // АРГО .Ф. 6. Оп. 1. Д. 23. Л. 7а. Пер. с нем.
(обратно)354
Записная книжка № 2. Л. 20-20 об.
(обратно)355
СС.Т. 5. С. 84.
(обратно)356
Назимов П.Н. Записка о пребывании… С. 77.
(обратно)357
Кролевецкий Ф. К Медицинский корабельный журнал… С. 184.
(обратно)358
Назимов П.Н. Записка о пребывании… С. 77.
(обратно)359
СС.Т. 5. С. 84-85.
(обратно)360
Там же. С. 85.
(обратно)361
См.: Грицкевич В.П. Народный герой Чили // Путешествия наших земляков. Минск, 1968. С. 96—119; Он же. Геолог, минералог и этнограф Игнатий Домейко // ИРГО. 1981. Т. 113. Вып. 5. С. 447-451.
(обратно)362
Назимов П. Н Записка о пребывании… С. 77.
(обратно)363
Миклухо-Маклай Н.Н. Острова Рапа-Нуи… С. 65.
(обратно)364
СС.Т. 5. С. 92.
(обратно)365
Там же. С. 85.
(обратно)366
ПФАРАН.Ф. 143. Оп. 1.Д. 14. Л. 10.
(обратно)367
РГА ВМ Ф.Ф. 410. Оп. 2. Д. 3063. Л. 400.
(обратно)368
Там же. Л. 401-401 об.
(обратно)369
СС.Т. 5. С. 87.
(обратно)370
Там же. С. 86.
(обратно)371
Кролевецкий Ф. К Медицинский корабельный журнал… С. 185.
(обратно)372
Назимов П. Н Записка о пребывании… С. 77.
(обратно)373
СС.Т. 5. С. 92.
(обратно)374
См.: ТумаркинД. Д., Федорова И.К. Н.Н. Миклухо-Маклай и остров Пасхи // С.Э. 1990. С. 93—94. И.К. Федорова, посвятившая многие годы изучению языка и культуры рапануйцев, в нескольких работах утверждала, что миссионер Э. Эйро, первым из европейцев обнаруживший в 1864 году дощечки с «языческими» письменами, настоял на том, чтобы они были преданы огню. Однако в 2004 году И.К. Федорова выпустила книгу «Миссионеры острова Пасхи», в которой не только полностью оправдала Эйро (с чем можно во многом согласиться), но и представила в розовом свете всю деятельность католических патеров на острове Рапануи. Но факты остаются фактами. Помощник миссионеров с гордостью доносил в 1868 году епископу на Таити, что пасхальцы теперь растапливают кухонные очаги древними дощечками ронго-ронго. Один из рапануйцев, не желая попусту жечь драгоценное дерево, сколотил из некогда священных дощечек лодку. См.: Thomson W. J. Те Pito te Henua, or Easter Island. Washington, 1889. P. 514; Хейердал Т. Искусство острова Пасхи. М., 1982. С. 30.
(обратно)375
Миклухо-Маклай Н.Н. Острова Рапа-Нуи… С. 58—59.
(обратно)376
Там же. С. 59.
(обратно)377
Там же. С. 60.
(обратно)378
Там же. С. 70.
(обратно)379
Там же. С. 72.
(обратно)380
См.: СС.Т. 1. С. 69-73; Т. 6. Ч. 1. С. 142-144, 312-313.
(обратно)381
Записная книжка № 2. Л. 37 об.
(обратно)382
Назимов П.Н. Записка о пребывании… С. 77.
(обратно)383
ПФ АРА Н.Ф. 143. Оп. 1. Д. 9.
(обратно)384
Записная книжка № 3. Л. 25-27.
(обратно)385
Перелешин В.П. Путевые впечатления… С. 26—27. Laisser alter— все дозволенность (фр.).
(обратно)386
В нашей книге нет возможности рассказать об исследованиях в области рапануистики, проведенных тремя поколениями сотрудников МАЭ. Такие сведения, в том числе библиография, содержатся в двух обобщающих трудах: Федорова И.К. Остров Пасхи. Очерки культуры XVIII—XIX вв. СПб., 1993; Она же. «Говорящие дощечки» с острова Пасхи. Дешифровка, чтение, перевод. СПб., 2001. Вместе с тем представляется, что, несмотря на большие успехи в расшифровке кохау ронгоронго, эту проблему еще нельзя считать решенной.
(обратно)387
Назимов П. Н Записка о пребывании… С. 78.
(обратно)388
Там же.
(обратно)389
СС.Т. 5. С. 90.
(обратно)390
Там же. С. 91.
(обратно)391
Перелешин В.П. Путевые впечатления… С. 30.
(обратно)392
Записная книжка № 3. Л. 34—46.
(обратно)393
Назимов П.Н. Записка о пребывании… С. 78.
(обратно)394
Перелешин В.П. Путевые впечатления… С. 36.
(обратно)395
Там же. С. 37-38.
(обратно)396
Назимов П. Н. Записка о пребывании… С. 87-88.
(обратно)397
Миклухо-Маклай Н.Н. Об измерении температур глубин океана // СС. Т. 4. С. 235-236.
(обратно)398
СС.Т. 5. С. 91.
(обратно)399
РГА ВМ Ф.Ф. 410. Оп. 2. Д. 3207. Л. 14.
(обратно)400
Кролевецкий Ф.К. Медицинский корабельный журнал… С. 196.
(обратно)401
Перелешин В.П. Путевые впечатления… С. 40-41.
(обратно)402
См.: СС.Т. 1. С. 81,458; Т. 2. С. 106, 129; Т. 3. С. 13, 18, 22, 24.
(обратно)403
Бугенвиль Л.А. Кругосветное путешествие на фрегате «Будёз» и транспорте «Этуаль» в 1766, 1767, 1768 и 1769 гг. М., 1961. С. 227.
(обратно)404
Назимов П. Н Записка о пребывании натуралиста Миклухи-Маклая на корвете «Витязь» и о доставлении его на остров Новая Гвинея в заливе Астролябия // С.Э. 1986. № 1. С. 78.
(обратно)405
Миклухо-Маклай Н. Н Первое пребывание на Берегу Маклая в Но вой Гвинее (от сент. 1871 г. по дек. 1872 г.) // СС.Т. 1. С. 82.
(обратно)406
А. Р. [Рончевский К. Д.]. Поиски клипера «Изумруд» за Н.Н. Миклухо-Маклаем // Вестник Европы. 1874. Кн. 6. С. 675.
(обратно)407
Миклухо-Маклай Н.Н. Первое пребывание… С. 79.
(обратно)408
Там же. С. 80.
(обратно)409
Здесь и далее в скобках указывается более правильное произношение личных имен, разных предметов и географических названий, которое было зафиксировано мной и моими коллегами-этнографами во время посещения залива Астролябия в 1971 и 1977 годах.
(обратно)410
Там же. С. 81-82; А. Р. Поиски… С. 676.
(обратно)411
РГА ВМ Ф.Ф. 410. Оп. 2. Д. 3207. Л. 147 об.
(обратно)412
П<ерелешин> В. Путевые впечатления во время плавания от Вальпараисо до Нагасаки на корвете «Витязь» // Морской сборник. 1872. № 3. Неофиц. отд. С. 45.
(обратно)413
А.Р. Поиски… С. 686.
(обратно)414
Там же. С. 684-685.
(обратно)415
Там же. С. 84.
(обратно)416
Миклухо-Маклай Н.Н. Первое пребывание… С. 83; Он же. Чтения Н.Н. Миклухо-Маклая в Географическом обществе <в 1882 г> // СС.Т. 2. С. 405.
(обратно)417
РГА ВМ Ф.Ф. 410. Оп. 2. Д. 3207. Л. 47. Назимов, очевидно, имел в виду, что поблизости находилась заболоченная низина, а как тогда считалось, малярию вызывают ядовитые болотные испарения.
(обратно)418
Миклухо-Маклай Н Н. Первое пребывание… С. 84.
(обратно)419
А.Р. Поиски… С. 688.
(обратно)420
Хаген Б. Воспоминания… С. 248. Это сообщение Хагена подтверждает миссионер А. Хоффманн, поселившийся в деревне Богатим в 1892 году См.: Hoffmann A. Lebenserrinerungen… S. 249.
(обратно)421
Назимов П. Н Записка о пребывании… С. 79, 81.
(обратно)422
Миклухо-Маклай Н.Н. Первое пребывание… С. 89.
(обратно)423
Назимов Я. Н Записка о пребывании… С. 80-81; А.Р. Поиски… С. 688.
(обратно)424
Миклухо-Маклай Н.Н. Первое пребывание… С. 85, 260; Назимов П.Н. Записка о пребывании… С. 80; А.Р. Поиски… С. 688.
(обратно)425
СС. Т. 5. С. 93.
(обратно)426
Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Л., 1934. Т. 63. С. 378.
(обратно)427
См. об этом: ТумаркинД.Д. Анучин и Миклухо-Маклай (Из истории изучения и публикации научного наследия Н.Н. Миклухо-Маклая) // ОИРЭФА. Вып. 10. М., 1988. С. 24, 33-34.
(обратно)428
Miklouho-Maclay M. Diary. 1888 // ИЭ А.Ф. 8. Оп. 1. Д. 2. F. 54, 57-58.
(обратно)429
АРГ О.Ф. 143. Оп. 1.Д. 52. Л. И.
(обратно)430
См.: Миклухо-Маклай Н.Н. Краткое сообщение о моем пребывании на восточном берегу о. Новой Гвинеи в 1871 и 1872 годах// СС.Т. 1. С. 257— 266; Чтения Н.Н. Миклухо-Маклая… // СС.Т. 2. С. 405-409. «Во время обратного плавания из Астролябии, — писал один из офицеров «Изумруда» К.Д. Рончевский, — Н.Н. Миклухо-Маклай не раз принимался рас сказывать о своем житье-бытье и о дикарях, их нравах, образе жизни и своих отношениях к ним. Я постараюсь изложить все слышанное нами, насколько то помню» (А.Р. Поиски… С. 694). Воспоминания Рончевского (с. 694-704) близки по содержанию к тексту «Краткого сообщения», но содержат отдельные подробности, которые отсутствуют в сохранившихся материалах Миклухо-Маклая.
(обратно)431
Миклухо-Маклай Н.Н. Первое пребывание… С. 91-92.
(обратно)432
Там же. С. 92-93.
(обратно)433
Там же. С. 93- 96. В статье, продиктованной на борту «Изумруда», ученый — по-видимому, для пущего эффекта — утверждал, что папуасы потешались, «приставляя свои тяжелые копья вокруг головы и шеи и да же подчас без церемоний совали острие копий мне в рот или разжимали зубы» (Миклухо-Маклай Н.Н. Краткое сообщение… С. 259).
(обратно)434
Там же. С. 99-100.
(обратно)435
Там же. С. 117.
(обратно)436
Там же. С. 92, 152.
(обратно)437
Там же. С. 153.
(обратно)438
Там же. С. 105-106. Метеорологический дневник, который Миклухо-Маклай вел в 1871 —1872 годах, хранится в АРГО (Ф. 6. Оп. 1. Д. 21). Краткое сообщение по этому вопросу путешественник опубликовал в конце 1873 года на французском языке в батавском научном журнале. См.: Миклухо-Маклай Н.Н. Метеорологическая заметка о Береге Маклая на Новой Гвинее. СС.Т. 4. С. 216-218.
(обратно)439
Там же. С. 104.
(обратно)440
Миклухо-Маклай Н.Н. Краткое сообщение… С. 259.
(обратно)441
Миклухо-Маклай Н.Н. Первое пребывание… С. 115.
(обратно)442
Там же. С. 125.
(обратно)443
Там же. С. 117.
(обратно)444
Там же. С. 123.
(обратно)445
Там же. С. 117.
(обратно)446
Миклухо-Маклай Н.Н. Чтения… С. 405-406.
(обратно)447
Миклухо-Маклай Н.Н. Первое пребывание… С. 125.
(обратно)448
Там же. С. 97, 134.
(обратно)449
Там же. С. 125.
(обратно)450
Миклухо-Маклай Н.Н. Чтения… С. 407.
(обратно)451
Миклухо-Маклай Н.Н. Первое пребывание… С. 129. Неизвестно, получил ли когда-либо Гегенбаур этот подарок.
(обратно)452
Там же. С. 130.
(обратно)453
Там же. С. 132.
(обратно)454
Там же. С. 134.
(обратно)455
Там же. С. 260.
(обратно)456
Там же С. 156.
(обратно)457
Хаген Б. Воспоминания… С. 247.
(обратно)458
Lawrence P. Road Belong Cargo. A Study of the Cargo Movement in the Southern Madang District, New Guinea. Melbourne, 1964. P. 444; Ibid. The Garia. Carlton, 1984. P. 260.
(обратно)459
Переход в возрастную категорию тамо (взрослых полноправных мужчин) сопровождался обрядами инициации, во время которых группа инициируемых жила в уединенной лесной хижине, где впервые знакомилась с тайным мужским культом, проходила различные физические испытания. Важным элементом этих обрядов была церемония обрезания (мулум), которая раз в несколько лет проводилась в Бонгу и соседних деревнях.
(обратно)460
Миклухо-Маклай Н.Н. <Конспекты лекций…> // СС.Т. 3. С. 318-321.
(обратно)461
Миклухо-Маклай Н.Н. Краткое сообщение… С. 261.
(обратно)462
Например, лейтенант Перелешин, рассказывая о высадке Миклухо- Маклая в заливе Астролябия, сообщал в 1872 году читателям «Морского сборника»: «Цель его пройти поперек острова для ознакомления с нравами, обычаями и типами папуасов» (П<ерелешин> В. Путевые впечатления… С. 44).
(обратно)463
Миклухо-Маклай Н.Н. Краткое сообщение… С. 261.
(обратно)464
А.Р. Поиски… С. 699.
(обратно)465
Миклухо-Маклай Н.Н. Краткое сообщение… С. 262.
(обратно)466
Миклухо-Маклай Н.Н. Этнологические заметки… Т. 2. С. 62.
(обратно)467
Миклухо-Маклай Н.Н. Первое пребывание… С. 147.
(обратно)468
Миклухо-Маклай Н.Н. Этнологические заметки… Т. 2. С. 65.
(обратно)469
А.Р Поиски… С. 691.
(обратно)470
См. об этом: Wurm S. A. Hattory Sh. (eds.) Language Atlas of the Pacific Area. Pt. 1. Canberra, 1981. Комментарии В.И. Беликова по этому вопросу см.: СС.Т. 3. С. 367-368.
(обратно)471
Миклухо-Маклай Н.Н. Этнологические заметки… С. 64.
(обратно)472
Миклухо-Маклай Н.Н. Второе пребывание на Берегу Маклая в Новой Гвинее (от июня 1876 г. по ноябрь 1877 г.) // СС.Т. 2. С. 202.
(обратно)473
Миклухо-Маклай Н.Н. Антропологические заметки о папуасах Берега Маклая на Новой Гвинее // СС.Т. 3. С. 10-11.
(обратно)474
Миклухо-Маклай Н.Н. <Конспекты лекций…> С. 337.
(обратно)475
Миклухо-Маклай Н.Н. <Острова Адмиралтейства> // СС.Т. 3. С. 120. В приведенной цитате говорится о «больших людях» в районе залива Астролябия. См. также дневниковую запись от 8 апреля 1872 года о таком неформальном лидере в деревне Теныуммана (Миклухо-Маклай Н.Н. Первое пребывание… С. 194).
(обратно)476
См. об этом подробнее: Бутинова Л/. С. Н.Н. Миклухо-Маклай о религии папуасов // Музей истории религии и атеизма: Ежегодник. Вып. 2. М.;Л., 1958. С. 283-309.
(обратно)477
Миклухо-Маклай Я.Я. Первое пребывание… С. 136.
(обратно)478
Там же. С. 234.
(обратно)479
СС.Т. 5. С. 173.
(обратно)480
Миклухо-Маклай Н.Н. Первое пребывание… С. 211, 244.
(обратно)481
Хаген Б. Воспоминания… С. 248.
(обратно)482
А.Р. Поиски… С. 686.
(обратно)483
Миклухо-Маклай Н.Н. Первое пребывание… С. 179.
(обратно)484
СС.Т. 5. С. 184.
(обратно)485
Миклухо-Маклай Н.Н. Краткое сообщение… С. 263.
(обратно)486
Там же. С. 262.
(обратно)487
Там же. С. 263-264.
(обратно)488
Миклухо-Маклай Н.Н. Первое пребывание… С. 252—253.
(обратно)489
Санкт-Петербургские ведомости. 1872. 6 июля.
(обратно)490
ПФАРАН.Ф. 143. Оп. 1. Д. 34. Л. 381.
(обратно)491
Н-й [Н. Римский-Корсаков]. Плавание на клипере «Изумруд» к берегам Новой Гвинеи за Миклухо-Маклаем // Всемирный путешественник. 1873. Октябрь. С. 399.
(обратно)492
А Р. Поиски… С. 689.
(обратно)493
Н-й. Плавание… С. 399.
(обратно)494
Миклухо-Маклай Н.Н. Краткое сообщение… С. 264-265.
(обратно)495
Миклухо-Маклай Н.Н. Первое пребывание… С. 253—254.
(обратно)496
Миклухо-Маклай Н.Н. Краткое сообщение… С. 265. Речь идет о проекте голландской экспедиции на фрегате «Кумпан», которая не состоялась.
(обратно)497
Ъ-Ъ. Миклухо-Маклай // Яхта. 1874. № 3. Стб. 135-136. Кто из офицеров «Изумруда» скрывается под этими инициалами, установить не удалось.
(обратно)498
Миклухо-Маклай Н.Н. Краткое сообщение… С. 265—266. Рончевский сообщает, что на прощальном ночном пиру в Бонгу, который совместно устроили жители нескольких деревень, исполнялись традиционные танцы (А.Р. Поиски… С. 693).
(обратно)499
СС.Т. 5. С. 100.
(обратно)500
См.: СС.Т. 6. Ч. 2. С. 496-507, 512-513, 515-523.
(обратно)501
Миклухо-Маклай Н.Н. Краткое сообщение о моем пребывании на восточном берегу о. Новой Гвинеи в 1871 и 1872 годах // СС.Т. 1. С. 265.
(обратно)502
Миклухо-Маклай Н.Н. Проект развития Берега Маклая // СС.Т. 5. С. 263. О непростой судьбе этого топонима, который встречается теперь, за небольшим исключением, только на российских картах, см.: Тумаркин Д.Д. К истории топонима Берег Маклая // С.Э. 1984. №5. С. 102-106.
(обратно)503
ПФ АРА Н.Ф. 143. Оп. 1. Д. 34. Л. 91.
(обратно)504
ОПИ ГИ М.Ф. 329. Д. 67. Л. 77.
(обратно)505
АРГ О.Ф. 6. Оп. 4. Д. 11.
(обратно)506
Миклухо-Маклай Н.Н. <Бейтензорг — Амбоина> // СС.Т. 2. С. 269.
(обратно)507
Миклухо-Маклай Н.Н. О папуасах (негритосах) на острове Люцоне (Из письма г. академику К.М. фон Бэру) // СС.Т. 4. С. 4—6.
(обратно)508
Там же. С. 7.
(обратно)509
СС.Т. 5. С. 100.
(обратно)510
Там же.
(обратно)511
Миклухо-Маклай Н.Н. Опыт курения опиума (Физиологическая заметка)//СС.Т. 4. С. 182.
(обратно)512
Тургенев И.С. Полное собрание сочинений. Письма. Т. 11. М.; Л., 1966. С. 306.
(обратно)513
СС.Т. 5. С. 101.
(обратно)514
Там же. С. 103.
(обратно)515
Записки М.Н. Миклухо-Маклая / Публ. Н.А. Троицкого// Освободительное движение в России. Вып. 16. Саратов, 1987. С. 163.
(обратно)516
Серебряков М.А. Революционеры во флоте. Из воспоминаний. М., 1920. С. 3-24.
(обратно)517
Тютчев Н.С. Памяти отошедших. II. Е. А. Серебряков // Каторга и ссылка. М., 1924. Кн. 3. С. 230.
(обратно)518
ОПИ ГИ М.Ф. 329. Д. 26. Л. 225 об., 237.
(обратно)519
Там же. Д. 67. Л. 43 об., 52 об.
(обратно)520
Там же. Л. 45, 35 об.-56.
(обратно)521
Миклухо-Маклай А.Д. Новые данные о Николае Николаевиче Миклухо-Маклае и его родных // Страны и народы Востока. Вып. 28. СПб., 1994. С. 189.
(обратно)522
ОПИ ГИ М.Ф. 329. Д. 26. Л. 204.
(обратно)523
Там же. Л. 238.
(обратно)524
ОПИ ГИ М.Ф. 329. Д. 67. Л. 43 об., 52 об.
(обратно)525
Миклухо-Маклай А.Д. Новые данные… С. 191.
(обратно)526
Бакунин М.М. Тропическая Голландия. Пять лет на острове Яве. СПб., 1902. С. 11.
(обратно)527
Еег en fortuir <…> Autobiographic van gouverneur-generaal James Loudon. Amsterdam, 2003. В 1. 300.
(обратно)528
СС.Т. 5. С. 105.
(обратно)529
Там же. С. 106.
(обратно)530
Там же.
(обратно)531
ПФАРАН.Ф. 143. Оп. 1.Д.41.Л. 139-140 об., 137-138 об.
(обратно)532
Там же.
(обратно)533
Статьи и заметки, подготовленные Н.Н. Миклухо-Маклаем в 1873 году в Бейтензорге, см.: СС.Т. 3. С. 10-30, 92-94, 107-109, 133-144, 152- 153, 365-367; Т. 4. С. 216-219.
(обратно)534
Nature. 1874. Vol. 9. № 226. P. 328. В дальнейшем, в 1876 и 1880 годах, Гелтон опубликовал в «Nature» еще две статьи об исследованиях русского ученого на Берегу Маклая.
(обратно)535
СС.Т 5. С. 119-111.
(обратно)536
Там же. С. 107.
(обратно)537
См., например: Там же. С. 195, 205, 310.
(обратно)538
См. подробнее: Тюрин В.А. Ачехская война. М., 1970. Гл. 2.
(обратно)539
Берег Папуаковиай — устаревшее название юго-западного побережья индонезийской автономной провинции Ириан-Джая (западной части Новой Гвинеи). Район этот называется теперь Каймана, по одноименному городу, ставшему после Второй мировой войны его административным центром.
(обратно)540
СС.Т. 5. С. 115.
(обратно)541
Миклухо-Маклай Н.Н. <Бейтензорг — Амбоина> // СС.Т. 1. С. 267.
(обратно)542
Beccari О. Nuova Guinea, Selebes e Molucche: Diarii di voaggio. Firenze, 1924. P. 271.
(обратно)543
Миклухо-Маклай Н.Н. <Бейтензорг — Амбоина> // СС.Т. 1. С. 276-277.
(обратно)544
СС.Т. 5. С. 119—120. Обещание Лаудона не было исполнено, так как Ачехская война растянулась на многие годы.
(обратно)545
Там же. С. 120.
(обратно)546
Миклухо-Маклай Н.Н. Моя вторая экскурсия на Новую Гвинею (февраль-май 1874 г.) // СС.Т. 1. С. 340.
(обратно)547
Там же.
(обратно)548
Миклухо-Маклай Н.Н. Второе путешествие в Новую Гвинею. 1874 <г. > // СС.Т. 1.С. 288-289.
(обратно)549
Там же. С. 295.
(обратно)550
Там же. С. 293.
(обратно)551
Членов М.А. Население Молуккских островов. М., 1976. С. 131. См. также комментарий М.А. Членова: СС.Т. 1. С. 445—446.
(обратно)552
Миклухо-Маклай Н.Н. Второе путешествие… С. 303.
(обратно)553
СС.Т. 5. С. 120.
(обратно)554
АРГ О.Ф. 6. Оп. 1. Д. 31. Л. 53-54.
(обратно)555
Миклухо-Маклай Н.Н. Второе путешествие… С. 323-327.
(обратно)556
Миклухо-Маклай Н.Н. Моя вторая экскурсия… С. 155.
(обратно)557
Там же. С. 168.
(обратно)558
Чтения… С. 426.
(обратно)559
Миклухо-Маклай Н.Н. Второе путешествие… С. 290.
(обратно)560
Там же.С.211.
(обратно)561
Давыдов К.Н. По островам Индо-Австралийского архипелага. Впечатления и наблюдения натуралиста. Ч. 3 // Известия Императорской Академии наук. 1906. Т. 25. № 5. С. 350.
(обратно)562
Давыдов К.Н. По островам. Ч. 2 // Там же. 1905. Т. 22. № 4/5. С. 237.
(обратно)563
Миклухо-Маклай Н.Н. Моя вторая экскурсия в Новую Гвинею (1874 г.) // СС.Т. 3. С. 171. Эта статья — в отличие от ранее цитировавшегося текста со схожим названием, который был подготовлен путешественником к печати в 1887 году, — появилась в 1876 году на немецком языке в батавском научном журнале.
(обратно)564
Миклухо-Маклай Н.Н. Возвращение из Папуаковиай // СС.Т. 1. С. 334.
(обратно)565
Там же. С. 336.
(обратно)566
АРГ О.Ф. 6. Оп. 1. Д. 31. Л. 59-64. В версии дневника, подготовленной путешественником к публикации, пребыванию на Килвару посвящено лишь несколько фраз, причем Бунгарая вообще не упоминается. В СС записи об отношениях с Бунгараей напечатаны с купюрами. См.: СС.Т. 1.С. 331,333-335.
(обратно)567
Миклухо-Маклай Н.Н. <Первое путешествие по Малаккскому полуострову 22 ноября 1874 г. — 31 января 1875 г> // СС.Т. 2. С. 60.
(обратно)568
Moresby J. Discoveries and Surveys in New Guinea and the D'Entrecasteaux Islands. London, 1876. P. 120, 168-169, 292-293.
(обратно)569
CC.T 5. С 126-127.
(обратно)570
О политическом и социальном положении папуасов Берега Папуа- Ковиай на юго-западном побережье Новой Гвинеи // СС.Т. 5. С. 512.
(обратно)571
СС.Т. 5. С. 130.
(обратно)572
Там же.
(обратно)573
Политика европейских держав в Юго-Восточной Азии (60-е годы XVIII — 60-е годы XIX в.). Документы и материалы. Ч. 1. М., 1962. С. 80-81.
(обратно)574
Миклухо-Маклай Н.Н. Моя вторая экскурсия. До публикации в «Известиях» РГО это сообщение было напечатано 8 (20) октября 1874 года в газете «Санкт-Петербургские ведомости» под заголовком «Русский ученый на Новой Гвинее».
(обратно)575
Миклухо-Маклай Н.Н. О брахицефалии у папуасов Новой Гвинеи // СС.Т. 3. С. 32-33.
(обратно)576
ОПИ ГИ М.Ф. 329. Д. 26. Л. 238.
(обратно)577
АРГ О.Ф. 6. Оп. 1. Д. 31. Л. 76.
(обратно)578
Отчет РГО за 1875 г. СПб., 1875. С. 89.
(обратно)579
СС.Т. 5. С. 125.
(обратно)580
Миклухо-Маклай Н.Н. <Первое путешествие по Малаккскому полуострову… >. С. 11.
(обратно)581
Там же. С. 12.
(обратно)582
Там же. С. 63.
(обратно)583
Гончаров И.А. Фрегат «Паллада». Л., 1986. С. 199.
(обратно)584
Миклухо-Маклай Н.Н. <Первое путешествие по Малаккскому полуострову 22 ноября 1874 г. — 31 января 1975 г.> // СС.Т. 2. С. 2, 6.
(обратно)585
Свет Я.М. История открытия и исследования Австралии и Океании. М., 1966. С. 283-284; White О. Parliament of Thousand Tribes. A Story of New Guinea. London, 1965. P. 37. Уайт считает, что «вклад Миклухо-Маклая в изучение Новой Гвинеи качественно несопоставим с другими исследованиями, проведенными в XIX веке» (Там же.).
(обратно)586
Четыре дня во дворце (Из записок англичанина) // Семья и школа. 1876. № 4/5. С. 449. Фамилию автора и название журнала, откуда в сокращении и в переводе на русский язык заимствован этот очерк, установить не удалось.
(обратно)587
Миклухо-Маклай Н.Н. Чтения. С. 433-435.
(обратно)588
Миклухо-Маклай Н.Н. <Первое путешествие…>. С. 58.
(обратно)589
Там же. С. 41.
(обратно)590
Там же. С. 42.
(обратно)591
Миклухо-Маклай Н.Н. Сиам // СС.Т. 2. С. 67-70; Он же. <На Малаккском полуострове…>. С. 74-76.
(обратно)592
Миклухо-Маклай Н.Н. Сиам. С. 67.
(обратно)593
Миклухо-Маклай Н.Н. Чтения. С. 435.
(обратно)594
Зажатый между колониальными владениями Англии и Франции, Сиам пытался найти противовес в сближении с Россией. В 1897 году Чулалонгкорн нанес визит в Петербург, после чего между двумя странами были установлены дипломатические отношения, а его второй сын принц Чула Чакрабон прибыл для учебы в далекую северную страну. Здесь он окончил Пажеский корпус и некоторое время состоял корнетом в лейб-гвардии гусарском полку. Жуир и гуляка Чакрабон, путешествуя по России, влюбился в киевскую гимназистку Марию Десницкую, женился на ней и привез ее в Бангкок.
(обратно)595
Гончаров И.А. Фрегат «Паллада». С. 219.
(обратно)596
Миклухо-Маклай Н.Н. <На Малаккском полуострове…>. С. 76.
(обратно)597
Там же. С. 79.
(обратно)598
Там же. С. 140.
(обратно)599
Станция Миклухо-Маклая // Семья и школа. 1876. Кн. 1. N° 4/5. С. 454-455.
(обратно)600
Миклухо-Маклай Н.Н. <Второе путешествие по Малаккскому полуострову> // СС.Т. 2. С. 83.
(обратно)601
Миклухо-Маклай Н.Н. Чтения. С. 436.
(обратно)602
«Новости и Биржевая газета». 1882. 8 октября [Отчет о 3-й «демонстрационной беседе» Н.Н. Миклухо-Маклая в Петербурге].
(обратно)603
СС.Т.5.С. 156.
(обратно)604
Миклухо-Маклай Н.Н. <О диалектах некоторых аборигенных племен Малайского полуострова> // СС.Т. 4. С. 40.
(обратно)605
СС.Т.5.С. 146.
(обратно)606
Миклухо-Маклай Н.Н. <Второе путешествие…>. С. 87.
(обратно)607
СС.Т.5.С. 156.
(обратно)608
The Australian Handbook and Almanac and Shipping' and Importers' Di rectory for 1880. SI. 1880. P. 456.
(обратно)609
Gladstone — Gordon Correspondence, 1851-1896. Ed/ by P. Knaplund. Philadelphia, 1961. P. 90.
(обратно)610
PRO. 30/6/47. P. 213.
(обратно)611
CC.T.5.C. 148-149.
(обратно)612
Там же. С 186.
(обратно)613
См. об этом: Протекторат // Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Т. 25а. СПб., 1898. С. 509-510.
(обратно)614
АВПРИ.Ф. 155.1-5.Оп.403.Д. 104. Л. 1-1 об.
(обратно)615
Там же.
(обратно)616
АРГ О.Ф. 1-1869. Оп. 1. Д. 19. Л. 73-73 об.
(обратно)617
СС.Т 5. С. 149.
(обратно)618
Семенов П.П. История полувековой деятельности Русского географического общества, 1845-1895. СПб., 1896. Ч. 2. С. 939.
(обратно)619
СС. Т. 5. С. 156.
(обратно)620
Миклухо-Маклай подал заявку на приобретение земельного участка вблизи города Кема, расположенного на одном из северных полуостровов Целебеса. В этом «райском уголке» путешественник побывал в феврале 1873 года, во время стоянки «Изумруда» в Тернате. В 1883 году, находясь проездом в Батавии, Миклухо-Маклай вспомнил об этой затее. Но оказалось, что он утратил права на участок, так как за семь лет ничего не сделал для его освоения и юридического оформления.
(обратно)621
Миклухо-Маклай Н.Н. Этнологические экскурсии по Малайскому полуострову // СС.Т. 4. С. 16—36; Он же. О диалектах некоторых абори генных племен Малайского полуострова // Там же. С. 36-43.
(обратно)622
Миклухо-Маклай Н.Н. Об искусственном прободении penis'a у даяков на Борнео // СС.Т. 4. С. 43—44; Он же. Perforatio glandis penis у даяков на Борнео и аналогичные обычаи на Целебесе и Яве // Там же. С. 45-47.
(обратно)623
СС.Т. 5. С. 151.
(обратно)624
Там же. С. 151.
(обратно)625
Там же. С. 160.
(обратно)626
АРГО.Ф.6. Оп. 1.Д.92.Л. 107.
(обратно)627
СС.Т. 5. С. 161.
(обратно)628
РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Д. 1575. Л. 48-49. Авторская копия: АВПР И.Ф. 155.1-5. Оп. 403. Д. 104. Л. 10-11.
(обратно)629
АВПРИ. Там же. Л. 8-9.
(обратно)630
Голос. 1876. 2 (14) ноября.
(обратно)631
Миклухо-Маклай Н.Н. <Остров Вуап, или Яп> // СС.Т. 3. С. 212- 227; Он же. Архипелаг Пелау // Там же. С. 227-262. Черновые варианты этих статей содержат фрагменты, не включенные автором в окончательный текст: ПФ АРА Н.Ф. 143. Оп. 1. Д. 13. Л. 3 об-б3 об.
(обратно)632
СС.Т. 3. С. 385 (Черновик статьи «Архипелаг Пелау»).
(обратно)633
См.: Kramer A. Palau // Ergebnisse der Sudsee-Expedition. 1908-1910. II. Ethnographie: B. Mikronesien. Bd. 3. Teilband 2. Hamburg, 1919. S. 2-3, 104.
(обратно)634
CC.T. 5.C. 173.
(обратно)635
Там же. С. 209. Портрет Миры см.: СС.Т. 5. Вклейка перед с. 225.
(обратно)636
Там же. С. 168. Дэвид Дин О'Киф — одна из колоритнейших фигур в истории колониализма в Океании. Выходец из Ирландии, он в качестве капитана торгового судна участвовал в американской Гражданской войне 1861-1865 годов на стороне рабовладельцев-южан. Убив матроса, О'Киф в 1871 году бежал из США на острова Океании. После ряда приключений он стал владельцем шхуны, а потом еще нескольких судов. О'Киф продавал жителям Япа и других островов, расположенных в западной части Каролинского архипелага, огнестрельное оружие, табак, спиртные напитки и другие товары. Кроме того, он доставлял на Яп на своих судах фе — «каменные деньги», изготовляемые на островах Палау (ранее островитяне с большим риском для жизни привозили эти тяжелые каменные диски, весом до тонны, на парусных лодках и плотах). Взамен вожди Япа продавали ему большое количество копры, а также снабжали его почти даровой подневольной рабочей силой для заготовки трепанга. К концу 1870-х годов О'Киф овладел большей частью торговли Япа и прилегающих островов с внешним миром и стал дерзко называть себя «королем Япа, суверенным правителем Сонсорола и монархом Мапии». Этот негодяй не останавливался перед явными преступлениями, в том числе против служивших у него европейцев, но ловко уходил от ответственности за совершенные злодеяния. О'Киф скончался в море, на борту своего судна в 1903 году.
(обратно)637
Миклухо-Маклай Н.Н. Несколько слов о ловле трепанга на островах западной части Тихого океана близ экватора // СС.Т. 2. С. 283.
(обратно)638
Известия РГО. 1939. Т. 71. Вып. 1/2. С. 279-283.
(обратно)639
Миклухо-Маклай Н.Н. <Читая мои письма…>. С. 148.
(обратно)640
Миклухо-Маклай Н.Н. Второе пребывание на Берегу Маклая // СС.Т. 2. С. 149.
(обратно)641
Миклухо-Маклай Н.Н. Несколько дополнений о моем втором пребывании на Берегу Маклая в Новой Гвинее в 1876-1877 гг. (Из письма к князю А.А. М.) // СС.Т. 2. С. 219.
(обратно)642
Там же.
(обратно)643
Хаген Б. Воспоминания о Н.Н. Миклухо-Маклае у жителей бухты Астролябия на Новой Гвинее // Землеведение. 1903. Кн. 2/3. С. 248—249.
(обратно)644
Там же. С. 249.
(обратно)645
Миклухо-Маклай Н.Н. Второе пребывание на Берегу Маклая в Новой Гвинее (июнь 1876 г. — ноябрь 1877 г.) // СС.Т. 2. С. 149.
(обратно)646
Миклухо-Маклай Н.Н. Первое пребывание на Берегу Маклая в Новой Гвинее // СС.Т. 1. С. 251.
(обратно)647
Миклухо-Маклай Н.Н. Второе пребывание… (июнь 1876 г. — ноябрь 1877 г.). С. 162-165.
(обратно)648
Миклухо-Маклай Н.Н. <Конспекты лекций в Петербурге в ноябре- декабре 1886 г.> // СС.Т. 3. С. 317-318. См. подробнее: Harding Т. G. \byagers of the Vitiaz Strait. A Study of a New Guinea Trade System. Seattle; London, 1967.
(обратно)649
Миклухо-Маклай Н.Н. Второе пребывание… (июнь 1876 г. — ноябрь 1877 г.). С. 217.
(обратно)650
СС.Т. 5. С. 449.
(обратно)651
Миклухо-Маклай Н.Н. Второе пребывание… (июнь 1876 г. — ноябрь 1877 г.). С. 195—196; Он же. Второе пребывание… (от июня 1876 г. — по ноябрь 1877 г.). С. 214-215.
(обратно)652
Семенов П.П. История полувековой деятельности Русского географического общества, 1845-1895. СПб., 1896. Ч. 2. С. 939.
(обратно)653
Е. Ч. У Н.Н. Миклухо-Маклая // СС.Т. 5. С. 547.
(обратно)654
Миклухо-Маклай Н.Н. Несколько дополнений о моем втором пребывании. С. 227-228. Эту статью, содержащую краткий очерк его жизни и деятельности в Бугарломе, Миклухо-Маклай не послал в 1877 году в РГО, а после многочисленных поправок и дополнений отправил осенью 1879 года Ф.Р. Остен-Сакену с просьбой посодействовать ее публикации в «Голосе», где она и была напечатана 21—22 мая (2—3 июня) 1880 года под названием «Пребывание Н.Н. Миклухи-Маклая в Новой Гвинее в 1876—1877 гг. (из письма г. Миклухи-Маклая)».
(обратно)655
Миклухо-Маклай Н.Н. Второе пребывание… (от июня 1876 г. — по ноябрь 1877 г.). С. 215-216, 490-491.
(обратно)656
Чтения Н.Н. Миклухо-Маклая в Географическом обществе <в 1882 г.> // СС.Т. 2. С. 414-415.
(обратно)657
СС.Т. 5. С. 188.
(обратно)658
Там же. С. 201.
(обратно)659
Там же. С. 184.
(обратно)660
РГАДАФ. 1385. Оп. 1.Д. 1585. Л. 57.
(обратно)661
ML. A 2889-1. F. 19.
(обратно)662
Миклухо-Маклай Н.Н. Записка о похищении людей и рабстве в западной части Тихого океана // СС.Т. 5. С. 516.
(обратно)663
Миклухо-Маклай Н.Н. Один день в пути (Из дневника) // СС.Т. 2. С. 370.
(обратно)664
Там же. С. 371.
(обратно)665
СС.Т. 5. С. 201, 204.
(обратно)666
Там же. С. 205.
(обратно)667
Миклухо-Маклай Н.Н. На несколько дней в Австралию // СС.Т. 2. С. 395. О жизни в Сиднее в 70-80-х годах XIX века см. подробнее: Twopeni R.E.N. Town Life in Australia. London, 1883; Cannon M. M. Life in the Cities / Australia in the Victorian Age. MA. 3. Melbourne, 1975; Fitzgerald Sh. Rising Dump: Sydney, 1870-90. Melbourne, 1987.
(обратно)668
ML. A 2939. \Ы. 43. F. 5.
(обратно)669
Proc. LSNSW. 1879. \Ы. 3. Pt. 4. P. 440.
(обратно)670
Ibid. P. 418-419.
(обратно)671
Миклухо-Маклай H. H. Проект биологической станции для Сиднея // СС.Т. 4. С. 190.
(обратно)672
Proc. LSNSW. 1879. Vol. 3. Pt. 2. P. 150.
(обратно)673
Miklouho-Maclay N. de and Macleay W. Plagiostomata of the Pacific. Pt. 1 // Proc. LSNSW. 1878. Vol. 3. Pt. 4. P. 306. «Анатомические заметки» опубликованы в переводе на русский язык: Миклухо-Маклай Н.Н. Собрание сочинений. Т. 3. Ч. 2. М., 1952. С. 125-141.
(обратно)674
СС.Т. 5. С. 197.
(обратно)675
Миклухо-Маклай Н.Н. Несколько слов о еще не существующей зоологической станции в Сиднее // СС.Т. 4. С. 192-193. Этот текст — письмо Р. Вирхову от 8 февраля 1879 года — и был опубликован под таким названием в издаваемом им журнале.
(обратно)676
СС.Т. 5. С. 204.
(обратно)677
Миклухо-Маклай Н.Н. Проект биологической станции. С. 188.
(обратно)678
ML. MSS 2009. Item 115. S.f.
(обратно)679
СС.Т. 5. С. 220.
(обратно)680
Миклухо-Маклай Н.Н. Предполагаемая зоологическая станция в Сиднее // СС.Т. 4. С. 194-195.
(обратно)681
СС.Т. 5. С. 194.
(обратно)682
Gibbney H. J. The New Guinea Guinea Gold Rush of 1878 // Journal of the Royal Australian Historical Society 1972. MA. 58. № 4. P. 284-292.
(обратно)683
The Sydney Morning Herald. 1879. January 1, 24, 27; February 4. См. также: Рек A. Recollections of the Maclay Coast // Journal of the Royal Geo graphical Society of Australasia. 1897. \fcl. 6. № 5. P. 117-119.
(обратно)684
CC.T. 5. С 209-211.
(обратно)685
Там же. С. 221-223.
(обратно)686
Там же.
(обратно)687
Там же. С. 214-215. Судя по результатам архивных разысканий, Семенов не ответил на это письмо и не обращался по данному вопросу в Министерство иностранных дел.
(обратно)688
Sidney evening news, 1879, March 27.
(обратно)689
Миклухо-Маклай H. Н. Путешествие на острова Меланезии 1879 г. // СС.Т. 2. С. 236.
(обратно)690
СС.Т. 5.С. 216.
(обратно)691
Thomassen Е. S. Biographical Sketch of Nicolas de Mikloucho-Maclay, the Explorer. Brisbane, 1882. P. 36.
(обратно)692
Миклухо-Маклай H. H. Путешествие на острова Меланезии 1879 г. С. 236-237.
(обратно)693
Мишель Л. Коммуна. Из воспоминаний. М.; Л., 1926. С. 211.
(обратно)694
Миклухо-Маклай Н.Н. Остров Андра (Из дневника 1879 г.) // СС.Т. 4. С. 245-305.
(обратно)695
АРГ О.Ф. 6. Оп. 1. Д. 70. Л. 54.
(обратно)696
Monod G. La Nouvelle-Guinee. Les voyages de M. Mikluho-Maclay // La Nouvelle Revue. 1882. T. 19. № 2. P. 242-243.
(обратно)697
<Миклухо-Маклай H. H.> Записка о похищении людей и рабстве в западной части Тихого океана // СС.Т. 5. С. 518.
(обратно)698
Свободная торговля рабочей силой и торговля рабами (англ.).
(обратно)699
Миклухо-Маклай Н.Н. Путешествие на острова Меланезии и четвертое посещение острова Новой Гвинеи. С. 343-344.
(обратно)700
Там же. С. 335.
(обратно)701
Уэббер намеревался вернуться в Сидней в апреле 1880 года. Узнав о малых размерах миссионерского судна, Миклухо-Маклай, как он писал, «вследствие моей натуральной доверчивости» оставил Уэбберу несколько ящиков с книгами и зоологическими коллекциями, которые тот согласился доставить в русское консульство в Сиднее. Не получив по возвращении в Австралию этих ящиков, Николай Николаевич начал наводить справки. Первые вести были неутешительными: шкипер умер и был похоронен в открытом море, а «Сэди Ф. Коллер» вместо Сиднея отправилась в
(обратно)702
Там же. С. 342.
(обратно)703
Миклухо-Маклай Н.Н. <Первое посещение южного берега….>. С. 311.
(обратно)704
Там же. С. 339.
(обратно)705
Миклухо-Маклай Н.Н. Второе посещение южного берега Новой Гвинеи // СС.Т. 2. С. 348, 350.
(обратно)706
Миклухо-Маклай Н.Н. Путешествие на острова Меланезии. С. 338.
(обратно)707
Через пару лет, когда поглощение юго-востока Новой Гвинеи Квинслендом стало почти что свершившимся фактом, Чалмерс в качестве меньшего зла предложил превратить ее в отдельную имперскую колонию, управляемую чиновником, присланным из Лондона. В 1885 году в Порт-Морсби был поднят английский флаг, символизирующий установление протектората. Чалмерс участвовал в этой торжественной церемонии в качестве переводчика. Местные жители любили и уважали Тамате (так они называли Чалмерса) и считали его своим главным заступником. Полагаясь на свою безупречную репутацию, Чалмерс посещал без охраны самые дикие — как береговые, так и горные — деревни. Его конец был печален: в лодке с несколькими гребцами Тамате отправился на островок Гуарибара, где его убили и съели каннибалы.
(обратно)708
Shnukal A. N.N. Miklouho-Maclay in Torres Strait //Australian Aboriginal Studies. 1998. № 2. P. 44-46.
(обратно)709
Finsch O. Nikolaus von Miklucho-Maclay. Reisen und Wirken // Deutsche Geographische Blatter. 1888. Bd. 11. Heft 1/4. S. 273.
(обратно)710
Миклухо-Маклай Н.Н. Краткое resume результатов антропологических и анатомических исследований в Меланезии и Австралии (март 1879 г. — январь 1881 г.) // СС.Т. 4. С. 77.
(обратно)711
В 1988 году, во время одной из научных командировок в Австралию, автор этих строк посетил Брисбен и отправился в Квинслендский государственный архив, чтобы попытаться выявить новые материалы о Миклухо-Маклае. Архив размещался на окраине города, на Эннерли-роуд. Миновав ультрасовременный тюремный комплекс, обнесенный кирпичной стеной, я увидел покосившееся деревянное здание, занимаемое музеем. Оказалось, что многие архивные фонды не обработаны и не описаны, а потому невозможно дать точную ссылку на обнаруженные материалы. Но Рут Керр, заведовавшая архивом, любезно постаралась помочь первому гостю из-за «железного занавеса» — советскому ученому, и вскоре на столике передо мной появилась стопка основательно запыленных картонных папок, содержащих материалы на интересующие меня темы. На Эннерли-роуд, как и в трех сиднейских архивах, я нашел целый ряд новых материалов и полнее ощутил атмосферу, в которой жил и работал Миклухо-Маклай.
(обратно)712
QSA. PRI/2, № 3796/80; № 4743/80; PRI/A17, № 969/80. В 1888 году, когда автор книги проводил разыскания в этом архиве, архивные дела не были обработаны, пагинация отсутствовала.
(обратно)713
СС.Т. 5.С. 241,246.
(обратно)714
Миклухо-Маклай Н.Н. Краткое resume… С. 78.
(обратно)715
Там же. С. 77.
(обратно)716
Миклухо-Маклай Н.Н. Путешествие на острова Меланезии и четвертое посещение острова Новая Гвинея (март 1879 — апрель 1880) // СС. Т. 2. С. 330-344.
(обратно)717
Willis P.M.A., Davies S.M. and Osborne R.A.L. Important \fertebrate Fossils from the Paleontological Collections of the Department of Geology and Geo physics, University of Sydney // Royal Society of New South >\Iles. Journals and Proceedings. 1992. 125. P. 113-118.
(обратно)718
Последнее чтение Н.Н. Миклухо-Маклая // Новости и Биржевая газета. 1882. 9 (21) октября.
(обратно)719
СС.Т. 5. С. 222.
(обратно)720
Government Gazette. 1879. May 3, June 10.
(обратно)721
Миклухо-Маклай Н.Н. Прогресс <в создании> сиднейской Биологической станции в Уостонс-Бей // СС.Т. 4. С. 196-197.
(обратно)722
Миклухо-Маклай Н.Н. Деформирование черепа у новорожденных детей на о. Мабиак и других островах Торресова пролива и у женщин юго-восточного полуострова Новой Гвинеи // СС.Т. 3. С. 287—288; Он же. Сообщение об операциях, производимых австралийскими туземцами // СС.Т. 4. С. 66—68; Он же. Краткое resume… С. 74—79; Он же. Раствор для сохранения крупных позвоночных для анатомического исследования // Там же. С. 83-84; Он же. Заметка об извилинах мозга динго//Там же. С. 147-149.
(обратно)723
См.: Беляков М.Ф. Геотермические наблюдения Н.Н. Миклухо-Маклая в Австралии // Известия РГО. 1950. Т. 82. Вып. 5. С. 537-541; Он же. Температурные измерения Н.Н. Миклухо-Маклая в Тихом и Индийском океанах // Известия АН СССР. Серия географическая. 1951. № 2. С. 49-55.
(обратно)724
Миклухо-Маклай Н.Н. Путешествие на острова Меланезии и четвертое посещение… С. 343-344.
(обратно)725
Thomassen E. S. Biographical Sketch of Nicolas Miklouho-Vfclay, the Explorer. Brisbane, 1882. P. 36-37.
(обратно)726
CC.T.5.C.251-252.
(обратно)727
Перевод полного текста этого документа см.: СС.Т. 5. С. 514—521. «Записка» была приложена к докладу Уилсона «Торговля рабочей силой в западной части Тихого океана» (PRO. С. 225/8. F. 467-469).
(обратно)728
СС.Т. 5. С. 258-259.
(обратно)729
Там же. С. 252-253.
(обратно)730
Там же. С. 456.
(обратно)731
Там же. С. 258.
(обратно)732
Там же. С.252.
(обратно)733
Чтения Н.Н. Миклухо-Маклая… С. 429.
(обратно)734
Там же. С. 430.
(обратно)735
ML. A28891. F. 28-36. Перевод полного текста этого документа см.: СС. Т. 5. С. 261-266.
(обратно)736
СС.Т. 5. С. 164.
(обратно)737
Миклухо-Маклай Н.Н. Несколько дополнений о моем втором пребывании на Берегу Маклая в Новой Гвинее в 1876-1877 гг. (Из письма к князю А.А. М.) // СС. Т. 2. С. 227.
(обратно)738
Там же. С. 228.
(обратно)739
Чтения Н.Н. Миклухо-Маклая… С. 430.
(обратно)740
СС.Т. 5. С. 280.
(обратно)741
Там же. С. 270.
(обратно)742
Miklouho-Maclay R. W. Margaret Emma de Miklouho-Maclay (1855- 1936). Pt. 1 // Newsletter of the Miklouho-Maclay Society of Australia. 1884. Vol.5.№ 1. P. 3-7.
(обратно)743
ML.A2889. F.28-36.
(обратно)744
Miklouho-Maclay R. W. Margaret Emma… P. 4.
(обратно)745
См.: Российские моряки и путешественники в Австралии / Сост. Е. В. Говор, А.Я. Массов. М., 2007. С. 213-237.
(обратно)746
Кронштадтский вестник. 1882. 14 (26) мая.
(обратно)747
Thomassen E. S. Biographical Sketch of Nicholas de Miklouho-Maclay, the Explorer. Brisbane, 1882.
(обратно)748
MonodG. La Nouvelle-Guinee. Les voyages de M. de Mikluho-Maclay // «Nouvelle Revue». 1882. T. 19. № 2. November 15. P. 223-247.
(обратно)749
О Миклухо-Маклае (По отзывам иностранцев) // Век. 1883. № 3. С. 99-115.
(обратно)750
Там же. С. 280-281.
(обратно)751
Там же. С. 260-261.
(обратно)752
АРГО. Ф. 1-1881. Оп. 1. Д. 25. Л. 5.
(обратно)753
СС. Т. 5. С. 276-277.
(обратно)754
Greenop F.S. Who Travels Alone. Sydney, 1944. P. 198.
(обратно)755
Миклухо-Маклай, по-видимому, имел в виду «Проект развития Берега Маклая». В письме Остен-Сакену, отправленном также из Александрии, Николай Николаевич написал, что в безвыходном положении ему придется заняться не подходящим для него делом: стать плантатором или чем-либо подобным.
(обратно)756
CC. T.5.C.278-279.
(обратно)757
Там же. С. 273.
(обратно)758
OP ИРЛИ. 20. 983. Версию о смерти Ольги от инфекционной болезни восприняли не только знакомые семейства Е.С. Миклухи, но и многие биографы нашего героя. Так, Б.Н. Путилов — автор нескольких интересных работ о Миклухо-Маклае — писал, что Ольга умерла от дифтерита (Путилов Б.Н. Н.Н. Миклухо-Маклай. Путешественник, ученый, гуманист. М., 1985. С. 169).
(обратно)759
Штендман попытался доступными ему средствами отдать последний долг безвременно умершей подруге. Молодая женщина не успела внести сколько-нибудь значительный вклад в отечественную культуру. Но он включил ее в напечатанный под его руководством «Азбучный указатель имен русских деятелей, имеющих быть помещенными в Биографический словарь, издаваемый Императорским Русским Историческим Обществом» (Ч. 2. СПб., 1888. С. 279): «Миклухо-Маклай, Ольга Николаевна, художн. живописи по фарфору, 31 января 1880 г.». Том словаря на букву «М» выпустить не удалось.
(обратно)760
СС. Т. 5. С. 286-287.
(обратно)761
Цит. по: Вострышев М. Августейшее семейство. Россия глазами великого князя Константина Константиновича. М., 2001. С. 187.
(обратно)762
Новое время. 1882. 5 (17) октября.
(обратно)763
Полевой Б. Н. По поводу приезда и публичных лекций Н.Н. Миклухо-Маклая // Живописное обозрение. 1882. JNfe 32. С. 502.
(обратно)764
Носилов К.Д. Из воспоминаний о Н.Н. Миклухо-Маклае // Природа и люди. 1898. № 30. С. 486-487.
(обратно)765
Портрет кисти К. Маковского украшает ныне один из залов петербургского Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера), где хранятся коллекции, привезенные Миклухо-Маклаем. Портрет работы А. Корзухина, тогда же преподнесенный путешественником Екатерине Семеновне, в 1930-х годах находился в Киеве у Михаила-младшего; его поиски полвека спустя успеха не принесли. Авторское повторение этой картины Николай Николаевич подарил в 1886 году Маргерит, которая после смерти мужа увезла ее в Австралию. Ныне этот портрет находится в сиднейской библиотеке Митчелла. По некоторым сведениям, существовали и другие авторские копии этого портрета.
(обратно)766
Голос. 1882. 10 (22) октября.
(обратно)767
Дикарь перед судом науки и цивилизации // Восточное обозрение. 1882. 7 (19) октября. Статья без подписи, но, по имеющимся сведениям, написана Н.М. Ядринцевым, редактором этой газеты.
(обратно)768
Полевой Б.П. По поводу приезда… С. 501-502.
(обратно)769
ПФ АРА Н.Ф. 143. Оп. 1. Д. 52. Л. 47, 52.
(обратно)770
PRO. Fo. 534/31. F. 7.
(обратно)771
СС.Т. 5. С. 296.
(обратно)772
Там же.
(обратно)773
Записки Михаила Васильевича Сабашникова / Под ред. и с прим. А.Л. Паниной. М., 1995. С. 89; Боткина А.П. Павел Николаевич Третья ков в жизни и искусстве. М., 1960. С. 235—237.
(обратно)774
Известия РГО. 1882. Т. 18. Вып. 6. Отд. 1. С. 87-88.
(обратно)775
РГИА.Ф. 1409. Оп. 15. Д. 1485. Л. 1.
(обратно)776
Там же. Оп. 15. Д. 1485. Л. 8.
(обратно)777
Там же. Ф. 560. Оп. 21. Д. 409. Л. 5-6.
(обратно)778
ГАР Ф.Ф. 677. Оп. 1. Д. 898. Л. 1-2.
(обратно)779
ОРРНБ.Ф. 856. Д. 9. Л. 285.
(обратно)780
Там же. Л. 305.
(обратно)781
Там же. Л. 310.
(обратно)782
СС. Т 5. С. 413-420.
(обратно)783
ПФА РАН .Ф. 143. Оп. 1.Д.21.Л. 13-16.
(обратно)784
Новости и Биржевая газета. 1882. 28 октября (10 ноября).
(обратно)785
СС.Т. 5. С. 297.
(обратно)786
Миклухо-Маклай Н.Н. <Гончарство на Новых Гебридах, Новой Гвинее и островах Адмиралтейства> // СС.Т. 3. С. 343-344.
(обратно)787
Reception de M. de Miklouho-Maclay // Societe Historique et Circle Saint-Simon. Bulletin. 1-ereannee. Paris, 1883. P. 112-117. Перевод выступления Миклухо-Маклая: Миклухо-Маклай Н.И. <Новая Гвинея и папуасы»//СС. Т. 3. С. 345-349.
(обратно)788
Миклухо-Маклай Н.Н. Воспоминания о Тургеневе // СС.Т. 5. С. 574-575.
(обратно)789
Тургенев И.С. Полное собрание сочинений … Т. 15. М.; Л., 1968. С. 212-213. Пуф (фр. pouf) — одно из любимых словечек Тургенева. Здесь употреблено в значении «пустышка, дутая величина».
(обратно)790
СС.Т. 5. С. 307.
(обратно)791
АВПР И.Ф. 155.1-5. Оп. 403. Д. 105. Л. 3-3 об.
(обратно)792
Deacon R. A History of the Russian Secret Service. London, 1987. P. 57-62.
(обратно)793
Кропоткин П. Записки революционера. Пг; М., 1920. С. 344.
(обратно)794
BL. Mss. Add. 44546. F. 43.
(обратно)795
СС.Т. 5. С. 304-305.
(обратно)796
Там же. С. 306.
(обратно)797
Там же. С. 309, 315.
(обратно)798
Нельзя не отметить, что путешественник не настаивал на приезде брата в тропики, а предлагал ему тщательно обдумать свои предложения, взвесить все аргументы «за» и «против» и принять такое решение, какое он сочтет правильным. Михаил, как человек более трезвомыслящий и практичный, чем старший брат, скептически отнесся к туманным прожектам Николая и предпочел отправиться в поездку по Западной Европе и затем на стажировку в немецкие университеты.
(обратно)799
Там же. С. 312-313.
(обратно)800
Там же. С. 313-314.
(обратно)801
Миклухо-Маклай И.Н. Третье посещение Берега Маклая в 1883 г. // СС.Т. 2. С. 354.
(обратно)802
РГА ВМФ. Ф. 12. Оп. 2. Д. 23. Л. 28-29.
(обратно)803
Миклухо-Маклай Н.Н. Третье посещение… С. 357.
(обратно)804
Там же.
(обратно)805
Там же.
(обратно)806
Там же.
(обратно)807
Через полтора года О. Финш видел порядком одичавших копытных на окраине Бонгу. «Интересная парочка» и ее приплод досаждали местным жителям, совершая набеги на их огороды и плантации. Как гласит предание, записанное австралийским исследователем Ч. Сентинеллой, когда терпение бонгуанцев истощилось, они устроили на этих животных облавную охоту и перебили их. Островитяне стыдились содеянного, так как помнили, что этих «возмутителей спокойствия» привез им Маклай.
(обратно)808
Там же. С. 357-359.
(обратно)809
Миклухо-Маклай Н.Н. Второе пребывание на Берегу Маклая в Новой Гвинее (от июня 1876 г. по ноябрь 1877 г.) // СС.Т. 2. С. 205.
(обратно)810
РГА ВМ Ф.Ф. 410. Оп. 2. Д. 2125. Л. 26-27.
(обратно)811
Миклухо-Маклай Н.Н. Третье посещение… С. 363.
(обратно)812
РГА ВМ Ф.Ф. 410. Оп. 2. Д. 2125. Л. 36.
(обратно)813
Там же. Л. 35.
(обратно)814
Детство и юность Я.С. Кубари (1846-1896) прошли в Польше, откуда он эмигрировал в 1868 году. Посланный музеем Годефруа в Океанию, он поселился на Понапе и женился на местной жительнице. Кубари активно содействовал немецкой колониальной политике в южных морях: служил переводчиком на военном корабле, поднявшем немецкий флаг на нескольких островах, управлял немецкой плантацией на Новой Британии, а в 1887-1895 годах возглавлял факторию немецкой Новогвинейской компании на Берегу Маклая, где жестоко обращался с папуасами. Он захватил шесть земельных массивов для устройства крупных плантаций, в результате чего жители Горе иду и Гумбу лишились части своих земель и вынуждены были переселиться в Бонгу. Своими работами Кубари внес вклад в изучение природы и населения островов Океании.
(обратно)815
СС. Т. 5. С. 317-318.
(обратно)816
Там же.
(обратно)817
РГА ВМ Ф.Ф. 410. Оп. 2. Д. 2125. Л. 41.
(обратно)818
Там же. Л. 42.
(обратно)819
СС.Т. 5. С. 326.
(обратно)820
QSA. Col./1—4. В 1988 году, когда автор книги знакомился с этим фондом, он, как и многие другие, не был описан и не имел пагинации.
(обратно)821
СС.Т. 5. С. 322-323.
(обратно)822
BL. MSS Add. 44321. Р. 157-162.
(обратно)823
См. подробнее: Knaplund P. Sir Arthur Gordon on the New Guinea Question // Historical Studies. Australia and New Zealand. 1956. \fol. 7. № 27. P. 328-333; Chapman J. K. The Career of Arthur Hamilton Gordon, First Lord Stanmore, 1829-1912. Toronto, 1964. P. 294-297.
(обратно)824
CC. T 5. С 325-328.
(обратно)825
Там же. С. 336.
(обратно)826
Там же. С. 353.
(обратно)827
Там же. С. 316.
(обратно)828
Там же. С. 373.
(обратно)829
Там же. С. 394.
(обратно)830
Там же.
(обратно)831
Там же. С. 331-332.
(обратно)832
Там же. С. 332.
(обратно)833
Там же. С. 324.
(обратно)834
Там же. С. 341.
(обратно)835
ML. MSS 2169 (Ramsay Papers). В 1992 году, когда автор книги знакомился с этим фондом, он еще не был описан и не имел пагинации.
(обратно)836
СС.Т. 5. С. 346.
(обратно)837
Там же. С. 352.
(обратно)838
Там же. С. 357.
(обратно)839
Там же. С. 364.
(обратно)840
Там же. С. 414.
(обратно)841
Там же. С. 364.
(обратно)842
Some Fragmentary Notes by the Late Baron Mikloucho-Maclay. Astrolabe Bay, North East Coast, New Guinea // Journal of the Royal Geographical Society of Austolasia. 1897. Vol. 5. № 5. P. 111-116.
(обратно)843
CC. T. 5. C. 372.
(обратно)844
Путилов Б.Н. Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Страницы биографии. М., 1981. С. 154.
(обратно)845
СС.Т. 5. С. 276.
(обратно)846
Там же. С. 374.
(обратно)847
McDonald J. W. A Soldier of Fortune. The Life and Adventures of General Henry Ronald Mclver. New York, 1888.
(обратно)848
CC. T.5.C531.
(обратно)849
Там же. С. 337, 338-340.
(обратно)850
Материалы по истории авантюры Мак-Ивера и ее рассмотрения в английском правительстве и в печати см.: GBPCP. С—3863. Febr. 1884. London, 1884. P. 34-55.
(обратно)851
Новое время. 1884. 7 января.
(обратно)852
Our St. Petersbourg Letter// The Sydney Morning Herald. 1884. May 7.
(обратно)853
Миклухо-Маклай Н.Н. Берег Маклая на Новой Гвинее и протекторат // Новости и Биржевая газета. 1884. 22 мая (3 июня).
(обратно)854
Материалы межколониальной конференции 1883 г. см.: GBPCP С-3863. Febr. 1884. Р. 130-152.
(обратно)855
BL. MSS Add. 44142. F 14-17.
(обратно)856
СС.Т. 5. С. 381,383.
(обратно)857
Там же. С. 385.
(обратно)858
Там же. С. 377.
(обратно)859
АВПР И.Ф. 155.1-5. Оп. 403. Д. 104. Л. 76 об.
(обратно)860
Новости и Биржевая газета. 1888. 12 (24) апреля.
(обратно)861
Чарный И.С. Колониальная экспансия кайзеровской Германии // Колониальная политика империалистических держав в Океании. М., 1965. С. 64-83.
(обратно)862
СС.Т. 5. С. 390.
(обратно)863
Там же. С. 389, 390.
(обратно)864
Там же. С. 399-400. Письмо Миклухо-Маклая генералу Скрэтчли, опубликованное 6 января 1885 года в мельбурнской газете «Аргус», было перепечатано во многих английских и австралийских газетах.
(обратно)865
АВПРИ.Ф. 155.1-5. Оп. 403. Д. 104. Л. 16.
(обратно)866
Там же. Л. 41.
(обратно)867
Там же. Л. 15 об.
(обратно)868
Там же. Л. 55-55 об.
(обратно)869
Там же. Л. 63.
(обратно)870
СС.Т. 5. С. 391.
(обратно)871
АВПР И.Ф. 155.1-5. Оп. 403. Д. 104. Л. 77-77 об.
(обратно)872
В британскую парламентскую публикацию была включена депеша генерала Скрэтчли о встрече с Миклухо-Маклаем. Положительно отозвавшись о деятельности русского путешественника в защиту прав папуасов Берега Маклая и отметив, что «как цивилизующий фактор г-н Миклухо-Маклай заслуживает самой решительной поддержки и поощрения», генерал добавил: «Я воздержался от обсуждения с гном Маклаем политического аспекта этого вопроса, ограничившись заверением, что он будет пользоваться моей моральной поддержкой в случае, если мы станем соседями на Новой Гвинее».
(обратно)873
Там же. Л. 81-82 об.
(обратно)874
Там же. Л. 83.
(обратно)875
СС.Т 5. С. 401.
(обратно)876
Массов А.Я. Россия и Австралия во второй половине XIX века. СПб., 1998. С. 161.
(обратно)877
СС.Т. 5. С. 406.
(обратно)878
Там же. С. 417.
(обратно)879
АВПР И.Ф. 155.1-5. Оп. 403. Д. 104. Л. 135.
(обратно)880
СС.Т. 5. С. 429.
(обратно)881
Там же. С. 404-405.
(обратно)882
В конце марта 1885 года на реке Кушке состоялось вооруженное столкновение русских аванпостов с афганскими войсками, которыми руководили английские инструкторы. Афганцы вынуждены были отступить. Известие об этом столкновении вызвало крайнее раздражение в Лондоне. Там заговорили о призыве в армию резервистов. «Порохом запахло!.. — говорилось 23 марта в редакционной статье газеты «Новости». — Запахло не аллегорически, а в действительности. Раздались боевые выстрелы, и синею дымкою заволокло еще недавнюю, еще вчерашнюю надежду на сохранение мира». Кризис удалось преодолеть к концу апреля благодаря осторожной, дозированной уступчивости русской дипломатии.
(обратно)883
Там же. С. 406.
(обратно)884
Миклухо-Маклай Н.Н. <Выступление перед учащейся молодежью на выставке этнографической коллекции 12 (24) октября 1886 г.> // СС. Т. 5. С. 558.
(обратно)885
SUA. A 1076. S.p. Как и в некоторых других австралийских архивах, фонд биологической станции, находящийся в архиве университета Сиднея, в 1992 году не был упорядочен, а потому невозможно дать более точную ссылку.
(обратно)886
Our St. Petersbourg Letter // The Sydney Morning Herald. 1885. Aug. 28.
(обратно)887
The Sydney Morning Herald. 1885. Sept. 3.
(обратно)888
После возвращения Миклухо-Маклая в Россию биологическая станция прекратила свое существование. Ее здание и участок перешли к военному ведомству, и здесь поселился полковник Ричардсон, а потом другой старший офицер. Что касается Ричардсона, то он в 1896 году окончил свои дни в сумасшедшем доме.
(обратно)889
Миклухо-Маклай Н.Н. Список растений, используемых туземцами Берега Маклая на Новой Гвинее // СС.Т. 3. С. 96—97, 99.
(обратно)890
Там же. С. 94-100.
(обратно)891
Миклухо-Маклай Н.Н. О вулканической деятельности на островах близ северо-восточного берега Новой Гвинеи и признаках поднятия Берега Маклая на Новой Гвинее // СС.Т. 4. С. 211—214.
(обратно)892
Миклухо-Маклай Н.Н. Заметка о «кеу» Берега Маклая на Новой Гвинее//СС.Т. 3. С. 101-107.
(обратно)893
Миклухо-Маклай Н.Н. Вторая заметка о «макродонтизме» меланезийцев // Там же. С. 288-292.
(обратно)894
Миклухо-Маклай Н.Н. Один день в пути // СС.Т. 2. С. 364; СС.Т. 5. С. 447.
(обратно)895
Одесский вестник. 1886. 1(13) мая; СС.Т. 5. С. 368-369.
(обратно)896
При погрузке коллекций в железнодорожные вагоны несколько ящиков затерялось, о чем не знал Миклухо-Маклай. Как утверждают очевидцы, в советские годы в Одесском археологическом музее хранилось немало предметов из этих коллекций, в том числе керамические сосуды; о них написал дипломную работу студент местного пединститута Ю.Г. Разуменко. Деструктивные процессы в политической и культурной жизни «незалежной» Украины отразились на деятельности одесского музея. Долгие годы он был лишен финансирования, музейные фонды заметно поредели. Вразумительной информации о местонахождении остававшихся в Одессе предметов из коллекций ученого получить не удалось.
(обратно)897
Там же. 18 (30) апреля.
(обратно)898
СС.Т. 5. С. 447.
(обратно)899
Там же. С. 450.
(обратно)900
Николай Николаевич Миклухо-Маклай [автобиография] // СС.Т. 5. С. 573.
(обратно)901
Бардах Я. Воспоминания об И.И. Мечникове // Врачебное дело. 1925. № 15.Стб. 1200.
(обратно)902
Миклухо-Маклай А.Д. Новые данные о Николае Николаевиче Миклухо-Маклае и его родных // Страны и народы Востока. Вып. 29. СПб., 1994. С. 189,192.
(обратно)903
Письмо М.Н. Миклухо-Маклая [младшего] акад. И.Ю. Крачковскому, 28 апреля 1938 г. // АРГ О.Ф. 6. Оп. 4. Д. 3. Л. 6 об.
(обратно)904
Новости и Биржевая газета. 1886. 15(27) июня.
(обратно)905
У Н.Н. Миклухи-Маклая // Петербургская газета. 1886.4 (16) июня.
(обратно)906
СС.Т. 5. С. 453.
(обратно)907
У Н.Н. Миклухи-Маклая…
(обратно)908
СС.Т. 5. С. 453.
(обратно)909
Модестов В.И. В добрый час // Новости и Биржевая газета. 1886. 1 (13) июля.
(обратно)910
Модестов В.И. Памяти Н.Н. Миклухо-Маклая // Новости и Биржевая газета. 1888. 12 (24) апреля.
(обратно)911
См. подробнее: Грумм-Гржимайло А.Г. Н.Н. Миклухо-Маклай на фоне современной ему эпохи // Известия РГО. 1939. Т. 71. Вып. 1/2. С. 135-149.
(обратно)912
Новости и Биржевая газета. 1886. 4 (16) июля. Здесь опубликованы две заметки о встречах с Миклухо-Маклаем.
(обратно)913
У Н.Н. Миклухи-Маклая // Петербургская газета. 1886.4(16) июля.
(обратно)914
Там же.
(обратно)915
Семенов П.П. История полувекой деятельности Русского географического общества. 1845-1895. СПб., 1896. Ч. 2. С. 939.
(обратно)916
СС.Т. 5. С. 462.
(обратно)917
Вольская Б.А. Проект Н.Н. Миклухо-Маклая о создании на островах Тихого океана русской вольной колонии // Австралия и Океания (История и современность). М., 1970. С. 39.
(обратно)918
Webster Е. М. The Moon Man. A Biography of Nikolai Miklouho-Maclay. Carlton, Vict., 1984. P. 322, 384.
(обратно)919
CC. T. 5. С 464.
(обратно)920
АРГ О.Ф. 1-1881. On. 1. Д. 25. Л. 61.
(обратно)921
СС.Т. 5. С. 468.
(обратно)922
Там же. С. 470.
(обратно)923
Толстой Л.К. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1934. Т. 63. С. 378-379.
(обратно)924
СС.Т. 5. С. 483.
(обратно)925
Пресс А. Миклухо-Маклай (по поводу 25-летия со дня его кончины) // Нива. 1913. № 16. С. 314.
(обратно)926
См. подробнее: Путилов Б.Н. Этнологическая выставка Н.Н. Миклухо-Маклая в 1886 г. // Народы бассейна Тихого океана. Общество, история, культура. СПб., 1994. С. 27-37.
(обратно)927
В 1891 году пожеланию М.Н. Миклухо-Маклая антропологические и зоологические коллекции его покойного брата, находившиеся в РГО, были распределены между МАЭ и зоологическим музеем Академии наук. Небольшая часть коллекций, оставшаяся в Сиднее, поступила в музей У. Маклея.
(обратно)928
Миклухо-Маклай Н.Н. <Конспекты лекций в Петербурге в ноябре- декабре 1886 г.> // СС.Т. 3. С. 308-342.
(обратно)929
АВПРИ.Ф. 155.1-5. Оп. 403. Д. 104. Л. 14.
(обратно)930
Там же. Л. 18 об.
(обратно)931
СС.Т 5. С. 460-461.
(обратно)932
<Миклухо-Маклай Н. Н.> Наброски правил для желающих поселиться на островах Тихого океана // СС.Т. 5. С. 561.
(обратно)933
СС.Т. 5. С. 461.
(обратно)934
Там же. С. 471.
(обратно)935
Журнал Особого Комитета, Высочайше учрежденного для рассмотрения предложений Н.Н. Миклухо-Маклая //АВПР И.Ф. 155. 1-5. Оп. 403. Д. 103. Л. 192-203 с об.
(обратно)936
Дневник Д.А. Милютина. Т. 3. М., 1950. С. 85.
(обратно)937
DZP RKA. Sign. 2985. Bd. 2. Bl. 1, 45-46.
(обратно)938
АВПР И.Ф. 155.1-5. Оп. 403. Д. 104. Л. 202 об.
(обратно)939
Там же. Д. 103. Л. 106.
(обратно)940
Там же. Л. 108-109.
(обратно)941
СС.Т. 5. С. 485.
(обратно)942
Там же. С. 482.
(обратно)943
Модестов В.И. Памяти Н.Н. Миклухо-Маклая.
(обратно)944
Я. Я.В. Н.Н. Миклухо-Маклай // Русский курьер. 1886.15 (27) июня.
(обратно)945
СС.Т. 5. С. 487.
(обратно)946
Отдел антропологии МАЭ. Опись колл. 6499. S.p.
(обратно)947
В 1938 году, при перезахоронении праха Миклухо-Маклая на Литераторских мостках Волкова кладбища в Ленинграде, его череп был передан Географическому обществу, а оттуда, во исполнение завещания ученого, в 1962 году поступил в МАЭ. Рентгено-анатомическое исследование черепа, произведенное в том же году членом-корреспондентом Академии медицинских наук Д.Г. Рохлиным, позволило установить истинную причину смерти «белого папуаса». Очевидно, в последние месяцы жизни путешественника к опухоли тройничного нерва прибавились раковые метастазы в области мозгового отдела черепа, которые губительно сказались на работе многих внутренних органов.
(обратно)948
Миклухо-Маклай Н.Н. <Заявление Общему собранию РГО 4(16) февраля 1887 г> // СС.Т. 5. С. 559.
(обратно)949
РГИ А.Ф. 1409. Оп. 15. Д. 1485. Л. 29-30, 33.
(обратно)950
Кронштадтский вестник. 1886. 3(15) декабря. Уже в 1887-1888 годах служащие немецкой Новогвинейской компании во главе с С. Кубари захватили на побережье залива Астролябия шесть земельных массивов для устройства крупных плантаций кокосовых пальм. Одна из них, Меламу, была основана в бухте Порт-Константин. В результате жители деревень Горенду и Гумбу лишились части своих земель и вынуждены были переселиться в Бонгу. См.: Тумаркин Д.Д. Хозяйство папуасов Бонгу // На Берегу Маклая (Этнографические очерки). М., 1975. С. 87-88.
(обратно)951
АВПР И.Ф. 155.1-5. Оп. 403. Д. 104. Л. 191-191 об.
(обратно)952
СС.Т. 5. С. 484.
(обратно)953
Там же. С. 489-490.
(обратно)954
Там же. С. 491-492.
(обратно)955
ПФ АРА Н.Ф. 143. Оп. 1. Д. 40. Л. 47-49.
(обратно)956
Там же. Л. 40-46.
(обратно)957
СС.Т. 5. С. 493-494.
(обратно)958
М.М. 88\006\0042.
(обратно)959
Новости и Биржевая газета. 1887. 17 (29) июля.
(обратно)960
СС.Т. 5. С. 495.
(обратно)961
ГАР Ф.Ф. 102. Д.П. 7 делопроизводство. Оп. 79. 1890. Д. 225. Т. 1. Л. 375-376. Т. 2. Л. 49-49 об.
(обратно)962
Miklouho-Maclay M. Diary. 1880 // ИЭ А.Ф. 8. Оп. 1. Д. 2. Л. 28. Дневник Маргерит далее цитируется по этой ксерокопии, присланной из Австралии.
(обратно)963
Киевлянин. 1887. 15 (27) августа.
(обратно)964
СС.Т. 5. С. 497.
(обратно)965
Миклухо-Маклай Н.Н. На несколько дней в Австралию (Из путевых заметок 1887 г.). I // СС.Т. 2. С. 378-392.
(обратно)966
Миклухо-Маклай Н.Н. Островок Андра (Из дневника 1879 г. <Ч. 1-2>) // СС.Т. 2. С. 245-298.
(обратно)967
Миклухо-Маклай Н. Н. На несколько дней в Австралию. II // СС.Т. 2. С. 393-402.
(обратно)968
Модестов В.И. Памяти Н.Н. Миклухо-Маклая.
(обратно)969
Souter G. Company of Heralds. A Century and a Half of Australian Publishing by John Fairfax and His Predecessors. 1831-1981. Carlton, Vict., 1981.
(обратно)970
ПФ АРА Н.Ф. 143. Оп. 1. Д. 40. Л. 4-5.
(обратно)971
Miklouho-Maclay N. Diary. F. 5.
(обратно)972
Ibid. F. 15.
(обратно)973
Ibid. F. 27.
(обратно)974
Ibid. F. 17.
(обратно)975
Ibid. F. 39.
(обратно)976
Ibid. F. 48.
(обратно)977
Ibid. F. 49-50.
(обратно)978
Ibid. F. 52.
(обратно)979
Ibid. F. 53.
(обратно)980
Там же. 1888. 4 (16) апреля.
(обратно)981
Там же. 6(18) апреля.
(обратно)982
Швецов В. Памяти Н.Н. Миклухо-Маклая // Сын отечества. 1888. 12 (24) апреля.
(обратно)983
Елисеев А. Памяти Н.Н. Миклухо-Маклая // Новое время. 1888. 5 (17) апреля.
(обратно)984
Н.Н. Миклухо-Маклай // Русские ведомости. 1888. 5 апреля.
(обратно)985
Finsch О. Nikolas vОп Miklucho-Maclay. Reisen und Wirken // Deutsche Geographische Blatter. 1888. Bd. 11. Hf. 3/4. S. 270-369.
(обратно)986
Известия РГО. T. 24. Вып. 6. С. 505; Т. 25. Вып. 1.
(обратно)987
Miklouho-Maclay M. Diary. F. 56.
(обратно)988
Ibid. F. 59.
(обратно)989
Михаил Николаевич занимался разборкой уцелевших бумаг несколько месяцев. Наконец в конце сентября 1888 года рукописи и другие материалы покойного ученого были официально переданы в распоряжение РГО.
(обратно)990
Новости и Биржевая газета. 1888. 12(24) апреля.
(обратно)991
Miklouho-Maclay N. Diary. F. 68-70.
(обратно)992
Ibid. F. 79-136.
(обратно)993
Ibid. F 93.
(обратно)994
Судьба Марии Дмитриевны была печальной. Она попала в поле зрения охранки еще в Малине, где встречалась с учительницей, находившейся под надзором полиции. Началась секретная переписка между Киевским и Петербургским жандармскими управлениями и их охранными отделениями. Ко времени возвращении Марии из Лондона жандармы собрали на нее небольшое досье. Вначале Мария жила в квартире у Михаила, но вынуждена была переменить местожительство, поссорившись с соседкой «по политическим вопросам». Некоторое время она работала за гроши белошвейкой в швейных мастерских, а в 1891 году попала в Обуховскую больницу со скоротечной чахоткой, предвещавшей скорый конец. Поэтому решено было уголовного дела против нее не возбуждать.
(обратно)995
Наблюдатель. 1888. Ноябрь. С. 58.
(обратно)996
Модестов В.И. Памяти Н.Н. Миклухо-Маклая.
(обратно)997
St. Petersburger Herald. 1886. July 13(25).
(обратно)998
BrandesG. ImpressiОпs of Russia. L. 1880. P. 118.
(обратно)999
Народ. 1899. 18 марта.
(обратно)1000
Маргерит Робертсон-Маклай умерла в Сиднее в 1936 году. Ее сыновья сохранили память об отце и его фамилию. Сегодня на пятом континенте живут правнуки и праправнуки ученого. В 1996 году в честь 150-летия со дня его рождения в Сиднейском университете установлен его бюст работы скульптора Г. Распопова.
(обратно)1001
Буянов М.И. Дар. М., 2004. С. 28.
(обратно)1002
Metchnikoff L. La civilizatiОп et le grands fleuves historiques. Paris, 1889. P. 146. Мечников умер в 1888 году, и его книга была опубликована посмертно, под редакцией и с предисловием Э. Реклю.
(обратно)1003
PRO. Fo. 534/31. P. 1.
(обратно)1004
СС.Т. 5. С. 181.
(обратно)1005
Тургенев И.С. Гамлет и Дон-Кихот // Собрание сочинений. Т. 13. М., 1998. С. 222-242.
(обратно)1006
<Миклухо-Маклай Н. Н.> Памятная записка об организации Русского Тихоокеанского товарищества // СС.Т. 5. С. 561—563.
(обратно)1007
Spate О. Н.К. Foreword // Webster E.M. The Moon Man. P. VII.
(обратно)1008
Тургенев И.С. Гамлет и Дон-Кихот. С. 238.
(обратно)1009
Друнина Ю. Страна юность. Избранные стихи. М., 1967. С. 265.
(обратно)

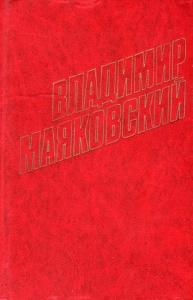
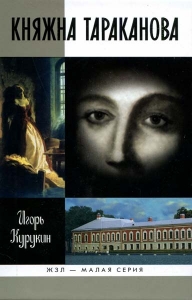


Комментарии к книге «Миклухо-Маклай. Две жизни «белого папуаса»», Даниил Давидович Тумаркин
Всего 0 комментариев