К читателям
Книга Нелюбина Алексея Александровича «Рассказы» состоит из четырех частей. Каждая часть озаглавлена одним из рассказов, отображающего основной смысл этой части. Рассказы Нелюбина А.А. это именно рассказы. Так и видишь за метким и озорным словом добрую улыбку автора, слышишь его голос. Такие рассказы лучше слушать, чем читать.
Сюжет их не надуман, а взят из самой жизни. Это воспоминания самого Нелюбина А. или откровения его друзей, знакомых. Сборник рассказов, художественный документ доперестроечных лет, своеобразная летопись эпохи.
Большинство произведений, помещенных в книгу, в разное время охотно публиковали нижегородские — горьковские газеты, и некоторым рассказам присуждались различные премии литературных конкурсов.
Автор описывает своих героев в экстремальных ситуациях, выявляет острые нравственные проблемы и просто живописует бытовые юмористические случаи. Мне кажется, иные читатели, прочитав эту книгу, будут ее пересказывать. Рассказы тогда вновь заживут первоначальной устной жизнью, так ярки, типичны, узнаваемы их герои.
Хочется верить, что эта книга найдет своего широкого читателя и будет переиздана в крупном издательстве, в хорошей редакции, так как данная книга уникальна.
Член Союза писателей России А. Фигарев
От автора
Бог, создавая человека, открыл ему смысл жизни и поведал о четырех заповедях, которые человек должен исполнить при жизни на земле:
1. Родить и воспитать человека.
2. Посадить дерево.
3. Построить жилище.
4. Написать книгу.
Первые три заповеди мною выполнены в молодом и зрелом возрасте, а вот четвертую довелось исполнить под занавес жизни. Книга почти автобиографична. Конечно, в одной маленькой книжице невозможно изложить жизнь любого человека, дожившего до преклонных лет, поэтому я пытаюсь донести до читателя отдельные, наиболее яркие моменты. По темам рассказы подобраны так, чтобы легче читались, запоминались и заставляли задуматься.
Выражаю глубокую благодарность всем моим друзьям, принявшим бескорыстное участие в выпуске этой книги.
Часть 1. Ладанка
Так началась война
Мое поколение встретило войну в возрасте 13-14 лет учениками 6-7 классов. В этом возрасте мы уже осознавали беду, пришедшую в страну и в каждую семью. Именно этому поколению досталась доля испытать и вынести на своих неокрепших плечах тяготы и потрясения тыла воюющей страны. Сразу в первый же год мое поколение встало на место ушедших на фронт старших братьев и отцов — за плугом, за верстаком, за станком. Нелегкая судьба досталась этому поколению, а вспомнили о нем только 44 года спустя, добавив за военные годы небольшую дотацию к пенсии. Лозунги — Что ты дал фронту?! Все для фронта, все для победы! — для нас были не просто словами. Они двигали нами, и мы своим трудом претворяли их в действительность. В общем всенародном вкладе в разгроме фашизма есть и наша доля. А чтобы это осталось в памяти наших детей и внуков, приглашаю всех своих ровесников поделиться личными воспоминаниями.
22 июня 1941 года. Воскресенье. Тепло и солнечно. Накануне директор Бутурлинской средней школы собрал нас, мальчишек, учеников 5-7 классов, кто побойчее, и рассказал, что в воскресенье намечается большое массовое гулянье. Приедут гости, артисты, физкультурники. Будут качели, буфеты, музыка. Гуляющая публика должна собраться к 10 часам на «Каравашек». Это уютная круглая березовая рощица на берегу реки Пьяны в трех километрах от районного центра. Наша команда должна была прибыть раньше, развесить по сучкам гирлянды, флажки; расставить скамейки, протянуть провода от передвижной радиостанции к громкоговорителям. Ну кому доверят такое «важное» дело — лазить по деревьям? Конечно, нам. В этом деле мы были мастера непревзойденные.
К десяти часам все было подготовлено. Начали прибывать гости. С песнями, на празднично украшенных лошадях, на автомашинах с флагами. Люди шли пешком, ехали на велосипедах, по реке подплывали на лодках. Все — нарядно одетые, с цветами и зелеными ветками. Громкоговорители уже веселили прибывающих песнями и разудалыми частушками. Буфеты развернули свою деятельность. На полянку вышло районное начальство, поприветствовало гостей, пожелало праздничного настроения. Праздник начался.
Около одиннадцати часов из районного центра приехала грузовая машина. Из машины вышел районный военком и направился к столику, где сидело начальство. В следующую минуту замолкли радиодинамики. Секретарь райкома вышел на середину полянки и попросил народ подойти к нему поближе.
— Товарищи! Спокойствие и внимание! — начал он.
— Сегодня в четыре часа утра фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. Мы должны ответить сокрушительным ударом. По всей стране вводится военное положение и всеобщая мобилизация.
— Сейчас все мужчины призывного возраста должны явиться в райвоенкомат. При себе иметь пару сменного белья, ложку, кружку и продуктов питания на три дня. Война предстоит долгая и кровопролитная.
Предвидел секретарь. Люди сразу засуетились, засобирались. Веселое настроение и улыбки как ветром сдуло. В первую очередь уезжали молодые мужчины и парни. Через час на поляне не осталось ни одного человека. Это было в 12 часов, а спустя четыре часа на ближайшую железнодорожную станцию был уже подан состав из теплушек. И вот только тогда провожающие и отъезжающие сердцем почувствовали, что война началась, что они расстаются надолго, а, может быть, и навсегда.
Подали паровоз, лязгнули буфера. Звук этот как ножом полоснул по женским сердцам. Враз хлынула река материнских слез. Всеобщие рыдания в тысячу женских и детских голосов заглушали команды командиров. Не успел отойти первый эшелон, как в свободный тупик подали второй. В общий плач и стенания, в игру гармошек и выкрики рекрутских частушек ворвался мощный строй духовых инструментов. Оркестр заиграл марш «Прощание славянки». Ох, уж эти станции, вокзалы, пристани! Никто, наверно, не видел столько слез, сколько эти перекрестки людских судеб. На запад летели составы с боевой техникой, с людской силой, с продовольствием и материалами. А обратно уже шли с красными крестами. Увозили первые жертвы войны, раненых и контуженых, подальше за Урал. Ровно через месяц пришли первые похоронки и появились раненые односельчане. Были случаи, когда на станции санитарный поезд останавливался против воинского. Слышались приветствия и вопросы:
— Как там немец, братва?!
— Прет немец, прет. Железом давит! Вы, уж держитесь покрепче, мы не смогли!
— Ну выздоравливайте да опять к нам на подмогу торопитесь! И торопились. Некоторые по нескольку раз возвращались в это ненасытное пекло.
За один месяц были призваны и отправлены пять призывных возрастов. Основная рабочая сила из города и деревни встала под ружье, а на их место пришли женщины и подростки. Так началась трудовая биография.
Так началась для меня война.
Немец
Подготовка немцев к Курской битве, несомненно, отразилась и на Горьковской области. Участились бомбардировки городов: Арзамаса, Богородска, Балахны, даже в Б. Мурашкине на базарной площади упали три бомбы. Особенно ожесточенному нападению подвергался сам город Горький, где вся жестокость фашистов обрушивалась в основном на автозавод. Знали немцы, какой вес имел этот гигант в обороне страны, его они и хотели уничтожить в первую очередь. Естественно, правительство и командование нашей армии принимали меры для охраны этого важнейшего для страны объекта. На дальних подступах к городу вражеские самолеты встречались нашими истребителями, завязывались воздушные бои с их сопровождением. При подходе к городу по всему периметру вспыхивал зенитный заградительный огонь. В центре города, в Гордеевке, на Стрелке, в Молитовке, в Стригинском Бору стояли десятки зенитных батарей, управляемых локаторами и звукоулавливающими установками. Били они прицельно на поражение и не раз достигали успеха.
К осени немец изменил свою тактику дневных нападений и начал прилетать ночью. С целью освещения земли он приспособился сбрасывать на парашютах специальные осветительные бомбы, «Этажерки», зловещий смертоносный свет которых даже за десятки километров подтверждал свое коварное предназначение. Опасаясь погибнуть под развалинами, многие жители временно выехали в районы области к своим родным и знакомым. Появились такие и в нашей деревне. По вечерам, когда начиналась очередная бомбежка, мы, подростки, вместе с ними поднимались по косогору на возвышенность и смотрели в сторону Горького. А там, по окаему горизонта, четко было видно, как вспыхивали огненные смерчи, светили «этажерки», проносились и рвались трассирующие снаряды. Огненные мечи прожекторов кромсали небо вдоль и поперек. Нам, неопытным, неведомо было, но взрослые знали, что в это время на той земле свирепствовал огонь, рушились дома, погибали люди. При каждом сильном всполохе женщины, как в грозу, крестились, шептали молитвы и утирали слезы. Зрелище было не для слабонервных.
В 1943 году, учитывая сложную военную обстановку, по всем районам области начали организовываться отряды самообороны из бойцов, вернувшихся с фронта по ранению, и старшеклассников. Такой отряд был сгруппирован и в нашей школе. Собирался он и выезжал на места событий по команде начальника милиции или райвоенкома. А немец с каждым днем становился все наглее. Его самолеты-разведчики в открытую, днем начали летать вдоль железной дороги Горький-Казань, обстреливать воинские эшелоны и бомбить станции. Один такой как-то появился над станцией Смагино. Пострелял. Ему ответили с платформы из зенитного пулемета, но опоздали. Улетел. Шуму только наделал, как говорили, посеял панику. А через несколько дней — еще новость. Позвонили начальнику милиции из дальнего сельсовета: «Поймали немца-летчика, но, может быть, он не один. Приезжайте с отрядом».
И вот наш отряд из десяти человек, вооруженный малокалиберными винтовками, на двух подводах понесся в ту сторону. Приехали после полудня. Прочесали прилегающий к деревне овраг, небольшой лесок, кусты и вышли на ржаное поле, где приземлился самолет. Его уже охраняли местные самооборонщики. Осмотрели. Двухместный Юнкерс, — «лапотник» — так его называли наши летчики. Зарылся колесами глубоко в пашню. Как еще не перевернулся, а то бы взорвался. Оказалось потом, они в эту ночь бомбили автозавод и попали под зенитный обстрел. Осколком снаряда в передней кабине разбило все приборы. Они потеряли ориентацию и решили пойти на вынужденную посадку. Уже на рассвете один из них выпрыгнул где-то с парашютом, а другой решил садиться. Опытный оказался. В сельсовете, где мы все собрались, узнали подробности. Утром немца увидели две школьницы, шедшие в школу. Он сидел у дороги на своем парашюте в шлеме и в кожаном костюме. Жестами рук, головой и улыбкой приглашал девочек к себе. Они, увидев чужого человека, да еще в странном одеянии, бросились наутек. Но убедившись в том, что их никто не преследует, осмелели и вернулись. Он показал им, как он будет пить воду. Догадались. Сбегали до деревни, принесли кувшин. Напившись, он развернул парашют, показал на белую шелковую ткань и на девичьи кофточки. Сообразили проказницы. Понравился подарок. Унесли за старый омет соломы и спрятали. Вернулись опять к немцу, подхватились под ручки, как на гулянье, и направились по дороге, которая привела их прямо в сельсовет. В конторе он добровольно выложил на стол пистолет, ракетницу, летный планшет, документы. Потом из какой-то металлической баночки угощал всех шоколадными конфетами и сушеными фруктами. Это был его борт-паек. Белокурый, белозубый, роста выше среднего, упитанный и ухоженный, он сидел за столом, как хозяин положения. Своей осанкой, жестами, пренебрежительной улыбкой старался подчеркнуть свое превосходство над нами, русскими. Разговор с ним не получился, так как никто из нас немецкого языка не знал, кроме общеизвестных школьных фраз. Даже учительница этого предмета из местной школы ясности не добавила. Узнали только, что имя ему Фриц. Родился в 1925 году в Баварии. Решили везти его в район, а там по железной дороге отправить в Горький. В ночь не поехали. Расположились на ночлег. Летчика заперли в чулан при сельсовете, предварительно наносив туда соломы для устройства постели. Отдежурив в коридоре у чулана один час, мы с товарищем отправились спать.
Утром, с восходом солнца, собрались в путь. Вывели Фрица. И вдруг я его не узнал. Вместо кожаной куртки на нем была поношенная колхозная фуфайка-телогрейка. Шелковую рубашку и китель сменила старая деревенская косоворотка, на ногах вместо высоких теплых ботинок кирзачи. Штаны только не сняли, постеснялись, видно. И сам он выглядел каким-то помятым, приниженным. Волосы всклочены, глаза подпухшие. Куда делась его вчерашняя барская спесь. Здорово же постарались наши старшие товарищи. Знать, за живое задело их надменное поведение баварца. Усадили его на переднюю подводу. Кто-то из местных мужиков принес сыромятный ремень и привязал мертвым узлом одну ногу пленника к задней подушке телеги. «Это, чтобы ему не вздумалось убежать от вас!» — пояснил мужик. Так он привязывал пойманных матерых волков, если их нужно было доставить живыми. Тронулись. Ехали ходко, но молва опережала нас. В каждой деревне, которые нам приходилось проезжать, народ уже встречал нас и провожал до околицы. Каждому хотелось взглянуть на живого немецкого летчика. Некоторые женщины, потерявшие близких родных на фронте, плевали в его сторону, грозили кулаками и обзывали иродом, извергом, фашистом. Мужики же судили по-своему: «Сытый, черт. Отъелся на нашей пшеничке. С таким встретишься один на один, туго придется». А сердобольные старушки удивлялись его молодости и жалостливо произносили: «Молоденький какой! Совсем недавно от матери оторвался. У нее ведь тоже сердце болит за свое дитя». Предлагали ему, кто хлебушка ломтик, кто молока кружку. А он, сидя в соломе на телеге, затравленно озирался по сторонам и как проклятие или молитву беспрестанно повторял: «Рус капут! Рус капут!» Приехали в район, а там уже ожидала военная крытая машина с двумя сотрудниками «Смерша». И какое было у нас удивление, когда немец, взобравшись в машину, махнул нам рукой, сказал свое: «Рус капут», — и на чистом русском языке добавил со злостью: «Будьте, вы, прокляты! Скоро мы с вами рассчитаемся!». Громом бы нас так не поразило.
Вера
Весть о прибывших вчера на соседнюю станцию детях из Ленинграда разлетелась по деревне моментально. А сегодня уполномоченный от района ходил по нашим порядкам, беседовал с женщинами и сообщал, что завтра на станцию Смагино тоже прибудет санитарный вагон с ленинградскими детьми, что часть детей возьмет местный военный госпиталь, остальных нужно будет разобрать по семьям, обиходить, подкормить, приютить до лучших времен. Желающих он записывал в тетрадку. Женщины с сочувствием слушали его и обещали прийти ко времени, благо до станции ходу было не более получаса. Мама наша тоже дала согласие. Придя домой, собрала в круг нас, четверых детей, рассказала о разговоре с уполномоченным и предупредила, чтобы завтра с утра мы не разбегались. Вечером отец, закончивший свой двенадцатичасовой рабочий день в кузнице, одобрил мамино решение: «Картошки хватит, да и молоко свое, а на хлеб дадут карточку. Спать на полу места всем хватит». Спали мы, действительно, все четверо на полу, на соломенном матрасе. Укрывались одним большим, сшитым из лоскутков, одеялом.
Наутро, закончив домашние дела, мы впятером отправились на станцию. К полудню там уже собралось народу, как на базаре. Одни добирались пешком, другие приехали на велосипедах и на подводах. Родные стояли кучками, что-то обсуждали. Часто спрашивали дежурного железнодорожника: «Скоро ли?»
И вот санитарный поезд остановился против станции. Из первого вагона вышли: военный и две медицинские сестры. После разговора с районным начальством санитары начали выносить детей, усаживать и укладывать их на лужайке. Вынесли двадцать человек, остальных, сказали, повезут дальше. Попрощавшись с нами тремя короткими гудками, состав застучал колесами. А люди какое-то время еще стояли в сторонке. Но вот по просьбе уполномоченного собравшиеся подошли поближе к детям, и взору встречавших предстало неописуемое.
На траве в маленькой кучке копошились какие-то неземные существа. Некоторые в изнеможении лежали без движения… Прах, тлен, да и только. Лица, руки, тела их настолько были худы, что даже не верилось, что в них еще теплится жизнь. Косточки, чуть покрытые кожицей, выступали в суставах острыми углами. Глубоко запавшие глаза выражали безразличие и отрешенность. Спутанные отросшие волосы закрывали лица. Какие-то пятна и короста покрывали их тела. Одежда висела, как на колышках. По одинаково сморщенным беззубым лицам невозможно было определить ни пол, ни возраст. Все казались маленькими древними старичками. На самом же деле их возраст был от восьми до четырнадцати лет. Это ужасающее зрелище тронуло женские сердца, люди не выдержали, и, многоголосый плач с причитаниями слился в единый стон. Первыми были взяты в госпиталь дети, лежавшие без движения, затем очередь пошла по списку. У каждого ребенка на руке была маленькая белая повязочка, а на ней порядковый номер и имя.
И больше никаких сведений, все отдавалось на волю судьбы.
Подошла наша очередь. Мама прочитала на руке ребенка: номер одиннадцать и имя Вера, взяла ее на руки. Мы окружили их и начали решать, что делать дальше. Решили: нужна тележка. У своих сверстников в пристанционном поселке я раздобыл такую. Осторожно уложив Веру на подостланную одежку и обложив ее со всех сторон соломой, мы двинулись в путь. Ехали тихо. Всю дорогу мама только и повторяла: «Потише! Потише! Не трясите! Не трясите!» Перед ухабами крестилась и шептала: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» По дороге мама уже обдумала весь дальнейший план действий. Дома в первую очередь напоила Веру с ложечки теплым молоком. Потом остригла ее ножницами под гребешок, сняла одежонку и велела ее сжечь на огороде. На большой горячей русской печи в корыте вымыла Веру и уложила там же спать, а нас заставила по очереди дежурить около нее и ждать, когда она проснется. На другой день опять — молоко и жидкая кашица. И так каждый день, недели две. По вечерам мама подолгу просиживала около Веры, читала разные молитвы, кропила святой водой. Русская женщина, мать семерых детей, знала, что нужно делать.
Мы стали замечать, что цвет лица у Веры начал меняться из землистого в телесный. Однажды утром у нее проявился голосок. Вера попросилась на двор. Мы несказанно обрадовались этому событию: значит, дело пошло на поправку, но до человеческого облика было еще далеко. Родные наши, близкие, знакомые, соседи при встрече с нами непременно справлялись о здоровье Веры, а узнав, что она поправляется, понесли ей гостинцы: яичко, стаканчик сметаны, оладышки, кто что может. Люди с глубоким сочувствием, близко к сердцу принимали Ленинградскую трагедию и вносили каждый свою лепту в общее дело.
А время двигалось. Появилось желание поговорить. Мы охотно разговаривали с ней и отвечали на ее вопросы. Мама, учитывая наше детское любопытство, строго-настрого наказала: «Вере никаких вопросов о родителях не задавать. Не бередить детскую душу!» И мы добросовестно соблюдали этот наказ, даже не смели спросить, сколько ей лет. Подошла осень. Мы, ребятня, отправились в школу. Вера, оставаясь одна, затосковала. Мама и тут нашла выход. Стала приглашать детей, учившихся во вторую смену. И они шли. Играли, стараясь развеселить и успокоить ее. Наступила зима 1944 года. Одежду принесли опять те же милосердные люди. А спать Вера перебралась с печи под наше общее одеяло и чувствовала себя вполне уютно. Спокойная обстановка, режим питания делали свое дело. Заехавшие из госпиталя врачи дали заключение, что к весне Вера будет нормальным человеком.
Весна не заставила себя долго ждать. Вера почувствовала прилив сил. Стала все больше интересоваться фронтовыми новостями и спрашивать взрослых, как живет Ленинград. Детское сердечко, видно, болело за свой город, за родных, оставшихся в блокаде.
На лето Веру взяли в бригаду молодых доярок, таких же, как и она, эвакуированных, учетчиком молока. К этому времени ей исполнилось 15 лет. Выглядела она уже серьезной, представительной девушкой. Округлились плечи, ноги приобрели стройность. Ничто уже не напоминало, что это человек, «вставший из тлена». На вечерах в клубе местные парни считали своим долгом пригласить ее на танец. В свободные минутки Вера прибегала в наш дом, целовала маму, обнимала нас как родных братьев и сестер, чаевничала за нашим столом и все торопила события на фронте.
1944 год. С 11 января по 1 марта фронт отступил от Ленинграда в сторону запада на 280 километров. Город окончательно освободился от блокады, но лежал в руинах, и въезд в него еще не был разрешен. Прошел еще год. Наступил день Победы. Эвакуированные, как перелетные птицы, начали группироваться и готовиться к отлету в родные края. Заговорила об этом и Вера. В Бутурлинском военкомате ей помогли найти троих земляков-ровесников из той же группы, пожелавших вернуться домой. Из 20 человек, как потом выяснилось, 16 живы и здоровы, а четверо умерли по известной всем причине.
В середине лета в день отъезда в общежитии доярок, где жила Вера, царил праздник. Играла гармошка. Был накрыт стол. Все принаряженные, веселые. Сопровождавший военный произнес тост: «За Победу! За хорошее будущее!» Провожающих набралось полное общежитие. Среди них и двенадцать детей, пожелавших остаться, окрепших и повзрослевших. Все несли памятные прощальные подарки. Тут и деньги, и одежда, и продукты. Чемоданы и узлы до станции пришлось везти на подводе. Опять та же лужайка, как и два года назад. Только на этот раз прощание, душевное и трогательное. Поцелуи, наказы, обещания писать, писать. Слезы благодарности на глазах сироток-детей. И слезы грусти.
Шли годы. Первые десять лет связь с Верой регулярно поддерживалась, пока живы были наши родители. Даже раза два приезжала повидаться с нами и со своими ровесниками-ленинградцами, оставшимися в районе. В пространных и сердечных письмах сообщала о своих и радостях и бедах. Писала, что родителей в живых никого не осталось. Дом разрушен. Квартира разграблена. Устроилась на завод «Вулкан», это рядом со стадионом имени Кирова. Живет в молодежном общежитии. Активистка. По своему желанию пошла на вредное производство. Позже письма стали приходить реже и более скорбные. Семья не сложилась. Врачи определили бесплодие. Сказалась все-таки проклятая блокада. Опять пришлось жить одной в квартире, и письма опять стала подписывать своей девичьей фамилией Серебренникова. Приглашала в гости. Но жизненные ветры развеяли и нашу семью по разным направлениям, а поддерживать связь становилось все труднее.
В последнем своем письме лет пять тому назад Вера жаловалась на сильные головные боли и сообщала о своем желании переехать жить в деревню к своим дальним родственникам.
Больше на наши письма ответов не было.
И вот пришла печальная весточка от ее соседей по квартире: прах Веры покоится на Пискаревском кладбище, где до сих пор хоронят переживших блокаду ленинградцев… На нижегородской земле остались друзья — ровесники Веры, породнившиеся с нашей областью. К сожалению, мне неизвестно, где они живут. Восточная мудрость гласит: «Друзья моего друга — это мои друзья». Как бы хотелось увидеть вас, дорогие мои ленинградцы, встретиться с вами.
Отзовитесь!
Хлебушко
Весна 1943 год. «Мама! Мама! А он хлеб без довеска принес! Опять, наверно, съел!» — ябедничала младшая сестренка на меня. Я, действительно, его съел, как сладкий долгожданный пряник, сразу же после получения его из рук продавца в совхозном магазине. Этот маленький кусочек, довесок к общей норме, по негласной договоренности принадлежал тому, кто в этот день выстоял несколько часов в очереди, ожидая привоза хлеба. Возили его на лошади в большом деревянном ящике из районной пекарни. Выгружали в магазин через окошечко особо доверенные пожилые женщины. Бережно перекладывали из рук в руки по цепочке, каждый раз определяя его вес и качество.
А хлеб был непомерно тяжелым и черным — на восемьдесят процентов состоящим из картофеля, овсяной муки и дуранды. Один кирпичик весил более четырех килограммов. На рабочего полагалось полкило, на иждивенца — 250 граммов. Наша семья из шести человек получала ежедневно полбуханки. Норма эта, введенная осенью 1941 года, сохранялась до 1947 года, и только в зиму 1948 года появился первый коммерческий хлеб. Если в колхозах на трудодень еще выдавали какое-то количество зерна, то в совхозах это было не положено. Поэтому каждый взрослый и ребенок получали карточку. Голубенький маленький листочек бумаги берегли как зеницу ока, хранили в сундуке или за божницей. Не дай Бог потерять, оставить семью на целый месяц без хлеба — такое равносильно было утере целого состояния.
Единственной надеждой и спасением была картошка. В военный и послевоенный период все население страны питалось в основном этим продуктом. Каждая многодетная семья с осени старалась заготовить не менее 30-40 мешков «второго» хлеба, засыпать и сохранить до нового урожая. Длинными зимними вечерами всей семьей чистили, пропускали через терку-вертушку, а матери, сдобрив эту массу горсткой муки, затваривали хлебы. Чтобы тесто не растекалось, укладывали в металлические формы. На сковородках и на поду пекли лепешечки-ляпанки, их еще называли «лейтенантики». Конечно, больному желудком или истощенному от голода такой хлеб был противопоказан.
Летом 1943 года из освобожденного от блокады Ленинграда стали прибывать обреченные голодом на смерть дети-сироты. Одна такая девочка Вера двенадцати лет была определена в нашу семью на временное пребывание. Уход и заботу за ней мама полностью взяла на себя. Отпаивала ее молоком и жиденькой кашицей. Хлебушко рекомендовался только пшеничный, но его-то купить можно было только в Горьком на толкучке по очень высокой цене. Четыреста рублей за килограммовый кирпичик белого хлеба — это значило отдать месячную зарплату нашего отца. С этой целью и снарядили меня в город. Мама, отдавая завернутые в тряпицу деньги, наказывала: «Спрячь подальше, не потеряй. А хлеб выбирай с кем-нибудь из взрослых, а то обманут». Нам, подросткам, город Горький был знаком. После окончания семи классов мы целой группой несколько раз уже ездили поступать в разные ФЗО и училища, но каждый раз бежали, испугавшись голода. Рынок тоже знали, где нас, несовершеннолетних, могли обмануть, отнять деньги, да еще и поколотить. Поэтому мы держались своей командой и каждый раз, когда возникала заварушка, отстаивали свое право дружно и напористо. И на этот раз мама как чувствовала, положив в котомочку несколько картофельных лепешек и бутылку молока, проводила меня со двора, перекрестила и добавила: «Сохрани тебя, Бог!» Расстояние от нашей станции до города поезд «Канаш-Горький» преодолевал за ночь. Билетов, конечно, приобрести было невозможно, поэтому подножки, тамбуры и даже крыши вагонов служили нам вполне подходящей «плацкартой».
Благополучно прибыв в город, я отправился прямо на Канавинский рынок в хлебный ряд. Пироги ржаные с капустой, с морковью, с картошкой — за 20 рублей кусочек с ладошку, где хлебушка всего тоненькая пленочка. Серые булочки, плюшки по 30 рублей за штучку. Круглые буханки и кирпичики белого и ржаного хлеба-на выбор, от 250 до 450 рублей. Выбрал кирпичик белого с поджаренной корочкой в надежде, что маме и девочке Вере понравится. Завернул в газету, положил в сумку на самое дно, сверху прикрыл бутылкой из-под молока. В такие большие бутылки зеленого стекла, их сейчас называют «бомбами», раньше разливали пиво, и в хозяйстве они считались ходовыми посудинами. Поэтому и вез ее обратно домой. К вечеру я уже был на Ромодановском вокзале и ждал отправления у второго от паровоза вагона. При первом звонке вспрыгнул на подножку, потом на фартук, где копошились мешочники и какие-то подозрительные личности. Опасаясь за сумку, а главное, за хлебушко в ней, перебрался на крышу. Прилег около вентиляционной трубы, обнял ее, котомку прикрыл полой пиджака и поехал. Довольный своей покупкой, я лежал у трубы и подсчитывал, на сколько дней хватит Вере хлебца, если порезать на сухари и посушить. Остались позади станции: Зименки, Шониха, Суроватиха.
Поезд уже въехал в ночь. Вдруг услышал какие-то крики. Заглянул , а там на площадке между вагонами-драка, только кулаки мелькают.
Прошло еще несколько минут. Вижу: на крышу влез мужчина, огляделся. Увидел меня за трубой. Подошел. Склонился и спрашивает на блатном жаргоне:
— Гроши есть?
— Нет! — отвечаю.
— Сейчас проверю! И начал шарить по моим карманам, даже за пазуху залез. Не нашел ничего.
— Чего в сумке?
— Нет ничего, хлеб один!
— Дай посмотрю!
— Не дам!. Не мог я ему не только отдать сумку, но и позволить заглянуть туда. Ведь там был хлеб, предназначенный больному ребенку, да еще наказ мамы привезти его в целости и сохранности. При отблесках пламени из трубы паровоза я разглядел бандита. Возраст: лет 20-25. Злое, разъяренное лицо. Длинный нос и большой рот. Встреть я его через сто лет, все равно узнал бы. Так врезались в память его черты. А он, навалившись на меня, начал отнимать котомку. Но длинные лямки были накручены на руку, и отторгнуть сумку можно было только вместе с рукой. Как-то ему удалось просунуть руку и вытащить бутылку. Убедившись, что она пустая, он взял ее за горлышко и размахнулся. А паровоз, изредка натужно покрякивая и осыпая ночь сажей и искрами, тяжело тащил свои вагоны, не подозревая, что на крыше одного из них в эти минуты совершается преступление. Я чувствовал, что силы не равны. Противник много сильнее. Оторвет от трубы и сбросит вниз. Удар смягчили свободная рука и теплая шапка, а то бы каюк. Боль обожгла голову, как молния. И тут я изловчился. Лежа на спине, поджал обе ноги и со всей силой ударил ногами ему в грудь. Он, стоя на коленях, опрокинулся навзничь, но бутылку не выронил. Воспользовавшись моментом, я перекатился к краю крыши и спрыгнул между вагонов прямо на сидящих там людей. Крик. Возня. Ругань. А бандит, склонившись с крыши, с силой бросил бутылку в меня и попал опять в голову. На этот раз удар был настолько сильный, что я не устоял на ногах и припал на мешки. Кровь из-под шапки хлынула мне на шею, на лицо.
Поезд остановился. Полустанок Соловейка. Кондукторша, открыв дверь вагона и посветив фонарем, увидела меня, окровавленного. А я, сидя на подножке, прижимал к себе сумку с хлебушком и радовался: «Слава Богу, что все кончилось хорошо и покупка моя цела». Пожалела меня женщина. Провела в вагон. Нашлись вода и бинты. Сгрудились пассажиры, и начались распросы. Откуда-то появился милиционер. Говорю, что шпана напала. Поверили. В Арзамасе милиционер увел меня на вокзал и сдал в отделение. А там таких, как я, уже было человек десять, и еще прибывали. Стало ясно, что тут надолго, а мне надо скорее домой. Сославшись на разбитую голову, я отпросился в медпункт на перевязку, а сам бегом направился опять к своему поезду, на ту же подножку.
Под утро приехал домой. Тихонько вошел в избу. Все спали. Сумку положил на стол, бросил старую фуфайку у порога на пол, лег и тут же уснул. Проснулся от громких детских возгласов. Это мои трое младших разглядывали, как заморскую невидаль, буханочку поджаристого хлебушка.
Дезертир
В довоенный период, в войну, да и после нее еще несколько лет при райисполкомах были земельные отделы. В них работали районные агрономы, ветврачи, зоотехники. Мелким колхозам накладно было содержать специалистов, и они пользовались услугами райземотдела. Транспортом для передвижения специалистов по району были исключительно лошади. Но, так как их нужно было дважды в год ковать на все четыре ноги, требовался кузнец. Эти работы проводил мой отец на договорных началах и получал в виде оплаты разрешение на сенокосные угодья. Кто проезжал по дороге от Бутурлина до Гагина через Васильки, Яблоньку, Погибловку, видел, какие там глубокие непролазные овраги и косогоры, по склонам которых сплошные ореховые джунгли. Долины оврагов, зеленые и травянистые, отводились под покосы. Скосить— скосишь, высушишь, но выручить сено труда составляло немалого.
К этому времени я, окончив семь классов, работал уже наравне со взрослыми, скидки на слабосилие не было никакой. В один из июльских дней по заданию отца я приехал туда вывозить сено наверх. Помощницей мне была определена сестренка десяти лет, утаптывать сено на возу. Как и положено, первый полувозок притянули гнетом, увязали. Сестренку посадил на воз, а сам пошел сбоку. Совсем уже было выбрались, но вдруг правое переднее колесо провалилось в промоину по самую ступицу. Сколько мы ни бились, ничего поделать не могли.
Лошадь, окончательно выбившись из сил, не хотела трогаться с места.
Сидим на земле, горюем. Видим, из чапыжника на дорогу выбрался мужчина лет сорока в солдатских сапогах, в брюках-галифе, в деревенской рубашке и с топором. Подошел, поздоровался. Осмотрел наш воз и покачал головой: «Ну что, как выбираться-то будешь?». «Не знаю», — говорю. А сестренка уже слезы пустила: «Дяденька, пособи!». И он помог. Вырубил толстую жердь, подвел ее под ось, приподнял колесо и скомандовал: «Трогай!». Колесо выскочило из колдобины, а мы все втроем, упершись сзади, помогли лошади выбраться наверх. Отдышавшись, присели на траву. Он закурил. Я достал котомочку, где был наш съестной припас:бутылка молока, хлебушко и несколько вареных картофелин. Предложил ему поесть с нами. Он не отказался. Свернул из бересты кулек, и я налил в него молока и отломил хлеба. Поели. Разговорились. Спросил, откуда он и как его звать. «Зовут меня дядя Ваня, а родом — местный». Я поблагодарил его еще раз, пожали друг другу руки и расстались.
А война бушевала уже совсем близко — под Брянском, под Тамбовом. Вдоль Оки от Рязани до Горького рыли противотанковые рвы и строили укрепления. Немецкие самолеты бомбили Горький, Арзамас, Богородск. Во всех школах из старшеклассников формировались отряды самообороны. В нашей тоже был организован такой отряд, нам даже выдали малокалиберные винтовки с патронами. В обязанности входило:охранять объекты в дневное время, помогать вылавливать диверсантов, шпионов-сигнальщиков и дезертиров.
И вот в один из октябрьских дней наш отряд из пяти человек был собран по тревоге и на двух подводах направился как раз в те места, где мы сенокосили два месяца назад. С нами милиционер и представитель от военкомата, оба в гражданской одежде. Когда подъезжали к месту, нам открыли причину тревоги. Оказалось, в той деревне, куда мы едем, объявился дезертир. Месяца три как его заметили и даже видели в какой дом он ходит ночевать. Подъехали к деревне на закате. Лошадей оставили на околице. Мне досталось место в огороде за баней, одному — за погребом, остальные прошли проулком на улицу и встали у окошек. Взрослые подошли к крыльцу, начали стучать в дверь. Во дворе забрехала собака. И тут я увидел: из дровяного сарайчика вышел человек и скрылся в малиннике. Потом он появился совсем близко от меня, увидел и поманил рукой, как будто узнал меня. Подойдя поближе, я тоже узнал его, даже обрадовался. Спрашиваю тихонько:
— Дядя Ваня! Ты тоже с нами?
— С вами! С вами, сынок! Стой тут, а я пойду за огороды, буду там. И он скрылся за плетнем. А хозяйка дома еще какое-то время не открывала, но потом впустила. На вопрос:
— Где муж? — ответила:
— На фронте. Вошли в избу. На печи трое ребятишек ревут от испуга. Сколько ни искали, никого не нашли и не дождались. Так и уехали ни с чем.
Прошло недели три. Вдруг в районном клубе вижу объявление: «Завтра открытый суд над дезертиром». Событие редкое. Пропустить нельзя. И каково было мое удивление, когда на сцене, на отдельной скамейке, я увидел дядю Ваню. Сердце мое остановилось. Я не мог вымолвить ни слова. Засада, малинник, ревущие ребятишки на печи молнией промелькнули в сознании моем. Добрый дядя Ваня! Как же так получилось? Я пробрался к самой сцене и неотрывно глядел на него. А он, уловив мой взгляд, приподнял руку со сжатыми в кулак пальцами, как в приветствии «рот-фронт», держись, мол, не робей. Но я не мог удержаться, слезы заливали мои глаза. Из выступления судьи я узнал его настоящее имя. Там говорилось: после ранения и лечения в госпитале был отпущен на три дня домой на побывку. По истечении времени на место назначения не прибыл, а остался дома и находился там более трех месяцев. Занимался сенокосом, заготовкой дров. Никаких недозволенных поступков не совершал. Учитывая его добровольный приход в советские органы, суд постановил:жизнь сохранить, но отправить виновника в составе штрафной роты на фронт. На том порешили и его увели.
Прошло два года. Случилось мне побывать в той стороне, и я не упустил случая навестить их дом. Встретил меня дядя Ваня на костылях. Обнялись, как родные, даже бражка нашлась. Вот он и порассказал: «Держали в такой строгости, не повернуться. Вперед — смерть, в сторону — смерть, назад — тоже верная погибель. Выбирай что хочешь. Вина непростительная. Только большая кровь или смерть могли искупить это прегрешение. Выбрал смерть «вперед». Искромсало всего. Одну ногу оторвало, другая перебита. И вот вернулся опять домой, но теперь уже с чистой совестью, на законных основаниях. Так что не горюй, мой юный друг. Все со временем заживет, наладится. Недавно деревяшку сделал для оторванной ноги, ходить будет можно. Травки разной заготовил для лечения ран. По дому начал кое-что делать. Проживем. Главное — совесть моя чиста».
Расстался я с дядей Ваней, как с родным отцом.
Без вести пропавший
Родилась она в год Октябрьской революции. Детство и юность проходили в деревне. Вечная забота о хлебе насущном угнетала ее. Да тут еще началась коллективизация, гонения на зажиточных хлеборобов. Тогда она решила порвать с крестьянской жизнью. В четырнадцать лет ушла учиться на швею. Познала это дело в совершенстве. Закрой, раскрой с ее четырехлетним образованием давался ей туго. Но освоила. В районном городке, где была небольшая швейная фабрика, в семнадцать лет она уже руководила бригадой таких же девчонок как и сама.
Как нужны были такие руки в многодетной семье! Самой ходовой работой в портняжном деле в то время было перешивание больших вещей в меньшие. Младшим всегда доставались перешитые пальтишки и шубенки. Но и этому были рады. Перелицованную одежду носили и взрослые.
В 18 лет к ней посватался только что пришедший со службы Анатолий. Ждала. Дружили с детства. Сошлись по любви. Зажили самостоятельно. Она ходила на работу из его деревни, ежедневно по три версты туда и обратно. Он провожал и встречал ее, потом родился ребенок. Но что-то случилось, он пожил немного и умер. Международная обстановка к этому времени накалилась. Вдруг загремело сначала на финской границе, потом на Западной Украине. Его как артиллериста, мобилизовали. Замерзал он в снегах Финляндии, отогревался на полях Бессарабии. Она опять ждала. Перед самой войной с Германией вернулся, но ничего не успели нажить. Снова война. Загудели эшелоны по рельсам. Заиграли трубы прощальную «Славянку»на каждой станции, на каждой пристани. На третий день Анатолия провожали всей многочисленной семьей. На прощание он сказал: «Не горюйте! Мы скоро вернемся, ведь так было уже не раз!» И не вернулся. Сразу под Смоленском их артиллерийский полк встретился с врагом. Вражеским огнем конная тяга была вмиг уничтожена. Артиллеристы, израсходовав весь боекомплект, подхватили пушки и покатили их в сторону отступления. Рядовые бойцы дотянули пушки до реки, выдернули замки, забросили их в реку, а сами вплавь кинулись форсировать водную преграду. Многие командиры успели спастись. А солдаты, выходя из воды, тут же натыкались на стволы немецких автоматов. Оказывается, немец успел пересечь реку раньше.
Их построили в колонну и погнали вглубь немецкого тыла. Хорошо хоть Анатолий успел закопать в песок документы и знаки отличия, а то быть бы беде,ведь он был сержантом, коммунистом, командиром орудия
И начались для него беспросветные годы страданий, сначала в немецком плену, потом в советском ГУЛАГе.
А молодая жена сколько слез выплакала. Ни одного письма. Только открытка с дороги:
— Едем в сторону Берлина?— и все. Кто-то из вернувшихся раненых земляков говорил, что были жестокие бои под Смоленском, и что полк, где воевал Анатолий, прикрывал отступление пехотной дивизии.
Выполняли заказы фронта. Шили шинели, полушубки, рукавицы. Сестра работала в две смены. Ночевала прямо на фабрике, а потом они устроили здесь что-то вроде женского общежития. Как хотелось ей услышать что-нибудь о муже. Ходила и ездила к каждому, кто возвращался из Смоленска. Но вестей не было. Тогда, в отчаянии, она решилась на запрещенный прием. Стала зашивать в воротник, в манжет, в отворот шапки маленькую записочку: «Милый красноармеец! Не слыхал ли ты об Анатолии Хмакове из Горького? Сообщи мне», и адрес. Сначала она это делала скрытно. Но подруги подглядели и тоже начали писать. И полетели по всем направлениям записочки-просьбы. Ротный старшина не заметит зашитый клочок бумажки, а солдат почувствует, найдет и ответит. Ответы шли, но не утешительные.
Однажды вечером она прибежала к своей матери: «Мама! Анатолий жив! Это мне цыганка за обручальное кольцо нагадала!» Хорошо, что цыганка вселила веру и надежду в сердце сестры моей. Длинными зимними вечерами молодые солдатки искали успокоения в разной ворожбе и гаданиях. Гадали на зеркалах со свечами. Столько раз сестра гадала, и каждый раз образ Анатолия появлялся. Значит, жив. А однажды гаданием на чайном блюдечке с алфавитом выпали пять букв и сложилось слово Лодзь. Наутро она прибежала к нам и начала нас, доморощенных грамотеев, расспрашивать, где этот Лодзь. Выяснилось, где-то в Польше…
Вот уже и Берлин разгромили, а весточки все нет и нет. Неоднократные запросы в военкомат результатов не дали. Да и кто скажет правду, зная, что из-под Смоленска никто не вышел живым. Или погиб, или попал в плен. Вот и молчали.
Война закончилась на Западе и на Востоке. Еще год прошел в ожидании и молитвах во здравие воина. Молилась сестра, молилась мама. Нас, всех малышей, заставляли стоять на коленях перед иконой Богоматери и вымаливать жизнь и здоровье ему.
И вдруг, как гром среди ясного неба, коротенькое письмо. Жив! Четыре версты бежала сестра к матери и кричала тысячу раз: «Жив! Жив! Жив!» Немедленно собрались со старшей сестрой и отправились искать воскресшего из мертвых. В обратном адресе были указаны только Калининская область и почтовый ящик. «Мама, не беспокойся !Найдем!» От Калинина ехали по узкоколейке, все лесом и лесом. Приехали. Огромная поляна, обнесенная в несколько рядов колючей проволокой. Попробовали пройти в проходную, — не пускают. Кого ни спросят, никто ничего не знает. Тогда они стали ходить вокруг городьбы, надеясь увидеть кого-нибудь и спросить. Но к проволоке никто не подходил.
Анатолий, подав весточку, на многое не рассчитывал. Но сердце подсказало: приедут! Приедут! Подсчитав дни, он стал каждый день по нескольку раз подъезжать на лошади, запряженной в телегу с бочкой к проходной, и ждать. На этот раз тоже подъехал. Увидел. Узнал. Подбежал к городьбе и начал кланяться им до земли, а у самого слезы залили глаза. После окончания следствия наступило послабление. Разрешили написать домой. Разрешили свидание. На другой день встреча состоялась в маленькой зарешеченной комнате. Сразу предупредил: «Обо мне ничего не расспрашивать. Говорите только свои новости». Сестра зачастила к нему каждый месяц. Возила продукты. Одна боялась, поэтому брала с собой кого-нибудь из подростков.
Через полгода повезла гражданскую одежду. Вернулся! С месяц отдыхал, привыкал. Жена отхаживала его, отмывала, освобождала тело от многочисленных нарывов и корост. Кропила святой водой. Водила в церковь благодарить Бога за то, что он спас раба своего. Оба они твердо уверовали: только благодаря ее молитвам и молитвам мамы нашей он остался жив.
А выжить, действительно, было трудно. Уже по истечении нескольких лет, пропустив рюмочку, он со слезами на глазах начинал вспоминать. Под Смоленском строили рокадные фронтовые дороги. Но после нескольких побегов пленных их погрузили в вагоны и увезли в Польшу. Опустили в шахты. Заставили добывать каменный уголь. Жили там же внизу, поэтому было тепло. Кормили так, чтобы выполнял две дневных нормы. Обращались сносно. Спрашивали мы Анатолия, знает ли он город Лодзь? «Да, этот город был недалеко от нас». Вот когда подтвердились предсказания тех пяти букв. Невольно поверишь в сверхъестественную силу.
В сорок четвертом пришли свои. Освободители! Согнали нас всех за колючую проволоку. Месяца три держали под усиленным надзором. Потом партиями начали отправлять по всем областям России. Мы попали в Калининскую. На месте лагеря ничего не было. Сами валили лес. Сами строили бараки. Сами себя огородили в пять рядов колючей проволокой. Вот это освободили! Как допрашивали, вели дознание, не расскажу. Подписку дал. Но жив остался. Только вот телом ослаб. В основном выручала лошадь. Ей выдавали корма, тут и мне перепадало. Жмыхи там, отруби разные. Из бочки тоже можно было «полакомиться». Иногда поверху плавали кусочки хлеба или овощи. Я их вылавливал. Сам ел, друзей подкармливал. Вот так и выжили. «А как же так получилось? — спрашивали мы. — Вас, освобожденных, не отпустили сразу домой? Ведь во все времена, после всех войн, освобожденный солдат из плена шел домой». «А вы знаете, что сказал т. Сталин на приеме иностранных журналистов? У нас, мол, нет своих военнопленных. Есть враги народа. Вот и докажи, что ты не враг. Пройдут десятки лет, пока докажешь. А жить-то когда?» Уехали из той местности, где раньше обустроились. Подальше от докучливых вопросов и любопытствующих доглядов. Нашли тихое местечко на берегу Волги в затоне. Он устроился мотористом на местном буксирном пароходике, а она продолжала обшивать себя, родню и соседей. Но и тут его нашли. Уже несколько раз появлялись какие-то люди, спрашивали в конторе и у соседей, не ведет ли «враг народа» агитацию против Советской власти, как работает? «Вертухаи, — по-зэковски называл их Анатолий. — Они нигде не дадут покоя до смерти» А жить надо. Раскопали огород. Построили свой небольшой домик. Очень огорчались, что нет наследников. Видно, вытравили всю мужскую плоть смертоносные тверские болота. Лишили главного, для чего создан человек — творить потомство. Удрученная непомерными переживаниями, сестра решила посвятить себя религии. Много молилась. Соблюдала все посты. Ездила на святые места. Так бы и жить им тихо и мирно, но подспудно назревала трагедия.
За неделю перед Пасхой зажгла сестра лампаду перед иконами в своем доме. Не угасая, она должна была гореть всю неделю. Съездила в район, купила кулич и готовилась освятить его на Пасхе. В Великий пост православные не должны употреблять жирную пищу. В последнюю неделю кушать только один раз в день. В последний день принимать пищу можно только после освящения ее священником. Когда закончился весь пасхальный обряд, она вместе с другими богомольцами присела на ступеньки у церкви и решила разговеться куличом и яичками. Но истощенный организм не принял пищи. Ей сделалось плохо. Тошнота подступила под самую грудь. В глазах потемнело. Прилегла на ступени. Ее окружили. Вышел батюшка и велел вызвать «скорую помощь». Прошло два часа, пока дождались «скорую». Сестра потеряла сознание и лежала без движения. Муж приехал в район к вечеру, а она уже бездыханная. Врачи дали заключение:отравление. «Нет, не отравление, —говорил Анатолий. — Накануне она рассказывала сон, как ее покойная мать звала к себе. Вот она и ушла, выбрала Светлое Воскресение. Душа ее будет вечно в царствии Небесном».
А лампада, зажженная ее рукой, горела, не угасая, еще два года. В память о жене, муж постоянно поддерживал горение, пока сам не оставил этот бренный мир.
«Шпион»
— Здравствуйте ! Петр Васильевич пришел! Сейчас он вам пропоет. Послушайте его голос ! —этими словами он каждый раз начинал свое представление, войдя в любой крестьянский дом. Снимал шляпу, ставил свой большой черный портфель куда-нибудь в уголок, приглаживал длинные напомаженные волосы, становился перед образами и начинал с молитвы «Отче Наш». Дальше шли «Богородица «, «Верую» и многие другие. Вдруг сбивался в словах и начинал петь на церковный лад песни «Катюша», «Сулико», «Полюшко-поле» и при том крестился и усердно кланялся. Под конец переходил снова на молитвы и заканчивал вопросом:
— Ну как ? Хороший у Петра Васильевича голос? За это подайте ему на пропитание !
А голос у него был действительно хороший. Густой, звучный бас. Исключительно правильное исполнение всех псалмов, даже без сопровождения хора, приводило в божественный трепет не только богомольных старушек, но и неверующих, скептиков.
Как при шторме и морской буре стихия выносит на берег обломки погибших кораблей, так и при войнах и революциях, на волнах всеобщей беды и горя выплескиваются на берег людские судьбы. Неприметные до войны нищие, калеки, странники вдруг оказались у всех на виду. Ходили они группами и в одиночку. Промышляли кто как мог. Одни просто просили на пропитание, другие пытались его заработать. Помогали по хозяйству, сидели с малыми детишками, пасли на околице гусей и мелкий скот. Петр Васильевич появился в нашей местности в середине 1942 года, когда эшелоны эвакуированных, наполнив Зауралье, начали разгружаться на наших станциях. Некоторые сказывали, он из южных районов. Другие утверждали, что из-под Новгорода Великого. И что родители его были священнослужителями, но при общем гонении на них репрессированы, угнаны куда-то на Север, да там и сгинули. А Петр, закончив духовную семинарию, тоже готовился стать священником, но, не выдержав потерю родителей, начал заговариваться, а потом и совсем свихнулся. Вообразив себя вечным странником, ушел в народ. Роста выше среднего, в черном осеннем с бархатным воротником пальто, в шляпе, с портфелем, он выглядел вполне солидно. Разговор со встречным начинал толково и обстоятельно, но потом вдруг начинал нести такую околесицу, что собеседник, махнув рукой, оставлял Петра Васильевича среди дороги.
На бытовые темы он не любил говорить, но если разговор касался священного писания и жития святых, тут ему не было равных. Свои доводы обязательно сопровождал пением божественных стихов и молитв. И настолько удачно у него это получалось, что послушать его сходились со всей округи. Особую популярность он приобрел за богослужение по погибшим воинам и во здравие живых. Молва дошла и до района, где в ту пору в средней школе размещался госпиталь для тяжелораненых. Им, видно, надоели ежедневные политбеседы, и они пожелали услышать православное слово. Но так как в округе найти священника было невозможно, а отказать раненым тоже нельзя, то решили пригласить Петра Васильевича. И он пришел. Его провели в палату, где лежали особенно пострадавшие и уже отчаявшиеся вернуться к жизни. Войдя в палату, он огляделся и, убедившись в отсутствии святых образов, вынул из портфеля иконку-складень, поставил на одну из тумбочек и начал службу. Мгновенно все этажи и коридоры наполнились его приятным сочным голосом. Раненые в других палатах всполошились: и кто на костылях, кто на колесах устремились в том направлении. Даже начальник госпиталя со своим замполитом подошли и замерли в оцепенении. А Петр Васильевич, обращаясь к пожилому лежащему бойцу, громогласно произносил : «Да святится имя твое ! Да приидет царствие твое! Да будет воля твоя !» Благодатные слезы умиления текли по щекам бывалого солдата. А божий служитель вдруг запнулся в словах и неожиданно завел всем знакомую песню «Тачанку». Кто слышал раньше о таких фокусах Петра Васильевича, начал посмеиваться, а другие недоуменно открывали рот, но поняв, что такое происходит не случайно, тоже начали хохотать и подпевать главному запевале. Через пять минут весь госпиталь уже гудел, распевая «Трех танкистов». А Петр Васильевич на полном серьезе продолжал креститься и отвешивать поклоны Святой Богоматери. Богослужительный концерт окончился. Пастыря увели в столовую, накормили и на дорогу дали, но больше уже не приглашали. А Петр Васильевич еще какое-то время ходил по окрестным деревням, проповедуя православную веру.
Вдруг слышим, арестовали нашего священнослужителя на железнодорожной станции. Оказалось, его появление в военном госпитале, постоянное нахождение на вокзале, где он ночевал, поездки с воинскими составами от станции до станции возбудили подозрение особых органов. Война ведь идет. Надо быть бдительным. Установили наблюдение и заметили, что после каждого посещения деревни или другого населенного пункта он вынимал из портфеля большую тетрадку и что-то там записывал. Решили посмотреть в эту тетрадь. Подговорили мальчишек, и те утащили портфель вместе со всем содержимым. Сколько ни смотрели чекисты разных калибров, ничего понять не могли. Страницы разграфлены. В начале каждой строчки число и месяц. Дальше идут крестики, черточки, нолики, палочки. Понять не поняли, но нюх подсказывал что-то подозрительное. Похоже на отметки проходящих воинских составов разного назначения. Крестик — санитарный. Нолик — товарный. Палочка — пассажирский. Сверили с железнодорожным расписанием, не сходится. Надо брать самого. Взяли. С ранних лет родители воспитывали у сына бережливость ко всему, что дает человеку Бог.
В доме и в церкви велись специальные книги учета поступления и расхода денежных и материальных средств. Во время всенародных религиозных праздников, а особенно при крестном ходе по деревням, прихожане несли хлебы, просвирки, яички, деньги, и каждый продукт имел в книге свое обозначение, свой символ — знак. Вот эта бережливость и любовь к учету и привели Петра Васильевича в застенок. Следователю объяснял: крестик — это кусочек хлеба, а хлеб — это тело Христа. Нолик — это яичко. Палочка — сухарик и так далее. Но ему не верили и продолжали допытываться. Дело дошло до драки. Били. Оборонялся как мог. Отлетели все пуговицы у пальто. Оторвался бархатный воротник, но он стоял на своем. Плакал. Божился. Проклинал. И не известно чем бы все это кончилось, если бы не вмешались верующие, раненые бойцы из госпиталя. Даже замполит замолвил словечко. Написали письмо-петицию секретарю райкома. Объяснили, доказали и приняли Петра Васильевича из-за решетки в свои объятия. Предупрежденный о немедленном выезде из этого района и обозначенный как шпион, Петр Васильевич распрощался и уехал в неизвестном направлении.
Предсмертное желание
В поисках наиболее тихого уголка для проведения остатка дней своего пенсионного срока я оказался далеко за Семеновом, в тихой лесной деревушке, где, как мне сказали, продается небольшой и дешевый домишко. Сойдя с местного автобуса, я направился к человеку, коловшему дрова.
— Иван Лукич! Да ты ж ли это? — воскликнул я от удивления.
— Я, я, конечно, не удивляйся. Как говорят, земля с землей не сходится, — ответил Лукич.
Жили мы и работали с Лукичем до войны в правобережном горном районе, вдали от Волги. Войну встретили вместе. Он воевал долго. Пришел весь израненный. Я был помоложе и поэтому на фронт не попал. После войны наши пути совсем разошлись.
И вот спустя почти сорок лет мы встретились вдруг в этой лесной деревушке. Он достал большой кисет и предложил угощение вместе с бумажкой.
— Спасибо, не курю, бросил сразу после войны, — отклонил я предложение.
— А я вот курю и не брошу никогда. Зарок дал. Курить до смерти и угощать всех, кто попросит. С этой целью на огороде сею много табаку и держу при себе всегда кисет, наполненный этим продуктом, — поведал Лукич.
Не слыхивал я раньше от него о такой причуде и захотелось узнать эту тайну.
И вот сидим на бревнышках, один дымит и рассказывает, а другой внимательно слушает да кое-где уточняет моменты.
Было это уже под Курском. Когда установилось относительно противоравенство. Затихло, как перед грозой. Шел июль 1943-года. На нашем участке фронта немец ударил первым. Да таким плотным, настильным огнем, что скоро от наших батарей и командных пунктов остались одни щепки. Пристреляны, видно, были. А потом двинулись лавины танков. И если бы им навстречу не вышли наши танки и самоходки, от нас осталось бы одно перепаханное поле. А когда наступил ощутимый перелом в танковой схватке и немец попятился, была подана команда: «Вперед!» Тут уже мешкать некогда. Подхватили мы с моим другом-земляком наш пулемет-станкач и потащили вперед. Потом залегли, дали несколько очередей, а командир опять кричит: «Вперед!» Надо было добраться до первых вражеских траншей. Кто-то добрался, а мы нет. Снаряд рванул так близко, что наш пулемет перевернуло вверх колесами, а мы с напарником оказались засыпаны землей.
Сколько времени прошло — не знаю, но очухался сначала я. Выбрался, сгоряча еще не чувствую, что со мной, и начал отыскивать глазами своего первого номера. По сапогам определил место его захоронения, откопал. Живой! Ну, надо спасать. Друга в беде не бросают.
Откопал я его, значит. Повернул вверх лицом. На губах кровавая пена, на шее кровь. И хрип какой-то. Осколок впился в самое горло. «Погоди, — говорю, Коля, сейчас я тебя лечить буду, и все будет хорошо». Достал санитарный пакетик, перевязал нетуго.
Огляделся. Наши где-то впереди палят. А у самого правый сапог наполнился кровью и под левой лопаткой саднит. Снял сапог, кровь слил, а голяшку туго перетянул портянкой. Потерплю. Главное-друга спасти. Донести бы его до дороги, а там подберет кто-нибудь. Взвалил на плечи. Понес. Нет, нести невмоготу. Надо тащить волоком. Застегнул ему ремень подмышки, ухватился и поволок головой вперед. Так устал, что задохнулся. Голова закружилась, видно, много крови вытекло. Присел на землю, а сам все повторяю: «Погоди, дружок, потерпи, скоро я тебя в санбат доставлю. «И так мне вдруг закурить захотелось, что никакой мочи нет. Достал табакерочку и закурил моршанской. Склонился над ним и вдруг вижу: он открыл глаза и пытается что-то сказать. Прокашлялся немного и чуть слышно говорит мне:
— Иван! Дай курну разочек.
— Что ты, Коля! Да разве можно такую отраву внутрь пускать? При твоем-то положении? Ты уж прости меня, но не дам! — внушал я ему.
— Ваня! Дай, Христа ради! Может, это последняя моя просьба.
Знал я, предсмертное желание каждого православного должно быть исполнено. Но не поднялась у меня рука на явное смертоубийство, и я за ремень потащил его в сторону дороги. Вижу уже недалеко осталось. Машины мелькают. Оставил я его, а сам, костыляя, направился в ту сторону. Недолго подождал, подошла полуторка, остановились. Водитель со своим помощником подошли к Николаю, взяли его под руки, а он уже холодный.
Сидя в кузове и склоняясь над другом, я проклинал себя за то, что не дал умирающему покурить, не облегчил его страдания, не выполнил его последнюю просьбу. И поклялся я в тот раз, если останусь жив, никогда и никому не отказывать в куреве. На этом Иван Лукич закончил свое повествование.
Ладанка
Деревенская кузница, в которой работал мой отец кузнецом, находилась всего в ста саженях от старенькой сельской деревянной церкви, поэтому священник и кузнец знали друг друга и дружили. Колокола с церкви были сняты, но служба не прекращалась, даже в свирепые предвоенные годы в ней проходило богослужение. Снятием колоколов в районе занималась отдельная бригада, шабашниками их называли в народе. В 1934 году они появились в нашем селе и сняли три колокола. Конечно, верующие прихожане переживали, но что сделаешь, районные власти были сильнее. А оповещать начало службы необходимо, особенно в большие православные праздники. Село большое, всех не обойдешь. И тут батюшка вспомнил своего друга-кузнеца, пришел к нему, изложил суть вопроса и сказал:
— Афанасьевич! Выручай! На тебя вся надежда!
Можно было подвесить кусок рельса или старый лемех от плуга, но это ни тому, ни другому не понравилось. Тогда кузнец предложил изготовить пушку, поставить ее на колокольне и каждый раз перед началом службы стрелять три раза. Это священнику понравилось, и он согласился. Бывалый кузнечный мастер из старого армейского опыта знал, как это делается. Притащили от церковной ограды чугунную трубу толщиной в руку. Один конец залили свинцом, приладили железными хомутами опору, просверлили дырочку для запала — и пушка готова. Внесли на колокольню, укрепили и для пробы пальнули. Батюшка в благодарность за проделанную работу хотел угостить кузнеца с молотобойцем по-русски, но те от оплаты отказались, мотивируя, что богоугодные дела оплаты не требуют. Тогда отец Алексей снял с себя иконку-ладанку преподобного отца Серафима, на гарусном гайтанчике, повесил на грудь своему другу и наказал:
— Если ты, Афанасьич, будешь собираться на опасное для жизни дело, бери ее с собой, она освящена и сохранит тебя от лихой напасти.
Вскоре после этого священника Алексея забрали и угнали далеко и надолго. А иконка хранилась, как память о добром и отзывчивом человеке.
Но вот началась война. По годам отец не должен был попасть на фронт, и его в 1942 году взяли в нестроевую часть под Муром, где в то время готовился оборонительный рубеж. Рыли противотанковые рвы, возводили надолбы. Весь инструмент, которым работал, подлежал ежедневному ремонту и наладке. Походная кузница, куда направлен был отец, дымила круглые сутки. Немецкие самолеты-разведчики засекали такие объекты и наводили бомбардировщиков. Постоянное скопление людей и техники вокруг кузницы демаскировали ее и создавали угрозу нападения. Мама, провожая своего мужа, шептала ему, чтобы он не забывал молиться, и вшила ему на грудь рубашки написанную от руки молитву «Верую» . А еще она вспомнила о той иконке-ладанке, повесила ее отцу на грудь под рубашку, перекрестила и добавила: «Береги ее, и она тебя сохранит». Бронзовая, чуть побольше спичечного коробка, на груди она особо не беспокоила, но всегда напоминала, что ангел-хранитель постоянно где-то рядом. И что в самую трудную, смертельную минуту он придет тебе на помощь…
— Господи, спаси! Господи, спаси! — причитал отец, когда они бежали в укрытие, спасаясь от бомбежки.
Земля кипела от взрывов. Все укрылись, а он на какое-то мгновение задержался посмотреть, цела ли осталась кузница. Взрывной волной опрокинуло его и чем-то, как кувалдой, ударило в грудь. Очнулся в санитарной землянке. Пожилой фельдшер, тоже нестроевик, осмотрел его и покачал головой.
— Ну, кузнец, видно, ты счастливым родился, — и показывает кусочек железа величиной с наперсток. Застрял он у тебя в ватнике на груди, а в тело не вошел, бронзовая иконка помешала, а то бы служить по тебе панихиду, и все твои шестеро ребятишек остались бы без родителя.
— О, Господи! Неужели это чудодейство Ангела-Хранителя? — думал отец. — Неужто образок святого Серафима принял мою смерть на себя?.
Припомнился священник Алексей с его напутствием и жена, провожавшая его в дорогу. «Вот уж поистине Бог всемогущ!» — уверовал он.
А ладанка эта до сих пор хранится и переходит из поколения в поколение как святая семейная реликвия.
Смертник
Вечером, только вошел я в свою квартиру, как слышу звонок над дверью. Открываю. Иван Тимофеич, из соседней квартиры стоит с газетой в руках и спрашивает:
— Скажи, сосед, ты только о фронтовиках-героях пишешь или о ком другом можешь? Это он имел ввиду, как я понял, небольшой очерк о моем друге фронтовике.
— Заходи, Тимофеич, — пригласил я. — Через порог грех разговаривать. Вот теперь ты говори, а я чай поставлю, под чаек-то удобнее калякать.
И когда на столе появились налитые чаем чашки, я спросил Тимофеича:
— Что-то ты агрессивно больно настроен, давай рассказывай все попорядку.
— Нет, ты сначала скажи: о штрафниках и смертниках можешь написать сейчас? Раньше это было нельзя. Тебе приходилось их видеть живыми?
— Нет, Тимофеич, не видел и писать не приходилось.
— Ну так вот, смотри — это я, Иван Тимофеич, бывший гвардии капитан, командир роты связи, смертник, и вдруг — живой. Ты спросишь, почему раньше не рассказывал. Стыдно было и страшно. А сейчас, вроде, послабление наступило. Если хочешь, так слушай!
Было это в конце января 1945 года. Наши войска после успешной Вислоодерской операции задержались на восточном берегу Одера. Западный берег был превращен неприятелем в неприступную крепость. Наша ударная Гвардейская 8-ая армия, которой командовал В. И. Чуйков, была, как отточенное и закаленное копье, на главном направлении и перед ней приказом командующего фронтом ставилась задача: форсировать Одер и закрепиться на вражеском берегу. В приказе от 21. 01. 45 года было подчеркнуто: «Если мы захватим западный берег реки Одер, то операция по захвату Берлина будет вполне гарантирована». Обстановка складывалась исключительно напряженная. В ночь на 28-ое первые штурмовые группы пересекли Одер и закрепились на небольшом пятачке. Нужна была огневая поддержка. Мною, командиром роты связи, с этими группами были посланы две пары связистов с катушками проводов и телефонами. Уже пора связи заработать, но ее нет и нет. То ли провода перебило, то ли связисты погибли, с этого берега не определишь. Только видно, как начали взлетать белые ракеты. Это наши отряды запросили артиллерийской поддержки, а куда направить залпы, не известно. Нужен корректировщик. Уже с соседних участков звонят в штаб нашего полка, почему у них есть связь, а у нас нет. И тут слышу — передают по цепочке: «Командира роты связи к командиру полка».
Я сразу понял, что это уже предел. Вбегаю в блиндаж, докладываю: «Товарищ полковник!»… А у самого селезенка «мандраже». А он большой, разъяренный, как с цепи сорвался. Поговаривали в полку злые языки, что со службой у него не все в порядке. При его комплекции и возрасте пора бы дивизией командовать, но что-то тормозило. Так вот, он налетел на меня, как коршун: «Ты что, такой-рассякой!» — и по-матушке меня. — В окопах ошиваешься, а там люди гибнут из-за тебя! Застрелю!» — и выхватил пистолет. А в углу адъютант пришипился, роется в бумажках, как будто ничего не слышит. А полковник вошел в раж. «Раздевайся догола, сука! — кричит. «В форму советского офицера стрелять я не буду! Раздевайся, приказываю!» Ну, начал я раздеваться. Снял шинель, шапку. Начал снимать гимнастерку и такая меня обида взяла на этого полковника. Ни за что ведь застрелит. Хотя бы бомба рванула сейчас в блиндаже или снаряд, в душе молил я бога. А, может, броситься на него и выбить оружие, да адъютант рядом, не успею.
И вдруг распахивается дверь в блиндаже и на пороге появляется Василий Иванович Чуйков. Генерал, объезжая боевые позиции, вдруг явился на нашем КП. Увидев полковника с наганом и меня раздевающегося, недоуменно громко спросил: «Что за маскарад? Что сдесь происходит?» Видно, дошла до бога моя молитва. Выслушав нас поочередно, он дал мне команду: «Одеться!». Оделся я, стою по стойке «смирно». А полковник подскочил ко мне, сорвал погоны, с груди две медали и заорал: «Товарищ, генерал! Рядовым его в штафную роту, или я его застрелю!» Но генерал остудил его: «Не торопись, полковник. Люди нам сейчас нужны живые, а не мертвые. Вот что, связист. Чтобы искупить вину свою, бери сейчас же катушку и отправляйся на тот берег. Доплывешь и наладишь связь, жить будешь и Победу встретишь. Через час не будет связи, сам прикажу тебя расстрелять. Адъютант! Проводите и проследите за ним».
«Вывели меня два адъютанта как смертника и доставили в мою роту. Там выдали мне катушку тонкого телефонного провода, полевой телефон и маленький деревянный плотик. На берегу разделся до исподнего белья, привязал одежду, провод, телефон на плотик и вошел в воду. Окоченел в одно мгновение. Не лето ведь, а середина зимы на дворе. Дождит и «сало» по реке плывет. Правда, Одер по ширине не чета нашей Волге, которую я переплывал не один раз, но плыл я долго. Да и ношу надо учитывать. А немец бьет по воде из крупнокалиберных пулеметов так, что все кругом кипит котлом. Да еще светящиеся шары развесил на парашютах, светло, как днем, но плыть надо. Толкаю плотик, прикрываюсь им, катушка потихоньку раскручивается. Не помню уж, как я выбрался на берег, сбросил мокрое белье, оделся в сухое и подсоединил телефон. Но врезался в память момент, когда я доложил о своем прибытии на Западный берег, а телефонист с того берега мне сообщает, что связь с первыми двумя связистами восстановлена, и началась корректировка огня, я так и сел на песок. Весь мой труд и смертельный риск не нужны стали никому. Ну, в общем закрепились мы на вражеском берегу, дали возможность форсировать Одер основным силам армии, а к вечеру вызвали меня к командиру батальона и вручили приказ о моем разжаловании и направлении в штрафную роту. Приказ подписан самим Чуйковым. Штрафники в это время нужны были фронту, как основная наступательная сила. Предстоял штурм Зееловских высот. Этот бастион на пути к Берлину представлял основное препятствие в достижении Победы. Со всех фронтов были собраны штрафные роты и сгруппированы в отдельную ударную бригаду по преодолению этой преграды. Оказавшись в центре всех огней, бригада начала штурм Зееловских высот. Спереди вражеские пулеметы, сзади наша заград-охрана, снизу минные поля, над головами мощные прожекторные лучи создавали настоящий грешный Ад. Полегло таких, как я, смертников, тысячи, но высоты взяли. На каком-то участке и мне досталась доза свинца и железа, да столько, что полевые хирурги целые сутки колдовали надо мной, сшивая и латая мои телеса. Жив остался, но после этого еще больше года по госпиталям провалялся и вернулся домой. Уже полвека минуло, но как вспомню этот бой, когда тысячи обреченных смертников метались по минным полям под тройным огнем, озноб проходит по всему телу. Не по себе становится. Демобилизовался рядовым и ни одной награды. Зато на теле живого места нет. Писал я в разные инстанции о восстановлении справедливости, но результатов не дождался. Вот недавно президент Ельцын издал указ о реабилитации всех провинившихся в Великой Отечественной Войне, так, может, вспомнят меня и поздравят с великим Днем Победы».
Два концерта
В один из дней бабьего лета, в послеобедье, я, нагруженный дарами природы, возвращался с огородного участка к себе в Сормово. Сойдя с автобуса у Московского вокзала, спустился в тоннель под железнодорожным полотном и вдруг услышал звуки баяна. Остановился:да, действительно, баян. Его хроматический строй я бы не спутал ни с каким другим: сам когда-то в молодости увлекался. Пройдя еще с десяток шагов, я увидел паренька лет семнадцати, сидящего на футляре баяна. Он, перебирая пуговки-клавиши, старательно выводил мелодию из «легкомысленного» репертуара. Присмотрелся я к баянисту и попросил сыграть что-нибудь из мелодий военных лет, например, вальс «В лесу прифронтовом», «Землянку», «Катюшу». «Катюшу» он знал. И зацвели в переходе, словно над рекой, яблони и груши…
Услышав знакомую любимую мелодию, некоторые прохожие подошли поближе. Вот от людского потока отделился человек, можно было определить сразу — фронтовик — орденские колодки подтверждали это. Спросили мы его, где он воевал. Оказалось, на Втором Украинском, в свободное от боев время участвовал в дивизионной бригаде, играл на баяне. Мы, конечно, единодушно решили, что ему и карты в руки. Приняв баян, он осмотрел его со всех сторон, ласково погладил, щекой приложился к перламутру. Определил: тульский, классный. Несколько первых аккордов подтвердили, что инструмент в руках профессионала. «Ну, братцы! Заказывайте!» — обратился баянист к публике. И я, недолго думая, торжественно объявил: «Марш «Прощание славянки!» Он тронул мехи.
Первым прозвучал сигнал на трубе: «Все ко мне!». Потом рассыпалась барабанная дробь сигнала «Равняйсь! Смирно!», и полились звуки самого любимого российского военного марша.
Увековечил себя автор этой мелодии. Видно, подслушал он ее при всплеске народных бедствий. Невозможно остаться равнодушным, слушая ее. Насквозь пронизывают тебя высокие ноты, щемят сердце до кома в горле. Плачут трубы, а над всем этим — удары главного барабана, как удары грома.
Трудно понять и описать словами, что творилось с прохожими. Они останавливались, тянули шеи, поднимались на цыпочки, стараясь взглянуть на баяниста. Откуда-то появился милиционер, приблизился к толпе, но разгонять или призывать к порядку не стал, не решился. Жестом руки начал направлять прохожих в поток, обтекающий нашу «группировку»… Но вот ветеран отдал инструмент парню, и я не утерпел, спросил фронтовика о былом, о давнем. И он поведал мне фронтовую историю.
— Бывали между боями и передышки. В одну из таких, нас, дивизионную концертную бригаду, привезли на передовую и приказали дать концерт. Подошла моя очередь выступить с баяном.
Я объявил, что играть буду по заявкам, любимые мелодии. Право первым заказать было предоставлено командиру части, окопавшейся на этой поляне. Командир попросил «Прощание славянки». Играл я с азартом, вкладывал всю душу. Вдруг над поляной раздался пронзительный свист, а потом оглушительный взрыв. Сначала один, потом второй… Немец бил прицельно, точно по нашей поляне. В один миг поляна опустела. А мои пальцы все еще ударяли по клавишам, вызывая аккорды прощального марша.
Наконец какая-то сила подняла меня. Я схватил баян и бросился в ближайший окопчик. Присел на дно, а баяном укрылся сверху, как щитом. Осколки кругом жужжали, как рой разъяренных шмелей. Баян мой в деревянном футляре вздрагивал и потрескивал. А я, сидя внизу, молил Бога: только бы не было прямого попадания.
Артналет закончился так же неожиданно, как и начался. Жертвы, конечно, были, но для меня главной жертвой стал мой тульский баян. Семь ранений насчитал я в нем. Семь моих, может быть, смертей. Вот почему я так благоговейно отношусь к тульским баянам. Вот ведь какая штука-то!..
— А что же с баяном-то? — поинтересовался я.
— Баян списали как непригодный к строевой службе. А мне вручили тяжелое, длинное ружье, ПТР, с ним я и закончил войну.
Часть 2. И содрогнулась земля
И содрогнулась земля
Пока не найден и не похоронен последний погибший солдат, война не считается законченной. А их, неизвестных, все находят и находят на полях сражений, в братских могилах и в одиночных вокруг бывших госпиталей. Сколько еще матерей, вдов питают надежду когда-то узнать правду о гибели родного человека. Но немало было случаев, когда от погибшего не оставалось даже тлена. Разносило снарядом, сгорал в огненной буре, погибал в море. Бывали такие трагедии и после войны. Я расскажу, как люди погибали в воздухе, не оставляя после себя совершенно ничего, что бы напоминало о жизни.
Шел 1950 год. Только что затихла самая жестокая за всю историю человечества война. Померкли огненные смерчи. Перестали умирать люди на переднем крае. Но на место «горячей войны» пришла «холодная война». Сгруппировались два противоборствующих лагеря со своими многомиллионными армиями. Чтобы поддерживать равновесие, армии должны быть постоянно на боевом взводе.
С этой целью шло обучение молодого пополнения и освоение новой боевой техники. Я работал тогда авиационным механиком. Мы списывали отслужившие срок истребители ЯК-3, ЛА-7, ЛА-9. Взамен получали мощнейшие ЛА-11. Это цельнометаллическая машина с броневой защитой, оснащенная четырьмя скорострельными пушками.
Стрельба из этих пушек велась с помощью специального оптического прицела, работающего в паре с фотокинопулеметом.
Летчик, поймав цель в прицел, нажимал на гашетку, и на пленке фиксировался момент попадания снаряда в цель. Это была новинка, и ее нужно было осваивать.
Любимым занятием «летунов» было рассматривание пленки после стрельб. По количеству попаданий на пленке оценивалась работа стрелка. За особую меткую стрельбу летчики поощрялись.
Стрельбы по «конусу»(воздушная мишень) прошел весь летный состав полка. Наступила вторая стадия обучения: воздушный бой с самолетами «противника». За «синих» выступал соседний полк, с которым мы постоянно соревновались.
Обстреливали наши летчики «синих» с особым желанием, т. к. те часто выходили победителями, и это обстоятельство «наших» немножко злило. Были асы, как в их, так и в наших рядах. К ним относился и мой командир звена старший лейтенант Пашнин. Невысокий, плотный, с черным, как смоль, чубом и с широкой белозубой улыбкой. Он с отличием закончил летное военное училище в первый послевоенный год, и настоящего противника ему сбивать не пришлось. Тем не менее был отличным летчиком, а список благодарностей в его личном деле постоянно пополнялся. Служил он уже третий год, но в отпуск(куда-то в Горьковскую область) командование не отпускало.
В этот безоблачный день ничто не предвещало беды. Мы, как всегда, готовили машины для очередного учебного боя. Баки заправили горючим под самую горловину. Боекомплект холостых снарядов полный на каждую пушку. Пленку для фотокинопулемета зарядили на 500 выстрелов. Докладываем летчику: «Машина к полету подготовлена». Он поздоровался со всеми нами за руку и осмотрел самолет. Поднялся в кабину. Включил приборы. Проверил их работоспособность. Навел прицел и включил ФКП. Фотоаппарат прощелкал несколько кадров. Потом включил рацию, связался позывными с КП и попросил разрешения на запуск.
Воздушный бой с самолетом «противника» расписан инструкцией до мелочей. Сначала заход справа и удар в борт, в двигатель, потом заход в хвост, удар по плоскостям, по бакам с горючим. Потом заход спереди, стрельба в упор залпом по воздушному винту.
Дерутся двое на огромной высоте. Каждый хочет перехитрить своего соперника, зайти неожиданно с той или другой стороны, использовать выгодно облака и слепящее солнце. И о каждом маневре летчик докладывает руководителю полетов на КП. Вот слышим позывной Пашнина (рация подслушивания есть в каждом звене): «Я ноль двадцатый, левый заход выполнил, дал десять выстрелов. Делаю правый заход!». Голос с земли: «Ноль двадцатый! Ноль двадцатый! «Синий»справа! «Синий» справа!». Ответ: «Вас понял! Вижу!». Опять голос с КП: «Ноль двадцатый! «Синий» переходит на вертикаль!». Где-то над нами неистово ревут двигатели, хлопают пушки, дымные полосы смешиваются с облаками.
Мы напряженно, с замиранием сердца следим с земли за этой чертовой круговертью. «Горки, «бочки», «петли» и еще какие-то замысловатые фигуры выделывают наши асы. Ни один не хочет уступить, каждый жаждет победы. Вот они разошлись в крутом вираже, дав по нескольку залпов. Вот вышли из пикирования и устремились навстречу друг другу на огромной скорости. В момент стрельбы летчик, прильнув к прицелу, на какое-то время снижает бдительность, мощная оптика скрадывает расстояние до цели. При большой скорости движения навстречу глаз человеческий не в состоянии уловить точное расстояние до цели и может произойти непоправимое.
Вот опять голос нашего: «Ноль второй! Я ноль двадцатый! Разрешите на лобовую атаку!». «Я ноль второй! Атаку разрешаю, следите за дистанцией!» Наступил самый ответственный момент боя. И вдруг в воздухе на высоте 3 тысяч метров возникло огромное малиновое пламя.
Через несколько мгновений грохот неимоверной силы потряс землю и все нас окружающее.
Дома, ангары, землянки заходили ходуном. Вмиг осыпались в окнах все стекла. Катастрофа! Великое горе постигло нашу дружную авиационную семью. Мы, сколько нас было, одновременно стащили шапки с голов. Сигналы бедствия понеслись в эфир. Несколько тонн высокооктанового бензина и почти полный боекомплект снарядов одновременно взорвались от столкновения лоб в лоб двух тяжелых машин. Осколки разлетелись на десятки километров. Собрать ничего не удалось. И хоронить было нечего.
Все сгорело в этом страшном огнище.
Долго думали командир полка, начальник штаба и замполит, как сообщить родным в далекую Горьковскую область, в Воротынский район. Решили послать: «Пропал без вести при исполнении служебного долга». Да и время было такое, что нельзя было сообщать подробности. На том и закончилось бы.
Но время двигалось, и подошел год моей демобилизации. Вернулся в свой родной Горький, устроился на работу. Подружился с девушкой, и мы поженились. Как положено по русскому обычаю, молодожены должны погостить у родственников жениха и невесты. И вот мы отправились с женой к ее родственникам в Воротынский район. В деревнях в каждом доме по стенам развешаны фотографии всей ближней и дальней родни хозяев дома.
Пока нам готовили встречу, я увлекся этими фотографиями. Перешел к очередной рамке, а на меня смотрит мой командир старший лейтенант Пашнин. Спрашиваю: «Тетя Нюра! Кто это такой? Кем он вам приходится?». А она подошла к фотокарточке, приложила конец платочка к глазам и промолвила: «Это Андрюшенька, сыночек мой, двоюродный, значит, брат твоей женушке. Служил он где-то на Кавказе и пропал без вести. С тех пор мы о нем ничего не знаем и на портрет черную ленточку не вешаем». И она залилась горючими материнскими слезами.
Сердце мое переполнилось болью. «Тетя Нюра! Это мой командир, мы служили вместе, и погиб он у меня на глазах. И никакой безвестности тут нет!»
Слух по деревне разносится со скоростью звука. Сбежалась вся родня. Набились в избу под завязку. Все хотим услышать из первых уст, как служил Андрей, где и как погиб.
Вот так узналась правда о последних минутах жизни их уважаемого родственника.
Нарушитель границы
Шел 1952 год. Год интенсивного перевооружения всей нашей армии. Особенно это ощущалось в ракетно-артиллерийских частях в авиации. Бомбардировочная авиация уже имела на вооружении ракеты класса «воздух-земля», а истребительная только начала их осваивать. К нам в полк прибыли первые самолеты, оснащенные установками для подвешивания ракет. Последняя новинка авиационно-ракетной техники. Конечно, она была засекречена, и открытого доступа к ней не было. Испытывать ее в воздухе было поручено особому звену первой эскадрильи, т. е. нашей. Инструктаж проводили старшие офицеры из штаба армии. Строгости соблюдались по всем канонам. Все летчики нашего полка делились на стариков-фронтовиков и молодых, окончивших летные училища после войны. Старики уже прошли через наше звено, освоили полеты всех видов, в том числе и стрельбы ракетами, а молодежь только осваивалась. Одному такому молодому летчику лейтенанту Солонинкину в этот день предстояло «сходить» с подвешенными ракетами в зону полигона в горы и там выпустить ракеты по цели.
Запуск, короткая прогонка двигателя в максимальном режиме на тормозах, проверка рации на прием, на передачу — и взлет разрешен. Одновременно включились радиостанция прослушивания и локаторная станция слежения при штабе корпуса. Аэродром наш был построен в долине реки Куры. С севера мы были ограничены высокими Кавказскими горами, а с юга турецко-иранской границей. 100 километров по прямой и-заграница. Там, как и у нас, понастроено было большое количество аэродромов и других военных объектов. Иногда мы улавливали разговор по радио на английском языке, команды с земли и в воздухе.
Первые минуты все проходило по плану. По рации летчик сообщил курс, высоту, скорость полета. Станции прослушивания и слежения подтвердили сообщение пилота. Вот он докладывает о подходе к цели, а цель находится на склоне высокой горы вдоль ущелья. Время уже сообщить: «Цель вижу», но прошла минута, другая…. И вдруг голос из эфира: «Цель не вижу, все заволокло сплошным туманом». Это часто и непредсказуемо случается в горах. Голос с земли: «Я ноль второй! Я ноль второй!». Это уже генерал с корпусного КП.
Чрезвычайная ситуация, руководство полетами автоматически переходит в руки вышестоящего начальника. Команда: «Обойдите гору вокруг, проверьте выход на цель!». Слышим: «Вас понял! Обхожу гору!». Минута молчания. Снова голос пилота: «Ноль второй! Ноль второй! Я ноль сорок пятый, гору обошел, туман сгущается, цель не вижу!». «Убавьте высоту, обойдите еще раз!». Снова голос Солонинкина: «Сплошной туман, видимость ноль!». Команда: «Работу прекратить, возвращайтесь на свою точку курсом 120!». «Вас понял!».
Ракета ведь дорогая, надо вернуть на склад боеприпасов. Самолет начал набирать высоту, и устремился по заданному курсу. В кабине самолета установлены два компаса, по которым пилот должен сверять свой курс. Магнитный и радиокомпас (РК), показания обоих компасов должны совпадать. То ли от близости земли, то ли от кружения вокруг горы, они показывали разнобой. Летчик немедленно об этом доложил на землю. Последовала команда руководствоваться РК. А радиокомпас имеет свои грехи. Если он плохо настроен на свою волну или возникают радиопомехи, то он будет «врать». Еще хуже, если на этой же волне где-то работает еще одна приводная радиостанция — она уведет самолет туда. Частенько американцы пользовались таким приемом, провоцировали наших неопытных летчиков. И на этот раз локаторная станция сообщила, что самолет идет курсом 170. А это значит, что через несколько минут он пересечет воздушную границу.
Переполох в эфире и на аэродроме невероятный. Корпусной генерал чертыхнулся в эфир: «Ноль сорок пятый! Запрещаю дальнейший полет по курсу, встаньте в круг». Это значит, набрать максимальную высоту и кружиться в радиусе двух-трех километров, дожидаться подлета своих самолетов, которые его защитят и выведут на правильный курс. Секунда и пара дежурных с нашего аэродрома уже в воздухе. Корпусной КП направляет их полет. А за границей боевая тревога. В эфире на всех языках послышались команды и донесения. Еще бы, советский воздушный нарушитель появился над их территорией. Достаточно одной минуты, чтобы поднять в воздух звено, сбить или посадить нарушителя. Тогда прощай все наши секреты. Понимали это на земле, понимал это и Солонинкин.
Но американцы или турки, видно, не готовы были к такому неожиданному сюрпризу и позволили нашему самолету кружиться над ними.
— Ноль сорок пятый! На подходе пара, смотрите!
— Не вижу!
— Смотри лучше! И генерал добавил крепкое соленое словечко.
— Ух! Вижу! — долетел до нас вздох из эфира. Такой же вздох вырвался и из наших взволнованных грудей.
И вот мы все уставились на горизонт, ждем появления Солонинкина. Вдали показались три быстро приближающиеся серебристые машины. Пара развернулась, освобождая подлет виновнику переполоха. А он на последних каплях горючего, без предварительных маневров, с ходу плюхнулся на бетонную полосу и покатился в сторону старта. Мы, конечно, всей командой к нему. Но нас опередили «скорая помощь» и «черный ворон».
Подъехали к самолету, вскочили на крыло, открыли фонарь, приглашаем летчика на выход. А тот сидит белее снега и не может подняться. Помогли. Отстегнули парашют, сняли кислородную маску, поставили его на плоскость. Спрашиваем, что с ним, а он ни слова. И только на вопрос «особиста», знает ли он, что нарушил границу и что за этим последует, ответил: «Да, знаю». Увез «черный ворон» нашего Солонинкина по неизвестному курсу. Больше мы о нем ничего не слышали. А виноват ли он?
Мы все были предупреждены, чтобы не распространяться об этом. И я уверен, что до последнего времени такая правда не доходила до простого народа, даже до родителей. И только спустя сорок лет можно говорить об этом открыто.
Страх
«Пилоту не доступен страх, В глаза он смерти смотрит смело»,— это только в песне так поется. На самом деле страх присущ каждому живому организму, в том числе и человеку. Страх за свою жизнь, за жизнь своих близких, страх перед опасной неизвестностью.
Страх-это такое состояние, когда скованы, парализованы все волевые жилочки человеческого организма, мозговое потемнение, потеря дара речи и даже бурное выделение организмом жидкостей всех видов. Шок — так говорят медики. И наши летчики не скрывали, что испытывают нечто подобное каждый раз, когда пересаживаются на незнакомую авиационную технику. Об одном таком случае, но выходящем из ряда вон, стоит расказать особо.
Происходило это в пятидесятые годы. Мы получили новую модель реактивных истребителей МиГ с катапультируемым сиденьем. Никто из наших летчиков этой новинки не видел. Катапульта предназначалась для выстреливания летчика из кабины вместе с креслом и парашютом в случае чрезвычайной ситуации (ЧП), когда нужно покинуть самолет в воздухе. При этом пилот должен помнить, что ноги он должен прижать к груди, при помощи электрической кнопки сбросить фонарь кабины и уже потом нажать специальную рукоятку.
Выстрел пиропатрона — и человек со скоростью снаряда вылетает из кабины. А дальше все завершит автоматика. Раскроется парашют для сиденья и выдернет сиденье из-под летчика. В следующую секунду раскроется вспомогательный парашют, который вытянет из чехла основной. Операция сложная, но длится она всего несколько секунд. Летчик не успеет опомниться, как уже качается в стропах своего парашюта. Теперь только соблюдай инструкцию и приземлись на бок, иначе можешь переломать ноги.
Все это описано в специальной инструкции для летного состава, строгое выполнение которой обязательно для каждого, невзирая на чин и звание. На боевом самолете тренировки проводить невозможно, это значит потерять дорогостоящую технику. Нашли выход удобнее и проще.
Стоял у нас на аэродроме старенький «дуглас». Это транспортный американский самолет. В его чреве можно уместить до взвода солдат со всей амуницией. Вот у этого «дугласа» прорезали в верхней части фюзеляжа отверстие, чтобы прошло кресло вместе с человеком, на полу установили катапульту, намертво привернув ее болтами, и, пожалуйста, выстреливайтесь.
Для первого испытания такой конструкции прилетел инструктор из штаба армии. Целый день он по очереди усаживал наших летчиков в кресло и подробно объяснял, как нужно подгибать колени, как нажимать рычаг катапультирования. Подошла очередь и нашему герою, лейтенанту Якушеву. Он попытался увильнуть, сославшись на головную боль. Но полковой врач разоблачил эту уловку, и Якушеву пришлось усаживаться. Но это еще не катапультирование. А показать на практике, как это происходит, должен инструктор. Вот «дуглас» вырулил на взлетную полосу, набрал высоту. Высота должна быть не менее 1000 метров, иначе не хватит времени для раскрытия трех парашютов. Первый отстрел прошел нормально. Потом второй, третий: все шло хорошо. Инструктор начал приглашать смельчаков-добровольцев. Нашлось несколько. Это замкомандира полка по летной части, наш комэска и два командира звена. Им по уставу положено быть впереди. На другой день полеты продолжались, но уже без армейского инструктора. Операцией руководил подполковник Смирнов.
Каждый летчик, приземлившись, делился впечатлениями от пережитого. Одни говорили, что нет ничего особенного, другие наоборот, описывали, какой ужас их охватил перед неизвестностью.
Лейтенант Якушев слушал всех, а в уме прикидывал все «за» и «против». «Против» перетягивало. Да еще кто-то сказал, что в соседней дивизии разбилось несколько человек таким способом. И он решил пойти к командиру полка и объясниться. Но тот действовал по формуле — «не можешь— поможем, не хочешь— заставим», пригрозив гауптвахтой. Лейтенанту ничего не оставалось, как подчиниться. Но страх перед выстреливанием у него нарастал. Он начал нас избегать, даже говорил, что спрячется. Глаза его округлились. В них явно отражался испуг. В день, когда подошла очередь его полета, он отказался от завтрака и не выпускал папироски из зубов.
Вот подана команда на посадку. В «дуглас» входили сразу пять летчиков. Это для того, чтобы помочь устроиться в кресле очередному подопытному, да и самим подготовиться морально. Подполковник предполагал, что с Якушевым придется повозиться, и пришел в самолет лично, а для подстраховки пригласил нас, двоих технарей. Вот подполковник приказывает Якушеву занять кресло, а тот мотает головой — нет, мол. Старший офицер приказывает нам усадить его силой. Мы попытались. Но Якушев вырвался и убежал в хвост самолета. Командир приказал всем присутствующим поймать беглеца и усадить. Поймали. Притащили. А у него глаза вылезли из орбит. Рот раскрылся. Появилась какая-то тягучая слюна. Лицо помутнело, а руки все ищут и ищут какой-то опоры. Но вдруг тело его обмякло, и мы уложили его в кресло, застегнув ремни парашюта. А «дуглас» все кружит и кружит над аэродромом, ожидая, когда же мы выстрелим. Подполковник сам нажал рычаг выстреливания. Человек вылетел в отверстие вместе с креслом. Как он приземлился, рассказывали те, что были на земле. Все три парашюта открылись благополучно, но тело летчика, подвешенное на стропах, не подавало признаков жизни. На землю он в прямом смысле плюхнулся. По-нормальному, он должен был подняться на ноги и отстегнуть парашют. А этот лежит без движения, с перепугу видно. Санитары подхватили тело, уложили на носилки, затолкнули в машину и увезли.
На другой день мы навестили нашего командира в гарнизонной санчасти. Он в больничном белье встретил нас виноватой улыбкой и, совершенно белой, как лунь, головой. Через неделю нам зачитали приказ о переводе летчика лейтенанта Якушева в другую часть в качестве техника.
Вот так страх перед неизвестностью может сыграть с человеком злую шутку.
Ночная посадка
В этот раз я хочу рассказать историю, которая произошла с одним из моих боевых друзей во время прохождения службы.
Случилось это вскоре после войны. Наш гвардейский истребительный полк стоял в восьмидесяти километрах от турецко-иранской границы. Турция и Иран, разоренные расходами второй мировой войны, нуждались в материальной помощи. И помощь эта оказывалась американцами, которые взамен дружеской помощи занимались строительством военных баз на их территории.
Основная часть военных баз располагалась вдоль нашей границы. Много было построено аэродромов, где днем и ночью, зимой и летом тренировались американские летчики.
Конечно же, не по случайности воздушное пространство над нашей границей регулярно нарушалось.
Нашим войскам был дан приказ: охранять границу, как зеницу ока, не допускать нарушения нейтральной зоны, соблюдая при этом пограничный этикет, ни в коем случае не поддаваться на провокации. И советские летчики на своих винтомоторных истребителях типа ЛА-9, ЯК-9 постоянно патрулировали в воздухе, надежно охраняли священные рубежи нашей Родины.
Шло время. Техника развивалась. На смену устаревшим самолетам стали приходить первые реактивные. Часть летчиков была направлена на переучивание в специальный учебный центр. Среди них наш командир звена капитан Иван Дюков.
Через год наш полк полностью перешел на реактивную технику. Вернулись летчики с переучивания. В это же время появился в полку и учебный двухместный реактивный исребитель УТИ. «Уточка»-так его любовно называли летуны. На этом небольшом юрком истребителе обучали управлению реактивной техникой всех без исключения летчиков. Внештатными инструкторами назначались вернувшиеся из центра переподготовки командиры.
Наш УТИ не знал покоя ни днем, ни ночью. Учения проводились круглосуточно. Все, кто прошел программу полетов на УТИ, пересаживались на боевую машину. Капитан Дюков в совершенстве знал оба самолета - и учебный, и боевой.
Он успешно сдал все зачеты на звание военный летчик второго класса и готовился досрочно получить первый класс. Не было в полку равных ему в знании авиационной техники. И очень часто технические работники консультировались у Ивана по различным вопросам. А уж в стрельбе на высоте он был признанным королем. Летчики частенько подшучивали над ним, вернувшись со стрельб:
— Ты, Иван, бей по фалу, чтобы конус оторвался!
— А что, попробуем, —отвечал тот, усмехаясь. И ведь, правда, Дюков сбивал этот конус, который представляет собой длинный парусиновый надувающийся мешок, транспортируемый самолетом «бостон». А фал - обыкновенный трос. И его сбивал Иван не раз.
А когда Дюков уходил на выполнение фигур высшего пилотажа, весь полк замирал, глядя на стремительные дюковские «горки», «бочки», «петли». Одним словом, самолет и он, Иван Дюков, были единое целое.
В тот памятный день наша эскадрилья отдыхала и готовилась к ночным полетам. По летному расписанию капитан Дюков должен был ночью по маршруту лететь вместе с командиром эскадрильи майором Лебедевым. Майор— в передней кабине, а в задней, за инструктора, Дюков.
Управление взял на себя комэска. Первая половина полета прошла благополучно. Долетели до определенного заданием пункта. Соблюдая все повороты и изменения по высоте, направились на свою точку. Связь работала нормально. По радио майор Лебедев, называя свой позывной, запросил разрешение на посадку. Руководитель полетов дал разрешение. Все было готово. Поступило сообщение с борта самолета, что кран выпуска шасси поставлен на «выпуск». И тут же новое сообщение:правая зеленая лампочка, сигнализирующая о выпуске правой «ноги», не горит, а горит красная.
Эфир заволновался. Руководитель полетов приказал всем находящимся в воздухе прекратить всякие разговоры.
— Приказываю поставить кран шасси в положение»убрано» и заходите на второй круг!
А сам тут же передал по радио о «ЧП» генералу. Эфир прорезал его голос:
— Доложите, кто в полете!
— Майор Лебедев и капитан Дюков.
— Ребята, давайте еще раз попробуем, постараемся…
Шасси не выпускалось. Последовал приказ покинуть машину, выброситься на парашюте. Горючее было уже на исходе. Для набора высоты его явно не хватало, и в эфире послышался отчетливый спокойный голос капитана Дюкова:
— Ноль первый! Ноль первый! Разрешите произвести посадку на две точки!
Казалось, это невозможно, сесть на левое и переднее колесо на грунтовую полосу ночью?!
Майор Лебедев подтвердил просьбу:
— Ноль первый, разрешите произвести посадку 504-МУ.
Это был позывной Ивана Дюкова.
— Нет! Я не могу рисковать двумя жизнями ради невиданного эксперимента.
Но в ответ послышался уверенный голос Дюкова:
— Прожектора направить на запасную грунтовую полосу! Подготовить пожарную и санитарные машины! Иду на посадку!
Здесь, на земле, приказания выполнялись быстро и четко. От этого зависела жизнь наших товарищей.
Эфир замер. Казалось, что и все вокруг притихло и остановилось.
Самолет блеснул в лучах прожекторов и начал приближаться к земле. Было видно, как он, резко наклонившись на левое крыло и задрав нос сверху, стремительно снижался. Мгновение — земля! Правый элерон вниз! Левый элерон — вверх! Рули глубины вверх. Самолет, управляемый Иваном Дюковым, коснувшись земли, покатился на одном колесе. Сердце радостно затрепетало.
А самолет продолжал катиться на одном колесе.
Выпущены тормозные щитки, выключен двигатель, скорость пробега медленно падала.
— Неужто сели? — вырвалось у кого-то.
Прошел еще один миг, и оконечность правого крыла, потеряв равновесие, забороздила по земле. Самолет бросило вправо и развернуло на 180 градусов. Тут же открылся фонарь, и летчики медленно вылезли на крыло.
Мир словно взорвался. Все смешалось…
К месту посадки мчались все машины. Через минуту мы окружили самолет, стащили с крыла Ивана и высоко-высоко подбросили. Потом еще и еще.
— Живые, черти!
— Живые!
Неожиданно в эфире раздался голос генерала:
— Включите прожектора, захожу на посадку!
Это он на своем ПО-2 прилетел на аэродром, не выдержал. Подбежал к обоим летчикам. Видно было, что чувства переполняют его. Но он только крепко пожал летчикам руки, а потом сказал:
— Благодарю за службу!
И уже совсем не по-армейски добавил:
— Спасибо, братцы…
Если вы полистаете подшивку газет Закавказского военного округа тех лет, то в одной из газет обязательно встретите портрет Ивана Дюкова с «Золотой Звездой» Героя Советского Союза.
Холодная война
Анализирую события сегодняшней международной жизни и невольно вспоминаю далекие пятидесятые, шестидесятые годы. Холодная война между двумя системами, капиталистической и социалистической, была в полном разгаре. Котел международных отношений кипел, и иногда его зарево выплескивалось через край, распространяя по земному шару продукт скоропортящийся и взрывоопасный. События на китайской границе, в Венгрии, в Чехословакии, карибский кризис поддерживали горение.
Где-то тайно, в дипломатических и политических кулуарах, готовилась третья Отечественная. А Государственный ВПК (военно-промышленный комплекс) со своими многочисленными ЦКБ, ОКБ изобретал, штамповал и гнал, и гнал в войска бесчисленное количество новейшего смертоносного оружия.
Армия, осваивая новую технику, постоянно находилась в полной боевой готовности. «Тяжело в учении — легко в бою», — говаривал великий полководец Суворов. И авиация училась днем и ночью, стараясь шагать в ногу со временем.
ЛТУ. Каждый, кто служил в авиационных частях, легко расшифрует эти знаки. Летно-тактические учения, или игра в войну. ЛТУ были полковые, дивизионные, корпусные. Армейские обычно проводились в конце года, после дивизионных и корпусных. На этот раз предстояли армейские, с участием истребительной и бомбардировочной авиации. С преследованием и перехватом «противника» в воздухе. Боевая стрельба по воздушным и наземным целям. Полеты днем по «маршруту» и ночью по приборам с затемненной кабиной, или, как говорили, с ШЗК (шторка затемнения кабины). Задействованы были и наземные войска.
Пограничники усилили наблюдение, т. к. под шумок могут быть нарушения. Саперы устанавливали на специальных полигонах в горах щиты — наземные цели. Радисты и локаторщики настраивали свои станции на соответствующую волну. Зенитчики тоже готовились «расстреливать противника» в воздухе до подхода к объекту. Но самая ответственная роль отводилась прожектористам. Они должны были запеленговать движение цели по курсу на звук. Локатором определить высоту полета. Осветить, взять в перекрестие и сопровождать ее до полного уничтожения зенитным огнем или истребителями. Попав в такое перекрестие, противник обречен.
Но у прожекторного луча есть и второе смертельное свойство. Кто хоть один раз смотрел на электросварку без защитного стекла, знает, что после этого последует. Невыносимая боль в глазах продолжается несколько дней. В прожекторе, пламя вольтовой дуги вспыхивает при горении мощных графитовых электродов в фокусе огромного сферического зеркала. Световой поток, сконцентрированный фокусом зеркала, настолько силен, что способен на расстоянии десятка километров, ослепить, парализовать человека.
Пилот, например, получивший дозу такого света, мгновенно теряет ориентацию и управление. Машина срывается в штопор и погибает. Летный состав об этом был осведомлен. С этой целью кабины ночных истребителей были оборудованы ШЗК. В эту ночь наш полк должен был перехватить «бомберов», идущих по курсу к морю, на высоте восемь тысяч метров. Весь полк в первой боевой готовности, а это значит, что все летчики находятся в кабинах с включенными рациями и в кислородных масках. К самолету подключено аэродромное электропитание. Все в нервном ожидании.
Слышим по рации: «Противник прошел квадрат 04». В следующем квадрате мы должны их встретить, атаковать, заставить изменить курс. Нам помогают прожектора. Вдали над горизонтом видно, как скрещиваются и расходятся в стороны огненные мечи. Все ближе и ближе вспыхивают световые столбы, и вот сигнал: «Ракета! Запуск!Взлет!». Cотрясая землю и воздух, двинулась стальная армада из пятидесяти истребителей-перехватчиков. Еще несколько секунд — и они скрылись в ночном небе. Только эфир подтверждал, что воздушное пространство насыщено до предела. На одной волне слышно локаторщиков и прожектористов, на другой — зенитчиков. Бомберы молчат. Им открывать себя не разрешено. Вот слышим наши голоса. Докладывают по очереди: «Цель вижу! Захожу для атаки!». С командного пункта голос: «Маленькие, заходите поэскадрильно!». Затрещали скорострельные пушки НС-23 и заухали более мощные НС-38. (НС— это конструктор пушки Нудельман-Суранов, 38-калибр).
«Синие» дружно огрызаются, хотя и холостыми. Они тоже ведут счет сбитых. Все «попадания» фиксируются на фотопленке специальным фотоаппаратом (ФКП).
И тут случилось то, чего боялись наши летчики. Прожектористы осветили не только цель, но и нападающих. Поступила команда проверить, способны ли истребители ходить в прожекторах. Они обшарили атакующих и остановились на последнем. А последний был лейтенант Грибов из третьей эскадрильи. С земли еще раньше поступила команда, проверить ШЗК, но Грибов, видимо, пренебрег предупреждением. По радио он сообщил, что не видит цель через прицел. Запотевание. И, надо полагать, отодвинул шторку. Тут и попался. Ослепительный смертельный поток света ворвался в кабину. Пилот успел сказать только одно слово: «Свет!» и замолк.
С земли нам хорошо было видно, как самолет, вильнув раза два своим огневым факелом, вошел в штопор и ударился в землю. Пламя — до поднебесья. Грохот невообразимый. На миг осветилось все вокруг. Мы подъехали на автомашинах и увидели только воронку огромного размера. Кто-то из командиров по рации попросил осветить место падения.
Луч, направленный с расстояния километров семи, сразил нас всех моментально. Мы попадали на землю, прикрыв голову руками. К счастью, прожектор быстро угас, но мы, ослепленные, долго не могли прийти в себя. Вот это сила! Понятна нам стала гибель Грибова. Вспомнились прожектора Жукова под Берлином. Грозное оружие, не щадящее никого. «Синие» улетели. Прожектора погасли. А полк приземлился не в полном составе. ЧП, несмываемое пятно для полка на долгое время.
Наутро мы собирали осколки в радиусе нескольких сот метров. Родных не вызывали. Сообщили только, что погиб при исполнении служебного долга. Хоронили гроб с несколькими окровавленными железками. Дали, как и положено, залп из личного оружия.
Это только один эпизод из жизни одной воинской части. Одна жертва за одно учение. А сколько таких ЛТУ проводилось каждый год по нескольку раз! Вот и посчитайте, сколько же было принесено жертв на алтарь холодной войны.
Смерть парторга
Совсем недавно историки и краеведы обнародовали новую цифру — 27 млн. человеческих жертв Великой Отечественной войны только с нашей стороны. Но я хочу затронуть цифру погибших воинов уже в мирное время, при прохождении срочной и сверхсрочной службы.
Служба моя проходила в авиационных истребительных частях. Вскоре после войны мы начали переходить на новую реактивную технику. Техника была, конечно, не совершенная. Грозная не только для наших противников, но и для нас самих. Часто случались отказы и поломки, как на земле, так и в воздухе. Поэтому летчики садились в нее без особой охоты. Да и сама конструкция резко отличалась от старых типов.
Привычно было видеть летчику перед собой мотор и воздушный винт, а тут сидит человек в кабине, в самом носу фюзеляжа, и нет перед ним привычной защиты. Пустота. Вот это пространство и высокая посадочная скорость часто обманывали летчиков. То посадит на хвост, то на одну переднюю ногу и, конечно, случались ЧП. Самолет перевертывался. Как говорили, — «полный капот». А иногда, не рассчитав посадочного расстояния и скорости, самолет устремлялся за пределы аэродрома и там перевертывался или даже взрывался. Во многих случаях летчики погибали.
Как-то хоронили мы одного неудачника и ждали генерала из штаба армии, который должен был оформить похоронные документы.
Вскоре генерал прилетел на своем ПО-2. Похоронили. Дали салют, ну и, конечно, нужно было помянуть по русскому обычаю. Пригласили этого генерала, но он двумя руками начал открещиваться от нашего предложения: «Что вы, что вы, ведь я сегодня к вам не к первым, да и после вас мне еще надо успеть в соседнюю дивизию. Каков я буду после трех поминаний?»
Зная количество полков, нетрудно было подсчитать во сколько жизней обошлось нам освоение новой боевой техники. Но не только в летном составе, но и в обслуживающем персонале были потери, даже среди штабных работников. Вот об одном таком невероятном случае мне хочется рассказать. В 1951 году вышло постановление правительства о сокращении Вооруженных сил на 1 млн. 200 тыс. человек. Конечно, это было не сокращение, а переформирование. Одни части расформировывались, а другие за их счет пополнялись. Нужно было убрать часть войск из перенасыщенной Европы. Вот так для прохождения дальнейшей службы в нашу дивизию прибыло несколько старших офицеров из пехотных частей. В наш полк был направлен сорокалетний полковник Самсонов.
Стройный, подтянутый, образец службиста. В нашем гарнизоне уже был один полковник— это наш командир полка, а второму полковнику должность в соответствии со званием подобрать было трудно. И его определили парторгом полка. В его обязанности входило собирать партийные взносы и проводить партийные собрания.
По идеологической части у нас был свой замполит. Полковник Самсонов, надо сказать, усидчивостью не отличался. Его можно было увидеть в ПАРМе (ремонтная мастерская), в парашютной комнате, в землянках у технарей. И никогда он не расставался с кожаным полевым планшетом. Постоянно держал его при себе как личное оружие.
До всего ему было дело, прямо горел работой. Даже на послеполетном разборе в тон командиру полка пытался поучать летчиков, за что неоднократно получал головомойку от замполита.
Рассказывали один анекдотичный случай. Заходил на посадку ПО-2. А колеса, всем было это известно, без тормозов от встречного потока воздуха вращались. Один из летчиков возьми да и скажи: «Опять включил колеса, опять пережог горючего будет». Этого было достаточно, чтобы попасть на карандаш парторгу. И тот на очередном разборе, выложил свою мысль о пережоге — хохот был бесподобный. А он, нисколько не смущаясь, продолжал свое дело как на фронте.
А обстановка действительно была почти фронтовая. Полк переходил на ночное дежурство. Нужно было отработать ночные взлеты звеном, экскадрильей и полком. Задача не из легких. Готовились основательно. Долго проводили предварительные тренировки. И вот настала ночь, когда мы должны были показать себя лицом перед всем Закавказским округом. Представителей понаехало — не сосчитать. Нашему парторгу это было особенно по душе. Он с утра хлопотал о каких-то «молниях», боевых листках, хотя не были они нужны никому. Вечером, когда мощные МиГи выстроились вдоль рулевой дорожки в капонирах, он побывал у каждого экипажа в каждом звене. Неоднократно предупрежденный о смертельной опасности, поджидающей его вблизи работающих самолетов, он продолжал рисковать. Его суетливость вызывала у командования нервозность и предчувствие опасности.
Вот зажглись огни взлетно-посадочной полосы. Вот по радио объявлена первая готовность. Ракета! Запуск! Взревели 104 авиационных реактивных двигателя. Вторая ракета! Самолеты враз выскочили из капониров на рулежную дорожку и устремились на взлетную полосу для построения. Зрелище поистине фантастическое. Неимоверный грохот, пыль в огненных струях поднимается до поднебесья, зеленые, красные огни на плоскостях и фары спереди создают впечатление сплошного огненного потока. Все живое спряталось и укрылось. Полковника Самсонова последний раз заметили перебегавшим из соседнего капонира в другой.
Третья ракета! Взлет! Двигатели перешли на форсаж и вся летучая стальная масса, в миллионы лошадиных сил, поэскадрильно пошла на взлет.
Вот наша экскадрилья в воздухе, мы слышим это по рации, которая есть в каждом звене и настроена на волну полетов. Не только по позывному коду, но и по голосу мы могли определить, кто говорит, где наши и что с ними. Пока все идет нормально.
Но вдруг слышим голос старшего лейтенанта Яшина: «Ноль первый! Ноль первый! Я ноль сорок пятый, растет температура левого двигателя!» И снова этот же голос: «Температура на пределе!»
«Я ноль первый! Я ноль первый! Ноль сорок пятый, заходите на вынужденную посадку, дальнейший полет не разрешаю!» И сразу в эфире наступила тишина. ЧП — чрезвычайное происшествие. Вся наша подготовка пошла коту под хвост. Полк, перестроившись в боевой «пеленг», ушел на выполнение задания, а летчик Яшин заходил на посадку. Второй двигатель уже заглох. Посадочная полоса осветилась прожекторами.
Вот он покатился по бетонной дорожке, выпустил тормозной парашют и заглушил двигатель. Незамедлительно к нему понеслись машины: «скорая помощь», пожарная, буксирная и машина руководителя полетов.
Привезли самолет на буксире и установили в нашем капонире. Летчик сидит в кабине и ждет инженера полка. Майор Чернов по стремянке поднялся к летчику и приказал запустить двигатель повторно, но тот запускаться не хотел. Начался осмотр самолета и двигателя. Запах гари все почувствовали сразу, но гари какой-то особенной.
Вскрыли все смотровые люки, осветили сопла сзади. Зашли спереди, осветили входной воздушный канал, а там на заградительной решетке какие-то посторонние предметы. Один из мотористов залез в канал, дотянулся до решетки и начал выбрасывать предметы. Сначала один кожаный сапог, потом второй. Затем выбросил кожанный полевой планшет и больше не выдержал: «Там груда каких-то костей, я боюсь их трогать».
Ясно, что в сопло влетел человек. Но кто это мог быть? Открыли планшет: да, полковник Самсонов. Утром самолет расстыковали, сняли двигатель, собрали все останки. По заключению экспертов, произошло следующее: человек, перебегая, попал в зону захвата воздуха двигателями. Его мгновенно подхватило и бросило на защитную решетку в канале. Мощнейший вакуум вытянул из него влагу, мясо, ткань одежды. Этой массой забило лопатки турбины и топливные форсунки. В результате двигатель перегрелся и вышел из строя. Так полковник Самсонов в прямом смысле сгорел на работе. Еще одна семья получила похоронку.
Пройдут годы, но память будет хранить имена наших товарищей, отдавших жизни уже в мирное, послевоенное время. Светлая память им!
Земляк
Отгремели грозы военные. Но и в мирное время приходят домой из армии короткие вести о погибших. Одна такая несколько лет назад пришла в домик над Ветлугой.
Нес срочную службу в БАО (батальон аэродромного обслуживания) ефрейтор Иван Зайцев. Весельчак и балагур. Душа солдатской курилки. Водил он штабной «виллис» и подчинялся только начальнику штаба нашего авиационного истребительного полка. Обслуживал командира, начальника штаба и замполита, подвозил их на аэродромы и обратно, ездил с ними в штаб дивизии и корпуса.
Узнав, что я тоже нижегородский и тоже окаю, он частенько приглашал меня на беседу в курилку, приговаривая при этом: «Пойдем, землячок, посидим, поговорим, поокаем!» Приятно услышать вдали от родных пенатов заволжский говорок. «Веселый ты, Ваня!» — говаривал я ему. «А мы все, ветлугаи, такие!» — отшучивался он. До армии он работал мотористом на пароме. Перевозил людей через Ветлугу. Постоянно находясь при народе, он научился понимать юмор и шутку. Нравилось мне находиться с ним рядом. Один раз даже ездили в дальний аул воровать невесту для нашего вольнонаемного кочегара Мамеда. Похищение прошло благополучно. Через неделю мы гуляли на азербайджанской свадьбе.
Казалось, ничто не предвещало беды. А беда была рядом. Авиационный полк проводил летно-тактические учения. Ефрейтор Зайцев подвозил старших офицеров-летчиков на КП. Вылет предстоял всем составом полка во главе с полковником Карначевым.
После предполетной инструкции всего летного состава руководитель полетов, генерал из дивизии, подал команду: «По машинам!» Ждали команды — зеленой ракеты. И тут»виллис» подвез полковника к своему самолету. Ивану уехать бы сразу, а он начал помогать командиру надеть парашют. В это время взлетела зеленая ракета. Взревели турбины.
Зайцев попытался выехать из «кармана» (места стоянки самолетов) на рулежную дорожку, но путь перекрыли дежурные с красными флажками. Регулировщик показал знаком, чтобы шофер объезжал сзади, вокруг рулежки. Автомобиль попятился назад. И в это время начали выруливать самолеты звена управления. Иван растерялся и хотел выехать из опасной зоны, но попал под огненный газовый смерч машины командира полка.
В один миг автомобиль и человек вспыхнули, как факел. Еще бы — температура выходящих из сопла газов 800 градусов. Силой газового потока автомобиль перевернуло несколько раз, как спичечный коробок, и вынесло за пределы зоны. Летчики, не заметив ничего, вырулили на старт и улетели на выполнение задания. А к нашей стоянке уже спешили пожарные и санитарные машины. Обгоревшее тело Зайцева уложили на брезент, потом на носилки… Что сообщили в Ветлугу — нам неизвестно. Говорили, что туда ездил кто-то из командования, возили материальную помощь родителям и фотоснимки похорон.
Хоронили ефрейтора по-солдатски. На местном кладбище. Под залпы десяти карабинов опустили гроб в азербайджанскую землю.
И остался мой землячок лежать в далеких Кавказских горах, на самом южном окаеме огромной советской земли…
А Ветлуга как текла, так и течет меж спокойных лесистых берегов, вспоминая иногда своего веселого паромщика.
Встреча с настоящим человеком
Встреча моя с Алексеем Маресьевым, героем повести Б. Полевого, произошла в далеком 1949 году. Началась она празднично, а закончилась комичным происшествием.
Приближался День Воздушного Флота. Наше Второе Московское авиационно-техническое училище готовиться к нему начало за несколько недель. Предстоял смотр всего гарнизона с непременным военным парадом.
Перед праздником, как и положено на Руси, началась генеральная уборка и чистка. Приводили в образцовый порядок учебные классы, тренировочную технику, казармы, территорию вокруг училища. Но особенно наши командиры нажимали на строевую подготовку. Построение ротой, построение батальоном(коробочкой), с барабанным боем, винтовки с примкнутыми штыками, и обязательно с песней. Наш полковой капельмейстер, не зная покоя, старался изо всех сил. Разучивал с нами знаменитое «Бородино». Вечером после отбоя собирал запевал в ленинской комнате и тренировал до тех пор, пока дежурный по части не скомандует: «Разойдись!»
Мы старались. Грохот от наших сапог и песни разносились по всему городу с утра до вечера. А когда объявили, что парад будет принимать Герой Советского Союза Маресьев, мы единодушно решили не подкачать.
Маресьев, закончив к этому времени академию, находился при штабе ВВС. К нам в училище приехал на автомобиле в сопровождении адъютанта. В окружении наших командиров он заходил в казармы, столовую, санчасть. Среднего роста. Кожаное пальто военного покроя, авиационная фуражка, офицерские ботинки. Нескромно, но взгляд наш все время останавливался на этих ботинках. Походка его, конечно, выдавала, и тросточка, которую он держал в руках, была ему необходима.
По программе праздника парад должен был пройти до обеда. Дальше отдых два часа, потом спортивные соревнования, прыжки с парашютом.
Мы в свободное время с интересом наблюдали, как курсанты-парашютисты забирались в самолет, взлетали, прыгали, планировали, скользили, приземлялись. По уставу нам, курсантам авиационного училища, предписано было тоже иметь два прыжка в год. День синоптики предвещали благоприятный. Правда, дул юго-восточный, но умеренный ветер, до обеда мы его не замечали.
Смотр и парад провели на высшем уровне. Начальство, стоявшее на высоком крыльце штаба, явно было довольно. А когда грянуло: «Москва, спаленная пожаром, францу… французу отдана!» — Маресьев приветливо помахал нам. Накануне вечером, он зашел к нам на репетицию. Долго слушал наше пение, даже тихонько подпевал. В момент, когда густой бас курсанта Маркина из второго взвода выводил: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром!», а мой высокий звонкий подголосок подхватил: «Москва, спале.. е…е!» и — грянул хор, Маресьев восхищенно похлопал в ладоши, потом он, полковник авиации, герой при всех регалиях, подошел к нам, двоим запевалам, крепко пожал руки. Гордости нашей не было предела.
Обеденный стол после парада накрыли шикарно. Все шло чередом. А ветер разгуливался. На аэродром строем с песней прибыли все подразделения гарнизона. Выстроились в две шеренги по периметру поля.
Ракета! Воздушный праздник начался. А вот и прыжки.
Парашютисты продемонстрировали с высоты 800 метров групповые и одиночные прыжки. Соревновались на скорость и точность приземления. Заключительным номером праздника должен быть затяжной прыжок инструктора парашютного спорта с высоты 2000 метров. Такие прыжки оцениваются по высшему разряду.
Инструктор весь затянут в кожу. Шлем с очками, комбинезон меховой, унты и перчатки-краги. Он уверенно накинул ремни парашюта на плечи, застегнул и поднял руку. Готов! ПО-2 долго кружил, набирая виток за витком заданную высоту.
Высоко-высоко было видно, как черная точка отделилась от самолета, и тот, заложив крен, ушел на посадку. А точка стремительно приближалась к земле. Вот, кажется, половину пролетел. Еще! Еще немного.
Наконец, парашют вырвался из чехла, в толпе раздался вздох облегчения. Парашютист потянул стропы левой рукой — купол пошел влево, потянул правой — и купол вправо. Но вдруг сильный боковой порыв ветра подхватил парашют и понес его в сторону от посадочной площадки прямо на высоченные сосны.
Человек оказался среди густой хвои на высоте около десятка метров. Все хлынули в его сторону, окружили дерево, и каждый начал давать свои советы. Подоспело командование, в том числе и Алексей Маресьев. Он, как испытавший на себе такую же ситуацию, посоветовал неудачнику не расставаться с парашютом, а висеть до прибытия пожарной автолестницы. Здесь он и рассказал нам, как сам попал в такое же положение, и последовавшие за ним драматические события. Вскоре прибыли спасатели и сняли с дерева мастера парашютного спорта.
Маресьев подошел к нему, похлопал по плечу и сказал: «Не расстраивайся! В жизни бывает и хуже, — имея в виду, видимо, себя.
Так закончилась запомнившаяся надолго встреча с Настоящим Человеком.
Сейбры
После освобождения Кореи от японской оккупации в 1945 году наши войска оттуда были выведены. В стране устанавливался социалистический строй.
Но буржуазные круги, поддерживаемые американским капиталом, развязали народную войну. Образовались два правительства, два государства. Северную Корею пестовал Советский Союз. Америка — Южную. Прямого участия наши пехотные части в боях не принимали, но артиллерийские, танковые, авиационные части были укомплектованы нашими советниками, специалистами, командирами.
Сборный безномерной авиационно-истребительный полк на реактивных МиГах был сформирован из летчиков и обслуживающего персонала Закавказского военного округа. Из каждого полка по два экипажа вместе с обслугой по боевой тревоге военно-транспортной авиацией за двое суток были переброшены за многие тысячи километров. Конечным пунктом была точка севернее 38-й параллели, недалеко от западного морского побережья. Аэродром был размещен на высоком каменистом плато. Стояло лето 1951 года. Перекаленная земля настолько была тверда, что для строительства взлетной полосы достаточно было подровнять ее бульдозером и подмести щетками. Полк нес патрульную службу, охраняя военные объекты от американских бомбардировщиков и днем и ночью. Патрулирование проводилось парами: ведущий и ведомый. В случае обнаружения противника в большом числе в воздух поднимался весь полк.
Эта тактика, когда ведущий истребитель нападал, а ведомый подстраховывал его сзади, разработанная нашими воздушными асами Кожедубом, Покрышкиным, Вершининым, успешно применялась в войну 1941-45 годов и стоит на вооружении ВВС по настоящее время. Американцы же применяли свою тактику «этажерка». Это когда на шести этажах по высоте проходят 36 истребителей в ряд. Сзади их прикрывает такое же построение. Противник, попавший в такую «этажерку», непременно находил смерть. У нас на вооружении были истребители-перехватчики МиГ-17, оснащенные тремя скорострельными пушками НС-23 (калибр) и одной НС-38.
У американцев в то время эксплуатировались «cейбры». Это тоже реактивный истребитель, но тяжелее нашего на подъем. На вертикалях наш быстрее набирал высоту и свободно догонял противника. Зато при пикировании от «cейбра» уйти было трудно. Оснащение его оружием, радиотехникой, электроникой представляло для них оборонный секрет и большой интерес для наших специалистов и разведки. Не случайно нашим летчикам постоянно ставилась задача посадить один экземпляр на северо-корейской территории.
Однажды такая возможность представилась. В тот день несколько наших пар баражировали в воздухе, поджидая американцев со стороны южной части полуострова. А они появились со стороны моря. Армада бомбардировщиков в сопровождении нескольких «этажерок», на высоте 7-8 тысяч метров. Боевая тревога! В воздух подняли весь полк. Пятьдесят две машины. Завязалась воздушная карусель. Расстроить, разрушить их охрану невозможно, но отщипнуть от нее крайние самолеты, увлечь их за собой, а там и подкараулить нашим летчикам частенько удавалось. И на этот раз нашей паре, ведущему капитану Свистунову и ведомому лейтенанту Ширшову, поступила команда отбить «сейбр», идущий крайним в нижнем правом пеленге. Свистунов, зайдя от солнца, очередью из одной пушки атаковал американца с расстояния пушечного выстрела. Тот вызов принял, отклонился от строя и устремился в погоню. Тут его и поджидал Ширшов. Зайдя сзади, он залпом из всех пушек ударил по стабилизатору и рулям. «Сейбр» удар почувствовал. Накренился влево, вниз и вдруг резко пошел на снижение. Видно, что рули заклинило. Летчик пытался выровнять самолет элеронами, но тот продолжал снижаться. Пилот катапультировался, его подобрали северо-корейские катера. А самолет без управления недалеко от берега плюхнулся в воду и по инерции достиг береговой отмели.
Все это американские летчики и видели прекрасно, и радиосвязь сработала безотказно. Моментально в их штаб были переданы координаты падения самолета. На их беду, а на наше счастье, время это совпало с глубоким отливом океана, и приближался прилив. А глубина его в тех широтах достигает шести метров. Вот этого американцы, видно, не учли. Они немного промешкались, и «сейбр» накрыло толщей воды. Через некоторое время опять появились бомберы и, не увидев самолета, начали бомбить предполагаемое место его падения. Но ошибки случаются с каждым. Все бомбы легли левее метров 200-300 и желаемой цели не достигли. Целый час они вспучивали воду, пожертвовав около двухсот бомб. Отбомбившись и доложив начальству, они со спокойной совестью удалились за горизонт. В определенное время начался отлив. Все наши разведчики, контрразведчики, «смерш», техника, были наготове. С первыми лучами солнца появился на берегу целехонький, сверкающий, совершенно секретный объект. Работа была организована четко. Мощные подъемные краны подхватили самолет и опустили в трюм военного морского корабля. А там, сами знаете, куда. Так раскрылась тайна большой государственной важности.
Конечно, Свистунов и Ширшов получили Героев и внеочередные звания. А вскоре они оказались опять в Закавказье, в своем родном полку.
МиГ «Квай катир»
В результате внезапного нападения в 1967 году Израиля на Египет арабское правительство долго не могло прийти в себя. Еще бы, все военные самолеты египетских ВВС в одночасье, не успев взлететь, сгорели от израильских бомбовых ударов. На аэродромах Каира, Иншасы, Бенасуэфа не осталось ни одного исправного истребителя. Войска арабов в панике бежали и остановились только когда оказались за рекой Нил.
В этом безвыходном положении Насер нашел военную поддержку в Советской стране. Ровно сто, еще тепленьких, прямо с конвейера, МиГов в срочном порядке были переброшены в Египет и размещены на трех аэродромах. Летчики их и обслуга — наши, топливо и продовольствие — египетское. Сначала они относились к русским военным с недоверием и осторожностью. Уж больно много плохого наговорила западная пресса. Но продолжалось это недолго. Сотня скоростных истребителей поставила прочный воздушный заслон на пути израильских бомбардировщиков, и разрушение городов и военных объектов прекратилось. Тогда израильтяне поставили себе задачу ослабить, обезвредить эту сотню и начали массированные, провокационные вылазки своими истребителями, тем самым вызывая наших летчиков померяться силами в воздухе. На новых, последней модели «фантомах», они чувствовали себя уверенно и непобедимо. И не случайно. Египетские старые самолеты, собранные со всей Европы, не могли оказать новым «фантомам» существенного сопротивления. Обо всем этом наши летчики своевременно были информированы и готовились к схватке основательно. Первая боевая готовность не снималась ни днем ни ночью. Поджидали.
В один из арабских религиозных праздников, когда все арабы ушли молиться, в эфире прозвучал сигнал боевой тревоги. Восемь истребителей поднялись с аэродрома недалеко от Тель-Авива и взяли курс к египетской границе. Понадеялись на безнаказанность и просчитались. Еще на подходе их встретила десятка МиГов. Бой завязался. Им поспешили на помощь еще два звена, наши подняли экскадрилью. Двадцать МиГов против шестнадцати «фантомов». Зрелище неописуемое. Весь небосвод замельтешил взрывами и вспышками. «Петли», «бочки, «свечи» и еще какие-то немыслимые фигуры высшего пилотажа сплелись в один огнедышащий клубок. Наша тактика нападать парой сразу же показала свое преимущество. Одиночные израильские самолеты отвлекались ведущим и тут же попадали под огонь ведомого, как куропатки. Вот уже три из них задымили и выключились из боя. Один МиГ тоже резко пошел на снижение. Еще два пирата повисли на парашютах, а через десять минут четыре «фантома» взорвались прямо в воздухе. Девять из шестнадцати, это уже им показалось многовато и остальные, заложив крутой вираж, пустились наутек. Снарядные закрома опустели, да и топливо на исходе.
Всего сорок минут длилась воздушная схватка, но запомнилась тем и другим надолго. Арабы подходили к нашим людям, жали руки, щелкали языком и пальцами, хвалили: «МиГ квай катир» — это значит: МиГ очень хороший самолет. — «Мираж», «фантом» мужкайс, т. е. — нехорошие.
Лед недоверия растаял.
После этого израильтяне уже не искали встречи с нашими истребителями. Вскоре прибыла наша бомбардировочная авиация, и начались систематические бомбардировки израильской территории. Под напором все усиливающегося военного давления Тель-Авив вынужден был оставить оккупированные арабские территории и укрыться за своими границами. Так закончилась война египтян с израильтянами. А слава советских истребителей росла и крепла, т. к. «МиГ квай катир» — очень хороший самолет.
«Эфиоптвою копалку»
В 80-х годах народ Эфиопии, недовольный просоветским императорским режимом поднялся на освободительную войну. Северные провинции, подогреваемые западной пропагандой, требовали свержения неугодного правительства и с оружием в руках выступили на защиту своих суверенных прав.
Пользуясь неразберихой, соседнее государство Сомали, двинуло свои войска с целью отторгнуть в свою пользу богатую полезными ископаемыми эфиопскую южную область. На два фронта император бороться был не в состоянии и обратился к Советскому правительству за помощью. Эфиопия — страна горная. Развернуться пехотным или танковым частям негде. Поэтому основной уклон был взят на применение артиллерии и авиации.
На стороне Сомали воевали американские истребители «фантомы», французские «миражи» и наши МиГи. Соседний Египет насыщен был советской военной техникой до предела, поэтому без ущерба для себя пожертвовал Сомали солидную часть этого вооружения. Стояла ясная сухая погода. Аэродром истребителей и вертолетов разместился на пологом склоне вдоль горной реки, протекающей по глубокому ущелью. Там, за ущельем, высоко над рекой по узкой террасе проходила автотрасса, по которой сновали туда и сюда сомалийские транспортные и военные средства. Поступила команда перекрыть эту дорогу. Ждали только момента, чтобы нанести большой урон их войскам. Дождались. Воздушная разведка доложила, что из глубины их страны, в сторону границы движется огромная, более сотни единиц бронетехники, колонна, прикрываемая с воздуха авиацией. На ее перехват с соседних аэродромов были подняты десятки МиГов. А этому же подразделению ставилась задача разгромить колонну. Снова сообщение. Колонна втягивается в ущелье. Мощная оптика полевых приборов дала возможность рассмотреть танки более четко. «Эх, эфиоптвою копалку!» — воскликнул наблюдатель. (Это безобидное ругательство охотно применялось в Эфиопии, когда русский человек хотел выразить свои более острые впечатления). — «Командир! Так это же наши танки, кого мы будем расстреливать?» То, что они были советские, не было никакого сомнения. Наши летчики были натренированы по контуру определять тип танка, самолета, корабля. Точно определять их принадлежность и его уязвимые места. И как только показался хвост колонны, прозвучала команда: «Воздух»! Два десятка мощных МиГов, несущих каждый по четыре ракеты класса «Воздух-земля», устремились к цели. Первая десятка зашла с головы, другая ударила в хвост. Дьявольская взрывная сила ракет обрушилась на стальную армаду. Колонну на трассе заклинило, ни взад, ни вперед. Даже без прямого попадания взрывная волна перевертывала многотонные бронированные крепости как спичечные коробки. Танки, бронетранспортеры горохом летели в ущелье, где и погибали. В результате получасовой атаки от колонны остались единицы изуродованной техники да смрадные столбы дыма. Явно была продемонстрирована мощь советского оружия.
Вскоре Сомали отказалось от своих притязаний и вышло из войны. Наши самолеты какое-то время еще базировались на этом аэродроме, потом были переброшены в Сирию, где назревал новый военный конфликт. А ругательное словечко «эфиоптвою копалку» по настоящее время среди наших летунов живет и здравствует.
Янтарь
С давних времен повелось в противоборствующих сторонах искать у противника ахиллесову пяту, его уязвимое место, и на его действия искать и находить противодействие. Против меча — щит. Против стрелы — кольчуга. Против смертоносных газов — противогаз. Против танков и самолетов — специальные бронебойные пушки. Появились самонаводящиеся и управляемые по радио ракеты — и против них изобрели противоракетную оборону. Всевозможные отвлекающие радиопеленгаторы, генераторы излучения радиопомех и шумов, вводящие в заблуждение электронные центры радионаведения.
Нечто подобное внедрялось и в истребительной авиации. В момент захвата цели радиолокационным прицелом автоматически передавалась команда на подвешенные под крылом истребителя ракеты с точным определением курса движения цели, ее скорости, высоты, поправки на ветер.
Попав в центр сетки на телеэкране прицела, противник был обречен. За ним следила электронная система. При достижении прицельного расстояния, ракеты поражали цель непременно. Вдруг начало твориться что-то непонятное. Ракеты стали уходить мимо цели. Оказывается, на приемную антенну радиоприцела специальным высокочастотным генератором давался мощный импульс радиопомех. В электронную систему наведения вводилась ошибка, и ракеты, получив искаженную команду, уходили в «молоко». Обнаружив это, советский «пентагон» задумался. Срочно были брошены все силы ученых, радиоинженеров на решение проблемы нейтрализации радиопомех. В результате появился дополнительный блок к локационному прицелу с кодовым названием «Янтарь» — гаситель помех.
Первое внедрение его планировалось на МиГах. В цеховых лабораториях, на стендах»Янтарь» работал безупречно. При появлении помех со стороны противника в кабине загоралась сигнальная лампочка. В этот момент пилот обязан включить «Янтарь», и ракета уйдет точно в цель. Изучить и испытать эту новинку на центральный летний полигон приехали и иракские летчики. В то время шла война в Персидском заливе. Партия МиГов срочно была направлена в Ирак, в порядке военной помощи, а с ними и наши специалисты по обслуживанию новой системы, в том числе и наш коллега Владимир Шилов. Инструктаж по эксплуатации «Янтаря» прошли все летчики и ждали на аэродроме появления противника. Иранские летчики воевали на американских «фантомах», доставшихся им еще со времен хороших отношений Ирана с Америкой. Самолеты были подержанные, и наши новые МиГи догоняли их без особых усилий.
Иракским истребителям был известен приказ самого Хусейна: в случае, если снаряды или ракеты не достигнут цели, пилот обязан догнать противника и таранить его своим самолетом. Это был закон, и нарушить его никто не имел права, иначе смерть как трусу, изменнику родины.
В этот раз «фантом» появился один, видимо, с целью разведки. Моментально на перехват взлетел МиГ. Летчик неопытный, слетавший на этом типе всего несколько раз: лучшего, видно, не было. Встретились на огромной высоте. Иранский летчик ввязываться в воздушный бой явно желания не имел и начал уходить. Четыре ракеты подряд вырвались из-под плоскостей МиГа, но цели не достигли. А время уходит. «Фантом» торопился под прикрытие своей наземной артиллерии. МиГ возвратился ни с чем.
Не успел еще пилот вылезти из кабины, как к самолету на «додже» подкатили четыре человека в черной форме. Всего одну минуту они разговаривали с летчиком, отвели от самолета на несколько шагов и автоматной очередью срезали его у всех на виду. Шилов поднялся по стремянке в кабину, увидел тумблер «Янтарь» в положении «Выключено»и все понял. Спустившись, он пытался объяснить людям в черной форме, оправдать пилота, сказать, что он просто забыл включить систему, но было бесполезно. Полковник, возглавлявший эту группу, спросил у Владимира, кто он и откуда.
Через два часа Владимир Шилов был выдворен из Ирака как неугодная персона и попутным рейсом доставлен на родину.
В чужой приход со своим уставом не суйся — так гласит Восточная мудрость.
Часть 3. Сапоги для чекиста
Враг народа
Первая империалистическая, 1914 год. Кавалькада автомобилей, конных повозок и всадников приближалась к мосту через Днестр. Царь Николай II cо своей свитой направлялся в ставку Южного фронта, расквартированную в городе Кишиневе. На всем протяжении движения процессии по обе стороны дороги были выстроены почетные караулы из войск тех гарнизонов, по которым проезжал император. На мосту с интервалом десять шагов также стояли солдаты в парадной форме с примкнутыми к винтовкам штыками. От фонарных столбов поперек моста на высоте сажени полторы были протянуты гирлянды из разноцветных флажков, ленточек и вымпелов. В строю этих молодых солдат был Клим Яров. Хотя он служил в полковой кузнице, но для такого случая привлекался весь личный состав полка. Стоя на мосту в ожидании процессии, солдаты тихо перекликались, шутили и изображали, как они будут приветствовать царскую персону при команде «на караул». Клим заметил, что гирлянды натянуты неравномерно, и одна из них, что над его головой, почти на четверть провисает ниже остальных. И еще он заметил, что все гирлянды составляют одну нить, заведенную за столбы. В случае обрыва одной поперечной ниточки все украшения упадут на землю.
А процессия приближалась. Вот передовые два автомобиля с охраной въехали на мост и со скоростью пешего человека начали продвигаться по нему. За ними на специальном с высоким задним сиденьем для обзора, голубом автомобиле ехал император Николай II со своим личным адъютантом. Над ними на четырех высоких стойках колыхался брезентовый навес, предохраняющий от лучей жгучего южного солнца. Почетный строй замер. За несколько саженей Клим увидел царя в лицо, его окладистую бородку и большой круглый орден на левой стороне груди. Увидел также он и то, что флажки скользят по верху навеса. И когда царский экипаж приблизился к той злополучной гирлянде, она зацепилась за козырек и потянула за собой все остальные. Еще мгновение и всех, кто в это время находился на мосту, накроет целое одеяло из флажков и ленточек. Неизбежен мировой конфуз.
В один миг Клим ухватил винтовку за штык и прикладом приподнял гирлянду. Водитель, увидев солдата в таком артикуле, остановил автомобиль. Подскакала охрана. Подошел адъютант. Царь сначала недоумевал, что случилось, но когда водитель и адъютант объяснили, он вышел из автомобиля, подошел к находчивому солдату и крепко пожал ему руку. Потом приказал подать портфель с наградами, выбрал «Георгия» и навесил его на грудь Климу Ярову.
Конечно, этот поступок солдата-кузнеца не остался незамеченным. На другой же день ему дали звание ефрейтора и должность старшего полкового кузнеца. Во времена, когда лошадь в армии была основной тягловой силой, роль кузнеца была неоспоримой. Подковать, расковать, починить повозку, сбрую, шанцевый инструмент, кузнецов обучали в полковой школе. За два месяца курсант получал теоретическую подготовку и практические навыки.
Изучали строение копыта лошади, определение его по номерам, свойства металлов и сплавов, способы закалки сталей. Клим теории тоже учился, а практики ему было не занимать. Он с двенадцати лет пошел к отцу в кузницу и до самой армейской службы работал с ним. Он в совершенстве освоил походную горячую и холодную ковку лошадей. Мог у себя на колене подковать самую норовистую. Это давалось не каждому. Кузнечные секреты и методы передавались по наследству из поколения в поколение. В пятнадцатом году Клим вернулся в свою деревню. К этому времени у него подрастали уже две дочери. Вскоре после смерти родителей он остался полноправным хозяином всего крестьянского хозяйства. Те шесть десятин, полагающихся только на мужскую душу, конечно, не могли прокормить большую семью, и он продолжал много работать в кузнице. Обслуживал селян кузнечными работами, получая за это от земства определенную плату. Со своим «Георгием»он и здесь пользовался авторитетом и уважением. Как «кавалера» и побывавшего на Балканах его выбрали в земскую управу почетным советником. Жизнь налаживалась. Решили они с женой выкупить у земства кузницу, но нашлись противники, и они построили ее у себя на усадьбе. Плетеный сарайчик обмазали с двух сторон глиной, сложили горн, купили наковальню.
Инструмент Клим наделал своими руками. Через земство добился разрешения на частное ремесло и льготный налог как награжденному участнику войны. Октябрьская революция не заглушила желания стать хозяином своего дела, а только отдалила цель на два года, вырвав его из дома. Конный полк, где Клим также служил кузнецом, прошел вдоль Волги сверху вниз до Астрахани и там был расформирован. Какое-то время он еще работал на общество, но после оглашения Лениным новой экономической политики начал перестраиваться в предприниматели. В местном банке взял денег под заем. Летом ездил по ярмаркам и торжищам, покупал подходящее железо по оптовым ценам. Узкая полоса — на подковы, круглое и квадратное — на болты и гайки, проволока — на гвозди, кровельное — на посуду и трубы. Все подбиралось с расчетом на снижение трудоемкости и получение большей прибыли. Первым помощником у кузнеца была его собственная жена.
Вся осень и начало зимы уходили у них на изготовление из этого железа нужных в хозяйстве изделий и скобяной утвари.
С наступлением потепления Клим Яров на своей подводе отправлялся торговать всем, что они изготовили за длинные зимние ночи при свете ламп и фонарей в кузнице или прямо в избе. Появились деньги. Начали откладывать на новый дом. Старый, родительский, прибывающую семью уже не вмещал.
Выхлопотали место под новый дом. В кузницу заказы прибывали. Появилась мода на выездные пролетки, под одну лошадь и под тройку, на рессорах. Это уже требовало особого художественного вкуса и тонкой ручной работы. Цены за такие работы соответственно возрастали. В связи с ростом благосостояния и накопления денег у народа появилось множество любителей поживиться за чужой счет. Грабеж бандитами торгового или мастерового человека среди белого дня стал нормой. Появились целые шайки: Гугина, «Черная кошка» и всевозможные воровские притоны. Чтобы как-то защититься, оборонить себя и свой дом, мастеровые люди тоже стали объединяться и вооружаться. Однажды жена, вешая мужнин полушубок на гвоздь, почувствовала в карманах что-то тяжелое. Сунула руку в карман, а там железо. «Отец!Что там у тебя?» Пришлось открыть секрет: «В одном кармане литая перчатка фунта на четыре, в другом-гирька с цепкой. При таком вооружении я могу не опасаться ни за себя, ни за свой товар. Подойти с любой стороны трудно. Пытались уже не раз. Отбивался!»
Милиция, конечно, эти шайки громила, но появлялись новые. И так до самой коллективизации и раскулачивания. После грабить стало некого.
… А дом строить все-таки надо. Начали готовиться. Как и везде на Руси, такие большие дела проводились с помощью односельчан и родных. «Помочь» — называлось это в народе. На это мероприятие частенько являлись и любители коллективно выпить по стаканчику, по два. Где и когда такая работа обходилась без вина? Первый камень — обмыть. Вывести фундамент над землей — наливай. Переруб без стакана не кладу. Кирпичную стену сложили-сбрызнуть. Матицу положили — отметить. Крышу свершили — ознаменовать. Много требовалось «монопольки», чтобы не нарушить строительных традиций. Расход обременительный. И решили гнать самогон. Всем этим делом занялась хозяйка. Хозяин только новый котел вмазал в каменку, да заготовил побольше дров.
И задымила баня с утра до вечера, на целую неделю. Нагнали несколько четвертей (3-хлитровая бутыль), прикопали их за баней. Одну взяли на расход. Но пронюхал это дело участковый Печенкин. Уж такой был неугодник, никому спокоя не давал.
Особенно подкапывался под Клима, который пообещал намылить ему шею под горячую руку, если тот еще раз незаконно придерется. На этот раз опричник пришел с двумя понятыми из комитета бедноты и начал расхаживать по избе как хозяин. Клим выставил на стол полбутылки под белой головкой, хозяйка подала закуску. Но чекист запротивился и начал требовать, чтобы ему выставили весь самогон как вещественное доказательство. Конечно, ничего ему не выставили, и он объявил обыск.
Двое понятых начали шарить по избе, во дворе, на чердаке, на сеновале. Один из сыщиков открыл западню подпола, зажег спичку, спустился вниз и увидел бутыль.
Приняв четверть, Печенкин поставил ее на стол, достал листок бумаги и начал составлять протокол. Хозяин еще раз попытался угостить участкового, но тот был непреклонен. Печенкин потребовал открыть пробку. И тут Клим двумя руками поднял бутыль над головой и с силой ударил ее об пол. Вещественное доказательство разлетелось на мелкие осколки.
— Из рук вырвался, самогонщик! — заскрипел зубами опричник. — Припомню я тебе эти выходки, да и угрозы твои не пройдут даром!
И припомнил. Через два года, когда начали составлять списки на раскулачивание и выселение, фамилия Клима Ярова стояла первой. Припомнилась ему служба в царской армии и «Георгий». Он объявлялся врагом народа…
Р. S. Под псевдонимом Клима Ярова выведен здесь самый близкий мне человек — мой отец.
Сапоги для чекиста
Поздно вечером забежал к нам мой крестный — дядя Коля и с оглядкой шепнул отцу: «Беги, вчера в сельсовете я слышал разговор — завтра тебя брать будут». По округе уже ходили слухи, что составлены списки на раскулачивание и выселение. За ночь отец собрался. Увязал котомку, сходил в кузницу, что была в мазаном сарайчике в конце усада, закопал кой-какой инструмент. Зашел во двор, погладил жеребчика Воронка, добавил корма Буренке, в сенях поговорил с мамой и после полуночи ушел, как в воду канул. Сказал только напоследок: «Ты, мать, за меня не переживай, я кузнец — не пропаду, а подойдет время поспокойнее — увезу и вас».
А наутро действительно пришли из комитета бедноты. Впереди шел участковый милиционер Печенкин. Длинный красный шарф на шее символизировал кровь и победу. Увели Воронка, выгнали трех овец, переловили кур. А уж когда выводили корову, та, видно, поняла свою участь, замычала так тревожно и громко, что мама не выдержала, бросилась корове на шею, упала к ней под ноги, а мы всей оравой с ревом кинулись за матерью. Не помогло, увели нашу кормилицу. Нас, пятерых детей, вытолкали во двор. Окна и двери дома заколотили досками крест-накрест. Никакой обуви, одежды, посуды не разрешили взять из дома.
Целый уповод допытывали нас, где отец? Мы отвечали, что не знаем. Да откуда нам было знать о том, что отец благополучно добрался аж до Урала и там в городе Златоусте устроился кузнецом на строительстве металлургического комбината. Время было такое, брали на работу без документов, да их и не было, даже без паспортов. Брали по специальности со слов самого работника.
Лето наша семья прожила в хибарке на краю деревни у дальней нашей родственницы. Мама настелила на пол слой соломы, и мы, как мышата, зарывались в нее на ночь с головой. Как мы выжили — одному Богу известно. И только благодаря милосердию односельчан не умерли с голоду. Подбирали всякие корни, траву. Ходили по деревням собирать милостыню. По каким-то каналам отец дал весточку о себе. Мать ему отписала о всех наших бедах. Переписка шла через третьи руки. Все боялись, что тоже упекут как пособников врагу народа. Но вот однажды, уже под осень, ночью около дома мы услышали скрип телеги и тихое ржание лошади. Это мой крестный, а с ним и наш отец подъехали, чтобы ночью, без лишних свидетелей, увезти семью в другое место. Посадили нас на телегу, прикрыли сверху соломой, чтобы не особенно заметно было, и тронулись. Ехали всю ночь и половину дня, лесом и низиной. Подъехали к берегу Волги, по трапу взобрались на дебаркадер пристани Коротни. Крестный отправился в обратный путь, а мы на пароходе взяли курс на Нижний Новгород, где в то время строился гигант автомобилестроения. Отец, видимо, там уже побывал, т. к. нам сразу разрешили занять большую землянку. Кто ее строил — мы не знаем, но приспособлена она была под большую семью или общежитие. Нары в два яруса, нестроганный стол, железная печь из старой бочки, две скамейки и метла в углу. Правда, на нарах были казенные тюфяки и байковые одеяла. Каменный уголь и дрова свалены около землянки.
Родители осмотрели наше будущее жилище, и отец сказал: «Зиму проживем, а там видно будет». Какие нечеловеческие испытания перенесла семья в эту зиму! Одежды никакой, посуды никакой. Продукты по карточкам, правда, на всех членов. Вспоминается, что на взрослого полагалось фунт ржаной муки в день, на детей по полфунту. Мать с утра до вечера месила и пекла на печке какие-то лепешки. Мороженый картофель разрешили брать из сарая около общественной столовой за половинную цену.
Но главная беда нас ожидала каждую ночь. Бесчисленные полчища крыс кочевали из землянки в землянку и пожирали все, что лежало плохо. Эти нахальные, омерзительные, хвостатые разбойники нападали даже на спящих детей. Родители и старшие сестры поочередно дежурили около коптилки и палкой отгоняли от нас, спящих, непрошенных ночных гостей.
Весеннюю распутицу мы встретили в дороге, на тракторных санях, в маленьком дощатом домике, каниальнике, так его звали переселенцы. Вот в таких каниальниках, буксируемых тракторами, наша семья и еще несколько семей прибыли на вновь организованное подсобное хозяйство №14 от строительного треста в Большемурашкинском районе. Отец начал работать в кузнице, мать и старшие сестры определились работать в полеводство. А мы, младшие, ухаживали за домашней скотиной и за огородом. В сарайчике появились куры, гуси, две овечки. В огороде овощи и разная зелень. Семья увеличилась еще на одного человека, и нам выделили комнату в бараке с большой русской печкой. Две зимы мы зимовали в настоящем тепле.
Шел 1937 год. Началась новая волна преследований. Забрали попа из соседней деревни. Из районной средней школы увезли директора. По ночам я слышал тихий разговор отца с матерью. Оказывается, к отцу в кузницу приходил дважды какой-то человек из района и все расспрашивал отца, кто он и откуда.
1938 год отец встретил в районном НКВД. Допрашивали усердно. Но отец, видно, был крепким орешком, кузнечной закалки, не поддавался. Два раза вызывали повесткой, но не брали: что-то у них не сходилось. На третий раз предупредили: приходить в походном облачении. «Да не вздумай бежать, как убежал из деревни».
Тут отец окончательно понял, что все это время его искали и вот нашли. Надо готовиться. На базаре купил телогрейку, ватные штаны и яловые сапоги с высокими голенищами, с козырьком. Добротные, опойковые, на спиртовой подошве и на деревянных гвоздях. До районного центра четыре версты мы шли более двух часов. Самого младшего отец нес на руках. Двоих мама вела за руки. Остальные шли своим ходом и поочередно несли котомку. Слез было вылито за эту долгую дорогу море. Плакали поодиночке и хором, в семь голосов. Мать все рассматривала повестку и между строк хотела прочитать, куда угонят? Дошли. Мы окружили отца и расспрашивали, зачем угоняют и надолго ли. Двухэтажное полукаменное здание. Наверху-контора, внизу-тюрьма. Отец каждого из нас обнял, а мама повисла у него на плечах и не хотела отпускать. Ушел. Мы обошли все здание вокруг, надеясь увидеть отца в окошко, но не увидели. «Ну что, явился, беглец?» — задал первый вопрос следователь, оглядев отца с головы до ног. Взгляд его остановился на новых кожаных сапогах. А они, обильно смазанные дегтем, источали аромат березовой смолы и свежих веников. Снова начался допрос и перекладывание бумажек, а глаза опричника нет-нет, да и остановятся на этих сапогах. И мелькнула у отца мысль-надежда. Он встал и подошел к окну. А мы, как увидели его в окошке, такого дали реву, что все прохожие остановились в удивлении.
Следователь, видимо, услыхал наш рев и тоже подошел к окошку. Минут несколько он наблюдал за нами. А мать тоже догадалась, встала на колени и давай молиться на окошки. Что-то дрогнуло в железном сердце чекиста. Он подошел к отцу и в упор уставился на него взглядом. «Знаешь, что, кузнец, уж больно много ты наковал мелюзги, жалко мне их стало». Объяснить поведение следователя я до сих пор не могу. Или волна арестов пошла на убыль, или совесть заговорила — не знаю.
Следователь подошел к шкафу и выбросил оттуда пару опорков. «На, надень, а сапоги оставь мне на память, они тебе не личат.»
Снял отец сапоги и как дар, на вытянутых руках, передал их будущему хозяину. Не было предела нашей радости, когда отец с распростертыми руками, улыбающийся и в опорках появился на ступеньках крыльца. До самого дома он по одному и по два нес нас на руках.
Вот так за опойковые сапоги мы получили радость нашей семьи. А вскоре началась война, и снова в наш дом пришли беды и потрясения.
Мама
Первое слово ребенок сказал: «Мама!» Вырос, оделся в шинель и ушел на вокзал: «Мама!» Вот он на дымную землю упал: «Мама!» С этим словом человек рождается и умирает.
Мама моя! Годы не сотрут светлую память о тебе. Судьба твоя — судьба великомученицы.
Родившись в деревне, ты с малых лет была приучена к ведению домашнего хозяйства. Ходила в кузницу к отцу, помогала раздувать горн и подносить угли. Подросла. Выдали замуж, тоже за кузнеца. Другие гильдии не признавались.
Отец мой, рано похоронивший родителей, сам в совершенстве освоил кузнечное и крестьянское дело. А когда появилась в доме жена, да еще знакомая с кузнечными секретами, дела в доме пошли на лад. Отец справлялся в поле и в кузнице. На женских плечах лежали тяжести по уходу за скотиной, за огородом, детьми. Первая империалистическая и гражданская войны отрывали отца от семьи два раза по два года. Мама, с двумя малыми детьми, управлялась с большим крестьянским хозяйством одна. Вспахать, посеять, убрать, сохранить. Обиходить скотину и малышей. Попробовал бы любой мужчина сегодня поднять такую ношу. Надорвался бы… Но женщины выдерживали. Годы нэпа приносили удовлетворение нашей семье, и она прибавлялась. Домишко был старенький, небольшой, всех уже не вмещал. Решили строиться. С утра до позднего вечера соседи видели, как мама с четырьмя ребятишками ногами месили глину, носили тяжелые кирпичи в сушилку и обратно.
Не успели еще устроиться в новом доме, как грянула коллективизация, а за ней раскулачивание. Ясное дело: мазаная кузница на огороде, новый кирпичный дом, лошадь, корова. Значит-кулак. Враг народа! Ату его! Отец, опасаясь физической расправы, скрытно уехал на Урал, потом в Нижний на автозавод. Строил социализм. А семья, оставшаяся без основного кормильца и защитника, вскоре была изгнана из дома. Комитет бедноты подмел в доме все под метелку. Ни единой вещи не разрешили матери взять. Дом и двор заколотили досками. Мама, как клушка, кидалась на наглых, жадных до чужого комбедовцев, стараясь защитить нас и сохранить кое-что из пожитков. А когда уводили лошадь и корову, мама упала без чувств. Мы долго ее отхаживали и уговаривали: «Вот приедет тятя — он им покажет!»
Мама! Родная моя! Как ты ждала этого все лето, пока мы жили в стареньком домишке на краю деревни, как ловила слухи и приносила их нам, что отец жив и скоро приедет.
И он приехал. Ночью. Тайно. Усадил нас всех пятерых детей на телегу, прикрыл соломой, увез на пристань, а там в Нижний Новгород. На маму опять обрушились заботы: чем накормить, как обуть-одеть семью. Карточная система. Своего-ничего. Поселились в землянке. Нары да железная печка — вот и вся утварь. Хорошо хоть тюфяки да байковые одеяла выдали казенные. С утра до вечера топилась печка. Мама варила мороженую картошку, что приносил отец, пекла из ржаной муки лепешки-палишки. На всех мы ежедневно получали четыре фунта этой муки. Помню, как однажды ночью мы проснулись и увидели маму в слезах. Она подметала что-то на полу и горько плакала. Оказалось, крысы за ночь прогрызли котомку с мукой и растащили все до пылинки, весь наш суточный рацион, четыре фунта.
Зиму перезимовали. И все время мама изо всех сил старалась как-то помочь семье. Надрывалась на строительстве бараков, шила рукавицы для рабочих, ходила на разгрузку вагонов с углем и дровами. Как мог выдержать женский организм такие непомерные тяготы? Но время шло, и обстановка менялась. Вновь семья переехала в сельскую местность. Отец опять в кузнице. А мама взвалила на себя все хлопоты по возрождению крестьянского хозяйства. Появились овечки, куры, гуси. Огород снабжал нас свежими овощами. Взрослые дети начали работать, а младшие помогали по хозяйству. Но начались годы репрессий. «Чистили» священнослужителей и их покровителей. Отца, как бывшего кулака, затаскали на допросы и следствия. Несколько раз он по целым неделям пропадал в следственных изоляторах и КПЗовках. Ночи, проведенные в слезах и молитвах, страх за судьбу мужа, отца уже шестерых детей, окрасили голову мамы в белый— белый цвет. Молитвы дошли до Бога. Отца отпустили, предупредив о невыезде.
Великая Отечественная для мамы началась слезами. Провожала двух зятьев и готовила старшего сына. А в сорок втором и мужа — на трудовой фронт: ковать лопаты, ломы, кирки. Рыли окопы, противотанковые рвы и блиндажи на дальних тыловых рубежах. Днем во дворе, в огороде, на работе в полеводстве. Мама пыталась отвлечься, забыться. И только ночами, простаивая в молитвах за всех страждущих и убиенных, в слезах и поклонах находила душевное успокоение. На руках у нее остались четверо учащихся. Опять карточная система. Опять все по номинальной норме. Мы, дети, собирали колоски в поле для каши — заварихи. В столовой неподалеку стоявшей воинской части подбирали рыбьи головы и мороженые овощи. У коновязей сметали после лошадей недоеденный овес и ячмень. Мама все прибирала, готовила впрок на зиму. Запасались картошкой и отрубями. Хорошая мука была нам не по карману. Картофель был основным продуктом питания не только в деревне, но и в городе всю войну. Пешие обозы курсировали между городом и деревней все военные зимы. В деревню на санках везли носильные вещи, посуду. Обратно в город — картошку. Так и выжили. Отец вернулся в сорок третьем. Две холодные зимы отняли у него здоровье. Он простудился и заболел. Работать в кузнице уже больше не мог. Забот у мамы прибавилось.
Год 1947-й запомнился как самый голодный. Зима, холодная и длинная, подъела к весне все запасы. Ели сушеные листья и траву. После сошедшего снега по полям собирали прошлогодний картофель и делали крахмал. Пекли ляпанки— «лейтенантики». Пухли от голода до неузнаваемости. И только дождавшись свежей зеленой растительности, отудобели. Зятья отделились и начали самостоятельную жизнь.
Мама рвалась на части. Уход за больным мужем, помощь дочерям в устройстве их семей. Везде нехватки и недостатки. Никого не хотелось обидеть. Всех нужно было успокоить, умиротворить. Умиротворить— это была заповедь всей ее жизни. Своим словом, сердцем своим она могла вселить веру в самую неспокойную душу. Никогда не слышали мы от нее грубого окрика, неосторожного замечания. Мы подрастали и разлетались из своего гнезда по своим намеченным судьбой направлениям. А мама, похоронив мужа, отца нашего, осталась с внучатами. Все возвратилось на круги своя.
Умерла мама тихо и спокойно. Накануне, за неделю, еще полоскала пеленки в осенней реке. Стояла в резиновых сапогах. Пароход, проходящий вниз, поднял волну, и вода залила ей сапоги с верхом. Так и дополоскала. А наутро — жар. Сплошное воспаление. Врачи сказали: все. Только неделю помаялась. Всех нас благословила, пожелала мира и любви.
Так закончилась жизнь простой русской женщины, одной из тех, на плечах которых выносились войны, революции, голод, разруха, государственные переустройства и передряги.
Милые наши матери! Гимны вам слагать! Люди! Поставьте золотой монумент Матери на самом лучшем месте земли и поклонитесь ему.
Устиния Васильевна
Много человек хранит в своей памяти ярких жизненных событий, явлений, людей, хороших и плохих, с их благородными и неблагородными поступками. Но имя первой учительницы, я уверен, у каждого ребенка оставляет на всю жизнь неизгладимый след. И не случайно образ первой учительницы, с ее душевной приветливой улыбкой и с распростертыми руками, остается в памяти до последнего судного дня. Такой и мне представляется моя первая учительница Устиния Васильевна.
Дочь сельского попа, жена церковного старосты из соседнего прихода, она, несмотря на свою молодость и светское образование, была глубоко религиозна. Отец, рано ушедший из жизни, и муж, погибший на японской войне, оставили ее главой многочисленного семейства. Пособие от церкви за отца и пенсия, назначенная государством за мужа, составляли основной доход их хозяйства. А жалование учительницы уходило больше на благотворительные цели. В их доме находили приют и пищу обездоленные малолетки, сироты и нищие. Семья постоянно организовывала всевозможные благотворительные обеды, посещение немощных и престарелых.
Занятия Устиния Васильевна вела сразу в двух классах — первом и третьем. На следующий год — во втором и четвертом. Окончив четыре класса, повзрослевшие ее ученики учились уже в районном центре в четырех верстах от нашего села. Как в каждом старинном селе, приходская школа всегда строилась поблизости от церкви. До снятия колоколов в классах ясно был слышан звон, призывающий прихожан на богомолье. Главный колокол и два поменьше сняли в 34-м году, но церковь отстояли. И служила она до 1937 года.
На колокольне верующие установили самодельную пушку и стреляли каждый раз в большие праздники, оповещая православных о начале службы. Услышав выстрелы, наша учительница незамедлительно отпускала своих учеников по домам, а сама уходила молиться. Мы, преданные ей до глубины своей детской души, просили разрешения пойти с ней, и она разрешала. Установив малышей в сторонке, приглядывала за нами, а мы, повторяя ее движения, также крестились и вставали на колени. Запах ладана, благоговейное церковное пение, множество горящих свечей производили на наши неискушенные души огромное впечатление. Упаси Бог было засмеяться, поболтать, потолкаться. Боязнь греха непростительного заставляла нас стоять смиренно. После исповедания и причащения Устиния Васильевна говорила нам: «Теперь вы безгрешные ангелы. Господь простил вам все грехи. Больше не грешите. Нужно быть послушными, трудолюбивыми, милосердными».
Особенно нам нравилось, когда она рассказывала о великомучениках из «Жития святых» или читала стихи. Однажды прочитала стихи, которые глубоко потрясли меня:
У школы могилу копали, Солдаты держали прицел, А школьники громко рыдали. Учитель их шел на расстрел.Не понимая политического смысла, мы очень жалели того учителя и еще больше проникались любовью и уважением к нашей учительнице. Верили мы ей беспредельно. И однажды судьба потребовала от нас доказательств нашей преданности. До 1937 года власти отца Алексея не беспокоили. А в том году, летом, вдруг вызывают его в сельский совет с крестом и псалтырем. Были случаи, когда батюшку приглашали соборовать или причащать перед смертью православных, и он, решив, что его зовут по той же нужде, положив в сумочку принадлежности, отправился в контору. А там уже стояла грузовая автомашина с участковым. Не доходя до конторы, отец Алексей все понял, но вернуться ему уже не дали.
Слух моментально долетел до матушки и до Устинии Васильевны. Они торопились на выручку.
Милиционер и председатель сельсовета начали подсаживать батюшку в кузов автомашины, а плачущие женщины ухватились за одежду отца Алексея, пытаясь вернуть его на землю. Никто не пришел на помощь, даже не посочувствовал. Все молча потупили взгляды. Страх перед властью был сильнее справедливости. Увезли. Устиния Васильевна подозвала нескольких своих учеников и попросила собрать оба ее класса у школы. Не ощутив поддержки у односельчан, она решила найти ее у нас, детей.
На тетрадных листочках мы своей рукой под диктовку учительницы написали более десятка коротеньких просьб: «Дядя, отпусти батюшку! Верните нам отца Алексея!»
Отдавала ли она себе отчет, на какой поступок решилась в обстановке, когда свирепствовали репрессии и беззаконие? Умная и грамотная, она, конечно, все понимала. Но, видно, страстное желание прийти на помощь страдающему, встать на пути у зла и насилия побороло робость перед властями предержащими.
Через час мы уже стояли перед окнами двухэтажного полукаменного здания НКВД. И когда она решительно стала подниматься по ступеням на второй этаж, мы всей гурьбой последовали за ней. В коридоре ее кто-то пытался остановить, но, увидев детей, пропустили. Дежурный милиционер к начальнику не пропустил, а пошел доложить. Разрешили войти.
Устиния Васильевна пользовалась авторитетом не только у селян, но и в районе. Ее знали как зачинателя всевозможных благотворительных мероприятий. Начальник милиции, сытый, самодовольный, перепоясанный ремнями, осмотрел нас сверху вниз по кругу. Устиния Васильевна начала излагать общую жалобу, иногда сквозь слезы поглядывая на нас.
Закончив, попросила поддержать ее просьбу. Мы не знали, как и что нужно говорить, зато дружно подошли к столу человека в портупее и выложили наши требования. Глаза наши были устремлены в одну точку-на лицо начальника. Мысленно молили его о милосердии к нашей учительнице, к отцу Алексею. Лицо его сначала ничего не выражало, потом начало медленно багроветь. Мы сразу поняли:начальник возмущен до предела. Еще бы, слыхано ли такое в ту пору:открытый протест, коллективное выступление. Но сдержался. Отозвал нашу учительницу в сторонку и что-то усердно начал ей объяснять. Под конец громко сказал: «Идите сейчас домой, а мы постараемся решить это дело». И решили. Десять лет лесоповала для нашего «подзащитного». Все наши детские понятия о справедливости взрослых рухнули, исчезли как дым.
Вернулся отец Алексей в 1947 году. В своем селе служить не стал, хотя и приход был свободен. Принял он епархию за много верст от своей родной церкви, объясняя это обидой на односельчан. Никто за него не вступился, не произнес защитного слова, кроме пожилой учительницы со своими воспитанниками.
А Устиния Васильевна еще несколько лет преподавала. В день своего шестидесятилетия она получила звание заслуженной.
Да, не оскудела земля русская на своих самоотверженных апостолов, носителей справедливости, какой была Устиния Васильевна. Посещая, хотя и редко, старое деревенское кладбище, где покоятся умершие мои близкие и дальние родственники, я каждый раз останавливаюсь у могилки моей первой учительницы. Низко кланяюсь перед ветхим крестом, отдаю дань ее светлой памяти.
Крестная и Филиппыч
Старшая сестра моя, принимавшая меня из рук священника после купания в купели, стала называться моей крестной матерью. По священному писанию в случае смерти моей родной матери, обязанности по моему воспитанию переходят к крестной матери. Внушали это ребенку с малых лет. Подрастая, я обязан был это помнить и называть сестру не ее именем, а просто крестная. Родилась она до революции в небогатой крестьянской семье. Рано познала труд и заботы. Рослая, костистая, с мужской хваткой, она больше походила на парня. В годы нэпа, отец не мог нарадоваться, когда она приходила к нему в кузницу, брала молот и ударяла по горячему железу, как заправский молотобоец.
Подступило время невеститься. А жениха и искать не надо. Он здесь, прямо в кузнице. Подручный молотобоец у отца, сын местного углежога дяди Филиппа.
Сыграли свадьбу. Петр временно поселился у нас и был равноправным членом нашей семьи. Но случилась беда. От каленого железа отлетела искра и угодила ему прямо в глаз. Глаз выжгло. А беда одна не ходит. Осенью, во время молотьбы он задавал в конную молотилку снопы, да недоглядел, глаз-то один. Левую руку и захватило вместе с соломой. Рванул, но поздно. Трех пальцев как не бывало. Первые треволнения уже нанесли раны неокрепшему женскому сердцу. Инвалид второй группы. Но тогда никаких инвалидностей не признавали. Некогда было, работать надо. Вскоре они приобрели домишко и отделились.
Пошли дети. Первый, второй, третий… да восемь человек и выпустили на свет божий. И не унывали. Это сейчас один ребенок — проблема, двое — многодетность. Филиппыч в МТС выучился на тракториста и на своем ХТЗ обрабатывал поля колхозов и совхозов.
Неожиданно случилось большое несчастье. Кто-то ночью в поле от трактора увез бочку с керосином. Обвинили тракториста. В то жесткое предвоенное время судили за все. Правительству нужны были бесплатные рабочие руки. Много рук. Проводили индустриализацию страны. Готовились к всемирной войне. Филиппычу присудили два года Буреполома. Крестная чуть жизни не лишилась. Четверо малышей на руках и сама нигде не работает. Ходила в район десятки раз. Кого-то просила, умоляла, плакала. Не помогло. Подсказали: «Надо «дать». Сколько? Кому? Этого она не знала. Решительно продала корову — последнее достояние и поехала в область. Вернулась без денег и без мужа, но с надеждой, что сколько-нибудь скостят. Ничего подобного. День в день оттрубил он на лесоповале и перед самой войной вернулся. Опять работал в МТС: c весны на тракторе, осенью на комбайне, зимой на ремонте.
Началась война. Условия жизни ужесточились. Фронт забирал все. Картофель, зерно, шерсть, молоко, яйца, мясо. На все был налог. Даже плодовые деревья, кусты смородины должны были родить каждый год и нести подать. Семье оставались последние крохи. А семья прибывала. Первенцы уже сами становились на крыло. Отучившись по четыре зимы в школе они начинали работать прицепщиками с отцом на тракторе, пастушатами, рассыльными в сельсовете и в колхозной конторе. Дома — уход за скотиной, работа в огороде тоже была на их совести. Каждый вносил свою лепту в общий котел.
Я, отслужив в армии, изредка навещал свою крестную мать. Ездил из города повидаться на денек, на два. Привозил небольшие подарки: то платочек на голову, то милистину на кофту. Как она была рада каждой встрече!.. Начинались хлопоты. Уйдет во двор, возвращается с пустыми руками. — «Филиппыч! Ты убирал навоз во дворе?» — «Убирал!». — «Где бутылка, которую я спрятала под навоз?. «А мы с соседом Митричем убирали, нашли ее, ну на радостях и выпили». «Вот так всегда. Не знаю, куда и прятать. Везде находит, хотя и глаз один. За божницей только не берет. Бога боится, но туда бутылка не убирается, только чекушка». «Не беспокойся крестная, я захватил с собой из города, подавай рюмки». «Подожди, я еще грибков достану». Подает в блюде из погреба. «А ведь они с песочком, похрустывают на зубах». «Солил-то хозяин. Плохо промыл. Не видит. Ну да ладно, съедим». Выпьют по рюмочке, по две. Потом я прошу: «Спойте, пожалуйста». И запевают на два голоса «Под ракитою зеленой русский раненый лежал». У них слезы закапают, а у меня сердце защемит. Родные мои! Как мало вам нужно, чтобы счастье навестило вас. Только в эти задушевные минуты вы находите отдохновение от ежедневной тяжелой нужды.
Особенно тяжело они переживали неожиданные семейные бедствия. У старшего сына, пастуха, на озими объелись две коровы. Одну успели прирезать, а за вторую пришлось платить. Случилась авария на дороге. Средний сын, шофер, принял удар на себя. За восстановление машины платили. У старшей дочери сгорел дом. Разорение одно. Но они стойко выносили удары судьбы. Пускали в ход государственную помощь на детей. Собирали по родне деньги для латания неожиданных жизненных прорех.
— Хозяин! Показал бы, какая живность у тебя во дворе в это лето?
— Корова, теленок, две овцы с ягнятами, куры, собака. А в доме ребятишки, кошка, клопы и тараканы.
— А эти для чего? — спрашиваю я.
— То, что Богом дано человеку, все должно находиться при нем. Убивать нельзя. Грех. Отпугивать можно. Вон, посмотри, на кровати под постелью полынь лежит. Клопы ее боятся. Спим спокойно.
— А как с дровами, с кормами? — спрашиваю я.
— С дровами просто. Притащу трактором из леса любую березу, была бы бутылка. С кормами хуже. Покосов не дают. Заготовить негде. Но я на тракторе вожу корма на ферму. Увязываю не туго. Что с возу упало, то мое. Так же и с зерном. Осенью комбайном убираю поля. На ночь комбайн ставлю у себя на усадьбе. За ночь что насорится зерна из комбайна тоже мое. Вот так и живем. Все законно.
Потом крестная берет меня за рукав и ведет в чулан. Там в сундуке, лежит приданое очередной невесты. Всего их четыре. В эту осень готовились выдать третью, Настеньку.
Увидел я в сундуке новые чесанки с галошами, плюшевую жакетку, какие-то свертки тканей. Там же оказались подаренные мною милистин на кофту и платочек на голову. С каким удовольствием она показывала все свое «богатство», как светились от удовольствия ее глаза! Казалось, нет на свете человека счастливей ее.
Перед моим отъездом она опять начинала хлопотать, готовить подарок мне. Я, конечно, отговаривал, отказывался. Ну что она может подарить при такой ораве ребятни? Но находила. «Посмотри, какой у нас в это лето укроп густой. Сейчас я тебе наломаю. Еще смородинных листочков наструкаю, будешь чай в городе заваривать». Я принимал эти подарки и был глубоко благодарен за ее душевный материнский прием.
Собирая последнюю свадьбу, уже в застойный период, женили моего крестника, Сергея, письмом приглашали меня и просили кое-что купить. Деньги обещали вернуть при встрече. Какие там деньги! Привез я им все, да еще денег дал. Последний ведь, да и крестник. Народу понаехало — нет числа. Со всех районов области. Братья, сестры самих родителей. Их дети. Дети их детей. Сватья и свахи сгрудились вокруг дома невесты, где должна проходить свадьба. Филиппыч ходил под хмельком, всех обнимал, целовал и все не мог нахвалиться: «Вот у меня их сколько! Вот какие все хорошие!» А крестная, счастливая, сидела на завалинке в своем единственном выходном платье, принимала поклоны подъезжающих да уговаривала мужа, что бы тот не надоедал гостям. Мать-героиня, породившая и взрастившая восемь человек своих кровных, она ни разу не посетовала на свою судьбу. Не слышали ни ее родители, ни ее дети, какая тяжелая ей досталась доля.
Но ничто не проходит бесследно. Недоедание, недосыпание, непомерные физические тяготы, душевные потрясения подточили ее здоровье. На семьдесят пятом году жизни она стала жаловаться на поясницу, на ноги. Голова болела все чаще и чаще. Могучий организм сдавал. Но еще храбрилась. Копошилась по хозяйству, нянчила внучат. На восьмидесятом почувствовала себя совсем плохо. Собрала всех детей вокруг себя и наказала: «Костя! Витя! Валя! Настя! — и еще и еще. — Живите мирно. Дружитесь. Не ругайтесь. Прощайте друг другу. Посмотрите, как мы с отцом жили. Живите так же». Она на глазах увядала. Все ждала правнуков от последнего. Не дождалась. Успели только пособоровать. Хоронили по всем православным обрядам. Благо, церковь в их селе действовала. Вскоре умер и Филиппыч. Положили рядом. В одной земляной домовине. Пусть будут и тут вместе. Они выполнили свой святой долг до конца. Царствие им небесное.
Покаяние
Сойдя с автобуса на трассе, я по тропинке вдоль речки направился в сторону Покровки. Ближе к селу дорогу мне перегородила большая покачивающаяся вязанка сухого сена. Обогнал и оглянулся. «Батюшки! Баба Катерина! Здравствуй! Тяжело ведь, наверно, давай помогу!» «Да ладно, близко уже!» «Коровку, видно, держишь, тяжело ведь наверно. Дети-то что не помогают?» «Держу коровку. Тяжело, конечно. Да и годков уже за семьдесят. А дети были да сплыли. Не до меня им сейчас». Взял я вязанку на плечо и пошел рядом.
Старинное многолюдное село Покровка вольготно раскинулось по берегам небольшой местной речушки. В центре-храм, базарная площадь, торговые ряды и лабазы. По окраинам села колхозные фермы, ремонтные мастерские, лесопилка, парниковое хозяйство. Хлебопашество, животноводство и ранние овощи давали хороший прибыток, и колхоз перед самой войной неоднократно по району выходил в передовики. И председатель, из местных. Егор Романыч был под стать крепкому хозяйству. Невысокий, коренастый, характером уважительный. Свой дом и семья связывали его крепкими узами с родной Покровкой. Были у него и в районе свои люди, родные, знакомые. Даже начальство из района, приезжая в колхоз, останавливалось не у конторы, а у председательского дома.
Все шло хорошо. Но вдруг на западе загрохотало. Война. Приписка шла в сельсовете. И потянулись обозы и колонны новобранцев на соседнюю железнодорожную станцию. На протяжении четырех верст от села до станции стоял сплошной стон. Плач, причитания, гармошки, залихватские рекрутские частушки не затихали ни днем, ни ночью. Прощались со своими близкими, может быть, навсегда.
За одну осень 1941 года Покровка опустела. Молодых мужиков как метлой вымело. Остались старичье, подростки да бабы. Мобилизовали хороший трактор, автомобиль и несколько лошадей. На хлеб в амбарах наложили печать. Жить сразу стало тяжело. Земля та же, скота не убавилось, а работящих мужских рук нет. И пришлось женщинам, старым и молодым, запрягаться в мужскую работу. Раньше бабы как-то не обращались к председателю с вопросами, все больше мужья имели с ним дело, а теперь вдруг Егор Романыч стал у всех женщин на виду. Лошадь ли попросить, муки ли смолоть, дров выделить — и все к Романычу. А того ровно подменили. Толи муха какая укусила. Стал неприступен, суров и мстителен. Некоторые искали к нему подход через его жену Пелагею, приглашали в гости, угощали. И почувствовал он себя единоправным хозяином. Хочу-казню, хочу-милую. Колхозного жеребенка Орлика на ночь ставил как своего к себе во двор. А с утра, приложившись, к дармовой бутылке, появлялся на Орлике в самых неожиданных местах. До обеда объезжал фермы, склады, мастерские, а после обеда ходил уже по домам как приглашенный гость. До районного начальства доходили слухи о его проделках, но поскольку они тоже имели некоторую личную выгоду от деятельности колхоза (в виде белой муки или свежей говядины), то и на выходки председателя закрывали глаза.
Более того, дали отсрочку от армии /бронь/ в виду нехватки руководящего состава. А Романыча потянуло к молодым женщинам. Благо солдаток осталось невесть числа. И вдруг выбор его пал на Катюшу, совсем еще молодую девчонку. «Матрена! Гляди за своей Катькой!» — говорили соседки ее матери. —Что-то больно часто Романыч стал подвозить ее на работу и с работы». А работала она в строительной бригаде на должности «поднеси и брось». Катя до войны окончила шесть классов и больше учиться не захотела. Отец погиб на Финской войне, семья большая, вот и пришлось идти работать. Среди сверстниц Катя всегда отличалась сноровкой, прилежным отношением к делу и какой-то молодой удалью. Бывало, на танцах сама выбирала себе танцоров и сам черт ей был не брат. Среднего росточка, статная, лицом привлекательная, Катёнка пользовалась у своей ровни заслуженным доверием. Вот на нее-то и положил глаз председатель. А когда весной 1942 года старшего строительной бригады взяли на фронт, Егор Романыч назначил бригадиром Катю и назвал бригаду «фронтовой». Сразу же положил ей хорошее жалованье и неожиданно много, авансом, выписал зерна. Катя начала догадываться, что это неспроста. А однажды вечером после заседания задержал ее у себя в кабинете, подошел к ней и обнял. «Катюша ! Не будь строптивой, поласкай меня !» — и потянулся к ее лицу с поцелуем. Бес взыграл в Катерине. «Ах ты, дьявол старый, кобель несчастный ! На фронте мужики гибнут, а ты с поцелуями, вишь, чего захотел!» — и Катя со всего маху съездила Егору Романычу по физиономии. Выбежав на крыльцо, она услышала через открытую дверь угрозы председателя: «Припомню я тебе за это! Сгною на окопах, на лесоповале! Покаешься!»
И припомнил. При первой же разнарядке осенью 1942 года ее бригада оказалась в Балахне, вытаскивала плоты на берег для бумкомбината. Через месяц строила бараки для эвакуированных. Зимой 1943 года Катю на два месяца послали на окопы под Рязань. И каждый раз при ее возвращении председатель спрашивал : «Ну что, не одумалась еще? Дождешься, на фронт отправлю!» Больше всех беспокоилась Матрена. «Катенка! Выходи скорее замуж за кого-нибудь, а то не даст тебе покоя этот боров. Да заводи скорее детей: может, отступится».
Летом 1943 года ей исполнилось 19 лет. Невеста. На заготовительном зернопункте, на железнодорожной станции, куда ее временно назначили весовщиком, приглянулся ей один из охраны, Федором звать. Служил он тут в нестроевой роте, раненый в ногу и в голову. Прихрамывал. А шрамы на виске и переносице говорили о том, что война стороной его не обошла. Как-то само собой получилось. Хотя он и старше ее был годков десять, но они поняли друг друга и решили пожениться. На Руси так повелось исстари. Все свадьбы гулять осенью по первому снегу и обязательно всей деревней. И на этот раз родни и близких набралось порядочно. Каждый шел со своим припасом.
Маленькая избушка Матрены, конечно, всех вместить не могла, и решили отгулять свадьбу в местной столовой. Кстати, она была совсем рядом. Ждали председателя. Должен быть обязательно — таков обычай. Вот уже выпили по единой. «Горько!» —прокричали, а его все нет и нет. Попеть и поплясать под гармошку вышли ко крыльцу и тут увидели: с того конца по селу запряженный в сани-розвальни скачет Орлик. А председатель, стоя в санях с кнутом, нахлестывает лошадь сплеча. Пьяный, решили все единодушно. Вот он подкатил к свадьбе, остановил Орлика, а сам, пошатываясь, подошел к молодоженам и вместо того, чтобы поздравить молодых, заорал : «Не дам я ее тебе, Федька! Моя она будет!»
И он схватил невесту в охапку, потащил ее в сани. Такого еще в Покровке не бывало. Дружно отбили невесту и оттеснили разбойника. А он, обозленный до крайности, вскочил в сани и огрел Орлика кнутом вдоль спины. На развороте сани раскатились и своим пряслом врезались в сруб колодца, да так крепко, что весь колодец пошатнулся. И Орлик стал. Неудачник начал понукать и хлестать лошадь, но сани не отцеплялись. Бедолага вошел в бешенство. Видя неладное, конюх Иван Никонорыч, бывалый солдат старинной закалки, подскочил и вырвал кнут из рук разбушевавшегося. Потом подошел к Орлику, взял его под уздцы и стал успокаивать. Этого стерпеть председатель уже не мог. Он выхватил из-за голенища нож и ударил Никонорыча прямо в живот. Иван только охнул и свалился.
Суд над убийцей был выездной, показной. Судил весь народ, вся округа. Присудили фронт, штрафную роту. В то время это было самое крайнее наказание. А через месяц прошел слух, что его ранило. Перебило обе ноги и в теле осталось около десятка осколков. В общем не жилец уже. Видно Бог наказал. А еще месяцев через семь он сам появился на костылях, все шастал по деревне и у каждого дома просил прощения. А Катерина начала семейную жизнь. Новый председатель оказался толковым и отзывчивым. Помог молодоженам построить свой небольшой домик, обзавестись скотиной. Федор работал наладчиком на лесопилке. Катерина на ферме дояркой. Жизнь понемногу налаживалась. Появился ребенок, потом еще двое. Но у Федора начали открываться старые раны. Иногда боль в голове появлялась такая, что останавливалось дыхание. Несколько раз лежал в госпитале, не помогало. А через три года с ним случился удар. Помутилось сознание. Темная ночь наступила в обоих глазах. Он потерял зрение. Перегорел где-то главный зрительный нерв.
В семье прибавился еще один нетрудоспособный. Более того, нервный и капризный требовал особого ухода. Вот когда Катерина хлебнула настоящего горюшка. На ферме по шестнадцать часов в сутки, без отпусков и выходных. Надо ведь обиходить, накормить, напоить, подоить десять коров по три раза в день. Да еще натаскать кормов, вымыть и просушить фляги, посуду. Каждый день до изнеможения. А дома свои корова и овечки. Без них нельзя. Да троих обуть, одеть, накормить и в школу проводить. Долгими зимними вечерами все сидели у небольшой керосиновой лампы, каждый занимался своим делом. Федор наладил плести корзинки из прутьев и продавать сельчанам. Ребятишки готовили уроки или слушали рассказы отца. Катерина высушивала одежонку и готовила на утро корм скотине. При разговоре она стала замечать, что Федор все собирается чего-то сказать, но никак не наберется смелости.
И все-таки решился: «Ты прости меня, Катенька! Грех от тебя скрывать такое. Наверно, за это и наказал меня Бог. Женат я был и двое ребятишек у меня под Воронежем. Суди и казни. Может, отошлешь к тем детям. Бога молю и тебя. Примите мое покаяние! Остолбенела Катерина от такой новости. Не слышала она раньше ничего об этом. Но увидев обильные слезы в мертвых глазах Федора, бросилась к нему на шею и тоже залилась горючими слезами: «Родной ты мой ! Что же теперь делать-то? Как я теперь на людях-то покажусь? Чего родным детям скажу?» Но скрепилась сердцем и решила не показывать виду, не обижать Федора, не срамиться перед людьми. А письмо под Воронеж по его совету все же написала. Пусть знают, что не пропал без вести и живой. И вдруг приезжают сразу двое, взросленьких уже, и называют Катерину мамой, а ребятишек братьями и сестрами. Никакой обиды. Одна благодарность за то, что сохранила отца живым. И приезжали они еще раза два, привозили подарки. А третий раз приехали уже на похороны. Последний приступ Федор перенести уже не смог.
А свои дети у Катерины подросли и тоже разлетелись из своего гнезда, как птицы. Не соберешь их уже теперь под одной родной крышей никогда.
Блаженный
Судьба этой, заброшенной в заволжских лесах деревушки, была уже определена: еще десяток лет, и последний житель уйдет на тот свет. Но в 70-х годах поблизости пролегла асфальтовая дорога районного значения, и деревенька ожила. Подремонтировалась. Подкрасилась. Особенно людей добавилось, когда рядом расположились коллективные сады-огороды.
В те же годы возобновилась и служба в старенькой деревянной церкви, раньше имевшей большой приход. К церковной ограде примыкает кладбище, еще с прадедовских времен. Лес, наступающий из глубины таежных дебрей, давно бы поглотил кладбище, но заботливые человеческие руки не допускают этого. Дорожки расчищены, могилки, памятники обихожены.
Здесь я нашел могилу моих родственников. Поклонился. Крест настолько обветшал, что требовал немедленной замены. Вот я и направился в деревню, надеясь разрешить этот вопрос. Возле церковной ограды обратил внимание на два дубовых креста, прислоненных к воротам. Добротно сделанные, в человеческий рост, красотой своей они поспорили бы с любым памятником из нержавеющей стали. Тут же мелькнула мысль: нельзя ли купить? В церковной сторожке мне сказали, что кресты принадлежат Блаженному. Так называют одного старика, и живет он в крайней избе на другом конце деревни.
— Заходи, заходи! — нажимая на «о», пригласил он меня, открывая калитку. — Тимофеичем раньше звали, а теперь больше Блаженным кличут. Это за то, что богоугодные дела творю, а мзды никакой не желаю. На хлебушко государство дает, и на том Бог спасет. Остальное все со своего огорода и подворья… Вот кладбище к каждому большому православному празднику прибираю, могилки оправляю, в сторожке по ночам дежурю, и упаси Бог взять плату. Нельзя. Вера наша не позволяет… Тяжело, конечно, годков-то ведь уже далеко за семьдесят, но Бог терпел и нам велел…
Прохожу. Излагаю цель прихода.
— Ну, раз видел мою работу, выбирай любой и ставь. Я только радуюсь, когда людям добро творю. Об оплате не беспокойся. Это все Богово. А если есть времечко подождать, вон у меня еще несколько заготовок, с орнаментом сделаю. Люди любоваться будут, да и души усопших возрадуются. Подивился я его бескорыстному желанию служить и не удержался, спросил, откуда у него столько человеколюбия, это в наше-то время.
— Чтобы понять меня, Святое учение необходимо познать, уверовать! — начал объяснять Тимофеич. — Первые заповеди — не убий, сотвори добро ближнему. Всю свою сознательную жизнь я этим заповедям следую. В войну разными путями уклонялся от солдатчины, где убийство человека человеком узаконено. Но война есть война, и меня все-таки забрали. От фронта бежал. Поймали. Судили. Я объяснил, что не могу убивать, что это для меня грех великий. Прислушались к моим доводам — определили в похоронную команду. Убирать убиенных с поля брани и предавать их земле — святой закон для каждого живущего на этом свете. Я с чистой душой принялся за это дело, соблюдая православный церковный обряд. Оправлял могильные холмики, читал псалтырь, ставил изготовленные из подручного материала крестики. А крест на могиле необходим. На него опускается душа умершего, прилетая в каждое Светлое Воскресение повидаться с родными и поскорбеть вместе…
Вернулся я с войны — троих детей вырастил, жену похоронил… Сейчас живу один, вот кресты продолжаю делать. С годами это стало потребностью. Раньше подолгу они стояли у церковной ограды невостребованными. Нынче разбирают быстро — народу больше умирать стало.
Слушал я своего необыкновенного собеседника и удивлялся правоте и глубине его убеждений. Смотрел на небольшую окладистую бородку, на весь его благообразный облик и думал: «Блаженный! Как нужен ты сегодня нам! Живи еще сто лет, да хранит тебя Бог».
Родная кровиночка
Поближе они познакомились, когда Лидия Ивановна пришла к Николаю Николаевичу и попросила помочь: в коридоре пол провалился. Дом, который купили три года назад, был старый и требовал ремонта. До этого случая особой нужды в посторонней помощи не было. Жив был муж Владимир Павлович, все мужские заботы были на нем. Но хозяина похоронили зимой, и Лидия Ивановна осталась с сыном, инвалидом детства, которому вот уже 21 год. В городе у них 3-комнатная квартира в престижном районе. Получили ее в тот год, когда Владимира Павловича демобилизовали из рядов военно-космических сил по возрасту, в чине полковника. Пенсии мужа, своей и на ребенка-инвалида хватало на жизнь, а на сбережения купили в деревне дом с садом и огородом. Первые два года с желанием осваивали дом и радовались своим скромным успехам землевладельцев. Но у супруга проявилась болезнь крови — лейкемия, и буквально за считанные недели извела его и унесла из жизни. Это было зимой.
А весной Лидия Ивановна опять появилась в огороде и хлопотала по хозяйству. Врач по образованию, она оказалась рукодельной. Соседи-старушки, узнав, что она может измерить давление, сделать укол, посоветовать таблетки, потянулись к ней, и все уходили довольные. Николай Николаевич, сам недавно купивший дом в этой же деревне, понимал, что значит осевший пол в коридоре, и решил помочь. Два дня, которые ушли на ремонт пола, сблизили этих двух немолодых людей, и они поведали друг другу о своих прожитых годах. Обычно при посторонних людях Лидия Ивановна спроваживала сына в сад и там оставляла его, подальше от любопытных взглядов. А на этот раз начал накрапывать дождик, и она привела его в дом. Воспользовавшись тем, что мать отвлеклась по своим делам, сын вышел из комнаты в коридор и сел на порожек. Вот тут Николай Николаевич увидел Геру близко, в лицо. Раньше не приходилось.
Рост средний. Худой и тонкий. Глаза маленькие, бесцветные. Взгляд пустой, лицо вытянутое. Постоянно открытый рот обнажал редкие крупные зубы. Волосы на голове и бороде были редкие, серые. Ноги в коленях подогнуты. Руки при движении вытянуты вперед и, кажется, постоянно ищут опоры. За все время, пока сидел, он не произнес ни одного слова. Изредка были слышны какие-то бормотания. Сердце Николая Николаевича переполнилось состраданием и жалостью к этому существу. Появилась мать и быстренько проводила сына опять в комнату.
Вернувшись в коридор, она присела на тот порожек и, глядя прямо в глаза, спросила:
— Ну что, видел?
— Да! — тяжело вздохнул Николай Николаевич.
При рождении никаких отклонений не заметили. До двух лет развивался нормально, но потом умственное развитие приостановилось. Успел только научиться ходить и говорить три слова: мама, Вова, дай. Врачи и начальство советовали отдать ребенка в специнтернат. Три раза отвозили туда Геру и три раза забирали домой, обратно. Обнимая и лаская его, она в слезах часто повторяла: «Кровиночка моя! Ангелочек ты мой! За что нам обоим Бог послал такие муки?». Гера вырос, возмужал, но до сих пор не может самостоятельно ни умыться, ни одеться. Играет с игрушками, как маленький ребенок.
— Что же все-таки явилось первопричиной болезни? — осторожно поинтересовался Николай Николаевич.
— Причина, конечно, есть, но о ней до последнего времени не положено было разговаривать а сейчас стало можно, и я тебе об этом расскажу.
И рассказала.
… Байконур, 197… год. Предстоял запуск очередного военного искусственного спутника. Тело ракеты, установленное на бетонное основание, в вертикальном положении удерживалось специальными огромными стапелями-захватами. Метроном отсчитывал секунды до старта. Группа телеметристов, в составе которой был и Владимир Павлович, заняла свое рабочее место в железобетонном бункере, в непосредственной близости от стартовой площадки. Смотровые щели, защищенные бронестеклом, позволяли вести круговой обзор всего пускового комплекса. В обязанности телеметристов входило наблюдение за поведением ракеты во время запуска, взлета и удаления ее из зоны визуальной видимости. Каждые пять секунд они докладывали на КП о состоянии ракеты. Метроном отсчитал последние секунды. Запуск. Возгорание топлива. Рев двигателей… Освобожденная от захватов ракета первое мгновенье стояла без движения. Потом несколько отделилась от основания и снова осела. Вдруг эта огромная стальная сигара начала заваливаться на бок. Центр тяжести ракеты переместился, и она почти в горизонтальном положении сорвалась с места. (Как потом выяснила комиссия, не запустился один из четырех двигателей). Коснувшись земли, ракета изменила направление и понеслась по периметру полигона, сшибая на своем пути радиомаяки, телевизионные вышки, пеленгаторы. Развернувшись на 180 градусов, она устремилась к бункеру, где укрывались люди. Не достигнув бункера около ста метров, ракета вся воспламенилась и взорвалась с такой ужасающей силой, что бункер заходил ходуном. Волновой удар и температурный смерч готовы были уничтожить, испепелить все живое. Люди в бункере были контужены, парализованы, но живы остались. Заключение медкомиссии: годны к дальнейшей службе. А через год у нас родился Гера.
Владимир Павлович первые два-три года не ощущал ничего, но потом все чаще и чаще начал жаловаться на головокружение и недомогание. Врачи стали увозить его на профилактическое лечение почти каждый год. Так он дотянул до демобилизации, а до нормального пенсионного возраста не дожил.
— Лидия Ивановна! Тяжело ведь одной женщине управляться с землей, с домом, с ребенком. Не лучше ли жить в городе, в своей квартире, без лишних забот и волнений? — посоветовал Николай Николаевич.
— Нет! Здесь, на природе, сын мой чувствует себя лучше, чем в городских условиях. А я живу сейчас только ради него и буду нести свой крест до конца.
Набат
Недавно мне рассказали случай, как вечером в трамвае два великовозрастных оболтуса снимали с женщин меховые шапки у всех на виду, засовывали их в сумку, при этом нагло ухмылялись. И, хотя ехали в вагоне мужчины и народу было достаточно, чтобы организовать отпор наглецам, не раздалось ни одного голоса в защиту пострадавших, ни один не возглавил сопротивление злу, не ударил в набат, не поднял народ единой стеной против хулиганов. И вспомнился мне один случай из далекого детства…
Это было довоенное время. Жизнь после компаний коллективизации, индустриализации понемногу налаживалась. Можно уже было кое-что купить в магазинах и на рынке. Вот и отправились наши родители в один ноябрьский воскресный день в районный центр на базар. Детей, а нас было четверо, оставили под присмотром соседки. Старший, Саня, ходил уже в третий класс. Мне было семь лет — сестренка с братишкой совсем еще глупыши. Где-то после обеда появились Санины друзья: Славка — с прикрученными к валенкам коньками, Герка — с железной пикой, и начали нас уговаривать пойти с ними на пруд, пробовать лед. Пруд был старинный, барский. Для меня он казался необъятным, летом даже взрослые парни редко переплывали на ту сторону. Пруд питался родниками из-под крутого склона, на котором расположилась наша деревня. Саня тут же догадался отправить малышей к тете Даше, а меня, посадив на железные санки, повез в сторону пруда. Герка своей пикой пробовал лед в нескольких местах, и нам показалось, что он надежный. Сначала они катали меня вдоль берега, а потом Славка предложил игру: он на коньках, как легковая машина, мы на санках-грузовая. Чтобы облегчить санки, я слез, и они понеслись вдвоем. Да так увлеклись, что не заметили, как убежали далеко от берега. Мы с Геркой закричали: «Назад! Назад!», — но было уже поздно. Оба наши горе-водители оказались в полынье, чуть не на самой середине пруда.
В первое мгновение не было видно ничего. Опрокинутые льдины, брызги воды мешали рассмотреть, что там произошло. Но потом над водой показались две головы. Славка, а он был постарше и покрепче Сани, поплыл к закраине, а Саня плавать не умел и ухватился за Славку. Сразу оба погрузились с головой. Славку спасло то, что у него в первый же момент свалились валенки с коньками, и он, облегченный, начал усиленно работать руками и ногами. А Саня, как приклеенный, сидел на спине у Славки. Я с испуга убежал и спрятался за кочкой. А Герка-умница, он учился в пятом классе, сообразил здорово. Он выбежал наверх к пожарному сараю, схватил железку и начал часто-часто ударять по подвешенному рельсу. И набат загудел над деревней.
Люди издавна знают, что означают частые удары в колокол-это оповещение о надвигающейся беде. При звуках набата мгновенно забываются местные распри и неурядицы и все торопятся на тревожный зов. И на этот раз люди дружно откликнулись. Одни бежали от конного двора, другие от конторы выбегали из домов. А Герка продолжал ударять и кричать: «Тонут! Тонут!». Этого было достаточно,чтобы людской поток повернул к пруду. И вот уже народ посыпался с крутизны вниз к берегу. Бежали с баграми, с веревками, тащили жерди, доски. В руках мелькали топоры, лопаты. Вот люди хлынули на лед, но тут же отступили: лед взрослого человека не держал.
А тем временем наши родители мирно приближались к своей деревне с покупками. Но материнское сердце не обманешь: «Отец! Что-то над нами вороны раскаркались, не беда ли дома?» Услышав отдаленный звон, родители совсем переполошились и прибавили шагу. Не пожар ли!
А я, сидя за кочкой, ревел что есть мочи и причитал: «Ой, Саня! Ой, Саня!» А Саня со Славкой то скрывались под водой, то снова появлялись на поверхности. Вот молодой директор местной школы Андрей Иванович с разбегу оказался на льду и тут же погрузился по грудь в воду. Ему подали багор. Вытащили. Он подбежал к лодке, опрокинутой на берегу: «А ну, помогите столкнуть». И народ единым махом поднял лодку и опустил ее на лед. В лодку прыгнули Андрей Иванович и Славкин отец. Багром и лопатой они начали пробивать проход и приближаться к полынье. Несколько парней с досками и веревками поползли на помощь, но лед не держал. А лодка продолжала продвигаться. За цепь лодки привязали длинную веревку, чтобы в случае чего всем миром вытащить ее. Вот лодка приблизилась к висевшим на закраине ребятишкам.
Славкин отец подал сыну багор, и тот ухватился за него, а Саня уже скрылся под водой. И тут Андрей Иванович с маху нырнул в прорубь, успел схватить его за пальто. Вот оба показались над водой, и Славкин отец подхватил моего брата. Андрей Иванович не стал выбираться в лодку, а, держась сзади за корму, громко кричал: «Тащи! Тащи!» Тотчас толпа колыхнулась в сторону склона. Лодка ходко достигла берега и с хрустом выскочила на приплесок.
Последнюю сотню метров мои родители бежали бегом. У дома суетились, громко разговаривали и размахивали руками односельчане. В доме отец с матерью увидели на кровати раздетого Саню и хлопотавшую над ним Лидию Николаевну — учительницу. Она наливала в ладони вино и растирала обмякшее Санино тело. Он был без сознания. Андрей Иванович, успевший сбросить мокрое белье, в отцовском полушубке, как мог, помогал Лидии Николаевне. Славку унес домой его отец и сам его отхаживал. А Саня с закрытыми глазами мне казался мертвым. Вот мама склонилась над Саней, подняла его на руки, прижала его к своей груди, а отец укутывал его байковым одеялом. А тот, будто почувствовав материнское тепло, открыл глаза. Я с радостью подбежал к нему, затормошил и начал спрашивать: «Саня! Саня! Ты, живой, да? Ты, живой? — «Живой», — чуть слышно прошептал Саня.
Вот так отступила беда. … Если бы в том трамвае»ударили в набат», нашелся бы один Андрей Иванович, не было бы в тот вечер пострадавших и униженных.
Не судьба
Зима отступала. Приближалась Пасха. На Страстной неделе, как и вся деревня, Аким Иванович начал готовиться к встрече Светлого Воскресения. Прибрался во дворе. В избе протер окна, помыл пол, выхлопал половики. Стряхнул накопившуюся за зиму пыль с ненужной одежи, висевшей в углу. Первый раз он будет встречать Воскресение Христово один. Прошлым летом похоронил свою Пелагею. Пятьдесят лет встречали все праздники вместе. Какими были радостными хлопоты, когда она, любительница приготовления праздничных угощений, командовала: «Подбрось дровец! Принеси водицы! Вынеси из ведра!». А позже усаживались за столом чаевничать. Бывало и выпивали. Пели застольные и семейные песни. Приглашали и сами ходили в гости. Вырастили и выучили сына. Сейчас он со своей семьей живет в городе, приезжает редко.
Бывали и трудные времена. Взять военное и послевоенное лихолетье. А укрупнение совхозов и колхозов, переселение на центральные усадьбы. В результате остались в неперспективной деревне. Тяжелые думы роились в голове Акима. Вот и Страстная суббота. Надо баню протопить, помыться. Яичек в луковой шелухе сварить. Завтра поутру ребятишки прибегут Христа славить, да и на могилку Пелагеи положить надо.
К вечеру управился со всеми делами и прилег отдохнуть. А скорбь и тоска зеленая так и подхлынули под самое сердце. Только к полуночи немного забылся, определенно решив, что завтра на могилке изложит Пелагее всю свою боль. В воскресенье ближе к обеду он появился на кладбище. Поклонился Пелагее и присел на лавочку между могилами. Жгучий комок подкатил под горло, глаза заволокло туманом.
«Христос воскрес! Аким Иванович!» — это Анна Николаевна, такая же, как и он, одинокая, пришла помянуть своего Петра. Он лежит рядом с Пелагеей, и скамеечка у них общая.
«Воистину воскрес! — ответил Аким. — Здравствуй, Нюра! Присаживайся! Поговорим немножко, может, полегче будет».
Петр и Аким когда-то вместе призывались в армию. В войну оба воевали, хотя и на разных фронтах. Вернулись раненные по нескольку раз. Петр работал хозяйственником в колхозе, потом в совхозе. Аким учителем истории в местной средней школе. Анна Николаевна тоже была учительницей, но только в начальных классах.
— Давай, Аким, помянем усопших по русскому обычаю, — она достала из сумки шкалик и два маленьких лафитничка.
— Мой-то наказывал поминать его водочкой, любил покойный ее, монополькой все звал. Анна Николаевна отлила несколько капель на могилу Петра и наполнила стопочки. Солнышко уже давно перевалило на полдень, а они и все сидели и по очереди вспоминали былые годы.
— А помнишь, как деревня горела? В одну ночь огонь полсела испепелил.
— А помнишь, когда школу строили всем миром, каждый по неделе отрабатывал бесплатно.
Вспомнили, как организовали совхоз, а потом он развалился. И теперь на месте базарного многолюдного и красивого села осталась рядовая захудалая деревня. И еще бы они сидели, если бы не собачка, которая по следу нашла хозяйку.
— А батюшки! — всполошилась Анна.— Козу ведь время уже доить. Прощай, Аким Иванович, до встречи!
— До свидания, Анна! — ответил Аким, а, когда эта встреча состоится, спросить постеснялся. Придя домой, опять до боли в душе ощутил пустоту и одиночество.
Хорошо бы еще разок встретиться с Анной, уж очень приятный разговор с ней получился, — подумал Аким. Даже мелькнула мысль сходить к ней на дом самому, но, боясь деревенских пересудов, отказался и решил дожидаться родительской субботы. В родительскую субботу Аким и Анна пришли на кладбище к тому же времени, что и прошлый раз. Набравшись смелости, Аким высказал ей все, о чем думал последнее время: «Не сойтись ли нам да коротать оставшиеся годы вместе?». Анна возражений не высказала, но предложила немножко подождать и пригласила его на чай. Отгостивши, Аким пригласил и ее. Так они стали навещать друг друга. Он колол ей дрова, поправил покосившийся палисадник. Она кое-что стирала у него, штопала. К каждому ее приходу Аким готовился, как к празднику. Мел пол, ставил самовар, по возможности стремился создать для нее уют. Свое решение он уже собирался высказать сыну Геннадию, да все как-то откладывал. Мешали досужие разговоры.
В один из субботних вечеров уже под осень Анна занесла ему баночку свежего козьего молока. И тут вдруг под окном заурчал автомобиль. Это сын со своей семьей приехал на воскресенье. Двое ребятишек выскочили из машины и направились прямо в огород. Геннадий задержался во дворе, а жена его Ирина, рослая, пышущая здоровьем, с двумя сумками вошла в избу. Увидев мирно беседующих стариков, поздоровалась с порога, а у самой в глазах уже замелькали искры негодования: это что здесь за посторонняя женщина? Подойдя к столу, она спросила Анну Николаевну:
— Ты зачем сюда пришла? У тебя же есть дом. Еще один захотела? Ничего не получится! — и она, схватив Анну Николаевну за плечи, стала выталкивать гостью.
— Ирка! Что ты делаешь? — Аким бросился на выручку Анне. Но невестка, оттолкнув его одной рукой, заорала: — Замолчи, старый хрыч, а то и тебе устрою выволочку!
— Генка! Генка! Иди скорее! Утихомирь свою змею! — не в силах справиться, закричал Аким.
Геннадий вбежал в избу, когда Ирина, оставив Анну, сцепилась с Акимом. Схватив жену в охапку, он вытащил ее на крыльцо и затолкал в машину. Еще через несколько минут семья, хлопнув дверцами машины, укатила туда, откуда приехала. Анна Николаевна, униженная и оскорбленная, вся в слезах, поспешно стала собираться тоже. Аким проводил ее не по улице, а через огороды, подальше от людского взгляда, стороной от деревенских сплетен.
— Ты уж прости меня, Аким Иванович, но больше я к тебе не приду, и ты ко мне не ходи. Так нам обоим спокойнее будет, — тихо проговорила Анна и на прощание прислонилась щекой к его щеке.
Долго стоял Аким сокрушенный и повторял: «Видно, не судьба! Не судьба! Так, видно, Богу угодно!»
А вскоре Анна Николаевна дом продала и уехала к своим внучатам, куда-то за пределы области. И Аким Иванович свое хозяйство тоже продал, деньги отдал в дом престарелых и сам ушел туда же.
Нет повести печальнее на свете…
Ранний брак
В этот день Александр Иванович решил встретить Соню сразу же после семичасового сеанса у клуба. Что-то ведет она себя за последнее время подозрительно. Родительское сердце не обманешь. Жена, Валентина, уже несколько раз предупреждала:
— Смотри, Александр! Распустил ты ее, разрешил ходить на поздние сеансы. Вот закончит восемь классов в этом году и определяй ее в какое-нибудь ПТУ. Дальше она учиться не будет. Отбилась совсем от моих рук. Я женщина больная, давление у меня на инвалидность потянет и совладать я с ней уже не могу, так, что бери вожжи в руки, да поскорее определяйся с ней.
Подойдя к клубу несколько пораньше, он дождался, когда откроются выходные двери из клуба на улицу, но сколько не всматривался, нигде Соню не заметил. Еще немного подождал и направился домой. Дома ее тоже не было. До одиннадцати сидели они с Валентиной на кухне и обсуждали создавшуюся обстановку. Вспомнили все ее выходки за последние месяцы. То, уйдя в школу, забывала портфель с книгами дома, то появится вдруг часов в двенадцать в квартире со своими подругами, хотя в это время они должны были быть в школе, да еще на всю громкость заводят проигрыватель. То в неурочное время вдруг видят ее в магазине. Соседи видели и поговаривали. А уж сколько раз она опаздывала из кино, помнят хорошо, т. к. каждый раз дожидались и волновались, не ложились спать.
Но вот около одиннадцати звонок в дверь. Дочь вошла, разделась и прошла прямо в свою комнату. Родители отдали ей спальню, а сами спали в зале, на раскладном диван-кровати.
— Соня! Иди сюда на кухню! — позвала Валентина. Вошла, встала у окна.
— Ты где была до такого времени? Ответь нам, — потребовал Александр Иванович.
— В кино! Где же еще?
— В кино тебя не было. Я встречал тебя из клуба, но тебя не видел!
— Мы на девять часов ходили!.
— Не ври! Девятичасового сегодня в нашем клубе нет!
— А мы в «Сормовский» ходили!
— А кто тебе разрешил ходить так поздно в «Сормовский» клуб! Ты что, не знаешь какое хулиганство сейчас везде? Ты можешь совсем не вернуться домой!.
— Ничего со мной не случиться, я ведь не одна, да и парни с нами.
— Ну гляди, дочь, последний раз предупреждаю, не выводи меня из терпения! — резко высказался Александр Иванович и ушел в коридор, закурил. На этом разговор закончился.
Долго они еще охали и ахали, обсуждая последнее событие. На какое то время Соня будто остепенилась. Уходила и приходила из школы своевременно. В кино не ходила и подруг к себе не приглашала. Но вот наступило Первое Мая. Праздник. Утром, приодевшись и сказав, что всей школой пойдут на демонстрацию, Соня ушла. Вечером ее нет. Поздно уже, а ее все нет. Опять заволновались отец с матерью.
— Ну где же она, непутевая! — возмущалась Валентина.
— Александр! Через дом, на втором этаже в угловой квартире живет ее подруга Таня, сходи, спроси. Может, знает что-нибудь.
Пошел. Дозвонился. Спят уже. Таня видела ее у школы с друзьями, а куда ушли — не знает, но назвала адрес еще одной подруги. Это за железнодорожной линией в домах частного сектора. Дома, посоветовавшись с женой, положил в грудной карман большой кухонный нож, это от злых людей, взял в прихожей палку, которой выбивали ковры, это от собак, вышел на затемненную улицу и решительно направился по указанному адресу.
А время уже далеко заполночь. Улицы темные, заросшие кустами и деревьями. Домов не видно, одни заборы, а за ними сплошной собачий гвалт. С большим трудом отыскал улицу и дом. Долго стучал палкой по забору. Наконец в доме зажегся свет и кто-то вышел на крыльцо. На вопрос не ночует-ли у них Соня, ответили, что не ночует, и где она сейчас, не знают. Совсем сокрушенный Александр Иванович, не зная, что дальше предпринять, устало шел в ночи, один среди безлюдных улиц и думал свою тяжелую думу.
Так он дошел до своего дома, но не зашел, а направился в дежурное отделение милиции. Надо своевременно заявить о пропаже родной дочери. Дежурный сержант, выслушав, попросил принести ее фотокарточку и какой-нибудь документ.
Ночь уже на исходе, а они еще не смыкали глаз.
Сержант, приняв документы, сказал: «Ждите! Мы сообщим!». А каково ждать? Но ждали. Все передумали. После обеда вдруг звонок в дверь. Явилась, жива и здорова, да еще и улыбается. И терпение у отца лопнуло. Он выдернул из брюк ремень и устремился вслед за Соней. Валентина кинулась на защиту. Объяснения прошли бурно. Оказывается, ездили с подругами в Дзержинск, там и ночевали.
Восьмой класс закончила с большими потугами. Александр Иванович, собрав все документы, сдал в ПТУ. Через три года получит профессию, может быть, одумается. Так порешили родители, но не одумалась. На первом же курсе приходили из ПТУ, жаловались на ее невнимательность и частые пропуски. На втором курсе тоже раза два не ночевала дома, все говорила, что у подруг. Но как-то раз, когда она мылась в ванной, туда зашла Валентина и, как ошпаренная, вылетела оттуда.
— Отец! Отец! Александр! Беда! Дочь-то ведь беременная! Живот у нее! Всего они ожидали, а об этом как-то не подумали. Дождавшись, когда она выйдет из ванны, Александр Иванович настойчиво потребовал: «Веди меня сейчас же туда, где ты ночевала». И повела на тот же поселок с частными домами, только улица другая. Вошли. А там родители такие же, как они с Валентиной. Спросил:
— Знакома ли вам такая девица? — ответили:
— Да, знакома, ночевала несколько раз.
— И вы ее не выгнали?
— Попробуй выгони, он вон какой балбес вымахал, через год уже в солдаты пойдет, отцу он уже не под силу. Совсем от рук отбился. Школу бросил, ходит на завод, на токаря учиться.
— Так, что же мы с вами делать-то будем? Она же беременная!
— А ничего вам делать не надо! — раздался голос из соседней комнаты.— Поженимся и будем жить! Подслушивал, видно, бедолага.
Родители только головами закачали: «Мы еще только думаем, а они уже все решили». Деваться некуда. Родители еще раз собрались, посоветовались. Договорились, что жить они будут здесь, у жениха. Дом большой: четыре комнаты. Две будут занимать родители, одну бабушка, а в угловой будут жить молодые. Договорились что на первый случай нужно купить. В загсе зарегистрировали, ей шестнадцать, ему семнадцать. Пригласили самых ближних, человек десять, посидели, выпили, поговорили. Ни песен ни басен. Хотя и очень ранний брак, но совершен и оформлен по закону.
Ушла, как в воду канула. Два месяца прошло, а от нее ни слуху ни духу. На поселке ее видели знакомые, разговаривали. В ПТУ взяла длительный отпуск. Кормится за счет денег, которые дали родители. Ходит, живот показывая, как будто гордится, ни стыда, ни совести. Мать забеспокоилась, надо сходить, ведь время уже. Пришли днем, дома никого не было, только она одна лежит на диване, а сама бледнее полотна.
— Что с тобой дочка? Была ли ты в консультации?
— Нет, не была.
— Отец, беги, звони, надо вызывать скорую, сама она не дойдет.
В больнице как только врач осмотрел ее, и тут же скомандовал: «Немедленно в хирургическое! Может открыться кровотечение!». А оно уже открылось. Да такое обильное, что сбежались все врачи. Двое суток они боролись с ним, но ничего не помогало. По заводскому радио срочно объявили: «Нужна свежая кровь, молодой женщине-матери угрожает смерть!»
О, Люди! Низкий поклон вам! За ваше бескорыстное милосердие! Сразу откликнулись несколько человек и дружно появились в больнице. Еще раз, вам сердечное спасибо!. А жизнь младенца и матери на волоске. Собрался консилиум. Совещались долго. Наконец пригласили только ее мать и сообщили:
— Жизнь ребенка и матери мы ,конечно, сохраним, но о повторных родах ей придется забыть, они для нее могут оказаться последними. Вы нас поняли?
— Поняла, конечно, но я сейчас поговорю с мужем. Пошептавшись в коридоре они решили:
— Бог с ними, со вторыми родами. Может, даже к лучшему. Только бы жизни сохранить. И дала согласие на кесарево сечение. И начались приходы в больницу всей родни: по одному и группами. Всем хотелось взглянуть на малыша, но, так как он был на особом положении, беспокоить его не разрешалось.
Однажды, когда Александр Иванович пришел один, Соня попросила у него:
— Папа! Оставь сигареточку.
— Ты, что дочка, с ума сошла? Неужели ты куришь? Ты, кормящая!
— Курю папа, а ребенка я не кормлю, он на искуственном питании. Оставь одну. Оставил ей, что было в пачке, но возмущению его не было предела.
— Вот откуда кровотечение-то, — заключил он.
Полтора месяца потребовалось молодому организму, чтобы обрести былую форму. Вернулась теперь уже с сыном — в дом к своему мужу Сергею. На радостях выпили, конечно, и решили отпраздновать день рождения сына по всем правилам, хотя и с запозданием. Назначили день, пригласили в основном своих друзей и подруг. Из родных только самых близких. Александр Иванович с Валентиной тоже пришли, принесли на «зубок» подарки и деньги. Собралось человек двадцать. Комната считалась большой, но за столом сидели тесно, один к одному. Не лежало сердце у Александра Ивановича к этому мероприятию, но дело-то общее, надо идти. После первой рюмки стали решать, как назвать новорожденного. А Сергей встал и, подняв стакан, объявил, что назовет сына Андреем и предложил выпить за Андрея. После этого начались танцы.
Боже мой! Что тут началось! Вертеп какой-то. Новорожденного забрала бабушка и унесла в свою комнату, а молодая чета, почувствовав свободу, вошла в круг. От мощных динамиков, расставленных в комнатах, в коридоре и даже у крыльца, дом заходил ходуном и звуки ударной музыки слышны были далеко за пределами улицы. Родители Сергея тоже с небольшой охотой согласились пустить в дом это необузданное молодое племя, но, руководствуясь законами предков, согласились, полностью полагаясь на бабушку Пелагею Михайловну. Это она, волевая и своенравная, когда-то после войны с мужем построила этот дом, вырастила и воспитала дочь. А сейчас вот внук, тоже ею вскормленный и взлелеянный, подарил ей правнука. Она давно уже не работает, но хозяйство ведет твердо. Успевает наводить порядок и в огороде, и в доме. Эти же качества она старается привить и своему любимому внуку. А он ей тоже начал делать «подарки»с четырнадцати лет.
Однажды попался с ватагой за хулиганство на рынке. Второй раз в пьяной драке ему порезали спину. Да еще и еще. Родители уж рукой махнули, а бабушка все сражалась и стояла за него горой. Пытался даже поднять руку на родителей, но бабушки опасался.
И на этот раз, когда далеко уже заполночь пляска продолжалась с неослабевающим ритмом, а Сергей в центре, в пьяном угаре извивался и кривлялся, изображая танец, Пелагея Михайловна вышла из своей комнаты и громко провозгласила: «Молодежь! Хватит! Отправляйтесь по домам. Ребенку покой нужен! Сережа! Провожай гостей!».
Кто-то засобирался, а некоторые, видно недовольные, подошли к Сергею и начали шептаться. Бабушка, подойдя к ним, снова заговорила: «Хватит! Хватит!» — и попыталась руками проводить их до порога. Сергей грубо оттолкнул Пелагею Михайловну, а в глазах уже засверкали гневные, необузданные искры. «Ах ты, сопляк! Сосунок! Ты так благодаришь свою бабушку!» — и она ударила ладонью Сергея по щеке. Ему бы стерпеть да извиниться. Но нет, такой позор, на виду у всех друзей получить оплеуху, Сергей перенести не смог и с размаху ударил ее в висок тяжелым, граненым бокалом, который в этот момент оказался в руке. Пелагея Михайловна только охнула и упала на пол. Плясунов, всех до единого, как ветром сдуло. Родители в испуге выбежали из своей комнаты, подняли бабушку, положили на диван и вызвали «скорую помощь». Сергей с Соней закрылись в своей комнате и не показывались. Хмель из мозгов вылетел мгновенно. Пелагея Михайловна еще дышала, когда санитары укладывали ее на носилки.
А через два дня, так и не придя в сознание, умерла. Внук свою бабушку убил. Так и написано в свидетельстве о смерти: «Травма головы со смертельным исходом». Какой позор! Что делать? Похоронив Пелагею Михайловну, родители все же решили подать в суд. Не могли они простить Сергею смерть их матери, да и оставить на свободе его тоже не могли, т. к. опасались и за свою жизнь.
Суд состоялся. Восемь лет строгого режима. Уходя из зала суда под конвоем, он успел выкрикнуть своим родителям: «Ну смотрите! Вернусь — вам то же будет!». Вскоре Соня оформила развод, погрузила на детскую коляску свое не хитрое достояние и с Андреем на руках вернулась к своим родителям.
Так закончился ранний первый брак.
Дети
После обеда жена забеспокоилась и начала торопить мужа: «Заканчивай скорее свои дела, что-то у меня предчувствие плохое, не с мамой ли чего случилось ? «Вадим увязал сумки, закрыл домик, и они пошли. Тридцать минут до трассы, две пересадки на автобусах — и они дома. Оставив сумку, Елена заторопилась к матери, на соседнюю улицу. Она ведь обещала матери сегодня, в субботу, заняться уборкой в ее квартире, да вот задержалась на садовом участке. Минут через тридцать Елена вернулась в слезах и с причитаниями:
— Я так и знала! Сердце мое чуяло! Мама умерла!
— Не может быть! Она ведь еще бодрая была! Что случилось?
— Не знаю, ее нет дома, она в морге, пойдем вместе!
Мать Елены Вера Максимовна родилась еще до революции в большой крестьянской семье. Учиться ей не пришлось ни одной зимы, и грамоте она не была обучена. С малых лет нянчила своих младших братьев и сестер. Потом жила в городе у старшей сестры богатой по тому времени жены военного начальника, в качестве домработницы и няньки. Так и пронянчилась до замужества. А когда настала эта пора, родители подобрали незнакомого ей парня Степана, работящего, но к работе на земле не склонного. Он больше работал на стороне, пилил со своим отцом тес. Но время подошло и их поженили. Жили у его родителей. Потом он уходил на два года в Армию. Перед войной устроился на одном из оборонных заводов в городе и получил комнату в бараке. Вера Максимовна тоже устроилась на этот же завод в цех металлоотходов и проработала в нем до пенсии. Сортировали металлические обрезки, грузили в вагонетки для переплавки. И вряд ли была ей работы милей. Трудилась много и добросовестно. В войну, как и все, скрепя сердце, переносили лишения и невзгоды. Детей уже было трое. Старшая Елена и два сына Cеня и Коля. Степана на войну не взяли. Бронь. Он целыми сутками не приходил из завода. Все заботы о семье легли на плечи матери. Чем накормить? Во что обуть, одеть? Проводить в школу, в детский сад. Сажали где-то на песках картошку. Делали из отходов плексигласа бусы, гребенки, расчески, продавали их на толкучке или меняли на крупу. Кое-как выжили.
После войны началась светлая полоса жизни. Отменили карточки. Сменили деньги. Снизились цены. Жить стало полегче. Потом появились народные стройки, и Степан пошел работать на стройку за квартиру. Получили двухкомнатную на первом этажес частичными удобствами. Дети выросли и начали отделяться. Елена с мужем уехали в длительную командировку. Старший сын Николай женился и привел жену Софью к себе в дом. Младший Семен тоже женился и ушел на квартиру к своей жене Варе. Казалось бы все уладилось. Все устроились хорошо. Но начались разлады в семье отца со снохой Софьей и сыном. Степан начал выпивать, да и сын не отставал от него, а под пьяную руку скандалы разгорались еще сильнее.
Каждый отстаивал свое право на жилье в этой квартире. Вера Максимовна как могла, старалась уладить взаимоотношения, но не всегда удавалось. Часто она сама оказывалась между двух огней.
Неожиданно Степан умирает от кровоизлияния в мозг. В семье на не которое время установилось перемирие. А семья прибывала. Уже две внучки требовали ухода. Вера Максимовна к этому времени вышла на пенсию и воспитание внучат взяла полностью на себя. Сын и сноха работали, а глаз за малолетками необходим. Разбудить утром, умыть, одеть, проводить в детский садик, а вечером встретить. И так каждый день. Внуки подросли, пошли в школу, и бабушка оказалась не у дел. Лишней стала в доме. А Николай пить начал еще чаще. Снова начались ссоры и оскорбления в ее адрес. Припомнились ей все высказывания в защиту покойного мужа. Все ополчились против нее, даже внучата. Жить стало невозможно. Соседи советовали ей произвести размен квартир, но старый человек разве пойдет из своего обжитого угла? Неизвестно чем бы это все закончилось, но вдруг ее приглашает к себе жить такой же вдовец, как и она, Павел Сергеевич. Ему как участнику войны и инвалиду дали от завода однокомнатную квартиру. И Вера Максимовна решилась уйти. Оставила сына хозяином в ее квартире.
Совместная жизнь двух стариков началась миром и дружбой. Елена и Вадим, возвратившиеся к тому времени из длительной командировки, часто навещали их, приносили на дни рождения и юбилейные даты небольшие подарки. Встречали старики гостей доброжелательно и сердечно. Павел Сергеевич сам выпивал мало и редко, но бутылочку в шкафчике, про запас держал постоянно. А вдруг кто-нибудь из детей придет, без угощения будет неудобно. Две сквозные пулевые раны в его теле, часто напоминали о себе, особенно к непогоде. Годы и раны сделали свое дело. Организм устал. На семьдесят восьмом году он серьезно заболел и вскоре умер.
Осталась Вера Максимовна хозяйкой в своей однокомнатной квартире. Провела небольшой ремонт. Освежила. Курил много покойный. В комнате стало чисто и уютно, только бы жить. Но тут и сама начала прихварывать. За свои семьдесят девять лет она ни разу не обращалась за врачебной помощью, даже медицинской карточки не имела. Только вот глаза стали часто побаливать. Ломота открылась где-то внутри головы. Жаловалась дочери, а к врачам идти не хотела. Дочь вызвала врача на дом. Назначили лечение. Предложили операцию глаз. Не согласилась. А зрение все ухудшалось. Она уже стала узнавать только по голосу. Начала натыкаться на углы и простенки.
И тут появился младший ее сын с женой Варей. Втайне от остальных родных они начали уговаривать мать, чтобы она прописала их старшую дочь Юлю, т.е. произвела родственный обмен квартиры.
Мать сначала не соглашалась, опасалась подвоха, но под напором снохи и обещания сына взять ее к себе, она согласилась с условием, что будет жить до смерти в своей квартире. И обмен оформили. Мать прописали у сына, а в ее квартире прописали Юлю. Внучка стала законной хозяйкой однокомнатной квартиры и тут же начала закупать для будущей семьи новую мебель, завозить к бабушке. Сначала телевизор, потом холодильник.
Когда дело дошло до кровати, Вера Максимовна забеспокоилась и завозить не разрешила. Тут же появился ее сын и устроил скандал.
Слух дошел до Елены, и она вечером убежала к матери. Та все ей рассказала, не скрывая ничего, но было уже поздно. Тогда они решили собрать семейный совет, на который должны были придти все с мужьями и с женами. К назначенному часу в воскресенье жены пришли, а братья с интервалом в целый час появились оба в дымину пьяные. Конечно разговора никакого не получилось. Старший сын, который выжил свою мать из ее квартиры, голос не повышал, зато младший начал требовать от матери, чтобы она немедленно шла к нему жить и освободила квартиру, т. к. скоро намечается Юлина свадьба.
Полуслепую мать повели к себе на квартиру, захватив кое-что из постельного белья. Не прошло и недели, как Вера Максимовна опять появилась в своей квартире. Дочь забеспокоилась и пошла к ней. Оказалось, в незнакомой квартире полуслепая женщина передвигаться не может. Задела вазу на столе, та упала и разбилась. В ванной уронила ведро с замоченным бельем, вода выплеснулась до кухни. Рассыпала стиральный порошок в прихожей. Сноха схватилась за голову и повела наступление на свекровь. Дошло до кровной обиды и рукоприкладства. «Господи! Где же справедливость?» — спрашивала она Бога, молясь ночью в своем уголке. Но ответа не было. Утром решила бежать, как только супруги уйдут на работу. С помощью соседей она добралась до своей квартиры.
Когда дочь навестила ее, она лежала в постели в забытьи и плохо соображала, кто к ней пришел.
Врач, вызванный на квартиру, предупредил, что одну ее оставлять ни в коем случае нельзя. Вечером пришли сын с женой и заявили: «Если не хочешь жить у нас, то мы будем ухаживать за тобой здесь, будем носить ежедневно еду, но пенсию ты должна отдавать нам, у нас лишних денег нет». И мать опять согласилась. Первое время они носили еду ей каждый день, потом через день. Ключи от квартиры забрали, а ее без присмотра и под замком оставляли одну. Слез она пролила море. «Боже! За что ты мне послал такую кару от моих же детей? Господи, помоги!» — просила она. Сноха, принеся еду, уже присматривала, что достанется ей, а что отдать другим. Украдкой от свекрови она унесла обручальное золотое кольцо, пуховый платок, новое постельное белье, швейную машинку.
Запертая в своей собственной квартире, Вера Максимовна не находила себе места. Перепутала день и ночь. Поздно вечером соседи слышали у нее громко говорящее радио. Ночью, после двенадцати, слышны были звуки передвигаемой мебели. В ту злополучную субботу она с утра начала стучать в дверь и просить, чтобы ее выпустили. Пока соседи бегали за сыном, пока он собрался, прошло больше часа. А когда они пришли с женой, увидели много людей, собравшихся у подъезда. Все что-то обсуждали и показывали руками на балкон четвертого этажа. Подойдя ближе, они увидели свою мать, лежащую в газоне под балконом ее квартиры. Она еще была жива и тихо стонала. Зайдя в квартиру, они обнаружили открытую дверь на балкон и приставленный к перилам стул.
«Скорая помощь», не завозя в больницу, увезла ее прямо в морг. На следующий день получили заключение
Повреждение черепа, излом позвоночника и кровоизлияние в брюшной полости.
Так Вера Максимовна выразила, наконец, свой протест против зла и насилия. Вот и все. А имущество, оставшееся после нее, подлежит разделу на троих. Но Семен с женой поздно вечером перевезли к себе на квартиру холодильник и телевизор, принадлежащий матери. «Это мы взяли за уход за матерью!» — позже заявит он. Когда Елена стала уговаривать братьев, по-хорошему разделить оставшееся имущество, они ей ничего конкретного не сказали. А неделей позже пригласили на квартиру матери, указали на три груды барахла и сказали: «Бери любую».
Елена, конечно, возмутилась. Кому, как ни дочери, известно, что было у матери. И она потребовала выложить все вещи, подлежащие разделу. Но Семен с Варей были неумолимы. И только когда Вадим припугнул их статьей, которая гласит: о тюремном заключении до трех лет, за невыполнение обязанностей попечителя над опекаемым, Семен испугался и отдал телевизор сестре, а холодильник брату. От остального имущества все отказались в пользу родных покойного Павла Сергеевича.
Но почему бы не решать все такие семейные вопросы полюбовно, по-родственному? Так нет. Бес алчности мутил людям разум во все времена. А дружба, ранее существовавшая между братьями и сестрой, пропала и, наверно, не возобновится.
Баба Дуня
Она на коленях склонилась над могилкой своего последнего сынка Митеньки. Слез не было, да и откуда им взяться? Сухонький старческий организм уже не способен был выделять их, одни рыдания. В своем черном старомодном салопе и в черном полушалке она напоминала кусочек бесформенной черной земли, случайно оказавшейся на зеленом травяном покрове. Привез ее на рейсовом автобусе на пригородное кладбище, по ее же просьбе, сосед Николай Иванович. Ей и раньше хотелось тут побывать — уже три года, как схоронили младшего, но одна не решалась. Расстояние-то не близкое, а оказии не было. Здоровье тоже не позволяло, через год уже восемьдесят стукнет.
И плакала она не столько о сыне, сколько от обиды на злых людей. Как могли они осквернить могилу сына, украли мраморный памятник, на который она потратила четыре своих пенсии. Долго ходили они среди могил, разыскивая могилу с мраморным памятником, но на этом месте были все какие-то железные и деревянные. И только, всмотревшись внимательно в надписи на памятниках, Николай Иванович нашел нужную фамилию, написанную на дощечке, приколоченной к старому, деревянному кресту. Узнать, кто мог совершить такое злодеяние, было не под силу, да и время не позволяло, солнце перевалило уже за полдень. Потихоньку пошли к остановке.
Ожидая автобуса, баба Дуня поведала своему доброму соседу историю всей своей многострадальной жизни. …
Родителей она не помнит. Жила до замужества у родственников и работала на них. Выдали за муж за деревенского парня. Так бы и жили, но началась война. Муж вскоре был взят прямо на фронт, да и сгинул там, не повоевав почти ничего. И осталась Евдокия одна с четырьмя, правда, взросленькими, ребятишками: три сына и дочка. Дети ходили в школу, а она пошла работать в колхоз дояркой да тридцать лет и отработала до самой пенсии. От постоянной сырости и грязи на ферме, от бессонных ночей во время отела коров, от непомерной физической работы отнимались и руки, и ноги, болела голова, ныло все тело. Надо ведь натаскать восьми коровам корма, воды. Убрать навоз, подстелить соломы, почистить хлев, подоить, вымыть посуду и фляги.
И так на протяжении трех десятков лет, без отпусков, без выходных, каждый день по три раза. Летом в жару и в дождь надо идти в стойло, доить, отмахиваясь от мух и овода, но шла и работала. И в передовых ходила, и премии получала. Это какое же надо иметь здоровье и выносливость, терпение и любовь к детям? А они ходили не хуже других и сытые. Огород подкармливал и своя корова.
Старший сын выучился на тракториста и уехал в соседний район. Купил там дом и, говорят, живет очень богато. Ни разу не бывал. Все некогда. Средний завербовался на стройку в Сибирь и жил там холостяком в общежитии. Дочь вышла замуж и уехала к мужу в его дом в пригороде. А младший все время жил с ней. Потом в городе на заводе. И вот приключилась беда с ним, чего-то разорвалось у них в цехе и пришибло его. На похороны ближние приезжали, а брат из Сибири не приехал. Видно, сильно занят, ну да Бог ему судья.
Все бы ничего, да вот тоска одолевает. Снятся бабе Дуне дети, только во сне и видятся. Правда, дочь приезжает иногда летом. Оберет смородину с кустов в огороде — и опять до следующего года. Звали ее дочка с мужем к себе. Вроде бы согласилась. Дом заперли. Увезли на своей машине на новое место. Мол, если бабушка приживется, то дом продадим, но не прижилась.
Вернувшийся из армии внучонок начал водить в дом своих друзей и подруг. Подолгу пели и танцевали под громкую музыку. Устраивали пьяные праздники чуть не каждый день. Не по душе это было старому человеку, а родители поощряли. И пришлось ей опять вернуться в свой домишко. На прощание дочь выпросила у матери тысячу рублей на свадьбу внуку. Сказала: «Отдай! Все равно тебе эти деньги не нужны!» Так и уехала она несолоно хлебавши из большого дочериного дома, но уже без денег.
Познакомился Николай Иванович с Евдокией на проулке у колодца. Он недавно дом купил на одной с ней улице. При первом знакомстве ей понравилось, что сосед называет ее бабой Дуней, в деревне часто пожилых людей называют таким образом. Да в возрасте разница — двадцать лет. Ее задушевный и бесхитростный разговор заинтересовал нового соседа, и он проникся к ней добротой и уважением. Очень она напоминала ему покойную мать. Частенько он приносил ей воды, хлеба из магазина, пилил и колол дрова. Благо, хоть сельсовет помогал дровами. Она отвечала ему доверием и добродушием.
Однажды ураганный ветер сорвал с ее домика часть крыши. Дождевая вода через чердак пролилась в избу. Сохранился только маленький сухой уголок, где она постелила постель и дожидалась конца непогоды. «Посмотри, поди, что у меня случилось? Беда-то какая!» — попросила она, придя к соседу после дождя. В комнате стояла лужа жидкой грязи и сплошные потеки по стенам. Вместе они кое-как вывезли эту грязь, и Николай Иванович принялся за крышу. Подошли еще два соседа, такие же пенсионеры. Нашли три куска рубероида, поправили крышу. А она, благодарная, не знала, чем уважить своих спасителей.
Достала откуда-то из сундука белого вина, разрезала две луковицы, подала банку кильки и хлеба. Выпили пенсионеры по рюмочке, остальное велели убрать, пригодится еще.
В этот год бабе Дуне минуло восемьдесят. Назначили дополнительную прибавку к пенсии. Все чаще и чаще она стала заводить разговор о том, что смертонька ее забыла и не идет к ней. Беспокоилась, как ей дожить оставшееся время и кто ее похоронит. К детям она обращаться не хотела. Вот в дом престарелых бы согласилась. Советовали сообщить сыну в Сибирь, может, откликнется, и он откликнулся. Даже сам явился нестриженый, нечесаный, в ватнике, в старых солдатских сапогах, хромой. Говорят, на работе изломал ногу. Инвалид, и до пенсии еще три года.
В первый же день своего приезда он напился до омерзения и пошел по селу искать своих бывших друзей, закончил свой поиск на задворках. Уснул. Кто-то сообщил матери. И вот она, немощная, полуслепая, полуглухая, одолеваемая стыдом перед знакомыми, пошла искать сына по деревне. Нашла, разбудила. А справляться-то как? Пошла за соседом. Тот на тележке привез «гостя» домой.
И начались для бабы Дуни беспросветные дни и ночи. Работать он не хотел, а пенсия по инвалидности крохотная. С утра вроде чего-то шебутится: воду носит, дрова таскает, в огороде копается. А после обеда уже ходит по порядку, стучит себе в грудь, слезу пускает, ругает сам себя, что вот какой он плохой, и что жизнь ему не удалась. И так почти каждый день.
Сбережения у бабы Дуни таяли на глазах. Пенсию, которую ей приносила почтальонша, она стала припрятывать, но потом забывала, куда положила, а сын требовал, угрожал. Потом стала деньги завертывать в тряпицу и вешать на шнурочке у себя на шее. Он и там находил, когда она засыпала. В доме стало шаром покати. Даже икон в углу из трех осталась одна. Соседки, жалеючи ее, приносили кое-что из вареного: оладьи, картошку, вермишель. Она торопливо съедала. Из тарелки еду брала прямо руками. Спрашивали: «Что ложку-то не берешь?» Отвечала: «Руки трясутся, ложкой не поймаешь еду-то, да и вижу плохо». Николай Иванович тоже приносил кое-что из еды. Смотрел на нее и на сына. И так ему хотелось сказать, нет, закричать во всеуслышание:
«Люди добрые! Все вы дети! Все вы родители! Не уподобляйтесь зверью! Будьте разумны и милосердны. Не делайте зла своему ближнему. Помните, что каждого может постигнуть такая участь!»
Колдун
«Борьба с преступностью! Борьба с преступностью!» — слышим мы каждый день. Но кто борется и как борется? Этого мы не видим. А вот раньше и слышали, и видели.
Рос Витька забиякой. При любом случае старался показать ровесникам свое преимущество. Рост у него был выше среднего, подросток походил больше на парня лет тридцати. Лес ли валить, в кузнице ли махать молотом, — все у него получалось играючи. В клубе на гулянках вокруг него всегда была орава сверстников, беспрекословно подчиняющихся всем его «указаниям». Сходить в соседнюю деревню, погонять тамошних парней, было любимым их развлечением. Битый не одинажды, он стойко выносил свои поражения и никогда никому не жаловался.
Был в соседней деревне кузнец, уже в годах, дед Егор. Говорили, что он в молодости так же, как и Витька, любил кулачные бои и коллективные потасовки. Сказывали, что у него постоянно наблюдались какие-то причуды. Уйдет на базар в кожаных сапогах, а обратно идет босиком, сапоги через плечо. Спрашивали: «Что босиком-то?» Отвечал: «Ногам томно, да и сапоги жалко». Зимой можно было видеть, как он выбегал из бани, валился в снег, потом опять в парилку. Говорил, здоровью помогает. А еще ходили слухи, что он умеет зубную боль заговаривать, успокаивать лошадей при норове и пускать килу. Правда, от его наговоров в деревне еще никто не пострадал, но разговор был. И еще одна молва, что он — колдун и связан с нечистой силой.
Витьке этой осенью предстояло идти в военкомат на приписку, и он со своими одногодками гулял в рекрутах. Повязанные через плечо полотенцем, они ходили от дома к дому с корзинкой, собирали куриные яйца и меняли их на самогон. Таков был обычай.
Как-то, подгуляв и оставшись недовольным угощением в своей деревне, он отправился в соседнюю, к своей тетке, еще покуражиться и поискать приключений. Дорога с крутояра спускалась к старинному пруду. Плотина, которая удерживала пруд, была длинной, но не широкой. Разъехаться двум повозкам на плотине было невозможно. Витька опустился на плотину и стал рассматривать гладь воды.
В это время с другой стороны начала спускаться на плотину подвода. Это ехал дед Егор со своими двумя племянниками в лес по дрова. У Витьки зачесались кулаки. Он прошел до середины и стал поджидать. Лошадь, дойдя до человека, остановилась.
— Уходи с дороги! — кричат племянники. — Что стал, как колокольня?
— Не уйду, что мне-в воду что ли залезать? — начал задираться Витька.
— Уйди, — говорят тебе, а то хуже будет! И тут один из племянников слез с телеги, подошел к Витьке и оттолкнул его с дороги. В тот же миг, получив сильнейший удар по скуле, не удержался и полетел под плотину, где бурно росла крапива и разный чертополох. Другой парень, тоже соскочив с телеги, подбежал к Витьке, но также как и первый, оказался внизу, в крапиве. Дед Егор слез с телеги и тихонько направился к Витьке:
— Что ты, добрый человек, упрямишься? Уступи для лошади дорогу! Но вместо ответа тот с силой размахнулся и ударил в ухо деда Егора. Каково же было его изумление, когда дедушка даже не покачнулся, только головой немного повел. Витька еще раз врезал по тому же уху. И опять дед стоит, не шелохнувшись. В третий раз Витька не успел руку занести, как страшный удар под сопатку, как кувалдой, опрокинул его, и он полетел туда же, куда и племянники. Те, очухавшись, приняли его в свои объятия и так отметелили, что он до самой темноты лежал в траве и стонал.
После этого Витька целую неделю не показывался на улице. Лежал в прохладном месте, делал примочки к многочисленным своим синякам и ссадинам. Отлежавшись и заклеив болячки бумажками, взяв бутылку «на мировую», он отправился в ту деревню, к деду Егору уточнить, чем же он ударил тогда Витьку? Не свинчаткой ли какой? Встретившись с кузнецом в его кузнице, Витька задал ему этот вопрос.
— Что ты, Виктор! Упаси бог применять какую-нибудь железяку. Ни в жизнь не пытался!
— Да как же ты мог меня свалить одним ударом?
— Эх, Витенька, моли бога, что я еще не зол был и кулак не наговорил так фунта на четыре, — не вылез бы ты из-под плотины. Слышал, что я колдун?
С тех пор Витька присмирел. Вот если бы сейчас, во время разгулявшейся преступности, повального воровства и разбоя, появился бы такой «колдун», наговорил бы народный кулак на пуд да врезал бы таким кулаком под самое дыхало этой братии, чтобы сгинула в одночасье, задохнулась бы в своих собственных слезах. И все было бы законно и справедливо!
Один день из жизни Ивана Денисовича (Почти по Cолженицину)
В это утро соседка сообщила, что сегодня обещали обязательно принести пенсию. Надо спуститься на первый этаж в квартиру №1, туда обычно приносят, занять очередь, а то опять, не дай бог, не достанется. Как зачастились задержки с выплатой, так начались у Ивана Денисовича сплошные неприятности.
Бывало, все подсчитаешь, разложишь по полочкам, занесешь в тетрадочку и руководствуешься целый месяц, только вносишь корректировку в связи с инфляцией.
Бывший бухгалтер хорошо разбирался в этих терминах и мог еще здраво порассуждать об основах проводимой в стране экономической реформы.
Вот уже десятый год как он на пенсии. За сорок с лишним лет, отданных родному заводу, заработал только двухкомнатную «хрущевку» и пенсию: 132 рубля. Первое время, когда еще была жива жена, тоже получавшая 110 рублей, жить было можно. Даже понемножку откладывали на похоронные нужды. Но жена умерла пять лет назад. Как раз в это время и началась эта непонятная перестройка.
Сначала казалось, что все идет правильно, что правительство заботится о народе и не допустит его обнищания. В январе 1992 года объявили свободные цены на все товары. Началась шоковая терапия. В одну ночь обесценились «похоронные» сбережения. Цены на все товары подскочили сразу в десять и в двадцать раз. Жить с этого момента стало совсем невозможно.
Получив свои 258 тысяч, Иван Денисович аккуратно пересчитал, расписался. А придя домой, еще раз пересчитал и сразу отложил 35 тысяч за квартиру. Очень уж он не любил затягивать квартплату: что могут подумать о нем, интеллигентном, исполнительном плательщике? Осталось 223 тысячи. Иван Денисович открыл свою тетрадь и начал рассуждать:
— Первое, без чего я могу умереть, это без хлеба (500 граммов на день в войну хватало, значит, и сейчас хватит). Буханочка в полкило стоит 2000 рублей, следовательно, на месяц потребуется 60 тыс. руб, остается 163 тыс. руб. Но ведь хочется и еще кое-чего. Бутылка молока в день по две тысячи, это еще 60. Остается 103 тысячи. Если употреблять картофеля по полкило в день, то нужно отложить еще 20 тыс. Из продуктов еще нужно купить сахара один килограмм, на месяц хватит. Бутылку растительного масла и одну пачку маргарина. Еще 27 тысяч долой.
На все остальные нужды остается 76 тысяч. Из них, он записал, нужно купить шпульку ниток десятого номера, заштопать совсем прохудившиеся теплые носки. Неплохо бы найти пачку порошка тринатрия фосфата, он подешевле «Лотоса», но белье в нем отстирывается хорошо. Обязательно надо зайти в аптеку, давление все чаще стало напоминать о себе, купить каких-нибудь таблеток. А вообще, он предпочитает держать всегда под рукой анальгин. Кажется, что он от всех болезней помогает, да и не особенно дорого. Ну вот и все.
«Свободных» денег осталось 50 тысяч — это неприкосновенный запас, он откладывается каждый месяц. Без этого нельзя. Мало ли, что может случиться, никто не придет на помощь. Дети живут в другом городе, там же подрастает внучек, для него Иван Денисович бережет квартиру. Давно он не получает и не покупает никаких газет, не пишет родным и знакомым писем. Не заказывает междугородние переговоры по телефону, не приглашает к себе друзей и сам никуда не ходит. Телевизор изломался, на починку денег не предусмотрено. В квартире все лишние лампочки вывернул, оставил только в прихожей и на кухне. О куреве и о выпивке и в мыслях нет, не только в тетрадке. А ведь было время, в молодости, и покуривал, и пивком, да и водочкой баловался. Теперь нет. Бюджет не позволяет.
Приведя в порядок все свои расчеты, Иван Денисович оделся, взял сумку, пустую бутылку для молока и отправился за покупками. Сначала зашел расплатиться за квартиру, потом направился в магазин. Налил бутылку молока, взял хлеба. Долго рассматривал под стеклом картофель. Уж очень мелким он показался. Отходов много, одна кожура, и Иван Денисович зашел на маленький рынок у магазина, такие сейчас везде есть. Выбрал два килограмма картошки, сказал румяной продавщице комплимент и попросил одну картошинку «на поход». И тут он заметил в пустой коробке листочки от капустного вилка, да такие свеженькие, что не удержался и попросил, как будто для кроликов. Теперь у него будут молочные щи с капустой. Хорошо бы еще туда горстку какой-нибудь крупки, но крупа в тетрадке в этот раз не значилась.
Не значились там соль и спички, так как соль, у него запасена еще с прошлого года. Нагреб он ее целых два ведра около поселковой котельной. Правда, она желтая и очень крупная, но если ее помыть и поколотить молотком, то получится то, что надо. А вместо спичек он пользуется электрической зажигалкой, купленной еще в застойные времена. Чай он тоже не покупает. Летом ездит в луга за травами.
Иван Денисович совсем уже собрался идти домой, как вдруг вспомнил, что сегодня Рождество Христово. Все православные, наверное, уже разговелись мясным, и он решил последовать их примеру. Остановившись у витрины, сначала рассматривал товар, потом, не веря этикеткам, уважительно спрашивал у продавщиц цену каждого продукта.
— Ах какое изобилие! Бери чего хочешь! — размышлял Иван Денисович. — Сейчас уже забыли, как получали все это по талонам. Но сколько он ни рассматривал, ни один продукт его не удовлетворил. Сыр, колбаса, копчености. Наконец, взгляд остановился на сосисках.
— Доченька! — обратился он к продавщице. — Взвесь мне вот эту сосисочку, сколько это будет стоить? Та, положив сосиску на весы и потыкав пальцем в калькулятор, сообщила:
— Ровно две тысячи!
— Сколько-сколько? — как будто не расслышав, переспросил Иван Денисович. — За такую-то маленькую и такие деньги, разве так можно!
— Ну что, папаша, будем брать или нет? — спросила его румяная.
— Бери, если тебе надо, а я не буду, — сердито ответил Иван Денисович и повернулся к двери. Праздничное настроение как ветром сдуло. Нахлобучив шапку на самые глаза, чтобы не смотреть на людей, он зашагал домой.
У одного из подъездов его остановил какой-то молодой человек с большой тяжелой сумкой:
— Отец! Где у вас мусорный ящик? Мы тут вчера погуляли немного, хозяйка приказала выбросить мусор, — и показал на сумку. Иван Денисович взглянул на нее, и по спине пробежал приятный холодок. Сумка была почти с верхом наполнена пустыми бутылками.
— Ящик есть, вот там за углом, высыпай их ко мне в сумку, я иду туда, вот и выброшу. Одним махом все бутылки оказались у нового хозяина. Парень, посвистывая, довольный, ушел в подъезд, а Иван Денисович осторожно огляделся — не видит ли кто из знакомых, развернулся и заспешил опять в магазин. Через несколько минут он завертывал ту же сосисочку в бумагу. Вот теперь он Рождество Христово отметит по всем правилам.
Откуда пошла кукуруза в России
Было это в конце пятидесятых в середине лета. В тот день у второго секретаря Кстовского райкома КПСС намечалась встреча с шефами из Горького по механизации ферм. Я, как лицо ответственное за оформление договоров по этому вопросу, присутствовать должен был обязательно. Собралось нас человек шесть, совещаемся.
Вдруг заходит в кабинет первый секретарь райкома и объявляет: «В Богородске, у Демина, Хрущев Никита Сергеевич! Хотите увидеть живьем? Поехали. Приглашает Богородский секретарь!»
И вот мы на двух автомашинах прибываем в центральную усадьбу колхоза «Искра». У конторы и клуба — машины, машины. Нас встретили, провели в клуб, где таких, как мы, было уже порядочно. Вдоль всего зала — в два ряда — столы буквой «П». Столы заставлены, но накрыты сверху белыми скатертями, от мух, наверное. Что под ними, не знает никто. До этого, как потом выяснилось, официальная часть уже закончилась.
Никита Сергеевич в сопровождении свиты осмотрел фермы, детсад, некоторые поля. Павел Михайлович Демин был человеком себе на уме. Сообразил, откуда и куда скоро ветер подует. На одном из прифермерских участков, по сверхудобренной земле на площади около гектара была вручную посеяна кукуруза. Тогда еще не знали ни квадратно-гнездового, ни рядового сева. Просто раскидали погуще, заборонили, а по всходам обработали мотыгами. К приезду Первого секретаря ЦК КПСС она уже была в человеческий рост — лето было как по заказу. Говорили потом, что с этого начался ход кукурузы по нижегородской земле, а потом и по всей нечерноземной зоне. И еще говорили, будто это послужило основным аргументом для присвоения Демину звания Героя Социалистического Труда. Может быть, это и неправда, но разговор такой был.
А клуб, между тем, наполнялся чиновничьим людом до отказа. Поступила команда: занять места на стульях и скамьях вдоль столов.
Заняли, ждем, свита появилась со стороны сцены. Подошли к своему столу, уселись в ряд. В центре — Никита Сергеевич. По правую руку Павел Михайлович, по левую — секретарь обкома, а дальше, справа и слева, места заняли пышные шевелюры, усы, бороды, толстые и тонкие по наклонной вниз, по рангу. Из всего разнообразия голов выделялась голова Никиты Сергеевича. Большая, как глобус, блестящая, без единого волоска и постоянно вращающаяся.
Мой знакомый механик с соседнего завода, он тоже был в Кстове, начал что-то помечать в записной книжице. Шепнул мне: «Пригодится для будущего». По углам на сцене, у окон, у двери встали незнакомые рослые сытые парни. Мы, конечно, догадались, но помалкивали. Нашей маленькой делегации место досталось за предпоследним столом. Слышимость была неважной, но мы не были в обиде. Главное, увидеть живого Хрущева, зачинателя многих государственных дел.
За первым столом, видим, чего-то шепчутся. Вдруг председатель встает и поднимает обе руки вверх. В тот же миг взметнулись все белые скатерти.
Отработано было классно. У каждого стола оказалось доверенное лицо, а у главного — двое. А на столах предстали нашему взору различные закуски, фрукты, конфеты и бутылки с незнакомыми сплошь наклейками. Дали время осмотреться, попривыкнуть.
Никита Сергеевич взял одну бутылку с наклейкой, прищурил глаз, посмотрел на свет, прочитал и сказал, обращаясь к председателю: «Голова! Все у тебя хорошо. И Арзамас рядом, а белой водки нет! «Видно, ведал глава правительства об арзамасской водочке. И тут Павел Михайлович снова подал знак. Как по волшебству: 2-х литровые графины с чистейшим арзамасским первачом перенеслись из-под столов на столы. И на каждом графине от руки написано: «Горилка Арзамасская». Никита Сергеевич взял один, прочитал и произнес по— украински: «О! Це горилка! Ридна!» Налил Демину и себе по полному стакану. Это послужило командой всем столам.
Приветственное слово произнес хозяин дома. Восхищался своим высоким гостем. Провозгласил здравицу в его честь. Вся братия, конечно, была рада поздравить самого Хрущева и выпила до дна. Хотя далековато мы сидели, но заметили, что Хрущев выпил больше половины, а Демин только пригубил. И пил уже из другого стакана.
После ответной речи Хрущева и опустошения посуды языки развязались. Многие захотели чокнуться с самим Хрущевым. Но тут выступили вперед те парни и быстро остудили пыл преданности. Никита Сергеевич пытался войти в круг весельчаков, но вокруг него непременно образовывалась зона. Механик шепчет мне:
— Ты посмотри на его окружение, как в «Евгении Онегине».
— Он засмеется — все хохочут, нахмурит брови — все молчат. После четвертой все вдруг дружно засобирались и стали отъезжать. Была команда секретаря обкома.
Стремянка для главы правительства
Помните время, когда по инициативе Н. С. Хрущева сормовский пролетариат проголосовал за консервацию облигаций Государственного займа на 20 лет? Все помнят.
Бывая в командировках в других областях, я частенько слышал упреки в адрес сормовичей, что пошли на поводу главного заводилы, вырвали у каждой семьи энную сумму из скудного семейного бюджета.
В тот визит в наш город Никита Сергеевич не захотел приземляться на гражданский аэродром в Стригино, а предупредил через областное начальство, что посадка будет на аэродроме авиационного завода. Срочно начали строить асфальтовую дорогу от аэродрома с выходом на Московское шоссе. Пятьсот метров построили за одни сутки, но она не потребовалась. Не пожелал по ней ехать глава государства. Изъявил охоту ехать через завод, поближе к Сормову. В день, назначенный для встречи, часа за два до посадки самолета высокого гостя приземлился самолет ИЛ-18 с охраной и обслугой. Зарулили на стоянку. Открылся пассажирский люк, показались люди. Наша команда подкатила трап-стремянку, а он оказался на целый метр ниже двери. Заводчане никогда не принимали на своем аэродроме большие самолеты, поэтому подходящей стремянки не нашлось. Технический состав самолета спустил свою узенькую металлическую лесенку.
«Вы что? И Никиту Сергеевича будете спускать по этой лестнице? — кипятился старший прибывшей группы. — А он через два часа на таком же ИЛ-18 будет здесь!»
Какой переполох начался! Одни предлагают подварить дополнительные ножки, другие сделать срочно новую, но, прежде чем пустить на нее главу правительства, она должна пройти испытания. Казалось, выхода нет. Телефоны затрезвонили у директора завода, у секретаря обкома. Но тут кто-то из наших технарей подал умную мысль. Срочно ехать в Стригино и там выбрать, какую нужно. Но кто даст? К кому обращаться? Старший скомандовал: «Срочно легковую и грузовую, я поеду сам. Мне дадут!».
Время неумолимо приближалось. Вот уже летно-навигационная служба сообщила, что в Москве самолет к вылету готов. А лету всего сорок минут. Успеет ли стремянка?! Автомобили в это время неслись по автозаводскому шоссе, сопровождаемые сиренами милицейских машин спереди и сзади. По радио снова поступил сигнал. Самолет ИЛ-18, на борту которого глава правительства, поднялся в воздух и взял курс на Горький. Эта служба оповещения работает четко. На заводском аэродроме для встречи собралась уйма легковых машин. Вот уже правительственный самолет на подлете, а стремянки все нет и нет. Нервное напряжение достигает предела. Директор завода и секретарь обкома о чем-то совещаются. Ищут выход. Вот если не найдут, достанется им на орехи.
А самолет уже приземлился и рулит поближе к ангарам, где столпились встречающие. Подрулил. Двигатели остановились. Открылся пассажирский люк, и тут разнеслось по всему аэродрому: «Едут! Едут!» Наступило облегчение. Машина со стремянкой на бешеной скорости подлетела к толпе. Несколько десятков рук подхватили ее и опустили на землю. Секретарь обкома, наш директор и их приближенные ухватились за стремянку и покатили ее к самолету.
А там в дверях уже показалась фигура Хрущева. Стоит и ножкой помахивает: давайте, мол, лестницу, а то прыгну. Слава Богу, обошлось! А то быть бы беде.
Дорога от аэродрома до завода, около километра, сплошь была запружена заводчанами. Завод остановился. Машины шли одна за другой, но скорость развить им мешали встречающие. Плотно обступив дорогу с двух сторон, они внимательно всматривались в лица сидящих в машинах. Вдруг кто-то узнал Хрущева и закричал что есть мочи: «Вот он! Здесь Хрущев! Ура!» Народ прихлынул, и машина остановилась. Стекло опустилось, и мы увидели улыбающегося Никиту Сергеевича. Он протянул руку и начал нас приветствовать. Мы еще громче закричали: «Здравствуйте, Никита Сергеевич!» Все хотели пожать ему руку. Но охрана свое дело знала туго. Нас оттеснили, и машины удалились.
А мы, как малые дети, еще бежали за машиной, ликуя и восторгаясь.
Вспоминая те годы и события, невольно приходишь к заключению: какое же было раболепие, слепое поклонение кумиру у всех: и у высокого начальства, и у рядового обывателя. А стремянка та еще долго маячила на нашем аэродроме, ожидая повторного визита «великого преобразователя», но не дождалась.
Челноки (Притча о лепешке)
Встретил я недавно одного моего знакомого, некогда работавшего на заводе рядом со мной. Поинтересовался, как дела семейные, как закончил вечерний институт, достроил ли домик на садовом участке. В связи с резким изменением политической и экономической обстановки в стране спросил, какое его убеждение сейчас, какое кредо жизни. И поведал мне мой молодой друг, что институт он бросил. Квартиру от завода получил и завод бросил. Домик в саду не достроил, сад на произвол судьбы тоже бросил.
— Как же ты прокорм добываешь? За счет чего живет твоя семья и есть ли она у тебя?.
— Есть, — отвечает, — двое учатся в школе, а мы с женой работаем на пару. «Челноки» мы теперь. Снабжаем «комки» заморскими товарами. А кредо моей жизни в настоящее время — только деньги, как можно больше денег. Любым способом. Деньги — это все. И молюсь я теперь только этому Богу. Вот тогда я ему и рассказал притчу о лепешке.
Жил в своей Палестине некий Арам. Жил не богато, но очень хотел разбогатеть. И явился ему во сне сам Бог в образе старичка с бородкой и сказал: «Познай учение мое, следуй ему, трудись и молись. Тогда снизойдет на тебя благодать божия». С этого дня Арам полностью отдался учению и молитвам.
Год молится, два. Друзей и родных забыл. Плодородная земля его пустовала. Арыки высохли. Много Лун обошло Землю, а богатство к Араму все не шло и не шло. Наконец, не выдержал он, выходя из храма бросил шапку о землю и молвил: «Хватит, не верю я больше святым отцам. Нет у них милосердия ко мне. Не хотят мне помочь разбогатеть!» И тут вдруг выходит из храма тот седенький старичок с бородкой.
— Что ты, свет, богохульничаешь? Не сам ли виноват, когда труд на земле променял на моление Богу? Нечего возразить Араму, но желание свое он снова повторил и добавил, что готов служить кому угодно, лишь бы быть богатым.
Тогда старичок-схимник предложил ему уговор: «Будешь делать все, что я укажу, но при этом говорить мне правду и только правду. Поклянись на святых мощах!» Охотно поклялся Арам, не ведая, что предложит ему странный старичок. А старичок-то был святой. По современному — экстрасенс, значит.
— А сейчас вот тебе три деньги, пойди и купи три лепешки. Нам с тобой предстоит дальняя дорога, надо запастись провиантом. Купил Арам три лепешки, положил их в котомку, перекинул через плечо, и они двинулись. Долго шли. Устали. Ночь застигла. Подошли к широкой бурной реке.
— Вот здесь переночуем, а завтра пойдем дальше. Давай съедим по лепешке и ляжем спать, — сказал старик. Достал Арам две лепешки, поужинали, а третью завернул в котомку, положил под голову и задремал. Одной лепешкой Арам не насытился и надумал съесть оставшуюся. Посмотрев на старика и убедившись, что тот спит, достал лепешку и съел. На сытый желудок быстро уснул.
— Вставай, раб божий! Помолимся на восход, умоемся, позавтракаем и в путь! — Разбудил его схимник. Умылись. Помолились, а завтракать-то нечем. Лепешки-то нет.
— Кто же ее съел? Не ты ли, свет?
— Нет не я!
— Кто же мог подойти к нам ночью и взять лепешку у тебя из-под головы? Ты съел лепешку?
— Нет, не я! — взмолился Арам.
— Я тебе верю, ты же дал клятву говорить правду! Через реку переправы нет. Святой старичок ступил на воду и пошел, как по льду, предупредив Арама, что бы тот ступал за ним след в след. Но оступился Арам и течение подхватило его, закрутило.
— Помоги, отец святой! — закричал Арам.
— Сознайся сначала, что лепешку съел ты!
— Нет не я! Взял схимник бедолагу за руку и вывел на берег.
Долго шли. Вдали показался Белый город. Стража на стенах. На воротах объявление: «Кто избавит от недуга царскую дочь, тому в награду пуд золота! Распишитесь!» Старичок расписался первым. Стража окружила его и повела к царю. Успел только сказать он, чтобы Арам следовал за ним.
— Можешь? — изрек грозный Царь.
— Могу! — ответил старик. — Дайте только нам отдельную комнату, секиру, купель с водой и ведите вашу дочь. В комнате он расчленил тело девушки на несколько частей и велел Араму прополоскать их в купели. А сам, помолившись, начал складывать из частей новое тело. Закончив, перекрестил, окропил, дохнул и, царевна очнулась от долгого сна. Живая, здоровая и веселая.
Обрадованный царь сдержал слово. Приказал выдать им пуд золотых монет.
— Вот теперь мы почти богатые, но наш путь еще не закончен, — молвил старичок. И случилось такое, что повстречали на пути еще один город и по такому же методу вылечили невесту Принца. Получили еще один пуд золота. Нести стало тяжело. Купили небольшую повозку. Арам, запрягшись в нее, повез золото дальше. На вопрос, хочет ли он еще больше разбогатеть, ответил, что хочет. Спускаясь с крутой горы, повозка увлекла Арама и грозила низвергнуть его в пропасть. Ухватившись за камень и вися над пропастью, он запросил у святого помощи.
— Помогу конечно, если ты скажешь, кто съел лепешку?
— Не знаю! Не я! Помог ему старичок выбраться на хорошую дорогу и они продолжили путь.
В третьем городе на воротах висело уже знакомое им объявление и обещало за излечение жены императора осыпать спасителя золотом. Желая иметь себе большую долю награды и посчитав, что в лечении нет никаких секретов, Арам расписался первым. Стражи немедленно схватили его и потащили к императору. В отдельной комнате Арам взялся за секиру, не дрогнула его рука, поднимаясь на невинного человека. Схимник полоскал части тела и подавал их Араму. Тот сложил новое тело, но сколько он ни молился, ни кропил — тело не оживало. Отпущенное на излечение время окончилось. Стража ворвалась в комнату, увидела мертвое тело, схватила Арама и поволокла к императору.
«Казнить преступника!» — единодушно решили судьи. Какую же смерть, наиболее страшную, выбрать?
В огонь? В воду? Бросить к диким зверям? Нет. Решили положить Арама на порог крепостных ворот и медленно их сдвигать. И вот уже огромные воротины коснулись шеи Арама. Еще мгновенье и голова расстанется с телом.
— Стойте! Стойте! — закричал вдруг святой старичок. — Разрешите я задам смертнику только один вопрос:
— Скажи милейший! Ты лепешку съел? Очисти душу от греха, признайся!
— Нет, не я! Тогда старичок попросил отсрочку от смерти, пообещав воскресить и вылечить жену императора. Так и сделал. В награду получил столько золота, сколько смог унести. Незамедлительно купили старец и Арам карету, тройку лошадей и кнут. Загрузив поклажу, они направились в обратный путь, домой. Всю дорогу Арам думал, подсчитывал, сколько же старик даст ему золота. А тот, не доезжая немного до дома, остановил лошадей и на полянке разложил золото на три грудки.
— Эта мне, эта тебе!
— А эту кому? — вырвалось у Арама.
— А эта тому, кто лепешку съел!
— Я лепешку съел! — обрадованно закричал Арам.
— Ну раз ты, тогда и забирай свое золото! Да пожалуй и мою долю и тройку с каретой забирай, мне они ни к чему. Обрадованный Арам сложил все золото в повозку, уселся на облучек, взмахнул кнутом. Но тут, откуда ни возмись, налетел страшный вихрь. Подхватил он тройку и карету вместе с золотом и унес в небесную высь. Только Арама оставил с кнутом в руках, сидящим посреди дороги в пыли. А старичок, стоя в сторонке, поучал его:
— Не сребролюбствуй, блюди слово свое, не берись за дело, которое не можешь сам выполнить. А работай в поте лица своего, да будешь богат и душею блажен. И снизойдет на тебя благодать божия!
Часть 4. Деревня моя
Предатель (Сказ дедушки Савелия первый)
Живу в деревне. Ну как не иметь живность, хотя бы домашнюю птицу? Решено. В конце марта поехал на инкубатор, посадил в корзинку тридцать штук пушистых желтеньких комочков в возрасте одного дня и благополучно прибыл домой.
В ящике под большой красной электрической лампочкой им понравилось, и они своим требовательным писком запросили обед. Кушать подано. Немножко творожку, вареное яичко, размоченный хлебушко, пшено и баночка с водой. Целый день я находился рядом, изобретая им удобства. На ночь лампочку выключал — спать пора! Ставил в ящик 3-хлитровую банку с горячей водой, накрывал ее толстой тряпицей, и мои питомцы устраивались, как под клушкой.
Все шло хорошо. Через десять дней у цыплят появились перышки сначала на крыльях, а потом на хвостике. С половины апреля начало пригревать солнышко, и я стал выносить ящик на улицу, предварительно накрыв его сеткой. Земля отогревалась, цыплята мои подрастали, пришлось сколотить для них новый ящик, но уже без дна. Поставил его прямо на землю — швыряйтесь! И они тут же доказали, что умеют разгребать мусор и находить в нем рациональное зерно.
Прошел месяц. Цыплятам в этом ящике стало тесно. У петушков начал проявляться бойцовский характер, и я решил построить загородку прямо на лужайке. Место выбрал солнечное, между домом и сараем. Сгреб в угол мусор, закрыл его старой пленкой, огородил сеткой. Сколотил небольшой навесик, поставил кормушку и баночку с водой.
Часами просиживал у цыплят в загородке, наблюдал, подкармливал их букашками, червячками, подружились мы как родные. На звук жестяной баночки они весело сбегались ко мне и прямо из рук брали корм. Каждый вечер мои питомцы послушно залезали в корзинку, отправлялись на ночь в чулан.
А беда нас поджидала каждый день. Сороки, галки, вороны пролетали над домом стаями и в одиночку. Наверное, наблюдали за нами и ждали своего кровавого часа. Дождались-таки. Как-то отвлекся я по своим делам огородным, снизил бдительность, а вся черная летающая свора немедленно воспользовалась этим. Копаясь на грядке, вдруг слышу гам над моим домом. Поднял глаза и обомлел. Над домом кружилась стая ворон, которые поочередно пикировали на загончик с цыплятами.
Как я бежал прямо по грядкам, как размахивал мотыгой, как кричал и свистел — это надо было видеть. Две вороны поднялись с грузом, и моя мотыга полетела им вслед. Одна из воровок уронила ношу. Я подбежал. Цыпленок с пробитой головкой лежал без движения. Поглядел за изгородку и — о, ужас! Ни одного не осталось… Пусто. Заглянул под навесик, под перевернутое корыто — нигде ни одного. Но тут до меня донесся еле слышный писк из кучи мусора под пленкой. Я с нетерпением снял ее и начал разгребать мусор. До сих пор не пойму, как это они догадались в него закопаться, да еще под пленку! Сработал, видно, инстинкт самосохранения.
По одному, по два извлек я из мусора моих воспитанников. Не досчитался семерых. Присел перед ними на корточки. О, мои милые живые пушинки! Сердце переполнилось жалостью, на глаза навернулись слезы. А они со страху еще не опомнились, сгрудились под меня, как под клуню, опасаясь нового нападения, да так тревожно выражали свои чувства, словно хотели сказать: «Зачем ты покинул нас? Как ты мог это сделать? Предатель».
Рыжик (Сказ дедушки Савелия второй)
Родились они, когда на улице уже таял снег и на дворе было пасмурно и сыро. А на сеновале, в дальнем углу, где Мама-Киса подобрала им местечко, было тепло и уютно. Сразу же после рождения Киса, умывая их своим языком, обнаружила, что все трое очень разные по цвету. Серый, полосатый и рыжий. Последний заметно отличался от остальных своим настойчивым характером, и Мама-Киса дала ему имя Рыжик, что на кошачьем языке означает упрямый. Первую неделю котята, когда они были еще слепые, вели себя пристойно, не пищали, не расползались, мама спокойно могла спуститься с сеновала половить мышей, благо в пустующем дворе их было превеликое множество. Потом стало беспокойнее.
Солнышко согнало с земли последний снег. Появилась первая зеленая травка и стала быстро набирать силу. Котята тоже подросли, окрепли и начали самостоятельно, не обращая внимания на возражения Мамы-Кисы, выползать на свет поближе к окошку, через которое теплое солнышко направляло свои лучи-зайчики в самые дальние уголки сеновала. Котята играли, грелись, и в один из таких дней они вдруг услышали человеческий голос:
— Дедуля! А здесь котята бегают, трое, и все — разные! Это внук Димка приехал с дедушкой из города начинать свои садово-огородные дела.
— Ну и пусть бегают, тебе веселее будет. Угости их городскими гостинцами да водички в баночке поставь.
На шум сразу же откуда-то появилась Мама-Киса, вздыбила шерсть на загривке, выпустила когти и устрашающе зашипела, что означало готовность защитить своих детей и наказать каждого, кто осмелится посягнуть на их свободу. Котята, подражая маме, тоже зашипели и показали свои коготки. Димка ввязываться в ссору не стал, а гостинцев принес. Потом, дважды в день, стал приносить им еду и все пытался дотронуться до котят, погладить их. Очень хотелось ему поиграть вместе с ними, подружиться. Видел как они все трое вперегонки бегали по двору, по чердаку, по дровам, кувыркаясь и устраивая всемозможные потасовки.
Особенно в этой возне отличался Рыжик. Он неожиданно из-за укрытия нападал не только на своих братьев, но и на Маму-Кису, за что неоднократно получал от нее соответствующее наказание. Но однажды его постигла беда. Не подумав, прыгнул на полено, которое одним концом уже свесилось над большой пустой металлической бочкой, стоявшей около поленницы. В один миг полено бухнулось вместе с Рыжиком прямо в бочку. Бедолага оказался в западне. Попытался выпрыгнуть, но до края бочки было далеко, силенок не хватало.
Первые минуты он сидел задумавшись: что же делать, а потом решил звать Маму-Кису. Та, издалека услышав зов своего ребенка, поспешила на помощь. Вспрыгнула на поленницу и увидела глубоко в бочке плачущего Рыжика. Но что она могла сделать? Поняла — лишь человек может спасти, вызволить из западни ее дитя. Издавая вопли, она начала прыгать на дверь, в надежде, что ее услышат. И Димка услыхал. Выбежал во двор, но ничего не поняв, позвал дедушку.
— Если кошка забеспокоилась, значит, что-то случилось! — заключил дед. Наконец они нашли бедолагу Рыжика.
— Дима! Опусти в бочку вон ту дощечку, по ней котенок сам выберется, — подсказал дедушка. По дощечке, боясь еще раз свалиться, Рыжик стал медленно подниматься наверх. Димка принял его на руки, приласкал, погладил. Мама-Киса, присутствуя при этом, не возражала. Да и Рыжик, понимая ласку, лизнул Димку в нос, зажмурился и тихонько замурлыкал. С этого дня они стали друзьями.
Разлука (Сказ дедушки Савелия третий)
Закончив учебу в третьем классе, внук мой Димка приехал ко мне в деревню на все лето. Чистый воздух, недалеко лес и речка. Они должны были оказать на него благотворное влияние. Но ни рыбалка, ни охота за грибами, ни даже кот Кузя и велосипед не смогли занять все свободное время. Димка явно тяготился своим бездельем, хотя и помогал мне на грядках во всю свою детскую силу. Частенько он вспоминал, какие у него друзья остались в городе. Я его понимал. За все лето на нашей улице никто из ровесников Димке не появлялся. Заменить я их не мог, хотя и пытался. Осенью он мне заявил резонно:
— Больше я к тебе не приеду, у вас нет мальчишек. Все правильно. Давно уже по деревням не звенят детские голоса. Но это не моя вина.
Прошла зима. Приближалось время новых летних каникул. И я начал подумывать, чем же завлечь Димку на это лето. Идею подсказал Николай Петрович:
— Слушай, сосед, купи у меня пару козлят. Вот потеха будет. Скука уйдет прочь. И я решил. В начале мая у меня по избе уже бегали два четырехнедельных козлика. Да такие шустрые и ловкие. Удивительно, как быстро они могли оказаться на стуле, на столе и даже на холодильнике. Спать я их укладывал в ящике с соломой и укрывал. На обед они получали овощи, мелкое сено и теплую водичку с кусочками хлеба. Молоко только для запаха. После 20 мая двинул за внуком и так ему расписал его будущих друзей, что он согласился со мной поехать. Дети всегда быстро находят общий язык, будь это котята и цыплята, телята и поросята, козлята и ребята. Не прошло и часа, как моя молодежь уже бегала наперегонки по проулку. Прятались в густой траве и находили друг друга. Завтракать и обедать они наладились вместе. Первое и второе блюдо они получали из общей кастрюли. Сухари из кошелки брали каждый, кто сколько пожелает. Чай пили только сладкий каждый из своего блюдечка.
Благодаря заботе внука, козлики заметно подрастали. Появились рожки и бодаться с каждым было у них любимым занятием. Димка тоже становился на четвереньки и бодался как заправский козленок. Это козлятам очень нравилось. Они разбегались, подпрыгивали и старались боднуть по-настоящему.
Я наблюдал за их игрой и думал: все, что создала природа едино и неразделимо. В этом я убеждался ежедневно. Если мы шли в лесок поискать грибов, Димка уговаривал меня взять Филю со Степашкой, так он их назвал с первого дня знакомства. И они оправдывали его доверие. Ни разу не потерялись в лесу, ни разу не отстали от нас. А когда я уезжал в город по своим надобностям, они все трое провожали меня до трассы и приходили встречать в условленное время. Расстояние это в полторы версты они преодолевали незаметно, в играх и развлечениях. Подарки, которые я привозил: яблоки, печенье — тут же делились на всех поровну. С возрастом козлята становились все умнее. Они стали понимать и отличать мой голос от голоса Димки. Научились выполнять простейшие команды. Можно было видеть, как они внимательно наблюдали за мной, изучая меня, пытались понять.
А уж когда с Димкой произошел трагический случай, я окончательно убедился, что мышление у них имеет место.
В конце огорода, за малинником, был колодец. Стальная труба, диаметром около метра, была спущена в землю метра на три. Вода накапливалась, и этого было достаточно для полива. Жара стояла в это лето необычайная. Попить водички козлята прибегали не однажды в день . А на этот раз Димка решил угостить своих друзей сам, прямо из колодца. Опустил ведро на цепи, зачерпнул и, крутя барабан, поднял его наверх. Наклонился, взялся за него одной рукой, ведро его перетянуло, и он полетел в колодец вместе с ведром. Хорошо, что воды там ему было по грудь, а то быть бы беде. Он окунулся. Но ведро из рук не выпустил. А друзья за ним наблюдали. Но когда увидели, как с грохотом закрутился барабан, и раздался испуганный крик Димки, козлята всполошились. Потеряв из виду человека, они начали звать его на все голоса. Потом вдруг сорвались с места и стрелой полетели к дому.
Я в это время занимался чем-то во дворе. Вижу: скачут козлята без Димки и тревожно голосят. Я спрашиваю: «Что случилось? Где Димка?». Вышел на огород, крикнул. Не отзывается. Такого никогда не было. Дошел до конца огорода, снова крикнул. И вдруг откуда-то из-под земли слышу:
— Дедуля! Я здесь! Глянул в колодец, а он стоит по грудь в воде и горько-горько плачет. Говорю ему:
— Залезай в ведро ногами и держись за цепь, я тебя вытяну. Поднял его и спрашиваю:
— Зачем ты подошел к колодцу?
— Я хотел напоить Филю со Степашкой.
— Сердобольный ты мой помощничек. Ты ведь утонуть мог. Скажи спасибо своим друзьям, это они прибежали ко мне и все рассказали.
— Дедуля! Неужели это все правда?
— Правда, правда! Вон посмотри на них, как они улыбаются от счастья, что спасли тебя!
Незаметно подкатила осень. Приехали родители за Димкой. Наступила разлука. Чувства, которые испытывает человек при расставании, описаны многими писателями и поэтами. Но так, как расставался ребенок со своими друзьями, описать трудно. Я обнимал и целовал Димку, а он обнимал своих друзей. Слезы из его глаз козлята слизывали своими язычками.
Всю дорогу до трассы Димка допытывался у меня, где будут жить зимой Филя со Степашкой. А те тоже поняли, что наступила разлука, шли, опустив головы, даже ни разу не поиграли.
Не хватило у меня смелости сказать, что козлята пойдут на мясо. Не хотелось ранить детское сердце. Узнав правду, Димка проклял бы меня. Я и сам понимал, что не поднимется у меня рука на этих умных, милых созданий. Это равносильно, что поднять руку на человека. Нет, я на это не решусь. Слишком крепко мы породнились. Отвечаю Димке:
— Отдам я их тете Насте на зиму, а летом приедешь, мы придем тебя встречать. Так я и сделал. Обменял козлят на зерно для кур, надеясь, что ребенок за год подрастет, будет посерьезнее и простит мне мою неправду. Так закончилось наше веселое лето горькой разлукой.
Привидение (Сказ дедушки Савелия четвертый)
Некоторые травники-целители утверждают, что настой травы бессмертника излечивает от всех болезней. В поисках этой травки я и оказался в двух верстах от своего селения на склоне неглубокого ложка. Слева по склону — густой тальник. Справа — свежеподнятая зябь, да так вспахано, что одни горбатые глыбы видны по всему полю. Сзади поблескивало маленькое озерцо в лощинке, а прямо по меже, в полуверсте, виднелись домики садоводов. Вдруг слышу со стороны озерка звук мотора. Вдоль овражка прямо по пашне пробирается мотоциклист. В люльке — пластиковый бочонок для воды.
Все ясно. Везет воду в свой сад-огород. Но какой леший заставил его ехать по пашне? Не желая быть свидетелем человеческой безалаберности, я присел в разнотравье, за кустик. Медленно, с трудом продвигалось дело у водовоза — так я его нарек. Поравнявшись со мной, мотоцикл недовольно чихнул и совсем заглох. Перегрелся. Я спокойно сижу, жду. Завел. Дергается, а движения нет. Заднее колесо крутится вхолостую. Заглушил, обошел вокруг, глянул вниз. Почесал затылок. Я тихо сижу, ни гу-гу. Вижу: неудачник, безнадежно махнув рукой, отвернул крышку у бочонка и, раскачивая его, начал выплескивать воду. Зная цену воды в сухую погоду, я загробным, но решительным голосом изрек: «Воду не выливай, она не виновата». Надо было видеть, что произошло. Бедняга остолбенел. Голова медленно поворачивается в мою сторону, а правая рука начинает закручивать крышку бочонка. Меня вдруг обуяла бесовская игривость, беззвучно затрясло от неудержимого смеха. Вот он торопливо заводит мотор, раскачивает мотоцикл взад и вперед, но глыба, оказавшаяся под люлькой, держит намертво. Слышу: горе-водовоз стал поругиваться. Поминает матушку и Боженьку. Я тут же пресекаю:
— Бога не ругай, а зови его на помощь. Осенись — легче будет.
— Я не знаю, как осеняться, — отвечает. Безумец, что он говорит!
— Крестись, твори молитву, — поясняю.
— Я не умею, — а сам пытается разглядеть меня в траве, но тщетно.
— Тогда сиди до морковкина заговенья. Это его не устраивало, и он левой рукой начал выделывать круговые движения от головы до живота.
— Правой рукой надо молиться — поучаю. Руку сменил.
Воспользовавшись моментом, когда он снова, заведя мотоцикл, низко склонился, я подошел сзади и приподнял люльку. Заднее колесо схватилось за землю, и мотоцикл выскочил на межу. Я заметил, что водовоз правым глазом видел меня, но разглядеть не успел. Я снова погрузился в траву.
Вот он заглушил мотор. Оглянулся и стал вертеть головой. Даже вверх посмотрел, приложил руку козырьком — наверное, хотел увидеть НЛО. Но самое интересное, что он ни разу не шагнул в траву, где наверняка нашел бы меня.
Я проследил за уезжающим до пункта назначения. На бугорке стоял недостроенный домик, у него он и остановился. Дня через два я снова оказался в этих местах и решил навестить садовода. В огороде хлопотала женщина. Пожелал ей Бога в помощь. Разговорились. Спрашиваю:
— А хозяин что не помогает?
— Хозяин уехал в село на колодец.
— А из озера-то что не берете?
И она начала рассказывать, как два дня назад он вез воду из этого озерка, но ему померещилось привидение, и он больше туда не поедет. Я промолчал. Пусть будет на моей совести это привидение.
Чудо
Издавна повелось у людей на Руси называть урочища возле своих поселений яркими, самобытными, запоминающимися именами: Кошкин овраг, Дикая грива, Вороний бор и т. п. Деревню, где прожил свою жизнь дед Савелий, тоже окружали места, названные прадедами в честь каких-то имен, событий или назначений. Так, со стороны восхода, в полуверсте от деревни простирался неглубокий, но широкий и длинный дол. Когда-то тут был настоящий лес, но люди свели его на дрова, оставив на память одну старую дупляную, очень толстую и высокую ветлу, которая одна маячила на горизонте, напоминая о былой мощной растительности. Она и сейчас буйная и разнообразная произрастает в несколько ярусов.
Первый — нижний ярус— занимало разнотравье, второй — облюбовали шиповник, ежевичник, малинник. Следующий ярус представляли высокий тальник и черемуха. Последний, самый высокий ярус являла одна ветла.
Поскольку в этом благодатном месте господствовал малинник, то и название ему дали «малиновый дол». Зацветал дол сразу же, как сходил снег и продолжал цвести до самых заморозков. В его травах и цветах находили пищу всевозможные вредные и безвредные насекомые: мухи, стрекозы, бабочки, шмели, осы, пчелы.
Во время основного медосбора дол гудел от неисчислимого множества насекомых и источал аромат цветения далеко за свои пределы. В урожайные на малину годы в эту местность сходились и съезжались любители сладкой ягоды, со всей округи, даже из города. И всем хватало. Прошлый год был не особенно урожайным из-за частых дождей, но Савелий с внуком Димкой хаживали сюда несколько раз полакомиться, да и на компот принести нелишне. Это лето, сухое и теплое, обещало хороший урожай. Димка, после четвертого класса опять приехавший к деду на все лето, уже напоминал:
— Не пора ли сходить по малину? Но Савелий сдерживал:
— Рановато, цветет еще.
В один из теплых солнечных дней Димка решил сам проверить, не созрела ли ягода? Предупредив дедушку, он сел на свой велосипед и покатил по тропинке, протоптанной в ржаном поле, в сторону малинового дола, ориентируясь на ветлу. Савелий успел только крикнуть:
— Недолго смотри! Обедать скоро!
— Ладно! — ответил Димка. Приблизившись к долу он ясно ощутил плотный, многоголосый гуд и звон, стоящий над всей низиной. Это трудился мир насекомых, собирая впрок дары природы.
Подъехав к ветле, Димка остановился, сошел с велосипеда, прислушался. Звон окончательно оглушил его. Он в нерешительности шагнул два шага в сторону малинника и вдруг ощутил ожег в шею. Второй укус пришелся в щеку. Это пчелы-охранники встали на защиту своих владений.
… Когда-то мать, укачивая Димку, любуясь и лаская его, непременно обращала внимание на ярко выраженную голубую жилочку на левом виске, целовала ее и приговаривала: «Счастливый будет!».
Вот в эту самую жилочку и вдарила третья пчела. Головушка его закружилась, взгляд помутнел, сознание померкло. Падая на траву, он издал такой испуганный, короткий, пронзительный вскрик, что даже сердце кольнуло у Савелия, находящегося на почтительном расстоянии от места события. Это уже природа подавала сигнал опасности, сигнал бедствия.
И тут свершилось чудо. Вмиг смолкли все гуды и звоны, на какое-то мгновение над долом установилась абсолютная тишина. Все звуки замерли. Потом, откуда ни возьмись, над Димкой сгустилось облако из несметного количества пчел. Какая-то сверхъестественная сила заставила их свиться в один зловещий клубок и двинуться в сторону деревни…
Степка, разбитной малый, не попавший в армию из-за плоскостопия, сидел на крыше своего дома и скоблил ее перед окраской.
— Рой! Рой! Кузьмич! Слышишь рой летит! Кузьмич, пчеловод со стажем, копавшийся у себя в огороде, услышал Степку, прихватил принадлежности, выбежал на улицу для встречи роя. Но тот сделав над Степкой круга два, вдруг повернул в сторону Малинового дола и начал удаляться. Степка спрыгнул с крыши. Вместе с Кузьмичем они выбежали на тропинку, по которой уехал Димка.
— Бежим скорее, Кузьмич! Он сейчас на ветлу привьется, не раз уже такое случалось! — торопил Степка.
И какое же было их удивление, когда они, прибежав к ветле, увидели Димку, лежащего на траве без движения.
А рой сделав еще один оборот вокруг ветлы вдруг рассыпался, распался, исчез. Каждая пчелка, руководствуясь своим инстинктом, улетела по своим надобностям. Принадлежности для поимки роя стали не нужны. Кузьмич склонился над Димкой, осмотрел и как опытный пчеловод сразу определил:
— Бешена пчела укусила! Степка! Возьми мой картуз, быстренько сбегай, принеси водицы из долинки, умыть надо парнишку! А сам начал растирать Димке височки, затылок. Умыв его холодной водой и сделав несколько движений руками для восстановления дыхания Кузьмич заключил:
— Сейчас очухается!
Савелий, не дождавшись внука к обеду, вышел на проулок посмотреть: не едет-ли. Но узнав от соседей, что Степка с Кузьмичем убежали в ту сторону, забеспокоился. Предчувствие не обмануло его.
Пройдя половину пути по тропинке, он встретился с процессией. Впереди бежали две взлохмаченные собачонки, за ними Кузьмич с велосипедом на плече. Шествие замыкал Степка, на закорках которого сидел виновато улыбающийся Димка.
Забастовка
Солнышко все обильнее изливало свою энергию на землю. День сравнялся с ночью. Куриное семейство забеспокоилось и настойчиво требовало земли и воли. В корзинках с соломой появились первые яички, да такие хрупкие, что брать их в руки опасно — раздавишь. В одно особо светлое утро Иван Петрович решил выпустить птичью компанию на волю. Куры, истосковавшись по земле, сразу разбежались по проталинкам, а некоторые направились в сторону овсяного поля. На другой день яичек в гнезде прибавилось. Так продолжалось с неделю.
Но однажды Иван Петрович заметил, что яйценоскость резко снизилась. Петух, как и прежде, добросовестно выполнял свои обязанности, во дворе целый день раздавалось кудахтанье, но количество произведенной продукции не соответствовало рассчетному. Ежедневно недоставало двух-трех яиц. Иван Петрович призадумался. Обшарил сеновал, все углы во дворе, заглянул в погреб, но нигде не обнаружил признаков подпольного гнездования. В чем причина? Может быть, теряют где-то? И тут пришла ему в голову одна идея. «Надо смастерить очень маленькую корзиночку, — решил Иван Петрович, — и приспособить ее курам так, чтобы они, снесясь в любом месте, сами приносили свой плод домой». Сказано-сделано.
Из тоненьких алюминиевых проволочек соорудил он несколько маленьких плетенок. При помощи лямочек и резиночек приладил каждой несушке. И стал ждать результатов. В этот день соседи, пришедшие к колодцу за водой, долго присматривались к курам Петровича и судачили, к чему бы это. А те недоуменно озирались, ожесточенно клевали свои зады и бегали сломя голову. Петух же, желая как-то помочь им, орал дурным голосом. А потом, словно догадавшись, кто истинный виновник куриного стресса, разозлился и клюнул Ивана Петровича. Да так больно, что хозяин едва-едва не огрел хулигана жердью, которую держал в руках.
Вечером на зов «цып-цып-цып» ни одна хохлатка не прибежала, пришлось по одной загонять их во двор. А наутро во главе с лидером куриного племени несушки забастовали. Ни одна из невольниц не подошла к кормушке. Пришлось Ивану Петровичу уступить. Но и после освобождения от ярма забастовщицы целую неделю мстили незадачливому изобретателю абсолютным отсутствием своей продукции.
Сейчас дело вроде бы пошло на лад. Ест каждый день Иван Петрович яичницу с салом, но на петуха поглядывает с опаской. Похоже, что куриный стачком до сих пор не распущен. Мало ли, какие еще последуют нововведения…
Ну, заяц! Погоди!
Снегу в ту зиму выпало настолько много, что молодые яблоньки оказались под белым пушистым одеялом по самые макушки. Кругом снежная пустыня. Только верхние веточки, торчащие кое-где, говорили о том, что здесь под снегом, сад. Дед Савелий, заезжая из города в деревню раз в неделю, внимательно осматривал сад, отаптывал присадки, спасая от мышей, и все удивлялся высоте и пышности снежного покрова.
В этот раз, в конце зимы, они появились вдвоем с десятилетним внуком Димкой. Прокопали в снегу дорожки к дому, к погребу, устали и решили заночевать. После обеда, осматривая огород и сад, они обнаружили, что кто-то срезал все молодые яблоневые веточки, оказавшиеся поверх сугроба. Да так гладко, словно бритвой.
На снегу было много следов, даже выделялась тропиночка, которая вела к копне старого сена. Пошли по следу. Приблизились к копешке, а из-под нее вдруг выскочил большой серый заяц. Видно, там у него место отдыха. Легко перепрыгнув через жердевое прясло, он оглянулся и не спеша поскакал в сторону леса. «Так вот кто подстриг наши яблоньки!» — догадались хозяева и решили наказать преступника.
Дедушка выбрал в ящике подходящий капкан, зарядил, установил на заячьей тропинке, привязал проволокой к изгороди и присыпал снегом.
— Попался! Попался! — громко закричал Димка, с рассветом поднявшийся проверять капкан.
— Дедуля! Иди скорее погляди! Он зарылся в снег и сидит, а одна задняя лапа в капкане!
— Что, попался косой разбойник! — проговорил дедушка, шутя. — Чего будем делать с ним? Выпустим или в город возьмем?
— Давай возьмем! — обрадовался Димка.
Заяц так был напуган и измучен капканом, что даже не сопротивлялся, когда Савелий, освободив лапу, усаживал его в корзину и сверху укрывал мешком.
В доме Димке захотелось еще разок взглянуть на пленника и погладить его пушистую шубку. Но боясь, что дедушка не разрешит, дождался, когда тот вышел по делам в коридор. Только он ослабил завязку и изготовился сунуть руку в корзину, как заяц пулей вылетел из нее, отбросив в сторону пустой мешок, уселся посреди комнаты и с любопытством начал осматриваться. Димка схватил корзинку и хотел накрыть беглеца, но не тут-то было.
Услышав возню и голос внука, на пороге появился дедушка. Вдвоем они загнали зайца под кровать и пытались достать его оттуда кочергой. В углу стояло трюмо. Не успели горе-охотники глазом моргнуть, как зеркало разлетелось вдребезги. Светлое пятно, манившее на волю, исчезло. От удара заяц отлетел за шкаф. Рядом с открытой дверцей топилась печка. Яркое белое пятно на темном фоне снова поманило пленника на свободу. Он, не раздумывая, прыгнул в светлый квадрат и оказался в жаровне. Мгновенно страшная сила вытолкнула его оттуда. Вместе с ним вылетели зола, угли и мелкие головешки… С громким тревожным писком, по-настоящему угорелый, он, как сатана, носился по комнате, отыскивая себе спасение от жгучей боли и от преследователей.
В комнате все было перевернуто вверх дном.
Настоящее «мамаево» побоище. Дым, чад, резкий запах паленой шерсти. Прибравшись у печки и прикрыв плотно дверку, дед и внук снова возобновили погоню. Сердитый голос деда и звонкий смех внука слышны были даже в проулке.
Вот заяц, загнанный в угол, неожиданно вывернулся и оказался на кровати, потом вдруг на столе и со всего маху кинулся в светлый проем окна. Осколки, словно искры, брызнули по всей комнате. Двух больших стекол как не бывало. А заяц плюхнулся в снег под окном, ловко перевернулся через голову, вскочил на ноги и в несколько прыжков достиг края огорода, а там и до леса недалеко.
Выбежали из дома «охотники» посмотреть, что он будет дальше делать, а его и след простыл. И тут Димка не выдержал, поднял высоко сжатую в кулак руку и громко пригрозил ему вслед:
— Ну, заяц! Погоди!
Дедушкина школа
Закончив учебу, Димка сразу же уехал к дедушке в деревню. Только приехав, он прямо с порога объявил новость:
— Дедуля! Я юннат.
— Ой! — притворно ойкнул Савелий. —Что же это такое обозначает? Уж не экстрасенс ли ты, а может, с МММ что связано?
— Ну что ты, дедуля! Это просто учительница нам так сказала. Даже в тетрадку нас записала. Каждому выделили по грядке в школьном огороде. Сказали: нужно вырастить урожай овощей и сдать в школьную столовую. За это получить оценку по труду и природоведению.
— А это интересно и очень хорошо — заключил дедушка. — Но вот вопрос: как же ты будешь ухаживать за грядкой, если приехал ко мне на все лето? Димка задумался. А потом радостно заявил:
— А я маме отдам эту грядку, она обработает.
— Она-то обработает, а оценку кто будет получать? Внук задумался.
— Не кручинься, Дима! Это дело поправимое. Землю я тебе выделю, семенами и рассадой обеспечу, твое дело будет — только вскопать, посадить, соблюсти уход и убрать. А оценку я сам тебе поставлю. Урожай увезешь и сдашь в школу, все тебе зачтется. Димка с радостью согласился.
Наутро провели осмотр инвентаря. Подремонтировали, подточили. После обеда начали размечать грядку, из расчета по одному квадратному метру на каждый вид продукта. Грядка получилась такая: один метр в ширину и пять в длину. Вбили колышки.
— На сегодня хватит, — сказал дедушка. —Завтра с утра начнем копку, ты свою грядку, я свою. Во сколько тебя разбудить?
— А ты встанешь когда?
— Я встаю с солнышком.
— Вот и я встану с солнышком.
Спать Димка любил на веранде. В комнате дед кашляет, ходит ночью куда-то, а там ему никто не мешает, спать можно до обеда. Утром Савелий встал, умылся, поставил погреть чайник и заглянул на веранду. А батюшки! Димки-то нет! Савелий в огород. А там Димка, надев старые дедовы рукавицы, старательно копал свою грядку. У деда защемило сердце.
— Милый! Да разве можно малолетке так рано начинать работу. Отдохни, пойдем чайку попьем! Димка вытер тыльной стороной ладони пот со лба и на полном серьезе заявил:
— Вот докопаю и приду.
— Да! — восхищенно произнес Савелий.— Моя школа!
Искренне радовались они каждому хорошему дождичку. По утрам вместе обходили весь огород и отмечали происшедшие за ночь изменения: когда появились первые соцветия на огурцах, сколько образовалось завязей на помидорах. Все самое интересное по числам записывали в тетрадку.
Приближалась осень. Птицы начали грудиться в стаи. Димка это заметил и тоже засобирался. Беспокоился только, успеют ли вырасти овощи к этому времени.
— Успеют! — успокаивал его дедушка. — А не успеют, я выкопаю попозже и привезу тебе.
Наступил день отъезда. За Димкой приехали родители. Накануне с его грядки они убрали весь урожай. Разложили по пакетам. Помидоры и огурчики выглядели вполне прилично, а вот морковке и свекле надо бы еще подрасти. Капуста останется до заморозков.
Утром, еще раз проверяя свои пакеты, Димка вдруг обнаружил, что морковка и свекла за ночь «подросли». Он недоуменно поглядел на дедушку.
— Ничего, ничего, Дима! Ведь учительница будет ставить оценку не только тебе, но и мне. Вот я и выкопал на своей грядке покрупнее-то. А оценку я тебе ставлю «хорошо».
Все согласились.
Мир не без добрых людей
К этому событию дед Савелий начал готовиться загодя. В конце мая к нему в деревню приезжает его внучок Димка. Не сам приезжает, конечно, привезут родители. Еще не дорос до самостоятельных поездок на такие расстояния. После первого класса будет третье лето проводить в компании с дедушкой. До школы не приезжал. Детские сады да летние дачи не позволяли.
Живет Савелий один. Жену похоронил три года тому назад. Самому скоро семьдесят. С каждым годом все труднее становится переносить одиночество, вот и готовился он к встрече, как к празднику: убрался в избе, натопил баню — попарить надо с дороги-то. Сварил обед: щи, каша, кисель. Накануне ходил в местную лавку, прикупил кое— какие угощения: несколько пакетиков сухого лимонада (холодной водой разбавить— хорошо будет), килограмм маленьких кренделюшек и, конечно, целую пачку тягучих квадратиков, «жевалки», как их называет Димка. Уж больно модно это стало у детишек. Ну и пусть тешится. Достал из сундука полевой бинокль, протер, полюбовался. Еще бы, подарок от командира! «За хорошую службу» — так выбито на жестяночке. Теперь это подарок внуку. Поправил лестницу на сеновал, где у окошка было приколочено старое колесо от тачки, которое как штурвал крутил Димка каждый раз, когда смотрел в бинокль через окно, представляя себя капитаном. Подавал команды, сам их и выполнял.
Встреча состоялась теплая и радостная. Теперь есть с кем Савелию перемолвиться, рассказать что-нибудь, да и самому очень интересно послушать: как внук учился, чем занимался вечерами, кто и какие у него друзья.
Целыми днями они копались: то в огороде, то в саду. Ходили в лес за первой земляникой. Слушали соловьев и кукушку. Загадывали, сколько лет осталось жить. Пытались на удочку поймать рыбешку в своей маленькой речке. Время летело незаметно. На душе у Савелия было светло и спокойно. А как необходимо в эти годы душевное равновесие! За свою долгую, нелегкую жизнь наволновался Савелий до душевной крайности. Хоть немного пожить без суеты. Ведь скоро и умирать надо будет.
В этот злополучный день ничто не предвещало беды. С утра они еще раз осмотрели огород, накормили кур, позавтракали и собрались сходить в ближайший перелесок, посмотреть первых сыроежек да подобрать пару черенков для граблей и лопат. Пока одевались, Савелий плеснул в кастрюлю воды, поставил на плиту. Согреется, мол, вымоем посуду и пойдем. И как так случилось, что в последнюю минуту он забыл о кастрюле на газовой горелке, закрыл дом, и пошли старый да малый в сторону леса.
На шее у Димки красовался бинокль, который он постоянно прикладывал к глазам и пытался поближе рассмотреть все, что попадало в поле его зрения. Привлекало его внимание голубое безоблачное небо, ярко-зеленая, мокрая от росы трава, пение птиц и ручеек, встретившийся на пути. Переходя через ручеек, Димка присел и ладошкой начал черпать воду, чтобы попить.
— Дедуля! А ты хотел взять бутылку воды в лес и ржаного хлеба с солью, взял ли? Черная молния пронзила разум Савелия. Он вспомнил забытую бутылку на столе и кастрюлю с водой на плите.
— Дима! Ты не видел? Я выключал газ или нет?
— Нет не видел! Ноги у Савелия подкосились. Помутилось сознание. Все тело прострелило судорогой. Он уже ясно видел как от раскаленной посудины загорается деревянная крашеная перегородка. Вот уже дым валит из — под крыши. Пламя объяло весь дом и перекинулось на соседние. Сбежавшиеся люди сгрудились у единственного колодца и ничего с огнем поделать не могут. Пожарная машина подъехала к широкой канаве, окружающей улицу, но проехать нельзя, мостик не позволяет. Весь этот ужас представился в сознании за одну секунду.
— Дима! Дима! Пожар дома. Я газ оставил включенным! Посмотри в бинокль, не видно ли дыма над нашей улицей?
— Нет, ничего не видно!
— Тогда бежим!.
Димка стрелой вырвался вперед.
— Дима! Дима! Возьми вот ключ! Но вспомнив, что замок открывается туго, он безнадежно махнул рукой и затрусил за внуком. Задохнувшись окончательно, он склонился у дороги на траву. Внук, увидев деда на обочине, вернулся. Детское сердечко почувствовало смертельную опасность и готово было разорваться на части. То ли с дедушкой остаться, то ли бежать к дому.
Сейчас Савелий уже не помнит, как они добрались до крыльца, как открывали замок. Помнит только, что они вбежали на кухню и увидели раскаленную до малинового цвета посудину и дымящуюся перегородку. Помнит еще облако пара поднявшегося до потолка от брошенной в ведро с водой кастрюли. Пройдя в переднюю комнату, он, как был во всем, так и рухнул на кровать. Дикий нечеловеческий стон вырвался из его груди. Руки вцепились в собственные волосы и застыли. Картуз покатился по полу. Он потерял сознание.
Димка какое-то время еще стоял в растерянности, но потом выскочил на улицу и пустился что есть мочи к бабе Уляше, что жила напротив. Она приходила к ним в дом и, бывало, угощала его козьим молочком.
Ульяна переполошилась, увидев зареванного, запыхавшегося Димку, а услышав плохие вести, крикнула через проулок:
— Дарья! С Савелием плохо, наверное, опять сердце, беги к Настасье, у нее какие-то таблетки от Петра остались! А сама, прихватив из-за божницы склянку со святой водой, заторопилась на помощь.
Савелий лежал вверх лицом с закрытыми глазами и раскинутыми в стороны руками. Борода и усы топорщились, как пучки нечесаной кудели. Баба Уляша склонилась над ним: дышит ли? Расстегнула пуговки у рубашки. Потом перекрестила и, набрав в рот святой воды, трижды сбрызнула лицо Савелию.
Появились Дарья с Настасьей. Одна принесла таблетки, другая настой бессмертника. Сняли сапоги, телогрейку, пиджак. Освободили ремень у брюк. Ульяна растирала руками грудь и читала молитву «Да воскреснет Бог». Савелий открыл глаза:
— Внучек! Родной! Где ты? Беги на трассу, может, уедешь как-нибудь. Скажи матери, что мне плохо, да пусть зайдут к соседу по квартире.
Сосед, Николай Иванович, врач-терапевт, как и Савелий, давно на пенсии. Но свой походный баульчик он иногда открывал, помогал своим родным и близким знакомым. Они подружились, когда Савелий две недели жил в городе. Уж больно морозы сильные стояли в ту зиму, холодно в деревне-то. Потом приезжал к Савелию в деревню и с удовольствием проводил два лета подряд.
До трассы две версты Димка бежал без передышки. Еще не приходилось ему одному, без взрослых, пускаться в такие дальние поездки. Но долг внука и любовь к дедушке побороли страх.
На трассе какой-то владелец частной машины, увидев плачущего и неистово машущего руками ребенка, остановился:
— Что случилось, малец?
— Дедуля умирает, за мамой послал.
— Ну садись! Живешь-то где? Знаешь ли?
— Знаю!
Добрый, милосердный человек оказался, дай, Господи, ему здоровья. Подвез он Димку к самому подъезду, хотя и не по пути. Пожелал деду здоровья. Вот все бы мы были такими отзывчивыми.
А Савелию между тем стало полегче. Он приподнялся на кровати, увидел хлопотавших около него соседок:
— Вы уж простите меня, старого, задал я вам хлопот, оторвал вас от своих дел. Бог вас спасет, мои добрые подружки, должен я вам буду!
— Ну что ты, что ты! Чего ты нам должен? Это мы тебе должны кланяться в ноги. Вон у Ульяны крышу чинил, у Настасьи новую щеколду на ворота приколотил, у меня городьбу правил! — перечисляла Дарья. — Низкий поклон тебе за это!
Перед закатом под окном остановился старенький «Москвич». Это Николай Иванович со своим чемоданчиком прибыл, захватив по пути родных.
В избе все было прибрано и вымыто. Савелий лежал в постели с повязанной полотенцем головой. Баба Уляша управлялась по хозяйству. Хлопотала и помогала доктору чем могла. После укола и таблеток Савелий почувствовал облегчение и хотел приподняться, но правая сторона не слушалась, и его опять уложили, запретив двигаться.
Наутро дочь с мужем ушли на трассу, надо на работу. А долечивать деда остались его друзья: баба Уляша с подругами, старый доктор и внук Димка. И только благодаря их неустанной заботе смерть отступила. Через несколько дней он уже мог сидеть. На сердце у него становилось спокойнее. Слезы благодарности этим людям он скрыть не мог.
Вот уж поистине, мир не без добрых людей!


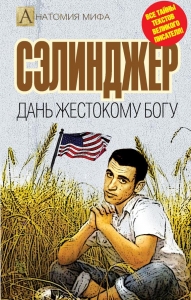
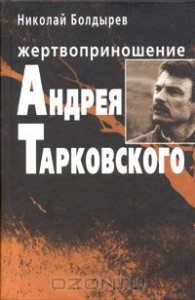





Комментарии к книге «О времени и о себе. Рассказы.», Алексей Александрович Нелюбин
Всего 0 комментариев