ПРЕДИСЛОВИЕ
Странными и неожиданными путями выходишь на свою дорогу. Как случилось, что Льюис Кэрролл занял столь важное место в моей жизни? В детстве мне не читали «Алису в Стране чудес» Кэрролла, я не рассматривала картинки Джона Тенниела — у нас в доме и книжки такой не было. Не слышала я о ней и в школьные годы. В университете, где я училась, а потом преподавала на английском отделении филологического факультета, никто ни разу не сказал ни слова о Кэрролле, хотя, казалось бы, вот на каких текстах надо учиться — и учить — английскому языку! Впрочем, откуда было взять эти тексты? Наши преподаватели не выезжали за «железный занавес», кэрролловских текстов у нас не было — ни оригинала, ни сколько-нибудь близкого к нему перевода. Сейчас я даже не могу вспомнить, когда сказки про Алису попали мне в руки. Отчетливо помню лишь одно: в 1961 году в Москве открыли Высшие педагогические курсы для вузовских преподавателей английского языка, куда приезжали на два года слушатели со всего Союза, и меня попросили читать им лекции по английской литературе, а потом и по стилистике английского языка.
Оба курса читались по-английски. Курс стилистики был весьма подробный и сложный, и, чтобы слушатели мои не заснули во время лекций, я решила оживить сухую теорию, выбирая примеры из разных веселых и увлекательных текстов английских авторов. Тогда-то я и вспомнила о Кэрролле — значит, все-таки прочитала его по-английски, верно, взяла в Библиотеке иностранной литературы. Пожалуй, тогда я впервые поняла, какой это блестящий писатель! Я читала своим слушателям отрывки из его сказок — и лица оживлялись, раздавался смех, в глазах появлялся блеск. Курсанты знали, что я занимаюсь переводами (к тому времени уже вышли рассказы Г. К. Честертона и кое-какие другие работы), и то и дело спрашивали: «А как это перевести?» — «Не знаю, — отвечала я, — тут главное вот что передать…» Иногда я предлагала несколько вариантов. Вскоре я поняла, что должна быть готова к подобным вопросам, и стала карандашом записывать на полях своего экземпляра «Алисы» возможные варианты перевода. Это была увлекательная игра! Так потихоньку, исподволь, сама того не подозревая, я начала «погружаться в текст». В кэрролловский текст.
Прошло лет пять, и некий чиновник из «Международной книги»[1], занимавшийся Болгарией, увидел в списке публикаций болгарского издательства «София-пресс» книгу «Алиса в Стране чудес и в Зазеркалье». В голове у него что-то звякнуло, что-то смутно вспомнилось, и он, недолго думая, заказал для советских читателей перевод двух книг об Алисе — с болгарского! Директор «Софии-пресс» с дивным именем Ангел Стоянов отправил в «Межкнигу» письмо, в котором говорилось, что лучше, пожалуй, переводить эти книги с английского языка… Вежливый человек! Прошло полгода — и чиновник повторил заказ. Стоянов понял, что пришла пора взять дело в свои руки: надо искать переводчика с английского на русский! В Болгарии такого переводчика не было. Приехав по делам в Москву, Ангел поведал об этой странной истории русскому коллеге-редактору, который сразу же откликнулся: «Я знаю для тебя переводчицу! Она уже давно работает над текстом». И Ангел начал действовать. Со мной заключили договор на обе сказки об Алисе и предисловие, и тут уж я принялась «погружаться» всерьез. Набрала множество книг, не вылезала из библиотек, прочитывала по главе на ночь, положив на ночной столик блокнот с карандашом…
Ранней весной 1967 года книга вышла. Ее продавали в магазине «Дружба» на улице Горького (теперешней Тверской). Кто-то из друзей позвонил мне: «Ты что дома сидишь?! Твою книгу в „Дружбе“ продают!» Был солнечный день, в воздухе кружились редкие хлопья внезапно пошедшего снега, кружились и таяли, не долетая до земли, а перед дверью магазина стояла веселая говорливая очередь — она огибала громоздкое здание «Дружбы», заворачивала за угол и тянулась дальше по переулку.
Книга имела успех. Первый тираж быстро разошелся, а был он немалым — 100 тысяч экземпляров! Потом вышел второй тираж — и опять 100 тысяч! Когда по приглашению издателей я приехала в Софию, меня очень тепло приняли: поили великолепным кофе, гадали на кофейной гуще, расспрашивали о Москве, рассказывали о бабе Ванге… Только никак не могли понять: почему я не говорю по-болгарски? Я старалась всё объяснить: «Понимаете, один чиновник из „Межкниги“…» Они качали головами (в Болгарии это знак согласия), а потом всё же спрашивали: «Но эту сказку про девочку Алису вы ведь перевели с болгарского на русский?.. Нет? A-а, значит, с русского на болгарский?» А когда я возвращалась в Москву, случайный попутчик горячо советовал мне купить для детей книжку «Алиса в Стране чудес»: «Она недавно вышла. Рисунки хорошие, переплет в белом супере, и на нем девочка в короне… А переводчик какая-то Демурова… Болгарка, а русский так хорошо знает!»
Словом, Кэрролл прочно вошел в мою жизнь. Оглядываясь на эти теперь уже давние годы, я понимаю, что во многом они прошли под знаком Льюиса Кэрролла. Конечно, были и другие авторы, которых я любила и которыми занималась, — английские, американские, индийские, даже новозеландские… Назову хотя бы некоторые из этих замечательных имен: Джейн Остин, Томас Гарди, Чарлз Диккенс, Гилберт Кит Честертон, Грэм Грин, Айрис Мёрдок, Разипурам Кришнасвами Нарайан, Джеймс Мэтью Барри, Беатриса Поттер, Элеонора Фарджон, Алан Гарнер, Маргарет Махи… О некоторых я писала, других переводила (зачастую сопровождая перевод предисловием). И всё же Кэрролл занимает в моей жизни особое место. Я не раз размышляла о том, почему так случилось. Как происходит, думала я, что ты оказываешься связан на годы или даже на всю жизнь с той или иной темой, с тем или иным автором? Выбираешь ли ты его сознательно, по размышлении, или это происходит постепенно, подспудно завладевая тобой? Приводит ли тебя именно к этому автору цепь случайных, как кажется, совпадений? Словом, ты его выбираешь — или он тебя? Эти мысли нередко приходили мне в голову при каждом новом, неожиданном повороте «кэрролловской линии» в моей жизни.
Биография — особый жанр. Она растет постепенно. Словно лоскутное одеяло, ее собирают из разноцветных кусков ткани, больших и поменьше, а то и вовсе маленьких, ярких, броских, бьющих в глаза, и приглушенных, скромных, почти незаметных. Это различные документы, дневники и письма, воспоминания родных, друзей и знакомых, статьи на отдельные темы, биографии, написанные с разных позиций разными авторами, и, конечно, сами произведения… Биограф складывает и сшивает свое одеяло, пишет свою повесть, кропотливо подбирая лоскутки по размеру и цвету. Это понимаешь особенно ясно, когда думаешь о таком непростом, противоречивом и многообразном человеке, каким был Льюис Кэрролл. Выбираешь свой ракурс, фиксируя внимание на том, что тебе кажется важным, определяющим. И, конечно, принимаешь во внимание свои возможности. Скажем, Кэрролл был математиком и логиком, и эта сторона его жизни, разумеется, требует особого внимания. Но для меня это невозможно: я не математик и не логик. Читатель найдет в тексте лишь краткие указания на эту сторону жизни Кэрролла.
В приложение войдут материалы, не укладывающиеся в биографию, но интересные для читателей и важные для понимания незаурядной личности Кэрролла.
В заключение мне остается лишь выразить надежду на то, что читателям будет интересно познакомиться с этой книгой.
В добрый путь!
Сердечно благодарю тех, кто помог мне в работе над этой книгой: Алису Аллен (Лидделл), Эдварда Вейклинга, Селвина Гудэйкера, Энн Кларк, Марка Ричардса, Маргарет Тай (Великобритания); М. М. Демурова, С. А. Малкина, Н. Ю. Семенову (Москва); Э. А. Кузнецову, Л. Д. Шакулову (Нижний Новгород); Клэр и Августа А. Имхольца Младшего, Мортона Н. Коэна, Александра Д. Уэйнрайта (США).
Глава первая О ПРЕДКАХ И О РОДИТЕЛЯХ
Чарлз Латвидж (Латуидж)[2] Доджсон, будущий знаменитый писатель Льюис Кэрролл, происходил из семьи, которая, по родовому преданию, обосновалась когда-то на севере Англии. До недавнего времени мы ничего не знали о дальних предках писателя: Стюарт Доджсон Коллингвуд (Collingwood), племянник и первый биограф Кэрролла, рассказывает лишь о прадеде, деде и отце писателя. Коллингвуд, сын сестры Кэрролла Мэри и крестник писателя, хорошо знал и любил его. Книга писалась сразу же после смерти Кэрролла; в это время в руках Коллингвуда были семейные бумаги, дневники, письма и черновики дяди, его личные вещи и книги, которые были потом разрознены, частью уничтожены, а частью пропали. Биография, вышедшая в конце 1898 года, но датированная 1899-м, и по сей день остается важным источником для изучения жизни и творчества Кэрролла[3].
Лишь недавно были опубликованы результаты изысканий Кита Райта (Keath Wright), внимательно изучившего церковные и светские архивы, а также материалы, предоставленные ему семейством Доджсон, университетами, библиотеками и коллекционерами, что позволяет заглянуть глубже в родословную писателя[4]. Исследователь обнаружил сведения о различных Доджсонах в приходских архивах небольшого городка Гисборн в округе Крейвен (графство Йоркшир). Несмотря на многочисленные трудности (вызванные, в частности, неустойчивым написанием фамилии, которая встречалась в архивах и как Dodgson, и как Doghson, и как Dodson, что было, вообще говоря, характерно для того времени), Райту удалось проследить родословную писателя, восходящую к концу XV века. Он установил, что многие из Доджсонов с начала 1500-х годов и до самой середины XIX столетия жили в самом Гисбурне или в деревнях поблизости и посещали приходскую церковь Святой Марии.
В XVI–XVII столетиях Доджсоны занимались землепашеством и животноводством; арендовали землю, а с годами стали и прикупать ее, постепенно то расширяя свои владения, то теряя их. До наших дней в округе Крейвен, в полутора милях[5] от Гисборна, сохранилась ферма Пейа, которая с начала XVII века принадлежала Доджсонам, разводившим овец, ибо места здесь холмистые и не пригодны к земледелию. Двухэтажный каменный дом, выстроенный Робертом Доджсоном (1652–1721) в 1692 году, до сих пор стоит без изменений, лишь крыша теперь крыта шифером. До конца XIX века на нем сохранялась надпись «1692». Ручей, протекающий по оврагу в миле от фермы, по сей день значится на геодезических картах как «ручей Доджсонов».
У Роберта Доджсона была большая семья. Его младший сын Кристофер (1696–1750), будущий прапрадед Кэрролла, был первым из Доджсонов, получившим образование. К тому времени в сельских местностях уже появились школы, и родители отправили Кристофера в школу, расположенную неподалеку от Грассингтона, где он проучился два года. За это время Кристофер проявил незаурядные способности, которые были отмечены премией. Двухэтажное каменное здание, в котором он учился, сохранилось до наших дней: в нем и сейчас расположена школа — вернее, часть современного школьного комплекса. Дома в Англии строятся по большей части из местного кирпича или камня и сохраняются лучше, чем деревянные.
По окончании школы Кристофер отправился в Кембридж. 19 мая 1716 года он был принят в колледж Святого Иоанна (St. John’s) в качестве сайзера (sizar) — так называли в те годы студента, получавшего образование в колледже в обмен за работу и услуги. В 1720 году он окончил университет со званием бакалавра и был посвящен в Йорке в сан дьякона, а в июне 1721-го рукоположен в сан священника епископом Йоркским.
Старший сын Кристофера Чарлз, будущий прадед писателя и весьма колоритная фигура, родился в 1722 году, учился в школе в Шербурне неподалеку от Йорка и 3 июня 1742 года был принят в колледж Святого Иоанна, в котором учился его отец. Судя по тому, что Чарлз тоже был сайзером, доходы его семьи были весьма скромны. Вскоре после поступления Чарлза в колледж скончалась его мать. (Как ни странно, то же несчастье и в такое же время, вслед за поступлением в колледж, спустя столетие выпадет на долю его знаменитого потомка.) Последние университетские экзамены Чарлз Доджсон сдавал в 1747 году, после чего получил степень бакалавра. В 1758-м ему была присуждена степень магистра.
После смерти отца важную роль в жизни Чарлза Доджсона сыграл местный помещик Хью Смитсон, знавший старшего Доджсона. Он принял участие в жизни семьи и подружился с Чарлзом. Благодаря неожиданным поворотам судьбы и законам английского майората[6] Хью Смитсон вскоре стал графом, а затем и герцогом Нортумберлендским, поднявшись на вершины богатства и знатности. В 1755 году Чарлз получил от своего патрона приход в деревне Кёрби Уиск в Йоркшире, где прослужил до 1861-го. Эта деревня находится всего в 19 милях от Крофта, куда почти столетие спустя перебралось семейство Кэрролла. Когда впоследствии он регулярно ездил из Крофта в Рипон, навещая отца, служившего также и в Рипонском соборе, его путь лежал мимо Кёрби Уиск. Однако он и не подозревал о том, что здесь когда-то жил его прадед!
В 1761 году Чарлз Доджсон был переведен из Кёрби Уиск в Элсдон, который находился в Нортумберлендском приходе, также принадлежавшем герцогу Нортумберлендскому, то есть Хью Смитсону, и служил там до 1765-го. Родовое поместье Хью Смитсона находилось неподалеку от Элсдона, и Чарлз стал наставником его детей. Жизнь в Элсдоне, расположенном вблизи от шотландской границы, была сопряжена с опасностями. На одной из фотографий, опубликованной Райтом, мы видим сохранившуюся по сей день Элсдонскую башню, в которой поселился Чарлз: это мощное каменное сооружение с зубчатой крышей и тремя маленькими окошками-бойницами. Райт поясняет, что большое окно с переплетами было пробито в основания башни значительно позже, когда прекратились пограничные набеги из Шотландии. Чарлзу, выросшему в более мягком климате Йоркшира, было трудно привыкнуть к суровым северным ветрам и ледяным дождям. Коллингвуд справедливо замечает, что Элсдон вряд ли можно было назвать синекурой.
Сохранились письма Чарлза Доджсона к Смитсонам, которые весьма живо рисуют его жизнь в Элсдоне. Вот некоторые фрагменты из тех, которые приводит Коллингвуд:
«Я весьма признателен вам за обещание писать мне, но не трудитесь слать письма сюда, ибо получать их невозможно: за ними нужно отправлять человека за 16 миль.
Невозможно описать странность моего положения в настоящее время, которое, правда, не лишено некоторых приятных обстоятельств.
По утрам мой парик расчесывает деревенский сапожник (мастер изготавливать деревянные сабо), для чего в качестве болванки он использует голову викария, в то время как его супруга пудрит парик с помощью сита для просеивания муки.
Передней, временно используемой как жилище ректора, служит замку конюшня с низким потолком; над ней располагается кухня с двумя крошечными кроватями, соединенными друг с другом. Викарий с женой спят в одной из них, а служанка Марджери в другой. Я сплю в небольшой гостиной, устраиваясь меж двух кроватей, чтобы не замерзнуть до смерти, ибо дом у нас открыт ветрам, которые свободно гуляют по нему, задувая мне прямо в постель. <…> Если бы я не знал из самого надежного источника, что мир погибнет от огня, я бы решил, что близится наш конец, только причиной тому будет вовсе не огонь. <…>
Одни говорят, что Элсдон был когда-то базарным селом, другие — что это был настоящий город; однако приходские архивы пропали столетия назад, так что невозможно установить, был ли он тем или другим и как долго.
Кое-где видны следы былого величия, что склоняет любителей древности к мысли о том, будто Элсдон утратил свои торговые связи и городскую хартию еще при Великом потопе»[7].
Как видим, письмо написано в весьма вольном ироническом стиле, который был столь характерен для XVIII века. Нетрудно заметить, что прадед писателя обладал незаурядным чувством юмора, помогавшим ему видеть нелепости жизни и находить «приятности» в трудных ситуациях.
Спустя несколько лет Чарлз был уже епископом Элфинским, его епархия находилась в живописной, однако, по словам Коллингвуда, «далекой от цивилизации» западной части Ирландии.
У епископа было четверо детей. Его старшая дочь Элизабет Энн вышла замуж за Чарлза Латвиджа из Холбрука в Камберленде. Этот брак положил начало материнской линии Кэрролла. Епископ умер в Дублине и похоронен в одной из двух церквей Святой Бригитты, но в какой именно, неизвестно, так как церковные архивы погибли во время пожара.
Старший сын епископа Чарлз, будущий дед Кэрролла, пошел в армию и дослужился до чина капитана в драгунском полку. (Отметим, что с этого времени в семействе Доджсонов имя Чарлз давали старшим сыновьям.) В 1799 году он женился на Люси Хьюм, а в следующем году у них родился сын, которого также назвали Чарлзом, — ему было суждено стать отцом Льюиса Кэрролла.
Капитан Доджсон погиб в мятежной Ирландии в декабре 1803 года. Коллингвуд так рассказывает об этом. Один из предводителей ирландских «бунтовщиков» дал знать, что готов сдаться англичанам, если капитан Доджсон под покровом ночи лично явится за ним. Капитан был мужественным человеком; он понимал всю опасность сделанного ему предложения, но принял вызов — отправился на встречу, предварительно написав жене прощальное письмо. В ночь на 16 декабря в сопровождении нескольких драгунов он подъехал к назначенному месту — ветхой хижине в миле от Филипстауна в графстве Кингс. Как было условлено, он оставил своих людей в нескольких сотнях ярдов от хижины и направился к ней один. Из окна хижины раздался выстрел, и Доджсон упал. Драгуны бросились к своему капитану — он был мертв. Была ли это случайность, ошибка или коварный замысел, осталось неизвестным. В семье сохранилось предание о том, что в роковую ночь жена капитана, находившаяся вдали от места трагедии, услышала два выстрела и подняла слуг. Слуги обыскали окрестности, однако вокруг всё было тихо. Позже пришло известие, что муж ее был убит в этот час.
Кит Райт опубликовал завещание капитана, судя по всему, написанное непосредственно перед тем, как он отправился на роковую встречу. Оно было утверждено в Лондоне 9 февраля 1804 года и дает яркое представление о «Чарлзе Доджсоне, эсквайре» (так он подписался под ним):
«Филипстаун, 15 <декабря>, 1803.
Если меня постигнет несчастье, нередкое и вполне вероятное в обстоятельствах настоящего времени, равно как и во все времена человеческой жизни, оставляю эти страницы в качестве моего последнего завещания. Душу мою предаю в руки моего милосердного Создателя и смиренно прошу Его простить мне мои прегрешения и уповаю, что… (неразборчиво. — Н. Д.) милостью Божьею я вкушу… (пропуск в оригинале. — Н. Д.) от всего сердца прошу жену мою Люси Доджсон не оплакивать безмерно мою смерть, но думать о наших дорогих детях как о драгоценных залогах любви, связующих нас, дарить им, как прежде, свою материнскую любовь и верить, что это наилучший способ хранить память обо мне. Если она вступит в новый брак, от чего я отнюдь не желаю ее удерживать, коли найдется человек, достойный ее (более горячо преданного ей сердца, чем то, что диктует эти строки, ей никогда не встретить), я прошу ее думать о будущем наших дорогих детей и закрепить за ними то скромное наследие, которое я ей и им оставляю, чтобы им не грозила опасность пострадать от капризов, коим порой поддаются даже лучшие из людей, что нередко наблюдают в поведении мужчины по отношению к детям своей жены от первого брака. По оплате признанных мной долгов я оставляю всю свою собственность в пожизненное пользование моей возлюбленной жене, а впоследствии — моим дорогим детям и от души рекомендую ей во всех делах полагаться на мнение ее достойного и доброго отца, который будет ей преданным и надежным Советником.
Я молю ее простить мне те недостатки, которые она, возможно, видела в моем отношении к ней, и принять мою самую горячую благодарность за ее неизменную любовь, ее преданность жены, матери моих детей и друга, — ее безупречность во всех этих качествах составляла счастье моей жизни с того самого дня, когда был освящен наш брак».
Капитан обращается к своим детям — старший из них, Чарлз (отец будущего писателя), появился на свет в 1800 году, за три года до трагедии; рождения второго ждали со дня на день, — просит простить ему скромность тех средств, которые он им оставляет, поручает их заботам мать и шлет им свое благословение. Он благодарит поименно своих родных и родственников жены и заключает: «Я прощаю всех своих врагов, коли таковые найдутся, и если мне суждено пасть от руки какого-то бедняги, обманутого или введенного в заблуждение, что не редкость в этой стране, я прощаю ему мою смерть и молю о его прощении Всевышнего, под защиту которого отдаю всех моих друзей и родных, моих детей и ту, кого я благословлю и о ком вознесу молитву в свой последний час, мою возлюбленную и драгоценную супругу, смиренно уповая на то, что по избавлении от бренного тела мы встретимся в бесконечном блаженстве вечной жизни, даруемой нам Иисусом Христом, нашим благословенным Спасителем и Искупителем, который умер за нас и чьей милостью мы спасаемся. Молю моего глубокоуважаемого друга мистера Хьюма позаботиться о том, чтобы всё, о чем я пишу здесь касательно моего достояния, было исполнено с наименьшим беспокойством для моей дорогой супруги».
Через две недели после гибели капитана его вдова родила второго ребенка, которому дали имя Хассард.
Старший сын капитана Доджсона, Чарлз, учился в Вестминстерской школе, а по ее окончании — в Оксфорде. Он проводил дома не так много времени, однако семейная обстановка, очевидно, способствовала тому, что он решил последовать примеру деда, посвятив себя служению церкви.
В 1825 году он окончил курс в колледже Христовой церкви — Крайст Чёрч (Christ Church) Оксфордского университета со степенью магистра и двойным отличием первой степени (по математике и классическим языкам) — случай нечастый даже для этого колледжа, пользовавшегося прекрасной репутацией в Оксфорде — и получил предложение стать пожизненным членом колледжа, который там назывался Student.
Во избежание путаницы поясним некоторые английские термины того времени. Заметим, что студенты в то время назывались undergraduates, а не students. В английском языке слово student имеет, помимо известного всем в наши дни значения, также другие, среди них такие, как исследователь, ученый, научный работник, то есть всякий, кто занимается изучением, исследованием какой-то дисциплины, явления или предмета. Таким образом, мистеру Доджсону было предложено пожизненное место в колледже, обеспеченное скромным содержанием, которое присуждалось особо отличившимся выпускникам. В других колледжах Оксфорда Students назывались Fellows, но в Крайст Чёрч всё было наособицу: колледж упорно держался своих древних традиций, титулов и наименований. От остальных оксфордских колледжей Крайст Чёрч издавна отличался тем, что сохранил свое изначальное положение. Он был основан в 1525 году при кафедральном соборе Оксфорда. В Крайст Чёрч оставался в силе старинный статут, согласно которому все дела в колледже решались ректором, одновременно являвшимся и настоятелем собора (о чем свидетельствовал и его титул Dean[8]), совместно с соборным капитулом, то есть канониками, старшими священниками кафедрального собора. Члены колледжа в этих решениях участия не принимали, каковы бы ни были их научные и прочие заслуги. В статуте было еще одно положение, сохранившееся с давних времен: разрешая профессорам, каноникам и ректору вступать в брак, от пожизненных членов колледжа он требовал целибата. Заметим, что этот древний статут с некоторыми изменениями действовал в Крайст Чёрч вплоть до 1880-х годов.
Чарлз Доджсон-старший недолго оставался членом колледжа. В 1827 году он принял решение жениться на Франсис Джейн Латвидж, пожертвовав тем самым членством в Крайст Чёрч. Коллеги и друзья провожали его с грустью — он был одним из самых блестящих членов колледжа. Брак был заключен 5 апреля того же года. Биограф Кэрролла Энн Кларк считает, что таким образом Доджсон отказался от блестящей карьеры литератора. Он обладал несомненным талантом и изяществом стиля, о чем свидетельствовали его превосходные переводы древних авторов. Сделав выбор, Доджсон-старший полностью посвятил себя церкви, своим прихожанам и семье.
О предках Кэрролла по материнской линии до недавнего времени мы почти ничего не знали. Было лишь известно, что его мать Франсис Джейн Латвидж (1804–1851) приходилась его отцу Чарлзу Доджсону двоюродной сестрой.
От семейного биографа Коллингвуда мы узнаём, что отец Фанни (так ее называли в семье) майор Чарлз Латвидж, служивший в Первом Королевском полку территориальной (нерегулярной резервной) армии, жил в Халле (Гулле), где занимал пост таможенного инспектора. Более ничего о родственниках Фанни Коллингвуд не сообщает; молчат о них и другие биографы Кэрролла. Однако архивные изыскания Кита Райта позволили прояснить и эту линию семейной хроники писателя.
Первые сведения о семействе Латвидж относятся к концу XVII века. Братья Латвиджи появились в морском порту Уайтхейвен, расположенном на западном берегу Северной Англии, в 1690 году и занялись торговлей. Город развивался, вместе с ним упрочилось и положение Латвиджей. Если во время их появления в Уайтхейвене там было зарегистрировано всего несколько кораблей, к 1705 году число их выросло до семидесяти. Двое Латвиджей, братья Уолтер и Томас, стали судовладельцами и торговали табаком и ромом, которые их суда доставляли из американских колоний.
Современные историки стараются, насколько возможно, обходить молчанием позорную страницу в истории Уайтхейвена: в начале XVIII столетия этот портовый город занимался работорговлей, процветавшей в те годы. Городские архивы свидетельствуют, что в ней принимали участие и братья Латвиджи. Они поставляли из Африки рабов на табачные плантации в Виргинии, участвуя в прибылях. Впрочем, торговля рабами была делом рискованным — штормы трепали суда, на них нападали пираты, рабы умирали в пути. По прошествии времени братья Латвиджи ограничили свою торговлю виргинским табаком и ромом.
Уолтер Латвидж умер в 1755 году и похоронен в Уайтхейвене; о смерти его брата нет достоверных сведений. Зато известно, что сын Томаса Чарлз купил усадьбу Холбрук-Холл и другие поместья, став тем самым сельским джентльменом. Его брат Скеффингтон дослужился до адмиральского чина и отправился в плавание в Арктику. Гардемарином у него был прославившийся впоследствии Горацио Нельсон. Чарлз Латвидж, дед Кэрролла по материнской линии, следуя примеру родных, занял пост таможенного инспектора в Халле (графство Йоркшир).
Как видим, и Доджсоны, и Латвиджи жили на севере Англии.
Насколько хорошо Кэрролл был осведомлен о своих предках? О деде и прадеде с отцовской стороны он, должно быть, знал немало. О них в своей книге рассказывает Коллингвуд; очевидно, эти сведения были известны всей семье.
Мы знаем, что в 1860 году семья Кэрролла познакомилась с дальним родственником, восьмидесятилетним Томасом Доджсоном, также ведшим свое происхождение от Роберта Доджсона (род. 1605). Томас, у которого было девять человек детей, давно уже овдовел и жил в Торп Грейдж по соседству. Преподобный Чарлз Доджсон и старый Томас нанесли друг другу визиты, причем последний неодобрительно отнесся к тому, что жена и дочери викария водят дружбу с местными жителями более низкого происхождения, чем, по его мнению, роняют свое достоинство. Родственные отношения с Томасом Доджсоном поддерживались до самой кончины преподобного Чарлза Доджсона, хотя так и не стали близкими. В 1868 году Скеффингтон, брат Льюиса Кэрролла, написал Томасу о смерти отца.
О своих йоркширских предках с отцовской стороны Кэрролл, судя по всему, ничего не знал. О материнских родичах из Камберленда он, очевидно, был наслышан, ибо в 1870-х годах бывал в Холбрук-Холле. Однако знал ли он о том, что его предки занимались работорговлей, неизвестно. В его библиотеке, распроданной после его смерти, были книги о работорговле, но Кэрролл всегда интересовался историей и мог приобрести их из этих соображений.
Ко всему сказанному можно добавить одну любопытную подробность. Уже в наши дни известный английский критик и писатель Роджер Лэнселин Грин обнаружил, что Кэрролл по материнской линии находился в дальнем родстве с «Эдвином, графом Мерсии, и Моркаром, графом Нортумбрии», упоминаемыми в главе III «Алисы в Стране чудес». Чтобы «высушить» промокших в «море слез» странных существ, Мышь читает им отрывок из «Истории Англии», который, как установил Грин, был взят из вышедшего в 1862 году учебника Хэвилленда Чемпелла; по нему учили историю сестры Лидделл. Знал ли об этом родстве Кэрролл, включивший отрывок в свою сказку? Грин полагает, что вряд ли. Вопрос о том, было ли это простым совпадением, или отрывок, в котором упоминаются дальние родственники Кэрролла, был выбран им не случайно, так и остается открытым.
Чарлз Латвидж женился на своей кузине Элизабет Энн Доджсон, и в 1803 году у них родился третий ребенок — дочь Франсис Джейн, впоследствии ставшая матерью Чарлза Латвиджа Доджсона, известного под именем Льюис Кэрролл.
Глава вторая ДАРСБЕРИ. ЧЕШИРСКАЯ ИДИЛЛИЯ
Потеряв с женитьбой место в колледже Крайст Чёрч, Чарлз Доджсон-старший не остался вовсе без средств к существованию. В распоряжении настоятеля и капитула собора находилось 90 церковных приходов. После некоторых раздумий и проволочек Доджсону было найдено место викария в церкви Всех Святых неподалеку от деревни Дарсбери (полное название Ньютон-у-Дарсбери, графство Чешир) в миле от пасторского дома. Место это было более чем скромным, но молодому священнику не приходилось выбирать. Уповая на свои знания и способности, он принял назначение. В то время в Дарсбери и окрестных фермах, разбросанных по округе, обитали всего 143 человека, что было недостаточно для статуса отдельного прихода, в связи с чем преподобный Чарлз Доджсон получил пост всего лишь викария (от лат. vicarius — заместитель). И хотя за годы, проведенные мистером Доджсоном в Дарсбери, население временами и увеличивалось, всё же оно никогда не превышало 180 человек, а потому и содержание викария оставалось весьма незначительным, едва дотягивая до 150 фунтов в год, из которых надо было платить налоги, ренту, помогать бедствующим прихожанам и пр. Меж тем семья преподобного Доджсона росла, следовало поддерживать уровень жизни, приличествующий священнику и джентльмену, а вместе с тем и возделывать землю, окружавшую пасторский дом, которая играла немаловажную роль в обеспечении семьи. Только на покупку навоза для удобрения уходило 30 фунтов. Натуральное хозяйство спасало, обеспечивая семью молоком, яйцами, овощами и прочими продуктами.
Ближайшим к Дарсбери городом был Уоррингтон, находившийся в семи милях. В те годы это был небольшой городок, примечательный лишь тем, что вокруг него росло множество столетних дубов.
Чарлзу Доджсону-старшему в браке выпала редкая удача. Любящая и кроткая, всегда готовая прийти на помощь, Фанни обладала достоинствами, делавшими ее идеальной спутницей в той трудной жизни, которую они вели. Она приняла на себя все заботы о доме и детях и находила время для помощи мужу. Современник вспоминал о ней как о «добрейшей женщине, пользовавшейся всеобщей любовью»: «В ее словах и поступках светилась искренность простой веры и любви; казалось, она никогда не забывала, что живет в присутствии Господа». «Жить в присутствии Господа» — этому она учила и детей.
Двадцать седьмого января[9] 1832 года в семье Доджсонов родился сын, которому было суждено стать известным писателем. Несмотря на скромность своих средств, преподобный Доджсон поместил объявление о рождении сына в «Таймс». Оно вышло 31 января среди прочих имен в разделе «Рождения»: «27 сего месяца в пасторском доме, Дарсбери, Чешир, супруга преподобного Чарлза Доджсона, сына».
При крещении мальчик получил имя Чарлз Латвидж Доджсон: как мы знаем, Чарлзом в семье Доджсонов называли обычно старшего сына, имя же Латвидж было дано, как это нередко бывает в Англии, в честь материнской семьи (в иных случаях дают второе имя в честь крестного, кого-то из родственников, друзей и пр.). Судя по тому, что мальчика крестили спустя полгода после появления на свет, Чарлз родился здоровым и крепким ребенком. В те годы детская смертность была очень высока и слабеньких детей крестили сразу же после рождения.
Церковь Всех Святых в Дарсбери, где крестили Чарлза и служил его отец, была выстроена вместе с колокольней около 1550 года (до того с XII века тут стоял деревянный храм). В 1870 году церковь перестраивали, но изменения коснулись в основном внутреннего устройства. В храме висит список священников, состоявших при нем начиная с 1569 года, включающий и имя преподобного Доджсона.
Впервые мне довелось побывать в этой церкви в 1991 году. В ней сохранилась дубовая кафедра начала XVII века, с которой Чарлз Доджсон читал проповеди. Она украшена резными фигурками ангелов и химер, среди них — грифон, с которым мы потом встретимся в Стране чудес.
В 1932 году в честь столетия со дня рождения Льюиса Кэрролла в боковой часовне храма на пожертвования прихожан был установлен внушительный витраж работы Джеффри Вебба. Он был освящен в 1934 году. В центре изображены сцены Рождества Христова; поверху помещены символы, связанные с жизнью писателя: колос чеширской пшеницы, гербы школы в Регби и колледжа Крайст Чёрч в Оксфорде, а также циркуль и другие математические инструменты, а понизу — сцены из «Приключений Алисы в Стране чудес». Здесь и Белый Кролик с Птицей Додо и Ящеркой Биллом, и Герцогиня с Грифоном и Черепахой Квази, и Болванщик с Мартовским Зайцем и Мышью-Соней, выглядывающей из чайника, и Королева с Валетом и улыбающимся Чеширским Котом…
Во дворе у входа в храм стоит могучий тис. Тисы часто растут в церковных дворах: в Англии с ними связано много поверий; они символизируют бессмертие. В Англии есть тисы, которым четыре тысячи лет и более. Этот тис сравнительно молод — ему всего четыре сотни лет. Под ним находилась старинная каменная купель, также сохранившаяся со времен короля Якова I. В ней крестили маленького Чарлза. Меня удивило, что купель стояла во дворе, у входа в церковь. Мне объяснили, что старая купель была так массивна и занимала так много места в храме, что в 1880-х годах ее решили заменить и вынесли во двор, где она и стояла. В ней давно уже никого не крестили. Потом, когда через несколько лет мне довелось снова там побывать, купель я уже не увидела — она куда-то исчезла.
В Уоррингтоне мне показали памятник, посвященный Льюису Кэрроллу. В самом центре города посреди площади стоит огромный каменный стол, за которым сидят участники Безумного чаепития: скромная Алиса, горячо что-то доказывающий Болванщик и Мартовский Заяц с Мышью-Соней, уснувшей за столом. Фигуры, высеченные из белого камня, также огромны. На каменный скатерти с узорами — множество тарелок и большой чайник. Размеры композиции меня ошеломили. Но жители Уоррингтона, видно, к памятнику привыкли и, судя по всему, менять его не собираются.
Чарлз был третьим ребенком в семье — у него были две старшие сестры Франсис Джейн (Фанни) (1828–1903) и Элизабет Люси (1830–1916). Потом родились еще три брата и пять сестер: Кэролайн Хьюм (1833–1904), Мэри Шарлотта (1835–1911), Скеффингтон Хьюм (1836–1919), Уилфред Лонгли (1838–1914), Луиза Флетчер (1840–1930), Маргарет Энн Эшли (1841–1915), Генриетта Харрингтон (1843–1922), Эдвин Хэрон (1846–1918).
Преподобный Чарлз Доджсон был человеком неординарным: глубоко религиозный, строгий, целеустремленный и волевой, он в то же время обладал замечательным чувством юмора и, когда выпадала свободная минута, любил пошутить, хотя шутки его порой были мрачноваты. Чтобы поддержать скромный семейный бюджет, он брал в дом учеников. Он любил математику и, несмотря на свою крайнюю занятость, не оставлял математических занятий. Но, конечно, время, свободное от приходской службы и забот, в основном посвящалось богословию — один за другим выходили его теологические труды.
Мистер Доджсон принадлежал к англиканской конфессии, которая, по справедливому замечанию В. Сонькина, была «среди больших христианских конфессий едва ли не самая запутанная, неоднородная и противоречивая». В 1534 году английский король Генрих VIII вследствие разных причин, политических, финансовых и личных, порвал с папой римским и провозгласил себя главой Церкви Англии. Положение было весьма сложным: Церковь Англии, невзирая на разрыв с Римом, оставалась католической, однако XVI век был временем протестантской Реформации на континенте, а в Англии имелось немало сторонников Мартина Лютера. В последующие десятилетия в бурных дебатах и столкновениях была выработана новая конфессия, называемая англиканством. В 1563 году церковным собором был принят важный документ — 39 статей англиканского вероисповедания, составленный тогдашним архиепископом Кентерберийским Томасом Кранмером. Они стали главным вероучительным документом, сохранившим свою роль и по сей день. «Англиканство почти официально называет себя „средним путем“ (по латыни via media), — пишет В. Сонькин. — Под этим подразумевается, что Церковь Англии не впадает в крайности, характерные как для католицизма, так и для протестантизма. В реальности, конечно, английская церковь на протяжении всей своей истории постоянно колеблется между двумя этими крайностями, что приводило ко множеству внутренних противоречий, расколов, течений, споров, догматических и обрядовых проблем на каждом уровне и на каждом этапе. <…> Из-за деталей обряда разные течения англиканства бились между собой даже чаще, чем из-за догматических противоречий, потому что в установительных церковных документах формулировки опасных мест (например, о пресуществлении) были намеренно уклончивыми»[10].
1830–1840-е годы были временем бурных церковных дебатов, ведущее участие в которых принимали оксфордские священнослужители и богословы (отсюда название Оксфордское движение), остро ощущавшие кризис Церкви Англии. Свои взгляды они выражали в трактатах, отчего их называли трактарианцами (а также англокатоликами). Во главе этого движения стояли видные оксфордские деятели и богословы; среди которых были Джон Генри Ньюмен, Джон Кибл, Эдуард Бувери Пьюзи и др. Они утверждали, что существует лишь одна «кафолическая», апостольская церковь, священные доктрины которой унаследованы от апостолов.
Господствующая церковь настолько жестко реагировала на трактарианство, что Ньюмен был обвинен в ереси и принужден покинуть Оксфорд. Позже он обратился в католичество и к концу жизни принял сан кардинала; в 2010 году папа римский Бенедикт XVI объявил о его беатификаций[11]. Доктору Пьюзи, также обвиненному в ереси, запретили проповедовать в университете в течение двух лет, однако ему удалось сохранить профессорский пост и место каноника Крайст Чёрч. Он стал главой того конфессионального течения (оно стало называться Высокой церковью[12]), члены которого считали, что Церковь Англии, оставаясь частью Римской церкви, независима от Рима, имеет своих собственных священников и собственные священные традиции.
Преподобный Чарлз Доджсон был одним из его членов. В 1842 году он перевел труды древнего классика Тертуллиана (II–III века) и опубликовал свои переводы в серии богословских трудов, издаваемой деятелями Оксфордского движения. Предисловие и комментарий к ним были написаны доктором Пьюзи, высоко ценившим богословские, пасторские и человеческие достоинства коллеги. В 1850-х годах вышли наиболее известные из богословских трудов преподобного Чарлза Доджсона: «Полемики веры» (The Controversy of Faith, 1850), «Обряд и служба» (Ritual Worship, 1852).
Прихожане уважали и любили своего пастора за доброту и справедливость. Много лет спустя, когда в год смерти Льюиса Кэрролла его племянник Стюарт Доджсон Коллингвуд, работавший над его биографией, посетил эти места, ему удалось разыскать нескольких долгожителей, помнивших преподобного Доджсона. Они тепло вспоминали священника, который, по их словам, был «всегда готов помочь им в нужде и печали».
Жизнь в доме викария текла по строго установленному распорядку. Основное внимание уделялось христианскому воспитанию и связанным с ним обязанностям. Утром и вечером все собирались на молитву, вечера посвящали чтению Библии, по воскресеньям посещали две службы в церкви, утреннюю и вечернюю (этот обычай Чарлз сохранил во все последующие годы), а дети — еще и воскресную школу. В эти дни нельзя было ни играть, ни работать — даже слугам, и семья довольствовалась холодным обедом.
До одиннадцати лет Чарлза, как впоследствии и его младших братьев, обучал сам отец. Потом мальчиков по традиции отправляли в школы-интернаты — считалось, что это способствует выработке характера и адаптации к обществу, что пригодится им в будущем. Помимо изучения Библии, отец Доджсон занимался с сыновьями математикой, латынью, английским языком и литературой, в основном классической, а также назидательной. Впрочем, он не препятствовал тому, чтобы дети читали поэтов — Вордсворта, Кольриджа, Китса, и таких авторов, как Вальтер Скотт, Филдинг, Стерн, Диккенс.
Чарли (так в детстве называли Чарлза) с ранних лет полюбил чтение; уже в семь лет, на удивление родственникам, он прочел аллегорическое сочинение «Путь паломника» Джона Беньяна (1628–1688), бродячего проповедника, поэта и выдающегося автора XVII века. В этой книге (она писалась с 1678 по 1684 год) повествуется о страннике, который встречает на своем земном пути всяческие испытания, однако преодолевает их, минуя Трясину уныния, Ярмарку тщеславия и пр. Эта книга по сей день остается в списке самой известной в Англии классики.
Чарли был очень привязан к отцу и старался во всём походить на него.
Однажды, когда Чарли исполнилось восемь лет, семейство отправилось в Уоррингтон, чтобы сделать несколько силуэтных портретов взрослых и детей (в дофотографические годы искусство силуэта было очень распространено в Англии). Портретист им попался весьма искусный, о чем можно судить по нескольким сохранившимся «изображениям». Глядя на силуэты родителей, нельзя не заметить между ними родственного сходства: подбородок, форма носа, высокий лоб — решительность, ум, воля. А вот и силуэт Чарли: худощавая фигурка, мягко очерченный профиль, выступающий круглый затылок — впрочем, возможно, это такая стрижка. Словом, мальчик как мальчик! Правда, на силуэте ни черт, ни выражения лица не увидишь и, глядя на него, не поймешь, что этот мальчик необычайно одарен. Родителям это было ясно с раннего детства, и миссис Доджсон не без гордости — но и с некоторой тревогой — признавалась в этом в письмах сестре Люси, с которой была очень близка. Да, мальчик был не по годам умен, чувствителен, добр и любознателен.
В семье сохранились рассказы о его любознательности. Как-то, рассказывает Коллингвуд, еще совсем маленьким, Чарли принес отцу книгу логарифмов и попросил: «Пожалуйста, объясни». Мистер Доджсон сказал сыну, что он слишком мал, чтобы понять такие сложные вещи. Мальчик внимательно выслушал его; но отцовские доводы, видно, показались ему неубедительными — он настойчиво повторил: «Но объясни же, пожалуйста». Интерес к математике и настойчивость в достижении цели — эти качества проявились в юном Чарлзе Латвидже Доджсоне весьма рано.
Преподобный Чарлз Доджсон помимо обычных церковных служб, заканчивающихся проповедью, читал своим прихожанам лекции — не менее трех в неделю, а также вел занятия в воскресной школе (миссис Доджсон, а позже и подраставшие дети помогали ему в этом). Он никогда не забывал о бедняках, которых было так много вокруг, и, несмотря на растущую семью, помогал им, как мог, из собственных скудных средств.
Когда-то недалеко от пасторского дома был проложен канал, по которому шли тяжелогруженые баржи. Железных дорог в то время было еще немного — впервые они появились в Англии в 1830-х годах и до этих мест еще не дошли. Как рассказывает Коллингвуд, викария беспокоила мысль о том, что баржевики, жизнь которых проходила в основном на воде, были лишены церковного окормления. В газетах писали, что они отказываются покидать баржи ради посещения церкви. Как-то во время прогулки с лордом Фрэнсисом Эджертоном, местным помещиком и крупным землевладельцем, с почтением относившимся к ученому викарию, преподобный Доджсон поделился с ним своими мыслями: «Если бы у меня было 100 фунтов, — я бы превратил одну из барж в часовню». Лорд Эджертон подробно расспросил викария и спустя несколько недель прислал ему письмо, в котором сообщал, что желание его исполнено — часовня на барже сооружена. «Судя по всему, это было первое церковное строение такого рода», — с гордостью замечает биограф Кэрролла. Теперь каждое воскресенье помимо службы в своей церкви мистер Доджсон вел литургию и читал проповедь и в этой часовне.
Первые 11 лет жизни Чарлза прошли в Дарсбери, в пасторском доме с большим садом. Этот дом, стоявший фасадом к югу, был выстроен в 1819–1820 годах местным мастером Томасом Хэддоком; на возведение его было потрачено 1275 фунтов. Сохранился план участка и дома, в котором были прихожая, гостиная, столовая, кабинет, школьная комната, кухни и кладовые, семь спален наверху и два погреба. Рядом с задней дверью, выходившей во двор, находился колодец в три метра глубиной, а на некотором расстоянии от него — хлев для четырех коров, конюшня для двух лошадей и несколько небольших дворовых строений. Дом был сложен из красного кирпича, а в дворовых строениях полы были выложены местным красным песчаником. Позже построили и сарай для двуколки. К сожалению, дом, в котором Кэрролл родился и провел первые годы своей жизни, не сохранился — он сгорел в 1883 году, еще при жизни Льюиса Кэрролла.
Лет двадцать тому назад Английское общество Льюиса Кэрролла и местное Общество Льюиса Кэрролла (Lewis Carroll’s Birthplace Society), впоследствии слившееся с «большим» обществом, откупили земельный участок, на котором стоял старый дом, расчистили его и обнесли легкой, скорее символической оградой, отмечавшей границы сада. На воротах, куда легко можно войти, висит большая доска, на которой изящными литерами написано: «Здесь родился и провел свое детство Льюис Кэрролл (1832–1843)». Старый заброшенный колодец, сохранившийся возле дома с тех дней, вычищен, восстановлен и прикрыт крышкой с датами жизни Льюиса Кэрролла и мордой Чеширского Кота — ведь это Чешир, в конце концов!
Во время моего визита в Уоррингтон Джон Уилкокс-Бейкер, секретарь тамошнего Общества Льюиса Кэрролла, вложивший немало труда и средств в этот проект, вручил мне ваучер общества. К тому времени я уже стала членом «большого» общества как русский переводчик «Приключений Алисы в Стране чудес» и «Зазеркалья», а также книги о Кэрролле. Пока что, сказал мне Джон (члены общества называют друг друга по имени), этот ваучер не имеет ценности, но впоследствии, когда сгоревший дом будет восстановлен и на родине Льюиса Кэрролла будет открыт посвященный ему центр, счастливые обладатели такого билета будут иметь всяческие привилегии. Я не стала расспрашивать, какие именно привилегии он имел в виду. Признаюсь, мне приятно просто смотреть на этот ваучер — я храню его как трогательный сувенир. Мне отрадно думать, что дом, в котором родился и жил мальчиком Кэрролл, будет со временем восстановлен. Меня радует мысль, что эта земля принадлежит Обществу Льюиса Кэрролла: на ней не выстроят казино или многоэтажный доходный дом.
Вокруг дома и сада викария, где рос Чарлз, расстилались поля, стояла тишина; редко-редко проезжала мимо телега — это было уже событие, и дети выскакивали из дома поглядеть на нее. Позже Чарлз вспоминал эти годы как самое счастливое время своей жизни. Ему посвящено немало поэтических строк будущего поэта. В стихотворении «Лица, возникающие в пламени» он вспоминает о доме, возвышавшемся средь полей, над которыми веял утренний ветерок: «Счастливый уголок, где я увидел свет…»
Маленький Чарли рос в дружной семье, родители любили детей, уделяли внимание их обучению и воспитанию. Несмотря на то, что учебные занятия отнимали немало времени, у юных Доджсонов его хватало и для всяческих забав и развлечений. По словам первого биографа Кэрролла, Чарли, как всем мальчишкам, нравилось лазать по деревьям, бродить по окрестностям, спускаться в заброшенные мергельные шахты, которых вокруг было предостаточно (когда-то из них добывали осадочные горные породы, употреблявшиеся в строительстве). Чарли любил всякую живность, мог часами наблюдать каких-нибудь улиток или дождевых червей, а в его спальне, по свидетельству родственников, жили на дружеских правах «кое-какие лягушки и улитки».
Жизнь в пасторском доме текла спокойно и размеренно; семья росла — и Чарлз с готовностью принимал подрастающих братьев и сестер под свое покровительство. Порой семью навещали родственники и друзья. Чаще других приезжал мистер Данфорд, которого викарий очень ценил (впоследствии он стал епископом Чичестерским). Регулярно наведывался преподобный Томас Бейн; в то время он был директором классической школы в Уоррингтоне и иногда помогал преподобному Доджсону служить литургию. Чарлз подружился с его сыном Томасом Виром; эта дружба сохранилась на всю жизнь.
Родители редко куда-либо уезжали, еще реже брали с собой детей, поэтому каждая поездка была целым событием. Как-то летом семья в полном составе отправилась в Боумарис на остров Англси в графстве Уэльс. Три дня добирались туда в почтовой карете — железная дорога так далеко не доходила. Боумарис славился живописным расположением, а также новинками технического прогресса. Доджсоны осмотрели местные достопримечательности: подвесной мост с тяжелыми железными цепями и опорами и средневековый замок с длинными коридорами и подвалами. Возможно, Кэрролл вспомнил об этом замке, когда рассказывал девочкам Лидделл о приключениях Алисы под землей. Поездка надолго запомнилась детям.
Однажды родители отправились в Халл, город на западном побережье, где жил дедушка Доджсон, который был серьезно болен. Оттуда мать написала Чарлзу. Он очень дорожил этим письмом — первым, адресованным лично ему. Мать была всегда занята и редко писала детям. Опасаясь, как бы сестренки не измяли и не испачкали материнское послание, Чарлз написал на конверте: «Брать это письмо запрещается — оно принадлежит Ч. Л. Д.». Подумав, он прибавил: «Покрыто липкой смолой, которая пачкает пальцы».
«Милый мой Чарлз, — обращалась к сыну миссис Доджсон, — нехорошо с моей стороны, что я не написала тебе раньше, но знаю, ты меня простишь: твой дедушка так хотел, чтобы я сидела с ним рядом, что я не могла писать и в то же время разговаривать с ним как ни в чем не бывало. Я очень радуюсь, любимый мой Чарли, что ты делаешь такие успехи в латыни и что в упражнениях у тебя почти нет ошибок. Ты будешь рад узнать, что твоему дедушке значительно лучше, — надеюсь, он скоро совсем поправится. Он часто с любовью говорит о всех вас. Надеюсь, что малыш Уилл иногда говорит „мама“ и что крошка Тиш меня не забыла. Скажи им и всем другим моим дорогим деткам, включая тебя самого, что я шлю вам 1 000 000 000 горячих поцелуев. Это очень короткое письмецо, милый мой Чарли, но я ничего не могу поделать. Любящая тебя Maman».
До нас дошло только это небольшое послание матери Чарлзу, однако оно говорит о многом — и о том, какой дух царил в семье Доджсонов, и о матери, и о детях. Впоследствии Кэрролл не раз будет посылать «1 000 000 поцелуев» в своих письмах детям.
Семья викария жила в постоянном общении с многочисленными родственниками, у которых тоже были дети. Особенно близко им было семейство Уилкокс, с которыми Кэрролл поддерживал дружбу в течение всех последующих лет. Родители и родня, а возможно и слуги (семья была большая, и прислуга жила в доме) рассказывали детям сказки и всякие истории, пели детские песенки. Так в сознание и память маленького Чарли проникали яркие и своеобычные образы английского фольклора, в котором немалое место занимали игра и, конечно, традиционные «бессмыслицы», всякая чепуха, ерунда — то, что мы называем английским словом «нонсенс». Он мог, скажем, слышать такую старинную песенку:
Я видел озеро в огне, Собаку в брюках на коне, На доме шляпу вместо крыши, Котов, которых ловят мыши, Я видел утку и лису, Что пироги пекли в лесу, Как медвежонок туфли мерил, И, как дурак, всему поверил.Или другую, также с давних времен известную всем в Англии:
Играет кот на скрипке, На блюде пляшут рыбки, Корова взобралась на небеса, Сбежали чашки, блюдца, А лошади смеются, Вот, говорят, какие чудеса!Еще в одной народной песенке глубокомысленно излагаются очевидные истины:
Свинка морская Была Мала, И значит, большой свиньей не была. Работали ножки У маленькой свинки, Когда убегала Она по тропинке. Но не стояла, Когда бежала, И не молчала, Когда визжала. Но вдруг почему-то Она умерла, И с этой минуты Живой не была[13].Из книг Льюиса Кэрролла мы знаем те песенки, которые наверняка были ему известны с детства: тут и старинные колыбельные, и Лев с Единорогом, и Шалтай-Болтай, и Дама Червей, что напекла кренделей, и многие другие. Он их приводит, обыгрывает, разворачивает в целые главы — тут уж не ошибешься. Но, разумеется, было и множество других песенок, загадок, сказок и историй, которые он не цитирует, но которые также запали ему в память.
Возможно, он слышал и сказку о сэре Гаммере Вэнсе — или другую подобную сказку, закрепившую в его памяти игры в «перевертыши» и прочие «глупости». Ее записал известный фольклорист Джозеф Джейкобс (1854–1916). Она вошла во второй том собранных им «Английских сказок», опубликованный в 1894 году, но была известна много раньше. Приведем начало этой сказки:
«Прошлым воскресеньем поутру, часов этак в шесть вечера, плыву я в своей лодчонке над горными вершинами и вижу двух всадников верхом на одной кобыле.
— Скажите, любезные, — спрашиваю, — мертва ли еще та старушка, которую позапрошлой субботой повесили за то, что она утопилась в ливне из перьев?
Они отвечают, что не могут мне точно сказать.
— Зашел бы ты к сэру Гаммеру Вэнсу, — говорят. — Уж он-то про всё это знает.
— А как его найти? — спрашиваю.
— О, это совсем не трудно. У него дом каменный, сложен из бревен, стоит себе одиноко среди сотни таких же домов.
— Нет ничего легче, — говорю.
— Это уж точно, — согласились они…»
Великан по имени сэр Гаммер Вэнс приветствует рассказчика:
«— День добрый, — говорит, — как поживаешь?
— Спасибо, хорошо, — отвечаю.
— Позавтракай со мной, — приглашает.
— С превеликим удовольствием, — говорю.
Дал он мне кусок пива и кружку холодной телятины. Под столом сидит собачонка, крошки подбирает. Я ей говорю:
— Да подавись ты!
А он мне на это:
— Не надо, зачем? Вчера она зайца насмерть загнала. А не веришь, так я тебе его покажу. Сидит себе в корзине живехонький!»
Сказок такого рода в Англии было немало, и юный Чарли их, конечно, слышал — не ту, так другую. В доме любили игру во всякую чепуху, нередко в ней участвовал и отец. Порой она мелькала в его разговорах и письмах. Приведем сохранившееся письмо мистера Доджсона восьмилетнему Чарли, посланное 6 января 1840 года из Рипона, куда отец ездил по делам.
«Мой дорогой Чарлз,
Прости, что не мог ответить на твое милое письмецо раньше. Ты и представить себе не можешь, как я был рад получить что-то, написанное твоей рукой, и можешь не сомневаться, что я не забыл о твоем поручении. Как только приеду в Лидс, тотчас выйду на середину главной улицы и закричу: „Жестянщики! Жес-тян-щи-ки!“ Шестьсот человек ринутся из своих лавок на улицу — побегут во все стороны — позвонят колокола — созовут полицию — поднимут весь город на ноги. Я потребую напильник, отвертку и кольцо для ключей, и если мне не доставят их немедленно, через сорок секунд, я не оставлю во всем славном городе Лидсе ни одной живой души, кроме разве котенка, и только потому, что у меня, к сожалению, просто не будет времени его уничтожить! Какой поднимется плач, как все станут рвать на себе волосы! Дети и поросята, верблюды и бабочки забарахтаются в канавах… старухи полезут в дымоходы, а коровы за ними… утки попрячутся в кофейные чашки, жирные гуси попытаются втиснуться в пеналы… а мэра Лидса обнаружат в суповой миске под слоем заварного крема с фисташками: он спрячется туда в надежде сойти за торт и избежать таким образом ужасного избиения, грозящего всему населению города. Наконец, они принесут мне всё, что я требовал, и я пощажу город и отправлю на десяти телегах и под охраной десяти тысяч солдат напильник, отвертку и кольцо в подарок Чарлзу Латвиджу Доджсону
от его любящего Papa».Угроза не оставить в живых ни одной души во всём городе приводит в ужас читателя, однако тут же выясняется, что говорилось всё это для красного словца: все остались целы, хотя и перепугались поначалу. Приводила ли такая угроза в ужас Чарлза? Вряд ли — он слишком хорошо знал своего Papa. Своеобразный юмор будущего Льюиса Кэрролла, возможно, сложился не без влияния отца, который обладал несомненным литературным даром, отмеченным не только солнечной, но и мрачной нотой.
Обращает на себя внимание пассаж, начинающийся словами «Дети и поросята, верблюды и бабочки…» Не звучит ли в некоторых эпизодах из знаменитых сказок об Алисе эхо (вряд ли осознанное) этого отцовского письма, полученного Чарлзом в детстве? Вспомним хотя бы ребенка Герцогини, который превращается в поросенка (глава «Поросенок и перец» в «Стране чудес»), или Белую Королеву, спрятавшуюся в суповой миске (глава «Королева Алиса» в «Зазеркалье»). К сожалению, до нас не дошло других писем родителей маленькому Чарлзу. Вообще об этом периоде его жизни осталось очень мало документов. После смерти Кэрролла биографы обратились было к его родным, но те не любили публичности и не считали нужным рассказывать о семье.
Приведем еще одно стихотворение, запомнившееся Чарли. Это весьма неуклюжее рифмованное обращение, которое он видел в колокольне церкви Всех Святых. Точно неизвестно, когда именно эти старинные вирши появились в церкви, но они до сего дня там висят. В них неизвестный автор наставляет звонарей, как вести себя в храме и в колокольне, и грозит штрафом за несоблюдение правил:
Достоин ты, звонарь, в сей храм войти? А ты стоишь на правильном пути? Разгульным, в шляпе, в шпорах — не звонить! Свершившему такое — штраф платить! Без шляпы, шпор и денег выйдешь вон, Если разбудишь колокола звон! Разумность правил этих всем известна, И пользуются ими повсеместно[14].Этот старинный стишок произвел на мальчика большое впечатление. Особенно поразила его одна особенность: если взглянуть на строки слева, то из первых букв каждой строки сложится название их деревни — ДАРСБЕРИ. Это было настоящее открытие! Так Чарлз познакомился с акростихом — стихотворной формой, которую он очень полюбит и будет впоследствии часто и с удовольствием использовать. Он напишет десятки акростихов, где чаще всего нужное имя или название будет складываться из первых букв каждой строки, в некоторых же (и таких у него тоже немало) — из вторых, третьих или даже четвертых букв, о чем не так-то легко догадаться. Самым известным из его акростихов будет стихотворное заключение в «Зазеркалье», из которого складывается имя Алисы Плэзнс Лидделл (Alice Pleasance Liddell), вдохновившей Кэрролла на две знаменитые сказки.
Говоря о том, как отозвались юные годы в будущем творчестве писателя, следует, конечно, вспомнить, что первые 11 лет его жизни прошли в Чешире — графстве на севере Англии со своей историей, обычаями и наречием. На чеширском диалекте и по сей день говорит сельское население графства, особенно старшее поколение.
В 1990 году во время одной из поездок в Англию я оказалась в Чешире по приглашению известного писателя Алана Гарнера (я перевела его повесть «Элидор») и впервые услышала местный диалект. От Манчестера я доехала на местном поезде из двух вагончиков до маленькой станции со странным названием Гузтри (Goosetree). Алан и его жена Гризельда встретили меня на платформе и привезли в свой дом, стоящий на невысоком холме, вокруг которого простирались поля. Вдали темнел небольшой лесок, а далеко на горизонте виднелись величественные очертания самой большой обсерватории Англии. Там нас поджидали подростки — дети Гарнеров Джозеф и Элизабет вместе с их школьным другом Питером. Им было любопытно познакомиться с русской гостьей (ведь только-только пал «железный занавес»). Однако Питер почему-то смотрел на меня с тревогой.
На следующее утро, пока Алан работал в своем небольшом кабинете с окошком в сад, я отправилась погулять по окрестностям, решив заодно наведаться на местную железнодорожную станцию: мне предстояло путешествие по северу Англии, и нужно было узнать, как лучше выбрать маршрут, где делать пересадки и пр. Путешествовать по железной дороге в Англии не так-то просто! Пожилой кассир, к которому я обратилась за помощью, отвечал на мои вопросы пространно, с доброй улыбкой — но я, признаюсь, не понимала ни слова! Немудрено — он говорил на чеширском диалекте, и все мои познания в английском языке были здесь решительно ни к чему. Кончилось тем, что он нарисовал на листе бумаги схему моего путешествия, отметив все пересадки, указав время и прочие подробности, — очень удобную и экономную, как я убедилась впоследствии. Вернувшись к милым хозяевам, я рассказала им о своем конфузе. Они расхохотались: прекрасно зная, кто дежурил в тот день на станции, они специально не сказали мне об этом и с нетерпением ждали моего возвращения! В Англии такой розыгрыш называют «практической шуткой» (practical joke). Тут же они поведали мне о том, как пошутили над Питером. В школе он учил русский язык, и Гарнеры предупредили его, что гостья из России не знает ни слова по-английски, так что переводить придется ему. Так вот почему он глядел на меня с такой тревогой, а все рассмеялись, когда я заговорила по-английски!
Теперь на маленькой станции Гузтри стоят автоматы и нет никого, кто пространно, с улыбкой отвечал бы на вопросы пассажиров.
Как и полагалось в семействе джентльмена, домашнюю работу и уход за детьми у Доджсонов выполняли слуги из местных. Конечно, у детей была няня. По традиции няни в таких домах становились едва ли не членами семьи. Интересно, что первое письмо, написанное четырехлетним (или пятилетним) Чарлзом, адресовано ей: «Моя дорогая Бан. Я тебя очень люблю и шлю тебе поцелуй от маленького Чарли и локон. Я бы хотел тебя поцеловать, но не могу, потому что я у Марка. Какое длинное письмо я написал. Я очень устал»[15]. Буквы большие, неуклюжие — видно, что писать он еще не очень умел. Некоторые слова написаны неправильно (kitt вместо kiss; twite вместо quite).
С самого раннего детства Чарлз слышал кругом выразительный чеширский диалект с его особым лексиконом, ритмикой, интонацией. Вряд ли сам он пользовался им — родители учили детей разговаривать на чистом английском языке, не глотать слоги, как обычно делают жители Чешира, не «тыкать» (в чеширском диалекте сохранилось местоимение thou, требующее соответствующих глагольных форм), не вставлять чеширские словечки, одним словом, говорить «правильно»; однако окружавшая их с младых ногтей стихия местного диалекта не могла пройти незамеченной. Можно предположить, что юные Доджсоны, сами того не замечая, прислушивались к простонародной чеширской речи.
В этом отношении интересны сохранившиеся рисунки юного Чарлза с надписями, сделанными его рукой. Таков, к примеру, рисунок из коллекции Музея братьев Розенбахов в Филадельфии, на котором двое мальчишек, стоя под деревом, спорят о том, кому из них лезть за гнездом, употребляя при этом чеширские диалектизмы. Алан Гарнер, уроженец Чешира, по сей день живущий там, предлагает интересную трактовку знаменитой баллады Кэрролла «Jabberwocky» («Бармаглот» в переводе Д. Орловской): он утверждает, что «непонятные» слова из этого шедевра нонсенса не выдуманы, как принято думать, самим Кэрроллом, а заимствованы из чеширского диалекта.
Как видим, детские впечатления, какими бы незначительными они ни казались на первый взгляд, нередко находят отзвук в творчестве зрелых лет.
Глава третья КРОФТ-НА-ТИСЕ. ЙОРКШИРСКИЙ ДОМ
Преподобный Чарлз Доджсон хорошо понимал, что место постоянного викария в Дарсбери не соответствует ни его способностям, ни потребностям его растущей семьи. Еще незадолго до рождения Чарлза, узнав о том, что в распоряжении Крайст Чёрч появился более значительный приход, он написал доктору Пьюзи, влиятельному канонику Крайст Чёрч, который хорошо знал и ценил его. Он детально описал свое более чем скромное положение, приведя перечень жизненно необходимых расходов, на которые никак не хватало его средств, и просил каноника ходатайствовать о предоставлении ему имевшейся вакансии. Однако ему не повезло — место отдали другому выпускнику колледжа. Впрочем, мистер Доджсон не оставлял надежды на получение лучшего прихода и регулярно напоминал друзьям о тяжести своего положения.
Наконец, в 1843 году стало известно о скором появлении подходящей вакансии в деревне Крофт-на-Тисе (графство Йоркшир) — преподобный Джеймс Далтон был стар и тяжело болен, он мог скончаться в любой день. Правда, место это находилось в распоряжении не колледжа, а короны. Епископ Лонгли, знавший преподобного Доджсона по Оксфорду и высоко ценивший его службу в приходе и публикации, не мешкая отправил рекомендательное письмо сэру Роберту Пилю, новому премьер-министру Англии, в руках которого находились подобные назначения. За этим письмом последовали другие, также от влиятельных людей. Вот как, в частности, отзывался о нем сосед и патрон лорд Эджертон: «На протяжении шестнадцати лет мистер Доджсон трудился в маленьком приходе в графстве Чешир, где я располагаю некоторыми владениями. Будучи знаком с положением в округе, я могу засвидетельствовать усердие и основательность в отправлении его обязанностей, а также его заботу о работниках канала, людях, которых обычно держат в небрежении, хотя они и умеют быть благодарными». О заслугах преподобного Доджсона напоминали и другие важные рекомендатели, засыпавшие Пиля письмами (что, кстати сказать, вызвало в нем вполне понятное раздражение).
Всё же по смерти преподобного Далтона премьер-министру пришлось предоставить мистеру Доджсону приход в Крофте, который находился всего в трех милях к югу от Дарлингтона. Пиль отправил епископу Лонгли весьма любезное письмо, в котором поздравлял его с назначением мистера Доджсона и весьма положительно отзывался о последнем.
Преподобный Доджсон не скрывал, что для получения этого места он использовал связи: убежденный консерватор, он во многом был человеком XVIII века. Однако совесть его была чиста: решающую роль сыграла его репутация духовного пастыря, проповедника и богослова.
Переезд в Крофт состоялся не сразу, и на то были серьезные причины. Миссис Доджсон ждала десятого ребенка, который должен был вскоре появиться на свет. Решено было не торопиться с отъездом. Сыновья преподобного Далтона просили дать им время, чтобы успеть вывезти мебель, книги и прочее имущество, накопившееся за годы жизни семьи в пасторском доме. К тому же сам дом нуждался в серьезном ремонте. Мистер Доджсон решил привести его в порядок перед тем, как въехать туда всей семьей. Среди прочего было решено настелить новый пол в просторной детской комнате.
Спустя столетие ректорский дом снова подвергли перестройке в связи с переделкой его под квартиры. Когда в бывшей детской подняли половицы, обнаружили небольшой тайник со спрятанными детскими «сокровищами»: крышкой от кукольного чайничка, разбитой глиняной трубкой, башмачком, перочинным ножиком и крошечной белой перчаткой. В далекие викторианские годы такие перчатки надевали детям, когда отправлялись в гости или в поездку. Еще в тайнике лежали крошечный серебряный наперсток, какие-то бумажки и обрывки пергамента, скорее всего, принадлежавшие родителям, и небольшая дощечка, на которой стояло: «Этот пол настелили мистер Мартин и мистер Саттон 19 июня 1843 года». Но самой интересной находкой была другая дощечка, на которой рукой Чарлза было написано:
И будем мы бродить по белу свету в погоне за бизоном.Вряд ли все эти предметы оказались под полом случайно. Скорее всего, «сокровища» принадлежали юным Доджсонам и были спрятаны в тайнике Чарлзом, когда в детской настилали пол. И снова приметы детства всплывают в творчестве Кэрролла — в «Стране чудес» Алиса получает от Додо в награду наперсток; крошечная перчатка оказывается важной частью туалета Белого Кролика, а «бизон» внезапно появляется в Зазеркалье в конце песни Белого Рыцаря о «древнем старичке, сидящем на стене». К сожалению, в русском варианте переводчица принесла «бизона» в жертву рифме:
Старик, бормочущий с трудом, Как будто бы с набитым ртом, Храпящий громко, словно гром, Сидящий на стене[16].В предпоследней строке «Храпящий громко, словно гром» последние два слова можно было бы легко заменить на «как бизон». К сожалению, в шестидесятые годы мы ничего не знали о тайнике, найденном в детской. Да и что бы это дало русскому читателю, с бизонами близко не знакомому?
Переезд в Крофт кардинально изменил жизнь всего семейства. Теперь мистер Доджсон мог рассчитывать на прочный доход в тысячу фунтов от прихода и сдачи в аренду своих земель; в его распоряжении были просторный дом с комнатами для детей, родителей и прислуги, хозяйственные помещения, прекрасный сад и три с половиной акра земли для собственного пользования. В доме появились еще одна служанка и садовник, который занимался также и огородом; время от времени приходил человек для различных работ по дому. Свои молоко и молочные продукты, яйца, свинина, фрукты, овощи — всего этого было достаточно не только для семьи, но и для щедрого наделения деревенских бедняков. Дом был таким большим, что у каждого ребенка теперь могла быть своя спальня. Правда, юные Доджсоны по большей части предпочли устраиваться по двое, а две девочки даже делили комнату со служанкой. Но Чарлзу выделили отдельную комнату на третьем этаже: как-никак он был старшим сыном, а главное, нуждался в тишине для занятий. Дверь в его комнату вела из коридора, куда свет проникал через небольшое окно, незаметное снизу. Мастера, стеклившие окна снаружи, оставили на стекле свои подписи:
«Т. Янг красил 23 июля 1836
Плумер стекольщик и Таймер 9 августа 1830
Эдвард Джонсон стекольщик Дарлингтон 1834».
Каждый день, проходя по коридору, Чарлз видел как бы отражение этих подписей — ведь стекольщики расписались с другой стороны! Кто знает, возможно, именно о них думал Кэрролл, выводя зеркальное отражение первой строфы своей знаменитой баллады о Бармаглоте в «Зазеркалье»?
С переездом в Йоркшир горизонты Чарлза расширились: он жил уже не в скромном доме, одиноко стоящем в миле от ближайшей деревни, — вокруг кипела жизнь. Поблизости от Крофта проходила дорога из Лондона на север, в Шотландию, а через поле от ректорского дома протекала река Тис, граница между двумя графствами, Йоркширом и Даремом. Просторный дом священника стоял рядом с церковью Святого Петра, старинным зданием с крыльцом в норманнском стиле и со следами позднейших перестроек. Прежний священник был любителем-садоводом; сад, окружавший дом, был великолепен, а в теплицах зрели южные фрукты, цвели диковинные цветы, и в пору цветения прихожане приходили полюбоваться ими. Крофт издавна славился своим целебным источником. Неподалеку от пасторского дома находилась превосходная гостиница, построенная еще в те времена, когда почтовые кареты, ходившие между Лондоном и Эдинбургом, останавливались здесь, чтобы поменять лошадей. В ту пору, когда в Крофте поселилось семейство Доджсон, в гостинице обычно останавливались джентльмены, приезжавшие в эти края для охоты.
На новом месте преподобный Доджсон тотчас принялся за работу. Приход был большой: в него входили и отдаленные хутора Хэлнеби, Донтон и Стейплтон. Объявив сбор денег по подписке и сделав солидный взнос из собственных средств, Доджсон произвел необходимую починку церкви. Он решил построить новую школу для деревенских детей — прежняя, помещавшаяся в амбаре в углу церковного двора, давно уже развалилась. Деньги собрали быстро; взнос преподобного Доджсона был самым весомым; его родные, включая жену и детей, также внесли свою лепту. Доджсон нанял архитектора и, покончив с необходимыми формальностями, приступил к строительству. В начале 1845 года школа на 60 учеников была готова. В ней было две большие комнаты: одна для девочек, другая для мальчиков. Помимо религиозного наставления, в ней обучали чтению, письму, арифметике, а девочек еще и рукоделию. Наняли учителя и учительницу; преподавание Закона Божьего мистер Доджсон взял на себя и неукоснительно вел его до конца своих дней. На его плечи легло и обеспечение всех текущих расходов на содержание школы, что он и исполнял с присущим ему тщанием. Миссис Доджсон и дети, по мере того как они взрослели, помогали ему в учебных занятиях и других школьных делах. В этой школе Чарлз давал свои первые уроки, когда приезжал на каникулы домой.
Доджсоны скоро прославились добротой и благотворительностью: они охотно делились с деревенскими жителями фруктами из своего сада, овощами и молоком, оказывая при необходимости и более серьезную помощь. Правда, преподобный Доджсон всегда предварительно выяснял, не пойдут ли выделенные деньги на выпивку или азартные игры.
Большой сад, окружавший просторный пасторский дом, был отдан в распоряжение детей, и в свободные часы они с увлечением предавались в нем разным забавам. Чарлз неизменно принимал в них участие и обычно был зачинщиком всяких затей. Уже в детстве он проявил ту склонность к изобретению новых игр и замысловатых правил, порой не лишенных юмора, которую сохранил и в более поздние годы. Одной из любимых стала придуманная им игра в железную дорогу, в то время всё еще остававшуюся удивительным новшеством. (Первая пассажирская железнодорожная линия была открыта лишь в 1830 году, за два года до рождения Чарлза. А за год до их переезда в Крофт, в 1842-м, королева Виктория с удивлением писала из Букингемского дворца своему дядюшке, бельгийскому королю Леопольду: «Мы прибыли из Виндзора на поезде вчера утром, вся дорога заняла полчаса времени, ни пыли, ни людских толп, ни жары — я в совершенном восторге».) Дети мистера Доджсона еще ни разу не прокатились по железной дороге — кстати сказать, проходившей всего в четырех милях от Дарлингтона и совсем недалеко от Крофта, — но это не мешало им играть в эту увлекательную игру. Из ручной тачки, бочек и небольшой тележки Чарлз соорудил «поезд» и развозил братьев и сестер по всему саду. В некоторых его уголках находились «кассы» и «станции». Прежде чем сесть в поезд, пассажирам следовало купить у Чарлза билеты. Он требовал неукоснительного соблюдения составленных им правил езды. По мере того как шло время (а Чарлз играл с младшими детьми, даже став студентом), игра менялась, появлялись новые правила. Приведем некоторые из них:
«Правило первое. В случае, если поезд сойдет с рельсов, пассажиров просят не вскакивать, а лежать до тех пор, пока их не поднимут. Необходимо, чтобы по ним прошло не менее трех составов, в противном случае врачам и санитарам нечего будет с ними делать.
Правило второе. Если пассажир прибегает на станцию, когда поезд миновал уже следующий пункт, т. е. когда он находится на расстоянии 100 футов, пассажиру следует не бежать за этим поездом, а подождать следующего.
<…> Станционный смотритель должен следить за своей станцией и подавать пассажирам угощение; тех, кто не соблюдает порядка, он может отправить в тюрьму, пока поезд идет по саду; он должен дать звонок, чтобы пассажиры занимали свои места, затем медленно посчитать до 20 и дать звонок к отправлению. <…> Если у пассажира нет денег, а он всё же желает ехать поездом, он должен прийти на ближайшую станцию, чтобы заработать на проезд: например, заварить чай для начальника станции (который пьет чай в любое время дня и ночи) или натолочь песку для железнодорожной компании (которая не обязана объяснять, зачем ей это нужно)».
Игра в железную дорогу найдет неожиданное отражение в «Зазеркалье», где Алиса в главе III «Зазеркальные насекомые» пересекает в поезде ручеек (он же — шахматная линия).
Другой затеей Чарлза был кукольный театр, вернее, театр марионеток. Англиканская церковь в те годы театр не одобряла, однако для домашних спектаклей и марионеток преподобный Доджсон делал исключение. Восстанавливая по воспоминаниям родственников детские годы Кэрролла, Коллингвуд писал: «С помощью родных и деревенского плотника Чарлз смастерил целую труппу марионеток и небольшой театр для них. Все пьесы для театра он писал сам; наибольшей популярностью пользовалась „Трагедия о короле Иоанне“; он очень ловко управлялся с бесчисленными нитями, которыми куклы приводились в движение».
Здесь уместно небольшое дополнение, касающееся кукольного театра Чарлза. В 1928 году, спустя 30 лет после смерти писателя, в каталоге известной лондонской фирмы «Сотбис» (14 ноября, № 664) под заголовком «Собственность миссис М. Паррингтон» появилась следующая запись:
«Кукольный театр, принадлежавший в детстве Ч. Л. Доджсону (частично сделан им самим), Крофт, под Дарлингтоном. Одиннадцать картонных фигур (три повреждены). Длина 26 ½ дюйма, глубина 18 дюймов, высота 23 дюйма.
Этот театр, подаренный настоящей владелице одной из сестер Ч. Л. Доджсона, упоминается в биографии Коллингвуда. Театр сделан из дерева и обклеен картоном. В нем восемь секций, укрепляемых с помощью колышков на перевернутом подносе, который служит сценой. Передвигая верхние секции, можно представлять улицу или интерьер».
Сохранилось письмо миссис Паррингтон, которая, прежде чем решиться на продажу, обратилась к родственницам писателя, сетуя на свое бедственное положение и испрашивая их согласие на выставление театра на аукцион. 2 сентября 1928 года она писала кузине Луи (Луизе Доджсон): «Милая кузина Мэми (сестра Чарлза Элизабет. — Н. Д.) подарила мне театр кузена Чарлза 27 лет тому назад, выразив надежду, что он порадует моих детей так же, как радовал их всех в давние годы, когда они жили в пасторском доме в Крофте». Спустя несколько дней, 12 сентября, в письме кузине Нелли (мисс Менелле Доджсон) она вспоминает: «А сколько представлений разыгрывалось на этой сцене!.. Есть тут кукла в алом плаще с капюшоном, на спине у которой маленькими печатными буквами написано „Самиэл“ (sic!). Есть еще одна, весьма добродушного вида, по имени Октис, и женская фигурка с пометкой „Первая подружка невесты“; ко всем прикреплены длинные проволоки. Сохранилось девять фигур, но я не могу вспомнить, как зовут остальных. Я уже отправила ящик в „Сотбис“. Есть у театра задник, на котором нарисован лес; если его перевернуть, то будет комната. По бокам у него небольшие кулисы, которые укрепляются с помощью колышков, вставляемых в дырочки на сцене, и маленькая жестяная рампа. Все эти вещи старые и имеют весьма потрепанный вид». Интерес к кукольному театру Кэрролл сохранил на всю жизнь. Уже будучи студентом, а позже и преподавателем в Оксфорде, он развлекал младших братьев и сестер, а также многочисленных юных друзей придуманными им представлениями…
Вскоре после переезда в Крофт-на-Тисе жизнь Чарлза изменилась: пора было подумать о школе.
Глава четвертая ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
Перемены в положении мистера Доджсона давали ему возможность поразмыслить о будущем своих детей. Как всегда тщательно всё обдумав, он решил приобрести для дочерей страховые полисы, которые обеспечили бы им безбедное существование, когда его не станет, а сыновьям — дать образование, которое позволило бы им поступить в университет и получить достойную профессию. Для этого следовало выбрать для сыновей хорошие школы (девочки в те годы, как правило, получали домашнее образование).
Старшего сына пора было посылать учиться. Конечно, отец сам мог подготовить Чарлза к университету не хуже любых учителей, но мальчику были необходимы школьный опыт, общение с наставниками и учениками, навыки самостоятельной жизни вне дома. Такой опыт он мог получить только в школе-интернате — недаром в Англии издавна существуют традиции отсылать детей в такие школы. Решено было отправить Чарлза в Ричмонд, в школу мистера Тейта, считавшуюся одной из лучших.
Репутация школы была связана с именем мистера Джеймса Тейта 1-го, который занял место ее директора еще в 1796 году. Автор серьезных исследований по классическим дисциплинам, он был известен также как педагог, сумевший привить своим ученикам любовь к знаниям и навести порядок в школе. В 1833 году он стал каноником собора Святого Павла, а школу передал сыну, Джеймсу Тейту 2-му, унаследовавшему его блестящую образованность, а также любовь и понимание детей. Правда, он был человеком мягким и, в отличие от отца, не обладал организаторским талантом, так что репутация школы несколько пострадала. В ней уже не было прежней суровой дисциплины, зато царила добрая, почти домашняя атмосфера, которая надолго запомнилась ученикам.
В журнале мистера Тейта, директора школы в Ричмонде, сохранилась запись о том, что Чарлз поступил в школу 1 августа 1844 года. Вскоре после поступления Чарлз отправил письмо своим старшим сестрам Франсис и Элизабет — они были ему ближе других детей, и не только по возрасту; к тому же он торопился сообщить им, а через них и всей семье, как он устроился на новом месте. Следы этой торопливости ясно видны в письме, которое приводится без изменений.
«5 августа 18[44]
Мои дорогие Фанни и Мэми,
Надеюсь, все вы здоровы, а также милые близнецы, пожалуй из всех мальчиков больше других мне нравятся Гарри Остин и все Тейты каковых всего 7 не считая маленькой девочки которая в первый день обедала с нами вместе, но больше не приходила, и еще мне нравится Эдмунд Тремлет, Уильям и Эдвард Свайр, Тремлет очень шустрый мальчуган лет 7, самый младший в школе, и еще мне нравятся Кэмп и Моули. Еще я познакомился с Бертрамом, Гарри и Диком Уилсонами, и с двумя Робинсонами, я вам всё про них расскажу, когда приеду домой. Мальчики сыграли со мной два таких фокуса — сначала предложили поиграть в „Короля башмачников“ и спросили, не хочу ли я быть королем, на что я согласился. Тогда они усадили меня на землю, уселись вокруг и велели мне сказать „За работу!“ что я и сделал, они же тотчас принялись пинать и лупить меня со всех сторон. Потом предложили сыграть в „Питера, рыжего льва“, сделали отметку на надгробии (мы играли на кладбище), и один из них подошел к нему с закрытыми глазами и попытался коснуться отметки; потом вышел вперед самый маленький из них и очень близко подвел их к отметке, за ним пошли еще и другие; наконец настала моя очередь; они велели мне как следует зажмуриться и в ту же минуту мой палец попал кому-то в рот, он видно стоял перед надгробьем с разинутым ртом. 2 ночи я спал один, а всё остальное время с Недом Свайром. Мальчики больше надо мной не шутят. Я только провинился (скажите маме) тем, что опоздал к обеду пришел после того, как прочли молитву. В воскресенье утром мы пошли в церковь и сидели на длинной скамье с мистером Филдингом, церковь куда мы ходили стоит рядом с домом мистера Тейта, днем мы в церковь не ходим, но мистер Тейт прочел мальчикам размышление о 5-й заповеди[17]. Вечером мы опять пошли в церковь. Papa хотел, чтобы я сообщил, какие тексты были выбраны для проповедей, скажите ему пожалуйста что утром я не слышал да и из проповеди не слышал почти ни слова, а вечером — 1 Коринф. 1:23[18]. По-моему это была прощальная проповедь, но я не уверен. Миссис Тейт посмотрела мои вещи и оставила в чемодане немало того, что мне не понадобится. У меня 3 неполадки с одеждой и остальным. 1) Я не могу найти свою зубную щетку. Так что 3 или 4 дня я не чистил зубы, 2) я не могу найти свои промокашки и 3) у меня нет рожка для ботинок. Игры здесь в основном такие: футбол, борьба, чехарда и драка. Простите скверный почерк.
Ваш любящий брат Чарлз».Вновь прибывших мальчиков распределили по разным «домам» (Houses); во главе каждого из них стоял наставник (Master), который внимательно следил не только за успехами учеников, но и за их поведением и развитием. Чарлзу повезло: он попал в «дом» самого мистера Тейта, где царила теплая домашняя атмосфера. Немалую роль здесь играла и миссис Тейт, следившая за здоровьем и гардеробом воспитанников.
Довольно скоро Чарлз освоился в школе. В первые дни испытав на себе розыгрыши, обычные среди школяров того времени, он, как вспоминали родные, стал защитником слабых и даже подчас пускал в ход кулаки, так что обидчики стали его опасаться. Впрочем, в школе мистера Тейта была доброжелательная обстановка, и дело ограничилось розыгрышами, описанными в приведенном письме. Попавшие в «дом» Тейта мальчики обедали за одним столом с его семьей. Этим, кстати сказать, объясняется и упоминание в письме Чарлза о девочке (очевидно, это была дочь директора), обедавшей с ними в первый день. Школа была мужской, и девочки ни в классах, ни в «домах» не появлялись. Чарлз очень привязался к своему «доброму старому учителю»[19] (так он называл его в письмах домой) и на всю жизнь сохранил самые лучшие воспоминания о нем. Тот, в свою очередь, высоко оценил способности необычного ученика. Об этом свидетельствует первый же отзыв мистера Тейта, посланный родителям Чарлза: «Располагая достаточными возможностями сделать на основании личных наблюдений выводы о характере и способностях вашего сына, я не колеблясь высказываю свое мнение: наряду с прочими превосходными врожденными данными он обладает весьма редкой одаренностью, близкой к гениальности (an uncommon share of genius). Веселый и добрый в обращении, находчивый и остроумный в беседе, он проявляет не по годам развитые способности к познанию, меж тем как ум его столь ясен и чужд любой неточности, что он не успокаивается до тех пор, пока не найдет самого верного решения для того, что представляется ему запутанным. Он только что великолепно отвечал на экзамене по математике, неоднократно демонстрируя ту приверженность точному знанию, которая для него столь естественна».
Мистер Тейт вместе с тем отмечает и «некую погрешность», которую позволял себе «наш юный друг, не допускающий ошибок там, где дело касается важных убеждений или принципов». Вот что он пишет по этому поводу: «При чтении вслух или в метрических композициях он нередко сводит к нулю все представления Овидия или Вергилия о стихе. Более того, с удивительным хитроумием он подменяет описанные в грамматиках обычные окончания существительных и глаголов более точными аналогами или более удобными формами собственного изобретения». Впрочем, директор высказывает надежду, что со временем этот недостаток, от которого его ученику, безусловно, следует избавиться, исчезнет сам собой. Как видим, уже в юные годы в Чарлзе пробудился интерес к слову и «выравнивающим поправкам», которыми впоследствии будут отмечены сочинения Льюиса Кэрролла.
Свой отзыв мистер Тейт завершает словами: «У вас есть все основания предвкушать для него прекрасную карьеру. Позвольте мне в заключение письма высказать одно предложение, продиктованное самыми добрыми намерениями. Вам не следует говорить сыну обо всей мере его превосходства над другими воспитанниками. Пусть сам открывает его по мере продвижения по своему пути. Любовь к превосходному достойнее любви к превосходству; но нужно ли говорить, что стоит ему увлечься одним лишь стремлением превзойти других, как самое качество его знаний значительно потускнеет, а на характер ляжет серьезное пятно?»
Да, мистер Тейт был мудрым и проницательным человеком, и можно смело сказать, что на долю Чарлза выпала редкая удача провести несколько лет, столь важных для становления личности, рядом с таким наставником.
Ричмонд находится недалеко от Крофта, и все каникулы и праздники, которых за год набиралось немало, Чарлз проводил дома. Приезжая домой, он с радостью погружался в тот особый мир, который царил в семье. В школьные годы он начал издавать для своих братьев и сестер рукописные журналы. Поначалу в них принимали участие члены семьи — братья, сестры, а подчас и сестра матери тетушка Люси, но понемногу они полностью перешли в руки «редактора». Всё в них — «романы», забавные заметки из «естественной истории», стихи и хроники — сочинял сам Чарлз. Он не только переписывал журналы от первой до последней страницы своим мелким и четким почерком, но и украшал их собственными иллюстрациями, оформлял и переплетал. Он неплохо рисовал, особенно удавались ему всякие комические и гротескные персонажи.
Нам известны восемь домашних журналов, изданных Чарлзом: «Полезная и назидательная поэзия», «Ректорский журнал», «Комета», «Розовый бутон», «Звезда», «Светлячок», «Ректорский зонт» и «Миш-мэш» (слово, по собственному признанию редактора, заимствованное в несколько искаженном виде из немецкого языка[20]). Первый из них появился в 1845 году, когда Чарлзу было 13 лет; последний выходил отдельными номерами на протяжении 1855–1869 годов, когда, будучи сначала студентом, а затем и преподавателем Оксфорда, Чарлз приезжал на каникулы домой. Сохранились два первых и два последних номера; четыре средних были утеряны. Уже в ранних опусах юного автора явно ощущается его склонность к пародии и бурлеску.
Пробовал он свое перо и в лимериках, юмористических пятистишиях, с давних пор любимых в Англии, с которыми он, возможно, познакомился по сборникам, вышедшим в начале 1820-х годов (впрочем, лимерики передавались и из уст в уста). Он называл их «мелодиями» и также «печатал» в домашних журналах. Сохранились четыре «мелодии», написанные им в тринадцатилетнем возрасте.
Леди юная из Уитбая Жизнь клянет, избавленья не чая: Так бескрылые мошки Покусали ей ножки, Что бедняжка кричит, приседая.Вполне возможно, что в этом стишке нашла отражение история, приключившаяся с одной из сестер Чарлза. Юный поэт использует классическую форму лимерика: рифмует первую, вторую и последнюю, пятую строки (рифма а) и третью и четвертую строки (рифма b), так что общая схема рифмовки выглядит так: aabba.
А вот другой его лимерик, где в последней строке он повторяет название города первой строки. Это одна из традиционных форм лимерика:
Старичок один, фермер из Ридла, Кончил жизнь на столе ювелира: Он булавкой проткнул себя И был вместо бусины Принесен к ювелиру из Ридла.Однажды вместо географического названия в первой и последней строках он повторил последнее слово, не имеющее никакого отношения к географии:
Из бумажной обертки торговец Очень модный цилиндр изготовил, И носил его с шиком, Но однажды ошибкой Вышел в дождь прогуляться торговец.Чарлз написал еще и двойной лимерик, связанный родственностью героя и героини:
Вниз растет господин из Опорта, Дюйм теряет бедняга четвертый С того самого времени, Как носить стал на темени Он цемента ведро ради спорта. А сестра его Люси О’Финнер Тонкой стала, как горло графина: Спит она под дождем, Залучить ее в дом Очень трудно семейству О’Финнер[21].Казалось, Чарлз поставил перед собой задачу употребить различные формы лимериков.
Эти пятистишия были написаны за год до того, как вышла прославленная «Книга бессмыслиц» (1846) Эдварда Лира, давшего лимерику права гражданства в английской литературе и в иллюстрации, чему немало способствовали его замечательные рисунки.
Больше (кроме одного-единственного случая) Чарлз лимериков не писал. Видно, эта игра его не увлекла.
Юмористическому переосмыслению и переиначиванию он подвергал известные строки классиков — Шекспира, Милтона, Грея, Маколея, Кольриджа, Скотта, Китса, Диккенса, Теннисона и др. В этих первых литературных опытах юный автор обнаруживал широкую начитанность и несомненную одаренность. Отметим сразу же, что его пародии этого времени редко носят сатирический характер — это скорее бурлески и травестии, где исходные тексты, по меткому выражению Ю. Тынянова, используются скорее как «подмалевки» для создания юмористического эффекта. Впрочем, подробнее об этом поговорим позже, когда речь пойдет о зрелых произведениях Кэрролла.
Три года, проведенных в Ричмонде под крылом мистера Тейта, пролетели быстро. Чарлзу исполнилось 14 лет, настало время переходить из Ричмонда в публичную школу. Название это, сохранившееся в Англии по сей день, обманчиво. Публичные школы — это вовсе не школы, открытые для широкой публики; напротив, это закрытые и часто весьма привилегированные частные школы-интернаты для мальчиков. Обучение в них стоило совсем не дешево, и если бы преподобный Доджсон оставался в Дарсбери, он не сумел бы послать старшего, а затем и других сыновей в подобную школу. Школа в Регби, куда Чарлз поступил в середине 1846 года, хотя и обладала прекрасной репутацией, весьма отличалась атмосферой от почти домашней школы в Ричмонде. По странному совпадению фамилия ее директора также была Тейт, мистер Арчибалд Кэмпбелл Тейт — правда, писалась она иначе (Tait), чем фамилия «доброго старого учителя» из Ричмонда, которого так полюбил Чарлз (Tate). Впрочем, это было не единственное их различие.
Почему Чарлза послали не в Вестминстер, где учился его отец, а в Регби, так и остается неясным. Возможно, на решение родителей повлияла репутация Томаса Арнолда, прежнего директора школы, при котором она получила широкую известность. Однако доктора Арнольда уже не было в живых, а школа попала в жесткие руки мистера Тейта, позже сделавшего блестящую карьеру на богословском поприще и ставшего в конце концов архиепископом Кентерберийским. (Лишь в последний год пребывания Чарлза в Регби его сменил на директорском посту доктор Гулбёрн.)
Учебное заведение гордилось тем, что воспитывало джентльменов и будущих строителей империи; на первом месте здесь стояли спорт, дисциплина и подчинение суровой школьной иерархии. Жизнь в Регби сильно отличалась от спокойной жизни в Ричмонде. Порядки в школе царили суровые. За малейшую провинность учеников наказывали — чаще всего заставляли переписывать сотни строк на латыни, при этом строго следили за тем, чтобы всё было сделано в срок и собственноручно; в случае нарушения этих требований давалось дополнительное задание.
В ходу были и розги, и некая башенка, куда вела винтовая лестница, где, по словам Коллингвуда, «разыгрывались сцены, кои лучше не описывать». Впрочем, Чарлзу, насколько известно, посещения этой башенки удалось избежать.
Надо признать, что и старшие ученики, наделенные различными правами и привилегиями и потому уверенные в собственном превосходстве и безнаказанности, по давней традиции помыкали младшими и разыгрывали над ними всевозможные — и далеко не невинные — шутки. Одним из любимых развлечений было схватить какого-либо новичка или ученика помоложе и подбрасывать его на одеяле до потолка, пока не надоест или пока бедную жертву не уронят на пол. Когда по вечерам в огромном дортуаре, где спали ученики, тушили свет, старшеклассники срывали с младших одеяла, чтобы укрыться потеплее, оставляя их дрожать ночь напролет в нетопленом помещении. Вообще говоря, нравы в школе царили жесткие, а зачастую и просто жестокие. Строго определенное положение в школьной иерархии, устанавливаемой частично школьными правилами, а частично сильнейшими учениками или старшим из них, называемым проктором, не подвергалось сомнениям. Агрессия, как словесная, так и физическая, была в порядке вещей.
Невольно вспоминаются строки У. X. Одена, где он говорит о словесной агрессивности, которой (спустя десятилетия) его также обучали в публичной школе. Эти строки звучат в реминисценции из стихотворения «Прощание с Mezzogiorno[22]»:
Выходцы с готики севера, бледные дети Культуры картошки, пива и виски, Мы, подобно отцам, отправляемся прочь, На юг, в загорелую неизвестность Винограда, барокко, la bella figura[23], Утонченных селений… Где не учат детей беспощадной Словесной борьбе, как нас обучали…[24]Эту выучку вынужден был пройти и Чарлз за годы обучения в Регби. Надо полагать, что ему нечасто приходилось прибегать к кулакам: врожденные острота ума и быстрота реакции, отмеченные еще его преподавателем в Ричмонде, верно, не раз приходили на помощь. При всём том это была нелегкая выучка для скромного, добросердечного подростка. Потом она будет продолжена в Оксфорде, где «беспощадная словесная борьба» станет для него привычным атрибутом.
Конечно, Чарлз не слишком отличался в игре в футбол или крикет, которым в таких школах придавалось первостепенное значение; зато его успехи в науках принесли ему не одну награду. Коллингвуд пишет, что Чарлз с девяти лет вел дневник, однако он не сохранился. Во время пребывания в Регби Чарлз вообще не делал дневниковых записей, и потому сведения об этой поре его жизни можно почерпнуть лишь из его писем родственникам. Впрочем, он никогда не жаловался и в письмах домой не упоминал об истинном положении дел в школе.
Из бумаг, относящихся к этому периоду, мало что сохранилось. Единственным письмом Чарлза, которым мы теперь располагаем, было письмо сестре Элизабет от 24 мая 1849 года, написанное к концу его пребывания в Регби, когда ему уже исполнилось 17 лет. Приведем отрывок из этого письма, которое интересно тем, что Чарлз в нем рассказывает о своих преподавателях и о книгах, которые он в то время читал. Оно также дает представление о его отношениях с родными:
«Вчера вечером я гулял с одним приятелем, который занимается математикой с мистером Смайзисом, вторым преподавателем математики; мы пошли к нему домой, поскольку мистер С. хотел переговорить с ним; он пригласил нас зайти и предложил нам по стакану вина и инжир. Судя по всему, он так же предан своему делу, как мистер Мэр; мне он с веселой улыбкой сказал: „Ну, Доджсон, я вижу, вы делаете успехи в математике?“ В математике он разбирается прекрасно, хотя и не так хорошо, как мистер Мэр, с которым мало кто сравнится, за исключением Papa. <…> Я прочел первый выпуск новой повести Диккенса „Дэвид Копперфилд“. Она написана в форме биографии и начинается с его рождения и детства; сюжет в ней слаб, зато некоторые герои и сцены хороши. Среди прочих меня позабавила миссис Гамидж, несчастная особа, склонная к меланхолии, которая вечно на что-то жалуется; дымит ли камин или случится другая мелкая неприятность, она разражается горькими слезами и говорит, что „она женщина одинокая, покинутая, и все против нее“. Пока что мне не удалось достать второй том „Англии“ Маколея[25]. Впрочем, я его держал в руках, и один эпизод произвел на меня впечатление: когда семеро епископов подписывают письмо, приглашающее претендента на престол, а король Яков посылает за епископом Комптоном (один из семерых) и спрашивает его, „принимал ли он или один из его собратьев участие в этом деле“. Подумав с минуту, епископ отвечает: „Ваше величество, я совершенно уверен в том, что ни один из моих собратьев так же не связан с этим делом, как и я“. Такой ответ, безусловно, не является прямой ложью, однако, как замечает Маколей, мало чем отличается от нее».
Это письмо очень пространно, что отчасти вознаграждает нас за отсутствие других писем из Регби той поры. Судя по всему, Элизабет просила брата написать ей подробное, «длинное» письмо — и Чарлз выполняет просьбу прямо-таки буквально! Чего только нет в этом письме — и подробное описание развалин древнеримского лагеря в шести милях от Регби, снабженное его собственным рисунком, и сообщение о том, что он приобрел летнюю шляпу и пару перчаток («потому что обнаружил, что у меня нет ни одной пары летних перчаток»), и просьба не присылать больше тминного печенья, которое делает некая миссис Паттисон, «потому что они тают во рту в один миг» и совершенно не стоят денег, затраченных «на их покупку и доставку». Заканчивается письмо вопросами, на которые он просит сестру ответить, — их двадцать, не больше и не меньше!
Конечно, Чарлз подшучивает над сестрой, пожелавшей получить от него «длинное» письмо, однако вопросы его не надуманны, они свидетельствуют о том, что, даже находясь в школе, Чарлз внимательно следит за всем, что происходит в семье, что делают и что читают его братья и сестры, кто из родственников и друзей гостит у Доджсонов, а кто еще только собирается приехать, и пр., и пр. Завершает он свою эпистолу следующим образом: «Сможешь ли ты сжать все эти вопросы в один и ответить на него? Наконец, веришь ли ты или нет, что я от души подписываюсь „Любящий тебя брат“? Ты удовлетворена длиной этого письма?»
Упоминаемый в этом письме мистер Мэр, который вел занятия по математике, высоко ценил способности Чарлза; в 1848 году он писал преподобному Доджсону: «За то время, что я преподаю в Регби, у меня не было более многообещающего ученика его возраста».
Выше уже отмечалось, что Чарлз никогда не жаловался родным на жизнь в Регби; однако некоторое представление о ней можно составить по его замечаниям, сделанным годы спустя. Так, в 1855 году он писал:
«Во время моего пребывания там я, вероятно, достиг кое-каких успехов в науках всякого рода, однако ничто там не делалось con amore [26], и я тратил невероятно много времени на выполнение налагаемых взысканий, которые заключались в переписывании множества строчек; последнее я считаю одним из главных недостатков школы в Регби. Я кое с кем там сошелся, ближе всего с Генри Ли Беннетом (в колледже у нас оказалось меньше общих интересов, и наши отношения охладели), но не могу сказать, что вспоминаю о своем пребывании в публичной школе с каким бы то ни было удовольствием, и я ни за что на свете не согласился бы снова пережить эти три года».
А спустя почти десять лет после окончания Регби он посещает школу в Редли и обращает внимание на одноместные спальни-кабинки для учеников. 18 марта 1857 года он записывает в дневнике:
«…маленькая спальня, где ты находишься в безопасности, где тебя не будут беспокоить и преследовать… Верно, это много способствует счастью младших мальчиков, уравновешивая любые преследования (bulling), от которых они страдают днем. Опираясь на собственный опыт школьной жизни в Регби, могу сказать, что, будь я таким образом защищен от преследований по ночам, все испытания, выпадавшие на мою долю в дневное время, были бы пустяками в сравнении с ними».
Интересна в этом отношении повесть выпускника Регби Томаса Хьюза (1822–1896) «Школьные годы Тома Брауна», вышедшая анонимно в 1857 году, всего через семь лет после того, как Чарлз окончил школу. Хьюз поступил в Регби в 1834 году, когда директором там был знаменитый Томас Арнольд. Хотя к тому времени доктор Арнольд возглавлял школу уже в течение пяти лет, в ней еще царили некоторые жесткие старые порядки, живо изображенные писателем. Повесть была хорошо принята читателями. Через несколько лет (1861) Хьюз написал роман «Том Браун в Оксфорде», также во многом автобиографический. Можно не сомневаться, что Доджсон прочитал эти книги. Было бы в высшей степени интересно узнать его мнение о них — но, увы, дневники за эти годы утеряны. Писатели познакомились только спустя годы. Мы знаем лишь о том, что они встретились в 1876 году в конторе издателя Макмиллана, куда Кэрролл приехал, чтобы подписать 80 подарочных экземпляров только что отпечатанной поэмы «Охота на Снарка», которые издательству предстояло разослать по авторскому списку. В дневниковой записи Кэрролла об этой встрече нет упоминания о Регби — и немудрено: эта школа оставила у него столь мрачные впечатления, что вряд ли ему хотелось вспоминать о ней.
Жизнь в деревне, с ее чистым воздухом и свежими деревенскими продуктами, равно как и неустанная забота родителей, способствовала тому, что дети в семье росли здоровыми и крепкими. Доджсоны не потеряли ни одного из одиннадцати детей, что было редкостью в эпоху высокой детской смертности от туберкулеза, желудочных и прочих заболеваний. Конечно, Чарлз перенес обычные в те времена болезни: «детскую лихорадку» (какая именно болезнь скрывалась под этим названием, современным медикам установить не удалось), коклюш и корь. Когда матери сообщили о коклюше, которым Чарлз заболел в Регби, она написала 24 марта 1849 года своей сестре Люси, с которой была особенно близка и которую любили все в семье: «Я уверена, что ты будешь так же удивлена, как и мы, когда узнали, что милый Чарлз все-таки и вправду болен коклюшем. А ведь прошлым летом он все каникулы провел с малышами, ухаживая за ними и развлекая их, хотя, вне всякого сомнения, знал, что у них коклюш. Конечно, я очень волнуюсь за него и не нахожу покоя, однако надеюсь, что в это время года болезнь долго не протянется…» Ее старшему сыну тогда было 17 лет.
После лихорадки Чарлз стал туговат на правое ухо; перенесенная позже корь усугубила эту глухоту. Впоследствии во время прогулок он всегда просил спутников идти слева от него, а посещая театр, который очень любил, садился с правого края.
Была у Чарлза еще одна особенность, доставившая ему немало горьких минут в школьные, да и во все последующие годы: он заикался. Правда, это было не то мучительное «взрывное» заикание, когда человек пытается преодолеть первый слог и снова и снова повторяет его; его заикание скорее походило на небольшую запинку или нерешительность перед произнесением некоторых слов, особенно начинающихся с шипящих или свистящих звуков. Отметим, кстати, что от заикания страдали и несколько его братьев и сестер. Впоследствии, когда Чарлз стал преподавателем и принял сан дьякона Англиканской церкви, заикание мешало ему при чтении проповедей и лекций. Он всячески стремился избавиться от этого недостатка и обращался к различным специалистам, но так и не смог полностью освободиться от него. Правда, в семейной и теплой дружеской обстановке его заикание практически исчезало; не было его и в тех случаях, когда он играл или беседовал с детьми. Интересно, что многие из его юных друзей, рассказывая после кончины Кэрролла о своей дружбе с ним, и не вспоминали о его заикании, а когда их об этом спрашивали, искренне недоумевали. Современные психологи, подвергшие внимательному рассмотрению «случай Кэрролла», склоняются к мнению, что его заикание было связано с застенчивостью.
От нее Чарлз не избавился и во все последующие годы. Коллингвуд писал, что «он был застенчив и чувствителен по натуре», а коллега Кэрролла по Оксфорду вспоминал, что его «отличали чрезвычайная стеснительность и болезненное отвращение к публичности». Марк Твен, высоко ценивший книги Кэрролла, познакомившись с ним в доме Макдональдов, заметил, что «на него было лишь интересно посмотреть, ибо это самый молчаливый и застенчивый взрослый, какого я когда-либо встретил, если не считать „дядюшки Римуса“ (рассказчика сказок о Братце Кролике американского писателя Д. Ч. Харриса. — Н. Д.)».
Англичане нередко приводят выражение, давно уже ставшее пословицей: «Ребенок — отец Мужчины» (The Child is father of the Man). Эти слова принадлежат Уильяму Вордсворту, поэту, которого высоко ценил Чарлз. Вордсворт недаром выделяет два слова в этой строке заглавными буквами, подчеркивая тем самым их значимость. Эта фраза поначалу кажется парадоксом, однако в парадоксах нередко кроется истина. Глубокое наблюдение Вордсворта невольно приходит на ум, когда думаешь о детстве и отрочестве будущего Льюиса Кэрролла.
Глава пятая СТУДЕНТ КРАЙСТ ЧЁРЧ, ОКСФОРД
Двадцать третьего мая 1850 года Чарлз Латвидж Доджсон явился в Крайст Чёрч на экзамен, чтобы стать студентом старинного колледжа, где в свое время учился и преподавал его отец, оставивший по себе превосходные воспоминания. Экзамен прошел благополучно — недаром он так тщательно готовился к нему под руководством отца. Чарлз мог вздохнуть с облегчением — он принят! Ему вручили черную мантию, которую студенты были обязаны носить в колледже поверх обычного костюма, и черную шапку с квадратным верхом и кистью. У аристократов (nobles), которые приезжали в Оксфорд на два года, кисть была золотой; у студентов, называемых коммонерами (commoners), — черной; у сервиторов (serviteurs)[27] кисти, а порой и шапки не было вовсе, а мантия была укороченной. У Чарлза кисть была черной.
Затем последовала торжественная церемония, возглавляемая университетским вице-канцлером: стоя на коленях в просторном актовом зале, будущий студент поклялся соблюдать статут Крайст Чёрч, поставил подпись под «Тридцатью девятью статьями» (свод догматов Англиканской церкви, составленный по указанию королевы Елизаветы I), и вписал свое имя в университетские списки. В заключение вице-канцлер вручил ему экземпляр того самого статута, который он поклялся соблюдать.
К середине XIX века, когда Чарлз поступил в колледж, статут Крайст Чёрч, который искони был не только церковным, но и светским заведением, давно уже стал поразительным анахронизмом. Вокруг этого древнего свода законов в течение многих лет велись горячие дебаты. Принятый в незапамятные времена, статут лишь в 1845 году (за пять лет до поступления Чарлза) был переведен с латыни на английский язык, что, впрочем, вовсе не сделало его более современным. В отличие от уставов остальных оксфордских колледжей (каждый из них имел собственный свод законов) статут колледжа Крайст Чёрч практически не претерпел никаких преобразований со времени своего появления. Многие из его положений уже давно безнадежно устарели, были бессмысленны, мелочны или просто нелепы. Так, например, статут требовал, чтобы студенты и преподаватели «не отращивали длинных волос», «не следовали высокомерной и нелепой манере появляться в публичных местах в сапогах», «не вводили новой моды в одежде», воздерживались от игры в футбол, драк и сборищ, на которых обсуждают Церковь или руководство колледжа, и пр. За нарушение правил налагались штрафы, отбиралось оружие; собак, принадлежащих учащимся, вешали, а их самих исключали или отправляли в тюрьму! Не менее нелепы были и запреты, налагаемые статутом на горожан (торговцев, портных, владельцев питейных заведений, таверн и пр.) за малейшее отступление от утвержденных им норм.
Разумеется, многие из этих требований давно уже были забыты. Однако настоятель собора Крайст Чёрч, который был кафедральным собором всего Оксфордского университета, со времени основания колледжа занимал и пост ректора колледжа. Крайст Чёрч был самым богатым колледжем в Оксфорде. В то время, когда Чарлз поступил в колледж, им по-прежнему правили ректор и каноники собора Крайст Чёрч. Они распоряжались деньгами, получаемыми за аренду церковных угодий и прочей собственности собора и колледжа, и не желали поступаться старыми установлениями.
В Крайст Чёрч давно уже шли дебаты между консерваторами и либералами, настаивавшими на принятии нового статута или, по меньшей мере, на исключении из действовавшего многих устаревших положений. Однако до тех пор, пока ректором оставался Томас Гейсфорд, вступивший на этот пост еще в 1831 году, всё оставалось по-прежнему.
Чарлз, конечно, внимательно изучил статут. Нетрудно представить, как он с его чувством юмора и острой реакцией на всякие нелепости воспринял чудовищные анахронизмы этого документа.
Забегая вперед замечу: не исключено, что именно этому документу мы обязаны появлением одного из персонажей поэмы Кэрролла «Охота на Снарка», опубликованной годы спустя. Это, конечно, Bellman (на русский язык это имя переводили по-разному: Бомцман, Балабон, Блямс, Билли-Белл и пр.), возглавивший странную компанию, отправившуюся на поиски Снарка. Биограф Кэрролла Энн Кларк полагает: вполне вероятно, что в статуте Крайст Чёрч внимание Чарлза привлек некий университетский служитель — звонарь, известный под названием La Bellman, или «звонящий в колокольчик». Его обязанности заключались в том, чтобы «по смерти докторов, тьюторов и прочих уважаемых особ обходить колледж, надев на себя одежду покойного, и объявлять о его погребении звоном в колокольчик, несомый в руке». Участие этого персонажа в охоте на Снарка, пишет Кларк, бросает пророчески мрачную тень на диковинную затею этих удивительных персонажей. Вряд ли Кэрролл намеревался таким образом раскрыть свой замысел в самом начале поэмы; скорее всего, острый взгляд писателя просто не мог оставить без внимания этого диковинного персонажа.
Вернемся несколько назад, чтобы пояснить обычаи, которые со времен Средневековья строго соблюдались в Крайст Чёрч. Уильям Теккерей (1811–1863), замечательный писатель середины XIX века, — описал их в серии очерков, еженедельно печатавшихся в журнале «Панч» с 28 февраля 1846 года по 27 февраля 1847-го. В 1848 году (кстати, тогда вышла «Ярмарка тщеславия», прославившая Теккерея) писатель опубликовал эти очерки отдельной книгой, назвав ее «Книгой снобов, написанной одним из них». Юный Чарлз, к сожалению, в те дни еще не вел дневник (во всяком случае, до нас не дошло никаких сведений о нем), и мы не знаем, прочел ли он тогда эти очерки. Впрочем, скорее всего, прочел, ведь Теккерей адресовал их в первую очередь именно школярам. «Мы нежно любим всех школьников, — писал он, — ибо десятки тысяч их читают и любят „Панч“; да не напишет он ни одного слова, которое не было бы честным и не годилось для чтения школьников. „Панч“ не желает, чтобы его юные друзья стали в будущем снобами или же были отданы на воспитание снобам»[28]. Очерки выходили с иллюстрациями автора, который был блестящим рисовальщиком. Нетрудно представить себе Чарлза с восторгом читающим «Книгу снобов» и внимательно рассматривающим рисунки. Вряд ли он их пропустил. Невольно возникает вопрос: не пытался ли он идти по следам Теккерея, когда иллюстрировал свои домашние журналы юмористическими, а зачастую и сатирическими рисунками? Пять глав из книги — с 11-й по 15-ю включительно — Теккерей посвящает «снобам-клерикалам» и «университетским снобам». Приведем некоторые строки из 13-й главы этой замечательной книги:
«Если Вы, любезный читатель, подумаете о том, какой глубокий снобизм породила университетская система, то Вы согласитесь, что пришла пора атаковать кое-какие из этих феодальных средневековых суеверий. Если Вы поедете за пять шиллингов[29] посмотреть на „университетских юношей“, то можете увидеть, как один из них робко крадется по двору в шапке с квадратным верхом без кисточки, у другого эта шапка бархатная, с серебряным или золотым кантом, третий в шапке магистра и мантии спокойно шагает по священным университетским газонам, где не смеет ступить нога простого смертного.
Ему это дозволено, ибо он вельможа. Так как этот юноша — лорд, университет по прошествии двух лет дает ему степень, которой всякий другой добивается семь лет. Ему не нужно сдавать экзамен, ибо он лорд. Эти различия в учебном заведении кажутся настолько нелепыми и чудовищными, что тому, кто не съездил за пять шиллингов в университет и обратно, просто невозможно в них поверить».
Вот какую картину рисует великий писатель — и заметьте, что здесь нет ни грана сатирического преувеличения: для оксфордских студентов это была жизненная реальность. «Несчастливцев, у которых нет кисточек на шапках, называют… в Оксфорде „служителями“ (весьма красивое и благородное звание). В одежде делаются различия, ибо они бедны; по этой причине они носят значок бедности, и им не позволяется обедать вместе с их товарищами-студентами. В то время, когда это порочное и постыдное различие было введено, оно соответствовало всему остальному — оно было неотъемлемой частью грубой, нехристианской, варварской феодальной системы. Различия в рангах тогда соблюдались так строго, что усомниться в них было бы кощунством — таким же кощунством, как если бы негр где-то в Соединенных Штатах притязал на равенство с белым». Теккерей с негодованием вопрошает: «Почему же бедный университетский „служитель“ до сих пор обязан носить это имя и этот значок?» — и отвечает: «Потому что университеты — последнее место, куда проникает Реформа».
Суровые слова! «Грубая, нехристианская, варварская феодальная система», «порочное и постыдное различие», «последнее место, куда проникает Реформа»… Теккерей хорошо понимал, о чем говорил, ведь в свое время и он был «университетским юношей» — правда, в Кембридже (Тринити-колледж), — и собственными глазами наблюдал эти «средневековые феодальные предрассудки». Будет их наблюдать и Чарлз — и реагировать на них по-своему.
В своих очерках Теккерей дает новое осмысление понятию «сноб». Если прежде так называли невежду, сапожника, простолюдина, в частности горожанина, не принадлежащего к университетской аристократии, то теперь значение слова значительно изменилось. Теккерей решительно заявил, что снобы имеются во всех слоях общества. Снобы для него — все те, кто преклоняется перед вышестоящими и относится с презрением к нижестоящим. И те и другие, по его мнению, «низкопоклонствуют перед низостью». В последней главе своей книги Теккерей даже предлагает два вопроса для проверки людей «на снобизм»: «Как он обращается с великими людьми — и как с малыми? Как он ведет себя в присутствии его светлости герцога и как — в присутствии лавочника Смита?»
Здесь следует, пожалуй, отметить, что в наши дни смысловое наполнение слова «сноб» изменилось. Согласно русским толковым словарям это человек, который стремится не отстать от моды и придерживается манер буржуазно-аристократического круга. Порой добавляют, что это человек, претендующий на утонченный вкус и манеры, особую интеллектуальность и пр. Примерно так же теперь трактуют это слово и англичане, хотя они вовсе не отказываются от Теккерея.
Выше уже было сказано, что Чарлз принадлежал к коммонерам, носил шапку с черной кистью, сидел не за «высоким» столом, где располагались аристократы, а внизу за столом вместе с другими коммонерами (там же, кстати, сидели и преподаватели, если они не были канониками) и платил за еду, которая в Оксфорде была чрезвычайно проста, что не мешало ей быть непомерно дорогой. Последнее обстоятельство объясняется тем, что агенты, поставлявшие в колледж продукты и напитки, безбожно завышали цену. Слуги, не получавшие жалованья, вынуждены были следовать их примеру. Среди выпускников ходила шутка: «С меня содрали бешеные деньги — и я почувствовал себя снова в Оксфорде!»
В мае 1850 года Оксфорд выглядел просто великолепно — с усаженными вязами улицами и безукоризненно подстриженными зелеными газонами, старинными зданиями и лениво текущей Темзой, над которой склонялись плакучие ивы. Оксфорд располагался между двумя рукавами Темзы — Айсис и Черуэлл; по последней плавали лишь на плоскодонках, отталкиваясь длинным шестом. Древние стены и башенки Крайст Чёрч, внушительный собор и надвратная башня Том Тауэр, возведенная прославленным архитектором Кристофером Реном (Wren), ухоженные газоны, луга, полого спускавшиеся к реке, — всё это производило глубокое впечатление на всех, кто впервые приехал в Оксфорд. Каждый вечер ровно в девять часов пять минут старинный колокол «Том Белл» отбивал на башне 101 удар — по числу школяров, обитавших в колледже при его основании (в старину им надлежало быть дома к этому времени).
Роберт Саути оставил краткое, но выразительное описание учебного заведения: «Большая часть колледжа Крайст Чёрч сохранилась с древних времен; ничто не сравнится с его величественными вратами, величественным четырехугольным двором и широкими ступенями, ведущими к трапезной…» Правда, поэту не понравился небольшой фонтан с фигурой Меркурия над позеленелой водой, стоявший посреди просторного двора (по традиции его называли Том Квод, то есть Том Квадрат), обрамленного старинными зданиями, меж которыми возвышался собор, давший имя колледжу. Саути посчитал, что фонтан портит общий вид. С тех пор прошло два века — и маленький Меркурий давно уже стал одной из любимых достопримечательностей Крайст Чёрч. Во всяком случае, Чарлз не имел ничего против Меркурия.
Друзья поздравляли преподобного Чарлза Доджсона с зачислением его старшего сына. Доктор Джелф, один из каноников Крайст Чёрч, писал старому другу: «Я уверен, что выражаю общие чувства всех, кто помнит Вас в Вашу бытность в Крайст Чёрч, когда говорю, что буду счастлив видеть Вашего сына достойным следовать по Вашим стопам». Такой прием налагал на Чарлза особые обязательства, и он это понимал. Впрочем, он всегда относился к занятиям с крайней серьезностью — и потому, что всё делал с тщательностью и старанием, и потому, что знал: от этого зависит его будущее.
Однако между зачислением и началом студенческих занятий у Чарлза прошло более года. В то время в Крайст Чёрч не было определенного дня начала занятий. Вновь принятые студенты могли приступать к занятиям, не соблюдая строго семестры. Такая вольность отчасти объяснялась тем, что в колледже не хватало комнат для студентов. Имевшие средства снимали жилье в городе, однако это было недешево, и Доджсон не мог себе это позволить. Приходилось ждать, пока освободится помещение в колледже. Впрочем, возможно, преподобный Доджсон решил воспользоваться этим поводом для того, чтобы как следует подготовить сына к началу занятий в Крайст Чёрч. Во всяком случае, Чарлз провел этот год дома: много читал, занимался с отцом и немало времени проводил с братьями и сестрами, которых ему будет очень недоставать, когда он переберется в колледж. А еще он много рисовал, писал стихи и юмористические заметки — и, наверное, раздумывал о том, как сложится его дальнейшая жизнь.
Привязанность к отцу, которого добрый и чувствительный юноша любил всей душой и к которому испытывал глубокое уважение, диктовала ему одно-единственное решение: пойти по отцовскому пути, посвятить себя математике и Церкви. Чарлз знал, что именно об этом мечтал отец, к этому его готовил. В то же время он, верно, испытывал и сомнения: не догадываясь еще о своем художественном даре, он, однако, чувствовал, что в нем бьется какая-то иная жилка. Он был далек от понимания того, куда именно зовут его скрытые побуждения и склонности. Стремление к самовыражению пришло к нему позже; пока что это было всего лишь смутное предчувствие, которого он сам не понимал и не стремился понять. К чему склоняло его это предчувствие — к лирическим стихам, пародиям, юмористическим рисункам, заметкам, сценкам? Волей любящего отца, которым он восхищался и который, конечно, хотел для него только лучшего, будущее его было строго определено, путь четко начертан. И всё же в этот нечаянный «зазор» между школой и университетом, в эти дарованные ему каникулы Чарлз с удовольствием бездельничал (так пишут некоторые из его биографов): занимался пустяками, набрасывал какие-то нелепые рисунки, самозабвенно возился с братьями и сестрами, включая самых младших, сочинял смешные пародии и стишки… Никто не подозревал, что пройдут десятилетия и эти ранние юношеские опыты, эти рисунки, эти стишки будут воспроизводиться и внимательно изучаться не только в Англии, но и во многих других странах!
Почти все сестры и братья Чарлза обладали какими-то способностями и склонностями. Конечно, для девочек в то время не существовало серьезных школ и они не могли мечтать о поступлении в университет, однако под руководством отца они получили хорошее домашнее образование. Фанни увлекалась музыкой и ботаникой, Элизабет — литературой и сама пробовала писать; Мэри переводила, рисовала, интересовалась искусством; Луиза обладала незаурядными математическими способностями. Чарлз занимался с ней математикой и считал, что она ничем не уступает ему в этой области. Скеффингтон больше всех походил на отца; впоследствии он стал священником и главой большого семейства. Эдвин, самый младший ребенок в семье, также посвятил себя Церкви и стал миссионером сначала на Занзибаре, а потом на островах Тристан-да-Кунья. Уилфред, отличавшийся от братьев силой и ловкостью, ловил рыбу, охотился и всерьез занимался греблей и боксом. Он единственный из четырех братьев не принял сан священника и позже стал управляющим большого поместья.
Дети были очень привязаны к старшему брату. Вряд ли они понимали, что Чарлз обладает особым даром — не только понимать и любить детей, но и видеть мир их глазами, превращаясь в ребенка. И уж конечно, им и в голову не могло прийти, что ему предстоит всемирная слава. Они просто радовались тому, что он здесь, с ними, рассказывает увлекательные истории, придумывает игры, издает для них семейный журнал, героями которого зачастую выступают они сами. Свой дар Чарлз сохранит неизменным все последующие годы. Об этом даре и о его постоянной готовности щедро делиться им позже вспоминали с любовью и восхищением не только взрослые, но и все дети, с которыми он дружил. Вирджиния Вулф в эссе, написанном по случаю столетия со дня рождения Льюиса Кэрролла, назовет это свойство «кристаллом детства», который редко кому из взрослых дано сохранить.
Ожидание подходящего жилья в колледже затягивалось, но тут, на счастье, преподобный Джейкоб Лей, хорошо знавший Доджсона-старшего, предложил Чарлзу занять две свободные комнаты в его доме — и, к всеобщему удовлетворению, проблема была решена. 24 января 1851 года Чарлз поселился в Оксфорде — и оставался там в течение последующих сорока семи лет своей жизни. «Он принадлежал Дому (House — так сокращенно от Christ Church House называли колледж преподаватели и выпускники. — Н. Д.) и никогда не покидал его на сколько-нибудь длительное время, — вспоминает Коллингвуд. — Колледж стал чуть ли не частью его самого. А я не представлял колледж без него».
Начало занятий, увы, ознаменовалось для Чарлза тяжелой утратой. Через два дня после того, как он поселился у преподобного Джейкоба Лея, его вызвали в Крофт: внезапно скончалась его мать, которой было всего 47 лет. О причине ее смерти мало что известно: в свидетельстве о смерти значилось «воспаление мозга» — слишком общий диагноз, который нередко ставили в то время врачи. Он не поддается расшифровке современной медициной. Впрочем, известно, что миссис Доджсон ничем не была больна и в последние часы жизни у нее не было ни лихорадки, ни бреда, обычных симптомов воспаления мозга.
Чарлз поспешил в Крофт. Это был тяжелый удар для отца и детей, всем сердцем любивших «нежнейшую из матерей», всецело посвятившую себя семье и ни разу не сказавшую никому резкого слова. Чарлз, который был очень привязан к матери, тяжело переживал утрату. И хотя он по обыкновению был чрезвычайно сдержан в выражении своих чувств, потеря матери надолго омрачила его жизнь. Годы спустя в письме сестре он признается в том особом чувстве благоговения, которое испытывал к матери. Отзвуки этой потери звучат в написанном им спустя два года стихотворении «Уединение»:
Люблю лесов густой покой, Ручьев прозрачное журчанье И на холме лежать порой Задумчиво, в молчанье. ……………………………… Я здесь свободен, мне здесь лучше, Ведь тут ни грубость, ни презренье Не губят тишины, не рушат Восторг уединенья. Беззвучно слезы лью на грудь, Дух страстно жаждет благодати, Реву, как дети, чтоб уснуть У матери в объятьях…Стихотворение заканчивается тихим вздохом:
А я б отдал свою котомку Со всем пожизненным добром За радость вновь побыть ребенком Однажды летним днем[30].Предстояло как-то по-новому устраивать жизнь в доме с большой семьей, оставшейся без матери и хозяйки. Эдвину, самому младшему из детей, было в ту пору всего пять лет; старшие сестры Фанни и Элизабет были слишком неопытны, чтобы взять на себя бремя семейных забот. Первые недели после смерти миссис Доджсон на помощь семье пришла ее кузина Менелла Бьют Смедли, известная в то время поэтесса. На все последующие годы Чарлз сохранил к ней дружеские чувства. Позже, когда он начал писать, Менелла не раз помогала ему в публикации первых сочинений.
Заботы о семье самоотверженно взяла на себя Люси Латвидж, младшая сестра миссис Доджсон, и мужественно несла их до своей тяжелой болезни, приведшей к кончине. «Тетушка Люси» и раньше нередко гостила у Доджсонов, принимала участие в прогулках и играх детей, даже изредка писала что-нибудь для издаваемых Чарлзом семейных журналов. Она искренне любила племянников и обладала к тому же большим опытом по части содержания дома: ей пришлось помогать в воспитании собственных младших братьев и сестер, ухаживать за отцом во время его долгой болезни и вести хозяйство. Добрейшая и благородная душа, она сделала всё, что было в ее силах, чтобы сохранить для детей тепло домашнего очага. И преподобный Доджсон, и дети питали к ней сердечную привязанность и благодарность.
После возвращения Чарлза в Крайст Чёрч преподобный Джейкоб Лей помог ему оглядеться в Оксфорде (позже Чарлз занимался с ним древнегреческим). Всегда готовый помочь новичку советом, он в то же время ничем не стеснял его: Чарлз знал, что всегда может пригласить к себе друзей, и пользовался этой возможностью. Нередко он устраивал чаепития, которые в те годы всё еще оставались новшеством.
Здесь, возможно, будет уместным небольшое отступление о чае. В нашем представлении чай в Англии всегда пили в пять часов пополудни, однако оно, как оказалось, ошибочно. Об этом свидетельствует и жалоба одного из участников Безумного чаепития («Алиса в Стране чудес»): «А на часах всё шесть!» Дело в том, что в ту пору чай был еще экзотикой, и весьма дорогой, и пили его далеко не все и в самое разное время. Поначалу обычно обедали в пять часов, а чай или кофе подавались после вечерней трапезы. В некоторых домах его пили перед сном. Но понемногу обед передвигался на всё более поздний час, возможно, в связи с тем, что улучшалось освещение — на смену свечам пришли газовые рожки, а позже алебастровые горелки. В конце концов чаепитие заняло место обеда. Но это произошло не сразу. В 1874 году Кэрролл писал: «„Чай в пять часов“ — этот обычай столь связан с сегодняшним днем, что такое сочетание вряд ли было бы понятно нашим неотесанным предкам, даже тем из них, кто принадлежит к последнему поколению. Впрочем, мы столь стремительно движемся вперед, что чаепитие в пять часов стало национальным обычаем: все возрасты и чины придерживаются его повсеместно, в особенности потому, что считают его средством „от любых хворей, которым подвержена плоть“. И все до такой степени увлеклись этим, что популярностью оно уже соперничает с прославленной Хартией вольности».
В 1850-х годах детям всё еще давали чай лишь как угощение в промозглые дождливые дни. Вот почему в главе о Безумном чаепитии часы у безумцев остановились на шести — и потому, как догадывается Алиса, стол всё время был накрыт к чаю. В доме девочек Лидделл, которым Кэрролл рассказал эту сказку, чай пили чаще всего в шесть.
Дождавшись, наконец, когда для него нашлись комнаты, Чарлз поселился в Пекуотере — так сокращенно называли Пекуотерский квадрат (Peckwater Quadrangle), одно из зданий колледжа с квадратным двором. Вместе с двумя небольшими комнатами Чарлз получил также слугу по имени Брукс, который обслуживал всю «лестницу» (мы бы сказали «весь подъезд»), Утром тот подавал горячий завтрак, был готов в любое время дня принести своим подопечным и их гостям чай и пр. Чарлз был рад, что наконец-то обосновался в Крайст Чёрч.
Когда в начале 1990-х годов я, получив приглашение выступить на проходившей в Крайст Чёрч конференции с докладом «Кэрролл в России», приехала в Оксфорд, меня поселили в Пекуотере. Это совпадение меня взволновало. Утром я еще была в Москве, а днем оказалась там, где в первые годы пребывания в Оксфорде жил Кэрролл, — правда, не на той «лестнице». Признаюсь, я удивилась, что на здании нет хотя бы скромной мемориальной дощечки и никто даже не подозревает, что оно связано с именем писателя. Конечно, говорила я себе, Кэрролл прожил в Пекуотере очень недолго. Но, увы, дощечки нет и на том здании в Том Кводе, куда Кэрролл перебрался позже и где провел большую часть своей жизни в университете. Правда, на протяжении веков в Оксфорде обучались многие выдающиеся люди…
Старинные каменные стены Пекуотера покрыты плющом; через высокие арочные ворота можно выйти к знаменитым лугам (Meadows), которыми по праву гордится Крайст Чёрч. Таких просторов нет ни в одном из других колледжей Оксфорда! Луга тянутся до самой Темзы (здесь ее, как и во времена Кэрролла, называют Айсис) — они являются собственностью колледжа, который и по сей день остается не только самым большим, но и одним из богатейших в Оксфорде. Эти роскошные луга уже давно соблазняют дельцов. Не раз делались попытки отобрать либо откупить их у Крайст Чёрч, чтобы провести там шоссе или что-то построить, однако пока что колледжу удается их отстоять. Там по-прежнему можно видеть студентов: они сидят и лежат на траве — с книжками в руках или без них, беседуют, гуляют, запускают змеев. Будем надеяться, что так и будет продолжаться…
Сейчас в Пекуотере тихо. А в то время, когда Чарлз обосновался в Оксфорде, именно в этом дворе 5 ноября разжигали огромный костер в День Гая Фокса[31], который и по сей день ежегодно отмечают в Англии. Там же проходили и другие шумные празднества, буянили подвыпившие студенты, устраивали ночные концерты «золотые кисти». Вообще двор пользовался репутацией шумного и беспокойного места, где не рекомендовалось селиться тем, кто хотел заниматься науками. Впрочем, Чарлз умел сосредоточиваться — ему ничто не мешало.
Как уже говорилось, студенты в Крайст Чёрч, как и в других колледжах Оксфордского университета, делились на аристократов и коммонеров. Были еще и джентльмен-коммонеры (gentleman-commoners) — привилегированные студенты последнего курса университета; они пользовались правом обедать вместе с аристократами за «высоким» столом. И те и другие платили двойную таксу за свое пребывание в колледже. В большинстве своем эти студенты менее всего думали о науках. Зачастую колледж был для них всего-навсего неким «клубом», где после суровых будней публичной школы можно было предаться вольной жизни со всеми соблазнами независимости. Они снимали жилье в городе, изредка ходили на лекции, а то и вовсе их не посещали, охотились, держали собак и лошадей, занимались греблей и крикетом, участвуя в университетских соревнованиях или болея за приятелей, и всячески развлекались, пуская деньги на ветер. Вечеринки, пирушки, шумные обструкции непопулярным преподавателям, драки и битье окон были обычными происшествиями университетской жизни. После двух лет, проведенных в таких занятиях, обретя друзей и связи, весьма полезные им в дальнейшей жизни, аристократы покидали университет, даже не думая об экзаменах. Собственно, этим студентам и предназначался двухгодичный курс. Существовал еще и трехгодичный: выбравшие его сдавали в конце обучения облегченные экзамены и получали свидетельство, в котором отсутствовала какая-либо оценка их знаний, а просто стояло слово «сдано» (pass), после чего отправлялись восвояси. Те из них, кто мог себе это позволить, отправлялись в Большое путешествие (Grand Tour) по Европе — оно считалось достойным завершением образования.
Помимо деления студентов по происхождению и социальному статусу, не менее важным в университетской жизни было и другое деление — по тем задачам, которые они ставили перед собой. Одних не без иронии называли «учеными» или «школярами» (средневековое scholars равно обозначает всех, кто приобретает знания — на школьной ли скамье, в монастыре или университете), ибо они прежде всего стремились получить образование. Среди «школяров», бывало, встречались и аристократы, но всё же по большей части это были джентльмен-коммонеры или коммонеры.
Из «школяров» быстро выделялась группа наиболее способных и подготовленных студентов, которые ставили себе цель не просто окончить университет, но окончить его с отличием, что открывало для них дальнейшие перспективы. В Крайст Чёрч существовали отличия четырех степеней, причем даже четвертая означала неплохой уровень знаний. Такие студенты старались получить серьезное образование, особенно в последние годы занятий, когда они слушали лекции профессоров и занимались в специальных семинарах. Чарлз с самого начала знал, что он должен окончить с отличием, желательно первой степени, — от этого зависела его дальнейшая жизнь. Годы студенчества для него были наполнены напряженными занятиями. Последний год в Крайст Чёрч Доджсон изучал курс высшей математики, которым руководил профессор Прайс, ведущий математик Крайст Чёрч, тепло относившийся к нему.
Учебный год в Крайст Чёрч состоял из триместров по восемь недель каждый; таким образом, занятия в колледже продолжались в целом в течение полугода. Во время каникул — рождественских и пасхальных, а также, конечно, летних, называвшихся Долгими, поскольку они длились с июня до начала октября, — студенты обычно покидали стены колледжа. Впрочем, некоторые использовали время, когда Крайст Чёрч пустел и наступала желанная тишина, для углубленных занятий. Среди последних порой оказывался и Чарлз. Правда, он всегда стремился увидеть родных и в каникулярное время не задерживался в колледже надолго.
Университетские правила в те годы мало отличались от правил, действовавших в публичных школах. Студентов будили в шесть часов утра, чтобы они успели на утреннюю молитву, такую же обязательную, как и вечерняя. Специально назначенный преподаватель из молодых отмечал у входа в собор присутствующих на богослужении. За провинности студентов так же, как в школе, заставляли переписывать сотни строк латинского текста. Правда, телесные наказания, по свидетельству Коллингвуда, были «уже не приняты». В просторном Холле за каждым столом обычно находились шесть человек, менять место было не принято. С Чарлзом сидели Филип Пьюзи, младший сын каноника, позже также посвятивший себя богословским исследованиям, Ч. Дж. Коули-Браун и Дж. Ч. Вудхаус, тоже сыновья священнослужителей, а еще, пишет Коллингвуд, некий студент, послуживший прототипом Безумного Шляпника в «Алисе в Стране чудес». Коллингвуд не называет его имени, ибо его уже не было в живых в 1898 году, когда писалась биография Кэрролла.
Обед подавали в пять часов, стол был сервирован более чем скромно: оловянная посуда, потертые серебряные приборы, подаренные в свое время выпускниками колледжа (old boys), никаких скатертей и салфеток. На обед подавали на блюде мясо, каждый отрезал себе кусок и передавал блюдо дальше. Закончившие трапезу вставали, не дожидаясь, пока поднимутся остальные. Сервировка и блюда «высокого» стола, за которым сидели аристократы (порой к ним присоединялся ректор или кто-то из каноников), были иными.
Вообще говоря, в Оксфорде, как и повсюду в те годы, социальные различия соблюдались весьма строго и не вызывали протеста. Английская поговорка «Всему свое место, и всё на своих местах» (A place for everything and everything in its place) здесь трактовалась в духе строгой общественной регламентации, характерной для Викторианской эпохи; каждому надлежало соблюдать эти правила.
В свой первый год в Оксфорде Чарлз подружился с таким же студентом-новичком Ричардом Колли; тот навещал его, когда он еще жил у мистера Лея. Вместе они часто отправлялись на долгие прогулки, которые Чарлз очень любил. Однажды они попытались попасть на заседание Оксфордского суда, но оказалось, что с наступлением лета слушания закончились. Чарлз повторил попытку, когда начался учебный год. Судебные разбирательства интересовали его, и он не раз посещал их. Возможно, знаменитая сцена суда в «Алисе в Стране чудес» возникла не без влияния этих посещений.
Чарлз прилежно занимался в колледже математикой, латынью и греческим, богословием и другими предметами, а в свободное время не менее прилежно знакомился с достопримечательностями Оксфорда — старинной архитектурой, библиотеками, музеями, лавками букинистов. Юноше, выросшему в скромном пасторском доме в отдаленном северном графстве, в Оксфорде было что посмотреть, и он с увлечением предавался этим занятиям на досуге. Когда начались каникулы, он стал наезжать и в Лондон — благо Оксфорд расположен недалеко от столицы и к тому времени между ними уже существовало железнодорожное сообщение.
Первого мая 1851 года в Лондоне открылась Всемирная промышленная выставка, получившая в Англии название «Великая». Эта была первая в истории промышленная выставка такого размаха; она была организована под руководством принца Альберта, супруга королевы Виктории, и стала знаменательным событием. Здание для выставки было спроектировано «гениальным Пакстоном», выигравшим конкурс, в котором принимали участие 245 архитекторов разных национальностей. Выставочный павильон был построен в Гайд-парке из стали и стекла и с легкой руки журналистов «Панча» получил название «Хрустальный дворец». Легкая конструкция огромного здания с округлой аркой была в четыре раза длиннее и в два раза шире собора Святого Павла. Она прекрасно вписалась в пейзаж, не требуя вырубки старых вязов, ставших частью интерьера. Экспонаты показывались в разных разделах: сырье, механизмы и другие изобретения, промышленные товары, предметы изобразительного искусства, в том числе скульптуры. В выставке были представлены 40 стран, число ее участников доходило до четырнадцати тысяч, половину из них составляли англичане. За пять с половиной месяцев выставку посетили шесть миллионов человек. Тысячи людей приезжали издалека. По указанию принца Альберта цены на билеты различались по дням недели, чтобы выставку могли посетить рабочие и простолюдины. Такое в Англии видели впервые. Выставка дала 187 тысяч фунтов прибыли. Эти деньги принц-консорт решил пустить на приобретение земельных участков напротив Хрустального дворца, где со временем были построены Музей Виктории и Альберта, Королевский Альберт-холл, здание Королевского географического общества, Музей естественной истории, Королевский музыкальный колледж, Императорский институт и Императорский научно-технический колледж.
Конечно, Чарлз не мог оставаться равнодушным к чудесам Всемирной выставки; сразу же по окончании занятий он поспешил в Лондон. О впечатлениях от выставки он подробно рассказал своей сестре Элизабет в письме от 5 июля 1851 года. Оно, как многие из писем Чарлза, предназначалось для чтения всей семье; нередко сестры копировали его письма и посылали родственникам, чтобы и те были в курсе его дел. Скорее всего, это письмо подверглось той же участи.
Чарлз начинает письмо с признания: «Боюсь, что не сумею передать вам впечатление от всего того, что я видел, но постараюсь. <…> Когда входишь на выставку, тебя охватывает смятение. Она похожа на какую-то волшебную страну. Куда ни кинешь взор, всюду колонны, увешанные шалями, коврами и пр., бесконечные аллеи со статуями, фонтанами, балдахинами, и т. д., и т. п.». Он описывает Хрустальный фонтан, возвышавшийся при входе, множество поставленных в ряд статуй и отдел искусства. Особое впечатление на него произвела скульптурная группа «Амазонка, сражающаяся с тигром» — копия бронзовой статуи А. К. Э. Кисса, воздвигнутой в 1839 году в Берлине: «Морда лошади великолепна, она столь верно выражает ужас и боль, что ты почти ожидаешь: вот-вот она заржет. Амазонка откинулась назад, чтобы ударить тигра копьем, лицо ее выражает бесстрашие и решимость». Пройдет 16 лет, и, посетив Берлин по дороге в Россию, Чарлз не без иронии отзовется о тамошних статуях, но сейчас он в восторге от выставки.
Он не может пройти мимо двух скульптурных групп, копий работ Жана Батиста Лешезна (Lechesne): пса, вставшего над плачущим ребенком, чтобы защитить его от напавшей змеи, и того же пса, одержавшего победу, «…змея лежит с одной стороны, а ее тщательно отделенная голова валяется с другой. Судя по всему, пес для уверенности полностью ее отгрыз. Ребенок склонился над псом и играет с ним, а тот улыбается, впрямь улыбается от радости», — слова выделены самим Чарлзом.
Он описывает и другие работы, а также отдел, посвященный Средневековью, австрийские комнаты и пр. Его внимание привлекают всевозможные механические устройства и заводные игрушки; подобные вещи интересовали его с детства, и с годами он не потерял к ним интерес. «Там немало весьма искусно сделанных механизмов. Во французском павильоне дерево, по которому, совсем как живые, скачут с чириканьем с ветки на ветку птички, — пишет он. — Птичка прыгнет с одной ветки на другую, повернется, склонит головку вбок и через несколько мгновений прыгнет назад». Впрочем, внимательно разглядев это чудо, Чарлз отмечает и некоторые промахи в его конструкции. Он завершает письмо словами: «Я должен идти в Королевскую академию и потому кончаю, ибо о выставке можно говорить без конца — тема эта неисчерпаема».
В Королевской академии художеств открывалась ежегодная выставка живописи. С юных лет Чарлза влекло искусство, он и сам был, как ясно теперь, незаурядным, хотя и непрофессиональным рисовальщиком. Одно время он даже подумывал стать художником. Вглядываясь в его рисунки в семейных журналах, замечаешь, что ему особенно удавались гротескные персонажи и сценки. В пору студенческой жизни в Оксфорде регулярное посещение выставок Королевской академии вошло у Чарлза в привычку, которой он останется верным все последующие годы.
В ноябре того же года академические успехи Чарлза были отмечены присуждением стипендии Боултера. Это была одна из многих премий, существовавших в Крайст Чёрч; их учреждали выпускники, получившие наследство или сделавшие карьеру, старые преподаватели колледжа либо их близкие. Стипендия, которую получил Чарлз, составляла 20 фунтов стерлингов в год; в начале XVIII века ее учредил Хью Боултер, как значится в Оксфордском справочнике 1858 года, архидьякон графства Суррей. Сумма была довольно скромной, но всё же обрадовала Чарлза: это был первый шаг на пути к независимости.
Следующий, 1852 год был весьма знаменательным. В конце его Чарлз сдал экзамены, получив отличие первой степени по математике. За ним последовало отличие по классическим дисциплинам — правда, второй степени, что в Оксфорде было равнозначно первому экзамену на степень бакалавра гуманитарных наук. А в канун Рождества Чарлз получил, как в свое время его отец, звание пожизненного члена Крайст Чёрч, принесшее ему скромное содержание в 25 фунтов в год, бесплатное жилье в Крайст Чёрч и право пользоваться библиотекой колледжа, а также ежедневный бесплатный обед. Это звание присуждалось лучшим выпускникам по представлению ректора либо одного из каноников собора Крайст Чёрч. Чарлз получил его по представлению доктора Пьюзи, видного каноника и богослова, известного своей строгостью и беспристрастностью в выборе пожизненных членов колледжа. Как ни радовались Чарлз и его семья, ему еще предстоял длинный путь, чтобы закончить обучение.
Коллингвуд сообщает, что о пожизненных членах Крайст Чёрч в древнем статуте колледжа говорилось следующее: «Единственными условиями при этом назначении были обязательства не вступать в брак и стать впоследствии священником». К этому биограф Кэрролла добавляет: «Следует отметить, что в Крайст Чёрч не существовало никакого положения относительно того, какие именно обязанности должен исполнять член колледжа, — это ему предоставлялось решать самому».
По случаю получения Чарлзом желанного статуса отец прислал ему поздравление. Это письмо выразительно характеризует Доджсона-старшего и его отношения с сыном:
«Милый Чарлз,
Предоставляю тебе самому вообразить те чувства благодарности и радости, с которыми я прочитал только что полученное твое письмо; ибо уверяю тебя, что выразить их я не в силах; а твое любящее сердце еще более возрадуется при мысли о том счастье, которое ты доставил мне и всему нашему семейному кругу. Я пишу: „ты доставил“, потому что, как ни благодарен я своему старому другу доктору Пьюзи за то, что он сделал, я не могу желать более убедительного свидетельства того, что ты заслужил, безусловно, заслужил эту честь сам и что она присуждена тебе по справедливости, а не из доброго отношения ко мне. Тебе будет интересно прочитать отрывки из двух его писем ко мне — одно было написано три года назад, в котором я ясно говорил ему, что я не прошу и не ожидаю от него никакой помощи в этом деле, если мой сын не покажет с должной убедительностью, что достиг того уровня, при котором производятся эти назначения. Он отвечал:
„Благодарю Вас за то, как Вы пишете мне об этом деле. В течение почти двадцати лет я не присуждал стипендию никому из моих друзей, если в колледже не было весьма достойного для того человека. Я обошел назначением или отклонил сыновей тех, кому я был лично обязан за их доброту. Я могу лишь сказать, что буду чрезвычайно рад, если обстоятельства позволят мне назначить Вашего сына“.
В письме, полученном сегодня утром, он пишет:
„С большой радостью сообщаю Вам, что имел возможность на Рождество рекомендовать Вашего сына на место члена колледжа. Для Вас будет, безусловно, приятнее узнать, что он был выдвинут на этот пост благодаря рекомендации колледжа. Один из пяти надзирателей принес мне сегодня список из пяти имен; никто из нас не сомневался, впрочем, что Ваш сын в целом более всех остальных подходит колледжу. Мне было приятно слышать о безупречном и добром поведении Вашего сына“.
Эта последняя фраза подтверждает твое собственное сообщение, и я радуюсь, что ты столь скоро получил подтверждение тому, чему я всегда тебя учил…»
Приблизительно в то же время старший Доджсон, чьи богословские публикации и проповедническая деятельность привлекали внимание церковных кругов, получил значительное повышение. В 1853 году он был официально введен в должность каноника рипонского собора. По условиям этого назначения он теперь должен был в начале каждого года проводить три месяца в Рипоне, для чего ему с семьей был предоставлен обширный дом.
В те месяцы, когда отец находился в Рипоне, Чарлз навещал его, нередко задерживаясь в этом доме. Во время одного из его визитов, рассказывает Коллингвуд, произошла неожиданная история. Некая мисс Андерсон иногда гостила в доме настоятеля рипонского собора. Говорили, что она обладает даром ясновидения: ей было достаточно подержать в руке свернутую бумажку, на которой написано несколько слов, чтобы в деталях охарактеризовать писавшего. Однажды (точную дату Коллингвуд не указывает) она продиктовала следующее описание Чарлза: «Голова очень умная; много чисел; много имитаций; был бы хорошим актером; застенчив; в обществе весьма робок; проявляет себя в домашнем кругу; весьма настойчив; очень умен; большая сосредоточенность; любящее сердце; много сообразительности и юмора; память на события средняя; любит серьезное чтение; воображение развито, любит поэзию; может сочинять». Приведя это описание, сохранившееся в семейных бумагах, Коллингвуд прибавляет: «Те, кто знали его хорошо, согласятся, что мы здесь имеем дело по крайней мере с удивительным совпадением».
Возможно, именно этот случай объясняет последующий интерес Чарлза к различным парапсихическим явлениям. Впрочем, в те годы многие ими интересовались.
Первые месяцы 1854 года Чарлз напряженно готовился к выпускным испытаниям, которые в Оксфорде именуются Greats. Это заключительный экзамен на степень бакалавра по всему курсу гуманитарных наук (классические языки и философия). Последние три недели перед экзаменами он, по словам Коллингвуда, работал по 13 часов в сутки, а ночь перед устным экзаменом провел за книгами, ни на минуту не сомкнув глаз. Впрочем, философия и история не были «его» предметами, и результаты экзамена особенно не впечатляли. Впоследствии он постарался восполнить недостаток этих знаний и не терял интереса-к ним, о чем свидетельствует его библиотека, а также написанные им работы.
Летние каникулы в этом году Чарлз провел в Северной Англии, в йоркширском Уитби, занимаясь математикой в группе студентов под руководством профессора Бартоломью Прайса, ставшего впоследствии его коллегой и близким другом. Это был так называемый заключительный курс математики (Final Mathematical School). Занятия проходили в виде «чтений»; в ясные дни студенты вместе с профессором располагались на морском берегу. Вечерами Чарлз устраивался на камнях в окружении товарищей и появлявшихся неизвестно откуда детей, которые всегда были рады его слушать, и развлекал их удивительными сказками и рассказами. Много лет спустя участники «чтений» вспоминали о них с восторгом. Кто-то из них даже написал — уже после смерти Кэрролла, — что сказка об Алисе в Стране чудес возникла именно в Уитби. Это, конечно, была ошибка. О днях, проведенных Кэрроллом в Уитби, напоминает установленная там мемориальная доска.
Наряду с занятиями студенты совершали далекие прогулки. Однажды Чарлз вместе с веселой компанией отправился в Гоутленд. Он рассказал об этой поездке сестре Мэри в письме от 23 августа 1854 года. Сойдя с поезда, путники прежде всего осмотрели подъемник, тянущий поезд в гору; по словам Чарлза, это был, наверное, самый крутой подъем в гору длиной в целую милю. Чарлз, питавший особую склонность к различным механизмам и хорошо разбиравшийся в них, как обычно, внимательно изучил устройство подъемника и весьма подробно описал его в письме.
Поднявшись наверх, компания вскоре отправилась пешком обратно. По пути решили подняться еще и к водопаду, находящемуся неподалеку.
«Дорога к водопаду была сплошь глина и вода, сущая трясина, и я весьма опрометчиво повел всех обратно не по дороге, а вверх по склону горы. Поначалу нашелся лишь один охотник следовать за мной. Он полагал, что подъем будет не труден; правда, говорил он, на голову сыплется земля, но он решил, что я швыряю ее ради забавы. Когда же на него свалилась моя шапка и комья грязи залепили глаза, он сразу посерьезнел.
В эту минуту мои ноги потеряли опору, и, надломись корень, за который я ухватился, я бы сорвался и увлек его за собой. Однако возвращаться было бессмысленно, оставалось только идти вперед. <…> Всего труднее было, когда мы оказались на вершине: пришлось ползти по грязи, подтягиваясь, держась обеими руками за корни, в них было единственное спасение. Через пять минут появился мой спутник, а за ним и четверо остальных, все в грязи с головы до ног».
Водопад, к которому поднимались туристы, оказался весьма скромным и вовсе не заслуживающим такого опасного подъема. Впрочем, Чарлз был очень доволен этой экспедицией, хотя он и его спутники, перепачкавшись, шокировали остальную компанию.
Несмотря на опасность подъема, на который Чарлз, по его собственным словам, столь беспечно завлек товарищей, у него остались самые хорошие воспоминания об Уитби. Он обычно возвращался туда каждый год вместе с членами своей семьи, пока те не переехали из Крофта в Гилфорд. Опрометчивость и импульсивность, проявленные им во время этого путешествия, будут еще не раз сопутствовать ему, странным образом сопрягаясь с известной всем осмотрительностью и даже педантизмом, отличавшими его.
На выпускных экзаменах по математике в октябре 1854 года все, прослушавшие курс в Уитби, показали прекрасные результаты. Чарлз был первым и получил по математике диплом с отличием первой степени.
Тринадцатого декабря он подробно описывает эти события отцу:
«Посылаю Вам письмо, которое, как я полагаю, Вас весьма обрадует. Пожалуй, мне понадобится не один день, чтобы, наконец, поверить в то, что всё это правда; сейчас же я чувствую себя, как ребенок с новой игрушкой, — впрочем, вскоре она мне, пожалуй, наскучит, и я захочу стать папой римским. <…> Я только что вернулся от мистера Прайса, к которому заходил узнать о результатах письменных работ. Надеюсь, что они Вас обрадуют. С точностью, на какую я только способен, привожу ниже суммарные оценки каждого из получивших отличие первой степени:
Доджсон 279
Боузенкит 261
Куксон 254
Фаулер 225
Рэнкин 213
Мистер Прайс также сказал, что не помнит другого столь сильного состава выпускников. Всё это очень приятно. Я должен еще прибавить (это очень хвастливое письмо), что в следующем семестре мне предстоит получить еще одну стипендию, которая дается выпускникам (Senior Scholarship). В довершение всего я узнал, что после Фоссета я следующий математик и член колледжа с отличием первой степени (не считая Китчина, который оставил математику), так что я иду следующим на получение должности лектора (Боузенкит уходит)».
А в письме родным он добавляет: «Я начинаю уставать от поздравлений по разным поводам, им просто не видно конца. Если бы я застрелил ректора, об этом было бы меньше разговоров».
В целом 1854 год был весьма знаменательным для 22-летнего Чарлза — годом серьезных достижений и побед. Вдобавок ко всему 18 декабря ему присудили степень бакалавра.
Так закончились студенческие годы Чарлза Латвиджа Доджсона. Поставленные цели были достигнуты: на заключительном экзамене по математике он получил наивысшие баллы среди самых сильных студентов своего курса и был отмечен отличием первой степени. Это давало ему право на чтение лекций и получение других стипендий. Теперь он — пожизненный член колледжа Крайст Чёрч, о нем говорят как о прекрасном математике и пророчат ему блестящее будущее.
Однако он знает, что рано почивать на лаврах; у него есть еще и другие планы — пора задуматься о них.
Глава шестая ОКСФОРДСКИЙ «ДОН»[32]
Новый, 1855 год Чарлз встретил в Рипоне, в резиденции отца — просторном доме неподалеку от собора. Чарлз использовал это время для подготовки к экзаменам на стипендию по высшей математике, на которую мог претендовать, получив отличие первой степени на заключительных экзаменах. Уцелевшие дневники Чарлза начинаются записью, сделанной 1 января 1855 года (сохраняем авторское правописание): «Год начинается в Рипоне — немного позанимался Математикой, без особого успеха — набросал рисунок для титульного листа книги Божественной Поэзии М. Ш.»[33].
В Крайст Чёрч, в отличие от остальных колледжей, не воспрещалось давать частные уроки в его стенах. В ожидании звания лектора Чарлз решает взять несколько учеников. Первый ученик появился у него в январе незадолго до его дня рождения. Это был первокурсник по фамилии Бёртон, которого следовало подготовить к экзамену. К счастью, он оказался весьма способным, и Чарлз занимался с ним с удовольствием. В письме от 31 января, отправленном брату и сестре, он не преминул рассказать об этих занятиях в гротескной манере, хорошо знакомой его домашним:
«Милая моя Генриетта,
Милый мой Эдвин,
Я очень признателен вам за подарок, который вы прислали мне к дню рождения, — трость была бы, конечно, не так хороша. Я надел его на цепочку для часов, но ректор всё же его заметил[34].
Мой единственный ученик приступил к занятиям — я должен описать, как они проходят. Вы знаете, что чрезвычайно важно, чтобы наставник держался с достоинством и сохранял дистанцию, поставив себя возможно выше ученика.
Иначе, знаете ли, в них не будет должной скромности.
Итак, я сижу в самом дальнем углу комнаты, за дверью (закрытой) сидит служитель, за дверью на лестницу (тоже закрытой) — помощник служителя, на лестнице — помощник помощника служителя, а внизу, во дворе, сидит ученик.
Вопросы передаются по цепочке криком, ответы тоже, что поначалу, пока не привыкнешь, несколько сбивает с толку. Занятие протекает примерно так:
Наставник: Сколько будет трижды два?
Служитель: Где растет разрыв-трава?
Помощник служителя: Кто добудет рукава?
Помощник помощника служителя: Не длинна ли борода?
Ученик (робко): Очень длинная!
Помощник помощника служителя: Мука блинная!
Помощник служителя: Дочь невинная!
Служитель: Чушь старинная!
Наставник (обижен, но не сдается): Раздели-ка сто на двадцать!
Служитель: Не пора ли нам расстаться?
Помощник служителя: Кто же будет тут валяться?
Помощник помощника служителя: Заставь его посмеяться!
Ученик (удивленно): Кого же?
Помощник помощника служителя: Негоже!
Помощник служителя: Себе дороже!
Служитель: Ну и рожа!
И занятие продолжается.
Такова Жизнь.
Ваш нежно любящий брат
Чарлз Л. Доджсон».Разумеется, это весьма вольный перевод той игры в «испорченный телефон», которую придумал Кэрролл на радость родным: буквальный перевод в подобном случае погубил бы шутку. Чарлз здесь применяет прием, который англичане называют «реализованной метафорой» (realized metaphore): образное выражение в определенном контексте осмысляется буквально, «реализуется». В письме Чарлз обыгрывает фразы «наставник… должен сохранять дистанцию» и «поставить себя выше ученика». Неожиданная «реализация» этих двух метафор создает комический эффект. В написанных позже книжках Льюиса Кэрролла этот прием встречается нередко.
Вскоре к Чарлзу обратился его приятель Сэндфорд с просьбой позаниматься с его младшим братом. Чарлз согласился, но от платы решительно отказался — и получил в подарок томик стихов Томаса Гуда (1799–1845), широко известного в те годы. Спустя 16 лет своеобразный отклик на стихотворение Гуда «Сон Юджина Арама» появится в «Зазеркалье» Льюиса Кэрролла в главе IV «Труляля и Траляля» — это «самое длинное» из известных Траляля стихотворений про Моржа, Плотника и пожираемых ими устриц, которое он читает, невзирая на возражения Алисы. Оно написано в размере «Сна Юджина Арама» и следует его стилю, но не имеет в виду высмеивание оригинала.
Постепенно у Чарлза появились и другие ученики: в марте он уже посвящал 15 часов в неделю регулярным занятиям с ними. Параллельно урокам, отнимавшим много времени, он продолжил и свои математические занятия. В начале года под руководством профессора Прайса он вместе с другими выпускниками готовился к экзамену на получение стипендии по высшей математике. Однако вследствие ли обшей усталости от напряжения прошлого года или инфлюэнцы, которая свалила его в феврале, на второй день экзамена он добровольно «сошел с дистанции», поскольку не был удовлетворен своими ответами в первый день. В результате стипендию получил Боузенкит, над которым он одержал победу в прошлом году. В дневнике Чарлз винит себя за то, что не занимался должным образом.
Эта неудача не помешала ему в середине февраля 1855 года занять пост помощника хранителя библиотеки (Sub-Librarian). Его предшественником был старый друг Бейн, который, получив степень магистра, должен был оставить эту должность, по традиции занимаемую бакалаврами. В материальном отношении пост был не очень весомым. «Это прибавит 35 фунтов к моим доходам, — записал Чарлз в дневнике, — не слишком много для достижения независимости».
Впрочем, ему не приходилось жаловаться. В мае в дневнике появилась запись: «Ректор и каноники колледжа сочли возможным присудить мне одну из Бостокских стипендий, что, как говорят, дает 20 фунтов в год». Стипендия была учреждена в 1630 году некой Джоанной Босток из Виндзора, которая завещала доходы от принадлежащих ей четырех земельных участков четырем бедным студентам, предпочтительно из ее родни или земляков. Так как ни тех ни других на данный момент, по-видимому, не обнаружилось, одна из стипендий имени почившей в XVII веке дамы досталась Чарлзу. «А это означает, — пишет он, — что мои доходы в этом году весьма приблизились к обеспечению независимости. Терпение!»
Независимость — вот к чему Чарлз стремился. Он хотел освободить отца от необходимости поддерживать его: тому еще предстояло дать университетское образование трем младшим сыновьям, что было единственным способом обеспечить их будущее. К тому же Чарлз понимал, что рано или поздно ему придется взять на себя заботу о сестрах. Конечно, отец делает всё, чтобы обеспечить их будущее, но семь дочерей — это непросто… Неизвестно, все ли они выйдут замуж, а в викторианском обществе женщины из такой семьи имели весьма ограниченные возможности зарабатывать себе на жизнь: они могли стать учительницами или гувернантками, которым платили весьма скудно. Впрочем, дело, по-видимому, было не только в этом. Как ни был Чарлз привязан к отцу, как ни восхищался им как священником, богословом и человеком, всё же, очевидно, ему хотелось выйти из-под отцовской опеки, ощутить себя самодостаточной и свободной личностью. Он мечтал о жизни, полной интересных событий и друзей, хотел занять достойное место в Оксфорде, писать, может быть, рисовать… Его письма родным и друзьям, сопровождаемые смешными рисунками, исполнены юмора. Он был весел, умен, энергичен, зорко подмечал смешные стороны жизни.
Двадцать седьмого марта 1854 года Великобритания в союзе с Францией и Сардинским королевством официально вступила в Крымскую войну (1853–1856) на стороне Турции. Еще раньше Англия и Франция ввели свои эскадры в Черное море; в сентябре их армии высадились в Крыму. Чарлз внимательно следил за военными действиями — отметил в дневнике начало осады Севастополя 17 октября, битв под Балаклавой 25 октября и под Инкерманом 5 ноября. В первом из дошедших до нас дневников за 1855 год он упоминает имена коллег, которые отправились в Крым, в том числе лектора Крайст Чёрч и своего друга Чарлза Фоссета. Конечно, он внимательно читал статьи известного военного корреспондента Уильяма Говарда Рассела в «Таймс». Рассел в своих репортажах из Крыма писал о бездарности и нерешительности английского командования и чудовищном состоянии английских госпиталей. Это он сообщил о приказе главнокомандующего, по которому была брошена в бой на хорошо укрепленные позиции под Балаклавой легкая бригада из шестисот кавалеристов, преимущественно отпрысков знатных родов. Почти все они погибли под снарядами русской артиллерии, о чем благодаря журналисту узнала широкая общественность. Королева и принц-консорт были настолько возмущены дерзостью Рассела, что хотели привлечь его к суду или, по меньшей мере, запретить ему публиковать в самой популярной газете страны материалы, порочащие нацию. Однако сделать это они не могли.
Второго марта 1855 года Чарлз записывает: «По телеграфу сообщили о Смерти Российского Императора, что взволновало весь колледж» (выделено Кэрроллом. — Н. Д.). Он не упоминал о болезни Николая I и о ходивших в обществе слухах о том, что царь, тяжело переживавший поражение в войне, покончил с собой, но, конечно, знал о них. Спустя две недели Чарлз посетил лекцию об обороне Севастополя, за ходом которой с трепетом следила не только вся Россия, но и страны-противники.
В том же марте Чарлз получил письмо от сестры Элизабет с переписанным от руки стихотворением об «атаке под Балаклавой». Автор прославлял отвагу английских воинов и скорбел по погибшим, трактуя их гибель как моральную победу. Анонимные стихи приписывали поэту-лауреату[35] Альфреду Теннисону. Чарлз, питавший глубокое уважение к Теннисону, с недоумением читал стихотворение: «Думаю, что Теннисон не мог написать такие строки: „Но пришел бессмысленный приказ…“ или „сабли… саблят“ (the sabres… sabre)».
Поражение под Балаклавой вызвало в Англии резкую реакцию: весной 1855 года парламент начал судебное разбирательство по поводу злоупотреблений и ошибок, связанных с Крымской кампанией. Чарлз, который внимательно следил за военными и политическими новостями, не мог не знать об этом.
Спустя два месяца «Атака под Балаклавой» была напечатана в журнале «Экземинер» (Examiner) под названием «Атака легкой кавалерийской бригады». В августе Чарлз купил сборник Теннисона «Мод и другие стихи» (Maud and Other Poems). Стихотворную монодраму «Мод» он прочитал в один день. Найдя в сборнике «Атаку», с вниманием перечитал ее. Увы, сомневаться не приходилось — стихи принадлежали Теннисону. В записи от 14 августа 1855 года Чарлз замечает: «Он значительно улучшил „Атаку под Балаклавой“, там уже нет слов о „бессмысленном приказе“, хотя сабли всё еще по-прежнему „саблят“». В целом, заключает Чарлз, этот сборник «не поднимает и не роняет репутации поэта, хотя некоторые строки очень хороши».
В эти дни он ближе познакомился с театром, которому было суждено занять важное место в его жизни. Чарлз не принимал отрицательной позиции большинства англиканских священнослужителей, к которым принадлежали его отец вместе со старым другом доктором Пьюзи, епископ Оксфордский Сэмюэл Уилберфорс, другие представители старшего поколения и даже его друг Генри Парри Лиддон, который, будучи всего на три года старше Чарлза, уже получил в Оксфорде известность как богослов и проповедник. В начале века театр имел скандальную репутацию благодаря репертуару и нравам в актерской среде, где царили дешевая роскошь и распущенность. Репертуар состоял в основном из водевилей, комедийных сцен и бурлесков; девушки танцевали, высоко задирая юбки и поднимая ноги, после спектакля их разбирали по рукам. Правда, сцены из Шекспира и некоторых других старых классиков (целиком пьесы не ставились) пользовались популярностью. Спустя почти полвека отношение к театру стало меняться. Появились серьезные постановщики и актеры, а также чувствительные и так называемые интеллектуальные пьесы, хотя бурлески и водевили продолжали пользоваться большим успехом. Чарлз, обладавший незаурядным актерским даром, который отмечали все знавшие его, в том числе актеры-профессионалы, стал заядлым театралом. В его дневниках можно насчитать сотни упоминаний о посещении драматических спектаклей, концертов, опер. Наряду с «серьезными» пьесами он с удовольствием смотрел водевили и бурлески, отмечая удачные постановки, а также приводя имена актеров и актрис. Вот одна из его записей, сделанная 24 апреля 1867 года после возвращения из театра «Нью Роялти» (New Royalty Theatre), где он смотрел водевили «Забава Мэг», «Поклонник Сары», «Позднейшее появление черноглазой Сьюзен», которые ему очень понравились. Последний водевиль Чарлз называет «отличным бурлеском» и отмечает, что «песенку „Красотка Сьюзен, не говори нет’!“ вместе с танцем для пятерых бисировали 4 раза».
Очевидно, что театр со всем разнообразием представлений имел для Чарлза особое значение. Дженни Вулф в своей книге «Тайна Льюиса Кэрролла» отмечает: «Он не только сам любил играть, он наслаждался и игрой других. Возможно, яркий блеск рампы и драматический накал давали ему некое чувство освобождения, бегства в другую реальность, где не действовали обычные правила жизни… Его притягивали блеск, волшебство, способность создавать другие миры, другие жизни». Он смотрел все новые постановки, знакомился с актерами и их детьми, многие из которых также выступали на сцене. У него было лишь одно ограничение, касающееся театра: он не терпел никаких шуток на религиозные темы, которые, случалось, звучали со сцены. В подобных случаях он немедленно покидал зал и заносил спектакль в черный список.
Пасху 1855 года Чарлз, как всегда, провел в семейном кругу в Крофте. Он показал родственникам, друзьям и соседям кукольное представление, выбрав для этого написанную им самим «Трагедию короля Иоанна». Зрители бурно аплодировали. Успех пьесы порадовал Чарлза, задумавшегося о том, что следовало бы издать ее в виде детской книжки, снабдив указаниями, как изготовить марионеток и сцену. Хорошо бы, размышлял он, выпустить серию книжек с пьесами, которые могли бы разыгрывать сами дети или они же с помощью кукол-марионеток… Как видим, пасхальное представление подтолкнуло молодого человека, которому едва исполнилось 23 года, к мыслям о пьесах для детей! К сожалению, эта идея не была осуществлена. Правда, «Алису в Стране чудес» поставили на сцене, но это произошло много позже.
Через несколько дней после знаменательного представления Чарлз отправился в Дарлингтон, где приобрел для своей сестры Луизы том древнегреческого математика Евклида в изложении Чемберса. Выше уже говорилось о том, что Луиза, как и старший брат, обладала незаурядными математическими способностями. Перед тем как передать книгу сестре, он пролистал ее — и вознегодовал: автор позволил себе выдавать собственные вставки за Евклида! «Пришлось мне вымарать его многочисленные интерполяции (например, определения терминов) и восстановить некоторые из пропущенных им. Автор пересказа не имеет права коверкать используемый им оригинал: все дополнения следует строго отделить от оригинального текста Евклида», — записывает он в дневнике. Выправив текст, Чарлз подарил том Луизе и тут же начал занятия с ней. В последующие годы Чарлз не только занимался с сестрой математикой, но и делился своими замыслами и показывал свои труды, внимательно выслушивая ее соображения.
В том же знаменательном 1855 году произошло событие, оставившее след в жизни Чарлза. Случайно он оказался свидетелем эпилептического припадка, случившегося с одним студентом; к счастью, он не растерялся и сумел прийти на помощь. «Я благодарен судьбе, — записал он в дневнике, — что в ту минуту проходил мимо и смог быть полезным в этих чрезвычайных обстоятельствах. Я понял, насколько беспомощными делает нас невежество, и дал себе слово прочитать какую-либо книгу о непредвиденных обстоятельствах, что, как я думаю, следует сделать каждому». Не откладывая в долгий ящик, он тут же заказал себе «Советы оказавшимся в непредвиденных обстоятельствах», а вскоре собрал обширную медицинскую библиотеку, которую продолжал неустанно пополнять книгами по анатомии, физиологии, патологии и различным болезням. Он даже присутствовал однажды на операции — ампутации ноги выше колена — в больнице Святого Варфоломея. «Я давно хотел проделать этот эксперимент, — пишет он, — чтобы убедиться, могу ли я рассчитывать на себя в чрезвычайных обстоятельствах, и с радостью убедился, что могу».
В зрелые годы Доджсон имел обыкновение в конце года избавляться от приобретенных и прочитанных или просмотренных книг, оставляя себе лишь немногие. (Отметим, что это не помешало ему собрать внушительную личную библиотеку: после его смерти в ней насчитывалось до трех тысяч томов.) Книги же по медицине он сохранял и оставил по завещанию племяннику Бертраму Коллингвуду, медику, ставшему впоследствии профессором физиологии в больнице Святой Марии, где в 1930-х годах открылось детское отделение имени Льюиса Кэрролла.
Весной 1855 года Чарлз перебрался из двух скромных комнат в Пекуотере в Чеплинз Квод, ведь теперь он был уже пожизненным членом колледжа и преподавателем. Это было просторное помещение, отвечавшее его новому положению, где было достаточно места и для занятий с учениками, и для традиционных вечеринок с вином (a large wine), на которые, следуя обычаю, рёгулярно созывались все знакомые по колледжу. На эти вечеринки всегда собиралось немало народу; на этот раз у Чарлза было около сорока человек. (К сожалению, это здание не сохранилось.)
Джордж Китчин, занимавший в Крайст Чёрч пост экзаменатора по математике и хорошо знавший Чарлза, направил к нему 14 студентов для практических занятий. Проверив их подготовку, Чарлз разделил их на группы, определив на занятия с ними 13 часов в неделю, что давало ему примерно 50 фунтов стерлингов в год. Подсчитав свои доходы, он понял, что весьма близок к тому, чтобы обеспечить свою финансовую независимость, к которой он так стремился. Немного терпения — и он получит пост лектора и сможет вздохнуть спокойно.
В последние месяцы 1855 года Чарлз начал читать лекции по геометрии — три с половиной часа в день. Правда, он еще не был включен в число штатных лекторов; похоже, он проходил проверку. Лишь в следующем году он получил желанное место; в результате его учебная нагрузка значительно увеличилась: семь лекционных часов в день! — но вместе с тем выросло и жалованье.
Остро ощущая отсутствие учебников для студентов — в ту пору в Крайст Чёрч их просто не существовало, — Чарлз приступил к подготовке раздаточных учебных материалов. Несмотря на крайнюю занятость (вдобавок ко всему Китчин передал ему проверку экзаменационных работ студентов), он систематически работал над рукописью, которой дал название «Алгебраический разбор Пятой книги Евклида» (The Fifth Book of Euclid Proved Algebraically). Книга была напечатана в 1858 году; это была первая математическая публикация Чарлза Латвиджа Доджсона. Правда, вышла она анонимно — на титуле было скромно обозначено, что она принадлежит перу тьютора колледжа (By a College Tutor). Строго говоря, Чарлз не был тьютором (так называли наставника одного студента), что заставило некоторых исследователей подвергнуть сомнению его авторство. Позже оно было установлено по дневнику Чарлза. В последующие годы он продолжил работу и в 1879 году опубликовал том под названием «Евклид и его современные соперники» (Euclid and His Modern Rivals).
Студенты его особенно не радовали. Математика в то время всё еще оставалась обязательным предметом для всех студентов Крайст Чёрч вне зависимости от того, какую специальность — богословие, медицину, древние или современные языки либо другие гуманитарные предметы — они выбирали. Естественно, те, кто не собирался в будущем заниматься математикой, не проявляли особого рвения, что ставило преподавателя в затруднительное положение. К тому же большинство студентов были совсем не подготовлены к слушанию лекций, их не интересовали ни арифметика, ни алгебра с геометрией. Большинство аристократов, как мы помним, вообще находились в колледже вовсе не для получения образования и потому чаще всего игнорировали лекции, поскольку по окончании курса не собирались сдавать экзамены: они проводили два года в Оксфорде, чтобы потом козырять обучением в престижном университете, занимались спортом, кутили, заводили друзей и влиятельные связи.
На первую встречу, на которой Чарлз предполагал обсудить план занятий и расписание, явились всего 25 человек из шестидесяти. Повторный вызов отсутствовавшие снова игнорировали. Чарлзу пришлось обратиться за помощью к ректору; совместно они составили план действий. Для тех немногих, кто был настолько подготовлен, что мог обойтись самостоятельными занятиями, было отменено обязательное посещение лекций. Студентам, которые, несмотря на пробелы в знаниях, всё же предпочитали заниматься самостоятельно, также было разрешено не посещать лекции; однако они должны были в течение учебного года периодически сдавать экзамены по пройденному материалу.
Апатия студентов смущала Чарлза, который любил математику и занимался ею с увлечением. Мешало ему и заикание, правда, легкое, а иногда и вовсе незаметное; впрочем, он никогда не знал, где запнется, и нервничал, что было вполне естественно. Он тщательно отрабатывал и репетировал лекции. Прошло около года, и он признался в дневнике: «Я устал от лекций, у меня опускаются руки… Принуждать равнодушных к учению, к которому у них нет никакого вкуса, — это тяжелый и неблагодарный труд». Впрочем, когда к нему попадали студенты, для которых математика что-то значила, он воодушевлялся.
Вообще говоря, ставшее расхожим мнение о том, что он якобы не любил студентов, документами не подтверждается. В его дневнике находим такие записи: «Обедал с Бейном и познакомился с шестью студентами — очень приятный вечер»; «Пригласил к обеду сына доктора Хука; он мне чрезвычайно понравился». Среди воспоминаний о Кэрролле, вышедших после его смерти, есть и рассказ одного из бывших студентов колледжа, назвавшегося «Последним из уцелевших». Он пишет о «врожденной доброте» мистера Доджсона и вспоминает, как в один из своих первых дней в колледже получил от него записку с просьбой зайти к нему. Когда студент явился к нему, Чарлз сказал: «Мистер ***, если вы собираетесь заниматься математикой, я буду рад в случае необходимости всячески вам помогать».
Другой студент, Уолтер Риз, страдавший заиканием, рассказывает, как Кэрролл устроил его к своему врачу Генри Риверсу и настоял на лечении за скромную плату, ибо Риз находился в стесненных обстоятельствах. Несмотря на большую разницу в возрасте, Кэрролл и Риз занимались вместе упражнениями, помогавшими избавиться от заикания.
Отметим, что в ту пору между преподавателями и студентами в колледже, как правило, никакого общения, кроме занятий, не предполагалось; первые держались с подчеркнутой холодностью и отчужденностью. Скажем тут же, что Чарлз и в эти годы, и впоследствии неизменно выступал в защиту студентов, если у них возникали конфликты с руководством или, что случалось нередко, им грозило отчисление за драки, пьянство и всяческие бесчинства.
Бывшие студенты вспоминают мистера Доджсона, который читал им лекции, по-разному. Некоторые считали, что преподавал он «сухо»; один из слушателей написал, что он был «скучен, как стоячая лужа». Однако были и другие отзывы. Джон Г. Пирсон, впоследствии один из «патронов» колледжа, вспоминает, что «его объяснения элементов Евклида отличались такой необычайной ясностью», что понять их мог «даже самый неспособный из студентов». С годами Чарлз начал делать попытки всячески оживить занятия — так возникли многие его задачи, впоследствии ставшие знаменитыми.
Помимо лекций, частных уроков и работы над книгой, немало времени занимала у Чарлза и библиотека Крайст Чёрч. Хранителем библиотеки в то время был весьма уважаемый член колледжа преклонного возраста, так что основная работа выпала на долю Чарлза. Прежде всего ему предстояло ознакомиться с собранием книг и различных материалов. Желая как-то систематизировать и собственное чтение, Чарлз по ходу дела составлял тематический список для чтения, дав разделам названия: «Классические языки», «Богословие», «История», «Современные языки», «Поэзия», «Романы» и пр. Он подготовил также список «Богословское чтение для подготовки к принятию сана» и обсудил его с отцом. К концу семестра он закончил обзор основного раздела библиотеки, добавив к своему списку 24 названия.
Несмотря на занятость и напряженный труд, зачастую не дававший ему удовлетворения, Чарлз был полон сил и оптимизма. Молодой, энергичный, веселый и остроумный, он разительно отличался от того анахорета, каким его обычно представляют (правда, с годами он изменился). Он встречался с друзьями, старыми и новыми, и, конечно, поддерживал связь с многочисленными родственниками. Одним из любимых родственников Чарлза был брат его матери Скеффингтон Латвидж, адвокат, занимавшийся опекой над душевнобольными. Он жил холостяком и всегда был рад принять племянника. Чарлз часто его навещал и нередко оставался ночевать. Дядюшка всегда был в курсе всяческих открытий и технических новинок, которые интересовали и Чарлза. Приведем отрывок из письма Чарлза сестре от 24 июня 1852 года, в котором он описывал один из своих визитов к Скеффингтону:
«Как всегда, у него множество занятного, в том числе токарный станок, подзорная труба на штативе, гербовая печатка (смотри наверху страницы), прелестный карманный инструмент для измерения расстояний на карте, холодильная камера и прочее, и прочее. Вчера вечером мы наблюдали Луну и Юпитер, а потом рассматривали в сильный микроскоп всякую живность — это очень интересное зрелище, поскольку существа эти почти совсем прозрачны, так что видно, как их органы пульсируют, словно части сложного механизма; видна даже циркуляция крови. Жизнь суетится со скоростью паровоза, и я подумал, что это, верно, те букашки, которым назначено жить день-другой, и они торопятся всё успеть».
Посещал Чарлз и всяческие собрания и развлекательные мероприятия, которых было немало в Крайст Чёрч. Он играл в крикет и занимался греблей, но не принимал участия в состязаниях, хотя с удовольствием присутствовал на них, где бы они ни происходили, когда выступала команда его колледжа. Регулярно совершал — в одиночку или с кем-то из друзей — дальние прогулки, нередко проходя до 17–20 миль в день. Он даже учился кататься на коньках! Правда, однажды при падении Чарлз сильно ушибся и, судя по записям в дневнике, на лед уже больше не выходил. Впрочем, морозы в Оксфорде случались нечасто и лед держался недолго.
В Долгие каникулы Чарлз часто ездил в Лондон, останавливаясь то в гостинице, то у кого-то из родных. Вместе со своими друзьями Бейном и Рэнкином он энергично «осваивал» Лондон. Казалось, он стремится наверстать упущенное в студенческие годы, посвященные напряженным занятиям.
Обратимся к дневниковым записям, сделанным в течение одной недели, проведенной в Лондоне в июне 1855 года. 20 июня Чарлз вместе с Рэнкином «торопливо осматривает» выставку Королевской академии художеств, где отмечает лишь картину Джона Эверетта Миллеса «Спасение» (Rescue). Затем отправляется в знаменитый Ботанический сад, одну из достопримечательностей Лондона, а вечером — в Народную оперу (People’s Opera) на улице Друри-Лейн, где слушает модную в то время «Норму» Беллини со знаменитой мадам Арга, пение которой Чарлз нашел «очень воодушевленным». Музыка показалась ему «восхитительной», однако остальные певцы не произвели впечатления; декорации и костюмы, по его мнению, были просто «плохи». После «Нормы» давали балет. Рэнкин отправился домой, Чарлз же, никогда прежде не видевший балета, остался — «из любопытства». «Я был совершенно разочарован, — записывает он в дневнике. — Нарочитое безобразие поз поразило меня более всего остального. А еще говорят о поэзии движения! Естественная грация детей, танцующих на сельской лужайке, намного прекраснее. Не надо мне никаких балетов!»
Следующий день Чарлз провел не менее напряженно: утром вернулся в Королевскую академию (в июне там открывались традиционные выставки), днем был на стадионе «Лорде», где команды Кембриджа и Оксфорда состязались в крикете, а вечером отправился в Ковент-Гарден, где шла та же «Норма», в которой блистала примадонна Джульетта Гризи. Зал был переполнен, многие стояли, но Чарлзу удалось найти место в одном из задних рядов партера. Впрочем, он тут же уступил его даме, после чего ему «пришлось простоять полтора часа на ногах, пока не освободилось другое место». Сначала был исполнен первый акт «Нормы», в котором пела Гризи. «Ее пение и игра были великолепны, — записал Чарлз в дневнике, — но внешность груба, лицо красное; впрочем, она выглядит на удивление молодой для своих пятидесяти лет». Затем давали «Севильского цирюльника», который показался Чарлзу «скучным», — возможно, потому, что музыка была ему практически незнакома. Впрочем, «Mille grazie»[36] хор пропел «необычайно красиво», а солисты были очень хороши и забавны.
На третий день пребывания в Лондоне он отправился в «Театр Принцессы» (Princess’s Theatre) на Оксфорд-стрит, где царствовал Чарлз Кин, чье имя гремело в те годы. Давали «Генриха VIII» — это был первый шекспировский спектакль, увиденный Чарлзом на сцене. (Ранее он слушал «Генриха V» в зале оксфордской ратуши в исполнении Фанни Кембл — без костюмов и декораций.) Спектакль произвел на Чарлза глубочайшее впечатление. Кин ставил свои спектакли с размахом, используя новейшие достижения театральной техники и уделяя особое внимание декорациям, костюмам и тому, что теперь называют спецэффектами. В сцене сна королевы Екатерины фигуры ангелов сквозь натянутую прозрачную ткань казались настоящим видением. Немудрено, что всё это вместе с игрой прославленного Кина и других актеров потрясло Чарлза. Этому спектаклю он посвятил подробную запись в дневнике:
«Вначале давали превосходный фарс „Прочь, печаль“, а затем — замечательную пьесу „Генрих VIII“, лучше которой я никогда не видел и не надеюсь увидеть. Я и не подозревал, что на сцене можно увидеть такие роскошные костюмы и декорации. Кин в роли кардинала Уолси был великолепен, а миссис Кин (актриса Эллен Три. — Н. Д.) в роли королевы Екатерины показала себя достойной преемницей миссис Сиддонс. Впрочем, всё без исключения было хорошо. А несравненная сцена видения королевы Екатерины! Я не дыша следил за происходящим: иллюзия была полной, и мне казалось, что всё это я вижу во сне. Это походило на чудесную грезу или самую прекрасную поэзию. Вот подлинное назначение и цель актерской игры — возвысить душу над собой и над мелочными заботами жизни. Мне никогда не забыть этого прекрасного вечера, этого прекрасного видения — солнечные лучи пробились сквозь крышу, медленно озарив фигуры двух ангелов, парящих на фоне лепного потолка; сноп солнечных лучей упал на спящую королеву, и в этом сиянии возникли призрачные тени ангелов с пальмовыми ветвями в руках, колыхавших их над нею с невыразимой печалью и изяществом. Королева с восторгом простирает к ним руки — но они исчезают под звуки прекрасной медленной музыки так же волшебно, как появились. Глубокая тишина, царившая в зале, взрывается громом аплодисментов, однако даже они не нарушили впечатление от прекрасных слов, с печалью произнесенных королевой при пробуждении: „О, где вы, духи мира? Вы исчезли?“[37]».
Заканчивается запись словами: «Я в жизни так не наслаждался чем бы то ни было и никогда не был так близок к слезам, исторгаемым произведением искусства, если не считать, пожалуй, поэтической жемчужины Диккенса — сцены смерти маленького Поля» (речь идет о Поле Домби — персонаже романа «Домби и сын»), С тех пор каждый раз, когда Чарлз бывал в Лондоне, ой стремился не только попасть в «Театр Принцессы», но и привести туда друзей и родных.
В эти годы он часто посещает книжные магазины, роется в книгах у букинистов, и покупает, покупает книги. Он стремится всё успеть. Много читает в течение учебного года, но еще больше — в каникулы. Его дневники пестрят названиями прочитанных книг: тут, помимо математических трудов, и многотомные сочинения по истории и богословию, и биографии известных писателей и поэтов, в частности Китса, и книги о художниках, в том числе о забытом в наши дни Роберте Хейдоне[38] (испытания, выпавшие на его долю, особо тронули Чарлза), и поэзия — Данте, Тассо, Кольридж, Шелли, Байрон, Вальтер Скотт, Вордсворт, Теннисон и другие, менее известные поэты. И, конечно, Шекспир — его имя Чарлз ставит первым в списке писателей, чье творчество он собирается изучать особенно подробно. Знаменательна запись в его дневнике от 23 апреля: «Сегодня я, можно сказать, отметил день Шекспира[39], прочитав фрагмент из „Отелло“».
Порой в списке прочитанных Чарлзом книг встречаются и сюрпризы; так, из его дневника мы узнаём, что он читает биографию известного чревовещателя! Впрочем, удивляться здесь особенно нечему: с детства и до конца жизни он сохранил влечение к всевозможным цирковым и балаганным представлениям и артистам.
Конечно, Чарлз не пропускает и сочинения известных современников, однако отсутствие дневников ранних лет не позволяет нам ознакомиться с его непосредственной реакцией на прочитанное. Остается лишь догадываться о ней по косвенным свидетельствам. Замечание о «поэтической жемчужине Диккенса» дает представление об оценке романа «Домби и сын» (1848). Можно с большим основанием предположить, что Диккенс, который ввел в большую литературу незабываемые образы детей, был особенно дорог Кэрроллу. Неподражаемый юмор и гротескные персонажи старшего современника также, вне всякого сомнения, пришлись по душе будущему писателю. В этой связи вспоминается замечание о Диккенсе Вирджинии Вулф, которая в одном из автобиографических эссе пишет о своих знакомых старшего поколения: «…эти люди очень походили на персонажей Диккенса. Они были карикатурными; они были очень простыми; они были необычайно живыми. Их можно было бы набросать в одну минуту, если бы только я умела это делать. Удивительное умение Диккенса создавать живых персонажей объясняется тем, что он видел их так, как видят их дети…» Эти слова перекликаются с написанным несколькими годами раньше эссе, где она замечает, что «в самой глубине» его существа «прятался кристалл детства». Скажем, кстати, что в текстах Кэрролла немало «перекличек» с Диккенсом и даже цитат из него. В одном из писем знаменитой актрисе Эллен Терри, с которой он был дружен в поздние годы жизни, он приводит фразу из «Посмертных записок Пиквикского клуба».
Интересны соображения будущего писателя о менее известных авторах, рассыпанные в дневниковых записях тех лет. Вот, например, он читает книгу Хелпса[40] «Дружеские беседы», написанную в форме диалогов на социальные и интеллектуальные темы. 16 марта 1855 года Чарлз записывает в дневнике: «Сегодня утром закончил первый том „Дружеских бесед“ — прекрасно написанная книга, которую стоит внимательно прочитать еще раз. Если и есть в беседах какой-то недостаток, так только в том, что речи участников звучат слишком однообразно. В вымышленных диалогах такая опасность всегда существует; трудно придать каждому из персонажей индивидуальность, не создавая (как Диккенс) карикатуру. Если бы два или три автора писали такие диалоги вместе, взяв на себя по участнику каждый, это гораздо больше походило бы на запись настоящей беседы».
Порой его одолевают мрачные мысли. Вот одна из записей в дневнике за 1856 год (цитируется по Коллингвуду): «Я думаю, что большая часть людей, которых я вижу, по своей натуре недалеко ушли от животных. Сколь немногие из них интересуются теми единственными вещами, которые представляют интерес в жизни!»
Спустя несколько лет он прочитал роман Кингсли «Олтон Локк»[41]. В 1855 году вышел и приключенческий роман Кингсли «Эй, на Запад!», ставший излюбленным чтением детей и подростков последующих десятилетий, однако Чарлз, по-видимому, еще не добрался до него. На Чарлза, имевшего возможность по собственному опыту судить о положении бедняков, «Олтон Локк» произвел сильнейшее впечатление. 3 января 1856 года на страницах дневника он высказывает мнение о романе Кингсли: «Продолжаю читать „Олтона Локка“ — сильная и великолепно написанная книга». А уже 7 января он делает необычно длинную запись: «Закончил „Олтона Локка“. Автор с чувством рассказывает горестную повесть о лишениях и муках бедняков, но мне бы хотелось, чтобы он предложил более определенное лекарство, и прежде всего чтобы он поведал, чем он предлагает заменить „потогонную“ систему в портняжном деле и других занятиях. <…> Будь в книге больше определенности, она могла бы завоевать немало сторонников на благородной ниве общественных преобразований. О, когда бы Господь в своем благом Промысле назначил и мне быть таким работником! Но увы! Какими средствами я располагаю?»
Перед нами строки, не похожие на обычные дневниковые записи Чарлза. Создается впечатление, будто пресловутая английская сдержанность, привитая воспитанием, внезапно отступает, раскрывая нам глубокие раздумья очень молодого человека, искренне обеспокоенного положением ближних и своей ролью в их судьбах. Он далек от того, чтобы смотреть на бедняков сверху вниз, хотя эти люди гораздо ниже его по общественному положению; он принимает их горести близко к сердцу. Ему тяжко думать о том, что он не располагает средствами, чтобы прийти им на помощь. «Сколь немногие озабочены тем, что единственно важно в жизни! Но мне ли это говорить? Кто я, если на то пошло? Глубокий философ? Великий гений? Ни тот ни другой. Какие ни есть у меня таланты, я желаю посвятить их служению Господу, и да очистит Он мне душу и избавит от гордости и себялюбия. И да услышу я: „Молодец! Добрый и верный слуга!“»
Так вот о чем думал молодой застенчивый преподаватель… Вряд ли кто-либо из окружающих догадывался, какие мысли его тревожили, как горько он ощущал собственное бессилие.
Многие биографы Кэрролла не предполагали, насколько серьезны были его тогдашние мысли. Так, в книге Джона Падни «Льюис Кэрролл и его мир», вышедшей в Англии в 1976 году и вскоре переведенной на русский язык, находим упрек писателю: «…помимо возгласа „Какими средствами я располагаю?“ и обета служить Всемогущему он не много сделал для того, чтобы допустить в свое творчество жизненные проблемы… Он весь отдался напряженной работе и хорошо организованному досугу в том удобном призрачном мире, откуда бедность, уродство и невзгоды были изгнаны так же сурово, как богохульные мысли». Падни не допускает, что может заблуждаться, хотя и оговаривается в том же пассаже, что «многие из тех, кто знал Кэрролла, вспоминали его доброту». Теперь мы доподлинно знаем, что дневниковая запись, сделанная молодым Доджсоном, вовсе не была случайным всплеском чувств, который возникает под влиянием прочитанной книги, а потом благополучно забывается.
Меж тем жизнь в колледже шла своим чередом. Коллингвуд полагает: как бы ни был Чарлз занят преподаванием и поездками в Лондон, он серьезно думал и о том, чтобы заняться литературным или художественным творчеством, а возможно, тем и другим (такое в те времена бывало нередко — вспомним хотя бы Теккерея, блестяще иллюстрировавшего собственные произведения). Он начал регулярно посылать свои рисунки в различные журналы. Видно, Чарлз ощущал в себе настойчивую тягу к искусству, однако еще не сознавал, к чему она, собственно, его побуждает. Впрочем, гораздо больше, чем рисунки, ему удавались юмористические стихи и пародии.
К этому времени относятся первые попытки Чарлза поместить свои литературные опыты не только в семейные журналы и университетские сборники. Еще летом 1854 года в «Оксфорд эдвертайзер» (Oxford Advertizer) вышли анонимно два его стихотворения. Мы не знаем, что это были за стихи — Чарлз не счел нужным сохранить их. Несколько позже два других его наброска — небольшое юмористическое стихотворение «Леди с ложкой» (The Lady of the Ladle)[42] о франте, влюбленном в кухарку, и рассказ «Вильгельм фон Шмитц» (Wilhelm von Schmitz) — были опубликованы в «Уитби газетт» (Whitby Gazette). Оба произведения были подписаны инициалами «Б. Б.», которыми Чарлз пользовался еще в детстве в семейном журнале «Ректорский зонтик». Это всего лишь ученические наброски, не очень удавшиеся пробы пера; впрочем, что-то от будущего писателя Кэрролла в них всё же проскальзывает.
Герой рассказа «Вильгельм фон Шмитц» — Поэт (так величает его автор), одолеваемый муками творчества, от чего страдает его друг. Они ссорятся, потом мирятся, отмечая примирение обильными возлияниями. В результате Поэт попадает в руки полиции, заподозрившей его в убийстве неизвестно куда исчезнувшего друга. Но тот в конце концов находится (он заснул под столом), и всё завершается благополучно. Пожалуй, в этом рассказе Чарлзу больше всего удалось стихотворение, которое Поэт посвящает изменившей ему девушке:
Пусть мир жестокий причиняет муки, Прекраснейший букет попал мне в руки, Когда тебя я выбрал, моя Сьюки! Неужто не нашла достойного ты варианта, И обручилась — с кем… с официантом! Ужели Шмитц тебе не мил, с его талантом? О нет! Отвергнут был официант влюбленный, И ты теперь с главою преклоненной Поешь о том, когда придет твой нареченный…[43]Неожиданно на помощь начинающему литератору пришла Менелла Смедли. Ей понравилось стихотворение Чарлза «Три голоса» — остроумная пародия на «Два голоса» знаменитого Теннисона, и она сообщила о нем своему кузену, писателю Фрэнку Смедли. Тот по достоинству оценил пародию и, недолго думая, послал несколько стихотворений молодого автора Эдмунду Йейтсу, издателю недавно появившейся газеты «Комик таймс» (Comic Times). На Чарлза «Комик таймс» не произвела особого впечатления. Он записал в дневнике, что издание вряд ли продержится до конца года, но особенно выбирать ему не приходилось.
Йейтс тут же опубликовал два стихотворения Чарлза — «Поэзия для миллиона» и «Милая газель», пародирующее один из поэтических фрагментов повести «Лалла Рук» Томаса Мура. «Комик таймс» и впрямь просуществовала недолго. Все же Йейтс успел опубликовать еще два его прозаических наброска и три стихотворения. Одно из них, начинавшееся словами «В ней всё, что в нем меня влечет», пародировало популярный в то время чувствительный романс «Алиса Грей» Уильяма Ми, первая строфа которого звучала так:
В ней всё, что к ней меня влечет, — Божественна она. Но ей не быть моей — Душа другому отдана.Чарлз намеренно путает местоимения, создавая особый юмористический эффект — чепухи, бессмыслицы:
В ней всё, что в нем меня влечет, (Ручаюсь, я не льстец), И если что-то пропадет, Тебе и ей конец. Он говорит: ты был у ней. А я ушел давно, — Всё так. Но если быть точней, Она и ты — одно. Никто нас не окликнул, нет, Никто не подозвал, Он сел, грустя, в кабриолет, И в нем заковылял…[44]Годы спустя отзвук этого стихотворения прозвучит в «Алисе в Стране чудес» Льюиса Кэрролла (глава XII «Алиса дает показания»).
Вскоре Чарлз опубликовал в издании Йейтса прозаический отрывок, которому дал скромное название «Несколько рекомендаций относительно этикета. Как без затруднений обедать в гостях». Судя по всему, в нем пародируется глава «Обеды» из популярной в то время книги «Немного об этикете и о том, как вести себя в обществе», которая была снабжена выразительным подзаголовком: «С кратким очерком дурных привычек». Ограничимся одной выдержкой из этой книги: «Никогда не пользуйтесь ножом для того, чтобы отправить пищу в рот; не поступайте так ни при каких обстоятельствах; в этом нет необходимости, и это очень вульгарно. Ешьте исключительно вилкой или ложкой — нож следует употреблять только для того, чтобы что-то разрезать».
Пародия Чарлза не слишком близка к изначальному тексту: он не пародирует одну задругой преподносимые читателям рекомендации — скорее это суммарное подражание, язвительное и явно окрашенное бессмыслицей. Молодой автор позволяет себе немного порезвиться. Вот некоторые из его «рекомендаций»:
«Есть суп вилкой, давая в то же время хозяйке понять, что ложку вы бережете для бифштекса, теперь считают совершенно неприемлемым.
Переходя в столовую, джентльмен подает руку даме — подавать обе руки не полагается.
Сейчас, по счастью, уже не принято есть суп вместе с джентльменом, сидящим от вас через одного; однако обычай интересоваться мнением хозяина дома о погоде сразу же после того, как унесут первое блюдо, всё еще сохранился.
Когда перед вами ставят мясо, вы можете, если того пожелаете, его съесть, но всё же во всех случаях лучше полностью полагаться на то, как поведут себя ваши соседи…»
Второй прозаический текст Чарлза, опубликованный Йейтсом, назывался «Экстраординарная фотография» (Photography Extraordinary); в нем описывался некий «новейший метод фотографирования», позволяющий «довести» до нужного состояния литературные тексты. По утверждению автора, эксперимент над стихотворением Вордсворта (который был известен романтической задумчивостью) сообщил выбранному отрывку «удивительную энергию», а в ходе аналогичного эксперимента, проведенного над строками страстного Байрона, бумага «задымилась и обуглилась».
Казалось, Чарлз наконец нашел издателя, оценившего его дарование. Но, увы, газета Йейтса вскоре закрылась. Правда, Чарлз не терял надежды. Как ни короток был опыт его сотрудничества с Йейтсом, он дал молодому автору возможность оценить свои силы.
В июле 1855 года Чарлз решил собирать лучшие из своих текстов и вклеивать их в большую тетрадь, вне зависимости от того, были ли они опубликованы. Тетрадь он назвал «Миш-мэш». Это был последний из домашних журналов, которые он выпускал для развлечения братьев и сестер. Среди прочего в тетради оказался и неопубликованный фрагмент под названием «Англосаксонский стих», который он придумал во время игры «в стихи» летом того же года, когда гостил у своих кузенов Уилкоксов в Уитберне. Это строфа, не имеющая, кстати сказать, ничего общего с англосаксонской поэзией, войдет позже в «Зазеркалье» первой строфой прославленного «Бармаглота» (глава I «Зазеркальный дом»):
Варкалось. Хливкие шорьки Пырялись по наве, И хрюкотали зелюки, Как мюмзики в мове[45].В кратком послесловии, следовавшем за этим «любопытным отрывком», Чарлз писал: «Смысл этого фрагмента древней Поэзии темен, и всё же он глубоко трогает сердце».
После закрытия «Комик таймс» Йейтсу удалось начать новое издание под названием «Трейн» (Train). В марте 1856 года вышла первая публикация Чарлза в этом журнале — цитированное выше стихотворение «Уединение» (Solitude), сочиненное тремя годами ранее. Написанное в романтическом ключе, оно трогает искренностью интонации. Его строки характерны для лирических произведений, занявших свое место рядом с шуточными стихами, гротесками и пародиями.
Всего в журнале «Трейн» Чарлз опубликовал восемь стихотворений. Поначалу он подписывался инициалами «Б. Б.» (которые так и не удалось расшифровать), однако Йейтс попросил его придумать какой-нибудь более интересный псевдоним. Чарлз представил на его рассмотрение четыре варианта: Эдгар Катвеллис (Edgar Cuthwellis), Эдгар А. С. Вестхилл (Edgar U. С. Westhill), Луи Кэрролл и Льюис Кэрролл. Первые два представляли собой анаграммы его имен Charles Luthwidge; сочинение же двух последних потребовало известной изобретательности: Чарлз сначала «перевел» имена на латынь — получилось Carolus Ludovicus; затем поменял местами и «перевел» обратно на английский — получилось Льюис Кэрролл! Чарлз предоставил Йейтсу право выбрать из предложенных ему псевдонимов тот, который больше ему понравится. Издатель остановил выбор на Льюисе Кэрролле, за что мы должны быть ему благодарны, «Уединение» было впервые подписано этим псевдонимом.
К этому же времени относится стихотворение Чарлза «Путь шипов и тропа роз» (на русском языке оно вышло под названием «Дорога роз», также подписанное новым псевдонимом и посвященное англичанке Флоренс Найтингейл, организовавшей во время Крымской войны санитарные отряды и полевые госпитали; в тяжелейших условиях она вместе с медсестрами самоотверженно ухаживала за ранеными).
Героиня стихотворения Чарлза с горечью размышляет об участи женщин служить мужчине «игрушкой, куклой для забав» и слышит таинственный голос, возражающий ей:
«Ты — светоч, озаряющий его далекий путь, Надежды луч, рассеивающий скорбь и муку!»Перед глазами героини предстает видение:
И вот она стоит среди холмов огромных, Вокруг — повсюду, сколько видит глаз, Ряды солдат, построенных для битвы, Немые и недвижные, стоят друг против друга. Но чу! Вот дальний гром сотряс холмы, То всадников отряд в порыве слитном Вперед помчался сквозь живое море. Помчался к гибели; лишь горстка прорвалась За строй противника, отчаянно сражаясь.Видение меняется:
Страх и Боль витали над рядами Больных и умирающих людей. Там правил мрак, струившийся от крыльев Азраила, Но в нем сновал без устали живой огонь: Та, что явила милосердье к падшим, Спокойно проходила между них, И ясный взор ее звездою путеводной Был для людей, и каждому она Дарила свет, дарила утешенье, Смягчала жар предсмертный губ касаньем Или, склонясь, шептала пару слов На ухо умирающему воину, Который, уходя в долину грез, Благословлял ее.Таинственный голос, услышанный героиней, продолжает:
«Во мгле отчаянья и неизбывной тьме, Где Ужас и Война терзают землю, Заключено призвание твое, Бесстрашно озираешь ты картины, Бросающие в дрожь бойцов, ведь для тебя Священно всё, и все они равны: Нет низости, не стоящей заботы, И нет величия превыше благ твоих, Любая жизнь важна, у каждого есть место, Верши свой труд, а прочее рассудит Бог». Умолкнул голос, но она не отвечала, Лишь с уст ее слетело тихое «аминь», И поднялась она, и встала перед книгой, Спокойная и гордая в сгустившейся ночи, И взор свой устремила к небу; по ее лицу Струились слезы, но покой царил в душе, Покой, который мир вовек отнять не сможет![46]Стихотворение, датированное 10 апреля 1856 года, едва ли не единственное из его стихотворений, написанное Кэрроллом «на гражданскую тему». Автор восхищается Флоренс Найтингейл, хотя имени ее не произносит, и вместе с тем высказывает свои мысли о роли женщины в обществе.
В феврале 1860 года Чарлз опубликовал стихотворение «Лица в огне» (Faces in the Fire) в журнале «Круглый год» (All the Year Round), издаваемом Чарлзом Диккенсом. Можно лишь пожалеть о том, что его дневник за это время потерян и мы так и не узнаем, встретился ли он с издателем, творчество которого так любил… Он переписал «Лица в огне» в семейный журнал «Миш-мэш», а в 1869 году, сделав кое-какую правку, включил его в свой стихотворный сборник «Фантасмагория». Оно написано в традиционном романтическом стиле: поэт видит в огне меняющееся лицо девушки, которую когда-то любил. В этом же стихотворении автор со светлой печалью вспоминает Дарсбери, «счастливый край, где был рожден».
Некоторые из своих поэтических произведений Чарлз напечатал между 1860 и 1863 годами в университетском сборнике «Стихи, написанные в колледже» (Colledge Rhymes), в котором участвовали как оксфордские, так и кембриджские студенты и преподаватели. В течение двух семестров он даже был редактором этого сборника.
Как известно, дневники Чарлза с апреля 1858 года по май 1862-го пропали; писем за этот период почти не сохранилось. Когда открываешь его дневник 1862 года, видишь, как изменился тон записей. Судя по всему, он пережил душевный кризис. По этому поводу высказывались различные догадки, однако ничего определенного мы не знаем. Теперь в его дневнике не чувствуется веселости и открытости миру, которыми были отмечены его более ранние записи, зато нередко встречаются покаянные молитвы. «Господи, помоги мне преодолеть соблазн; помоги жить, словно под Твоим взором, помоги мне помнить о смертном часе, который недалек. Ибо сам я слаб до крайности, низок и себялюбив. Господи, верую, что Ты всё можешь, освободи меня от греховных цепей. Ради Христа. Аминь». И через несколько дней: «13 марта. Аминь, аминь».
Восемнадцатого декабря, подводя итоги завершающегося 1862 года, он пишет: «Господи, помоги мне ради Христа сделать так, чтобы следующий год был лучше этого. Аминь». А 31 декабря он делает в дневнике краткую запись: «Полночь. Прости мне, о Господи, грехи прошедшего года и дай мне силы быть лучше в наступающем году. Аминь». Заменяют ли эти молитвы исповеди, которых нет в Англиканской церкви? Впрочем, они слишком коротки, да и дневник не носит исповедального характера. Скорее, это завершение тех молитв, которые он произносит дома и в церкви, свидетельство глубокой внутренней работы.
Коллингвуд не проливает свет на эти годы жизни Кэрролла, хотя и отмечает, что между 1858 и 1862 годами были написаны его «серьезные стихотворения» (так называл их сам автор). Сборник назывался «Три заката»; в последние годы жизни Кэрролл готовил его к печати, однако он вышел в свет лишь после смерти автора. Коллингвуд пишет: «Я не могу читать этот маленький сборник, не чувствуя притом, что тень какого-то разочарования лежит на жизни Льюиса Кэрролла. Так я думаю о том, что случилось, и именно это обусловило его удивительную симпатию к тем, кто страдает».
Дженни Вулф делает попытку снять «завесу тайны» со слов Коллингвуда: внимательно прочитав стихотворения, вошедшие в этот сборник, она высказывает различные предположения — впрочем, это всего лишь догадки, не основанные на фактах. Стихи не отличаются оригинальностью и повторяют романтические мотивы, характерные для того времени: любовь, вероломство, страдания, женщина-вамп, мысли о самоубийстве… Лирический герой находит спасение лишь в чистоте детей да преданности матери. Что кроется за этими строками, так и остается неизвестным.
Всё это время Чарлз серьезно готовился к рукоположению в дьяконы: усердно читал богословские труды, беседовал о своих планах с отцом и друзьями-богословами, среди которых особое место занимал Генри Парри Лиддон. Мимо внимания Чарлза не прошли ожесточенные церковные дискуссии. Так, например, именно в эти годы были сделаны попытки возродить ритуал богослужения католической церкви. Весной 1858 года один из священников восстановил в своем приходе исповедь, что вызвало протест ряда священнослужителей и широкий отклик публики. В Лондоне прошли публичные собрания, на которых обсуждался этот вопрос; о них писали газеты. В конце концов архиепископ Кентерберийский Дж. Б. Саммер подтвердил отказ Англиканской церкви от исповеди и лишил лицензии священника, предложившего ее восстановить, в результате чего тот вынужден был оставить приход.
Четырнадцатого декабря 1861 года неожиданно скончался принц-консорт Альберт. Врачи диагностировали тиф. Однако принц давно уже страдал от болей в желудке; как считают современные медики, скорее всего, у него был рак. Принца оплакивала вся страна: все были потрясены его безвременной кончиной. В нашем распоряжении нет дневников Кэрролла за это время, но, конечно, он вместе с согражданами скорбел о кончине принца, пользовавшегося всеобщим уважением.
Глава седьмая КРАЙСТ ЧЁРЧ И ЛОНДОНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Второго июня 1855 года Крайст Чёрч взволновало известие о смерти ректора Томаса Гейсфорда, возглавлявшего колледж с 1831 года. Несмотря на почтенный возраст (76 лет), Гейсфорд до самого конца был бодр и полон энергии и умер после скоротечной болезни. Всего за неделю до смерти он вместе с одним из коллег размещал в библиотеке новые книги и был, казалось, в полном здравии.
В колледже был объявлен траур. Покойный Гейсфорд, погруженный в древнегреческие тексты, вел замкнутый образ жизни, заслужив прозвище «Старый медведь». Он был известен прямотой суждений и резкостью тона, а также приверженностью к старым порядкам и всячески противился реформам, по поводу которых уже не один год в Оксфорде и за его пределами велись горячие споры. Он правил твердой рукой и не лез за словом в карман; многие его ценили, уважали и любили.
Через пять дней после его смерти в «Таймс» появилось сообщение о назначении нового ректора Крайст Чёрч — им стал Генри Джорж Лидделл. Тамошние консерваторы, среди которых был и доктор Пьюзи, приуныли, зато депутаты палаты общин, принимавшие прямое участие в делах колледжа, это сообщение встретили с радостью. Что до Чарлза, то он, как и многие другие члены колледжа, принадлежавшие к молодому поколению, не примкнул ни к тому, ни к другому лагерю. Однако 7 июня 1855 года он отметил в дневнике, что назначение «Лидделла из Вестминстера» (Вестминстерской школы) «особого удовлетворения в колледже не вызвало». И немудрено — Лидделл был известен в Крайст Чёрч как влиятельный член недавно созданной Королевской комиссии по реформе университетского статута, работу которой не без успеха тормозили покойный Гейсфорд и его сторонники.
Лидделла в колледже знали с юности: он был студентом Крайст Чёрч и в 1829 году, подобно старшему Доджсону, окончил колледж с двойным отличием, после чего стал его пожизненным членом и тьютором; затем он занял пост директора Вестминстерской школы в Лондоне и женился. Его богословские труды и проповеди вызывали в церковных кругах неоднозначную реакцию, но созданный им вместе с другим выпускником Крайст Чёрч Робертом Скоттом «Лексикон греческого языка» принес ему заслуженную известность. Это был первый словарь древнегреческого языка с прямым переводом на английский. Древнегреческий язык изучался не только в Оксфордском и Кембриджском университетах, но и в школах, однако до появления труда Лидделла и Скотта словари древнегреческого языка давали переводы исключительно на латынь. Впервые словарь был опубликован в 1843 году, но Лидделл продолжал неустанно трудиться над ним в течение последующих лет своей жизни, ежедневно отводя для этого несколько утренних часов (он вставал в пять утра). Значительно расширенное восьмое издание словаря вышло в 1893 году. Этим словарем в Соединенном Королевстве пользуются и по сей день.
С приходом нового ректора жизнь в Крайст Чёрч начала заметно меняться. Лидделл разительно отличался от Гейсфорда, хотя оба посвятили себя Церкви и науке: он был в расцвете сил, широко образован, имел семью, обладал прекрасными манерами, был опытным дипломатом. Он происходил из аристократической семьи и поддерживал семейные связи; в бытность директором Вестминстерской школы он занял пост домашнего капеллана принца-консорта. Это был почетный пост (вспомним, однако, что английский термин honorary post означает еще и «безвозмездный, неоплачиваемый пост»), Лидделл регулярно читал проповеди во дворце, где встречал дружеский прием и нередко беседовал с королевой. Внешне суровый и даже грозный, ректор вызывал у окружающих почтительный ужас; он не любил бессодержательных бесед и светской болтовни. Впрочем, он был человеком воспитанным, достаточно терпимым и даже терпеливым. Вот что писал о нем современник: «У большинства людей ректор вызывал благоговейный трепет. <…> Он ненавидел обман. Порицал в других застенчивость, хотя более застенчивого человека свет не видывал». Его общение с преподавателем Доджсоном, судя по всему, было непростым. Ректор был старше его на 21 год, имел широкую известность благодаря своим трудам и достижениям и отличался авторитарностью, странным образом сочетавшейся с отмеченной выше застенчивостью. Чарлз также был стеснительным, к тому же заикался, что, впрочем, не мешало ему отстаивать свою точку зрения, часто в письменной форме. В дискуссиях и конфликтах, неминуемых в подобных случаях, ректор проявлял умение прийти к компромиссу, невзирая на частые и решительные вмешательства супруги, дамы красивой («в испанском стиле», как говорили о ней в молодости) и властной, ни на минуту не забывавшей о своем аристократическом происхождении. Окружающим ничего не оставалось, кроме как постараться притерпеться к манере миссис Лидделл. Однако вскоре по колледжу начал ходить стишок:
Я ректор. Миссис Лидделл всякий знает: Я правлю здесь, она же — заправляет![47]В детстве Лидделл подружился с Уильямом Теккереем, будущим прославленным писателем: в Чартерхаусе (школе не менее суровой, чем Регби, где учился Чарлз) они сидели за одной партой. На уроках оба развлекались, рисуя в своих тетрадках пейзажи, забавные сценки и карикатуры. Эту привычку Лидделл сохранил и в последующие годы; до наших дней дошли некоторые из его «почеркушек», сделанных во время долгих заседаний. Школьные наброски Лидделла были недурны, но он всегда признавал превосходство Теккерея: «Его рисунки были намного лучше моих, а его склонность к комическим сценам нашла в то время выражение в бурлесках, иллюстрирующих некоторые эпизоды из Шекспира». Директорствуя в Вестминстерской школе, Лидделл нередко встречался со школьным другом; порой они отправлялись в его экипаже на прогулку по Роттен-Роу — аллее Гайд-парка. «В то время, — вспоминает Лидделл, — „Ярмарка тщеславия“ выходила ежемесячными изданиями в знаменитых желтых обложках. Он часто говорил о своем романе, вслух размышляя о том, как поступить дальше с героями. Как-то миссис Лидделл сказала: „Ах, мистер Теккерей, вы должны позволить Доббину жениться на Эмили“. — „Что ж, пусть женится, — ответил он. — Заполучив ее, он поймет, что к этому не стоило стремиться“». Заметим кстати, что, узнав в свое время о женитьбе Лидделла, Теккерей огорчился, видно, понимая, что к этому браку также «не стоило стремиться». Впрочем, миссис Лидделл решительно не походила на Эмили.
Чарлз, конечно, тоже читал «Ярмарку тщеславия». К сожалению, его мнение о романе до нас не дошло. Однако весной 1857 года ему довелось лично познакомиться с Теккереем, который приехал в Оксфорд, чтобы выступить с чтением своего исторического эссе о Георге III, вошедшего в книгу «Четыре Георга». На следующий день после лекции друг Чарлза Томас Фаулер из Линкольн-колледжа пригласил его на завтрак с писателем. «Мне было очень приятно познакомиться с ним, — записывает Чарлз в дневнике 9 мая. — Он держится просто и естественно; не стремится выделяться в беседе, хотя неизменно готов посмеяться и рассказать веселую историю. Казалось, его восхитил прием, оказанный ему вчера. Студенты вели себя необычайно прилично».
Естественно, Чарлзу, который к тому времени стал завзятым фотографом, очень хотелось сделать фотопортрет писателя. Узнав об этом, один из его друзей, приходившийся Теккерею кузеном, попросил того позировать. Писатель любезно согласился, однако позже отговорился тем, что «очень занят». Мы не находим отзыва о «Четырех Георгах» в дневнике Чарлза; впрочем, можно предположить, что он, любивший бурлеск и сатиру, оценил книгу по достоинству.
Лидделл на протяжении всей жизни не утратил интерес к искусству, который позже привел его к дружбе с Джоном Рёскином (Ruskin, 1819–1900), известным критиком и историком искусства, талантливым художником, поклонником и энергичным защитником Братства прерафаэлитов. Он способствовал тому, что в Оксфорде открылось художественное училище, подобное лондонской Школе Слейда (Slade School)[48]. Одно время Рёскин даже давал уроки рисования Алисе, второй дочери ректора. Ой ценил художественные способности Лидделла и искренне сожалел, что тот родился англичанином: «Прозаическая и практическая сторона его натуры возобладала над поэтической».
Чарлз познакомился с ним осенью 1857 года. К тому времени уже вышли его книги «Семь светочей архитектуры» (1849), «Камни Венеции» (1851–1853), «Элементы рисования» (1856). Чарлз встретился с ним в Клубе колледжа, который Рёскин, также выпускник Крайст Чёрч (колледж он окончил в 1836 году, позже получил звания бакалавра, магистра, почетного студента и пр.), изредка посещал. 27 октября Чарлз записывает в дневнике: «За завтраком в клубе познакомился с Джоном Рёскином. Мы немного поговорили с ним, но беседа была слишком коротка, чтобы выявить в нем нечто характерное или замечательное. Внешность его меня разочаровала: лицо слабое и невыразительное, лишенное решительности и каких-либо внешних признаков глубокой мысли, которые ожидаешь увидеть в таком человеке». Первое впечатление не помешало Чарлзу относиться к Рёскину с глубоким уважением и позже сблизиться с ним.
Вступление доктора Лидделла в должность было ознаменовано торжественным приемом в ректорской резиденции. Лидделл на свою часть гонорара за издание «Лексикона греческого языка» перестроил ее, украсив величественной дубовой лестницей, ведущей из холла на верхние этажи. Лестница была закончена в начале 1856 года; на перилах площадок установлены резные львы из фамильного герба Лидделлов (их убрал один из его преемников). В феврале ректор писал своей матушке: «Работы по дому почти полностью закончены, так что нам остается лишь приятная обязанность показать его друзьям — и оплатить счета». Вскоре лестница стала одной из достопримечательностей колледжа и тут же получила название «Лексиконовая» (Lexicon Staircase). На прием в обновленную резиденцию были приглашены члены Крайст Чёрч — каноники, профессора, лекторы, тьюторы, стипендиаты; гостей было так много, что пришлось проводить мероприятие в два дня (Чарлз получил приглашение на второй день). По случаю торжества прием сопровождался концертом. Такое происходило в Крайст Чёрч впервые, и многих смутило это новшество.
По случаю назначения нового ректора Чарлз получил звание магистра, которое в Крайст Чёрч обычно присваивалось не ранее чем через семь лет по зачислении в колледж. Подводя, по обыкновению многих викторианцев, итоги завершавшегося 1855 года, он записал в дневнике: «Последний вечер уходящего года я коротаю в одиночестве; близится полночь. Это был год, чрезвычайно богатый событиями: я начал его бедным бакалавром без определенных планов и надежд, а кончаю магистром и преподавателем Крайст Чёрч с годовым доходом свыше 300 фунтов, обеспеченным, благодарение Господу, еще на несколько лет преподаванием математики. Великие милости, большие поражения, потерянное время, талант без приложения — таков был уходящий год».
Обратим внимание на четкость формулировок: молодой магистр не проявляет склонности к почиванию на лаврах (хотя и имеет для этого основания) и не делает себе скидок. Запомним слова «талант без приложения». Пройдет немного лет — и талант найдет себе приложение, неожиданное для его обладателя.
Последующие годы принесли молодому дону немало забот. Младший брат Эдвин учился в Регби, и Чарлз часто его навещал — возможно, хотел оградить, насколько это было в его силах, от неприятностей, которые ему самому пришлось пережить в этом заведении. Два других брата, Уилфред и Скеффингтон, стали студентами Крайст Чёрч. Уилфред обладал блестящими способностями, учеба давалась ему легко, и он спокойно сдавал все экзамены, а вот у Скеффингтона то и дело возникали проблемы. Чарлз терпеливо готовил его к предварительному экзамену, который предстояло сдать для того, чтобы быть допущенным к экзаменам на получение степени. Скеффингтон дважды терпел неудачу, однако отец и старший брат всячески ободряли его. В конце концов в 1859 году он получил степень бакалавра, и в этом, несомненно, была огромная заслуга Чарлза. С Уилфредом у старшего брата также было немало трудностей: тот желал следовать далеко не всем правилам колледжа, а лишь некоторым, по собственному выбору. Приходилось вести с ним долгие беседы, чтобы убедить подчиняться обязательным для всех принципам.
Несмотря на незаурядные способности, Уилфред не пожелал стать, подобно братьям, священнослужителем или ученым. Он любил деревенскую жизнь и стал управляющим поместьем и бизнесменом. В дальнейшем, как отмечают биографы, его доходы значительно превышали доходы братьев.
Назначение Лидделла ректором Крайст Чёрч способствовало укреплению связей колледжа с королевской семьей. В октябре 1859 года принц Уэльский стал студентом Крайст Чёрч и поселился в Оксфорде. Одним из его тьюторов стал Робинсон Дакворт, друг Чарлза, который позже примет участие в знаменитой речной прогулке с девочками Лидделл. Чарлзу, конечно, хотелось сделать фотопортрет принца, но получить согласие его высочества, как он ни старался, не удавалось. Впрочем, он не терял надежды.
Двенадцатого декабря 1860 года Крайст Чёрч неожиданно посетила королева. Все были крайне удивлены, так как о визите никто в колледже не был предупрежден. Ее сопровождали принцесса Алиса с принцем Гессен-Дармштадтским, с которым она была помолвлена, принц Уэльский, принц Альфред и свита. Они зашли в Холл, мельком взглянули на украшавшие его картины, о которых рассказывал им ректор, а затем направились в библиотеку и собор. В письме родным, сохранившемся лишь частично, Чарлз подробно описывает высочайший визит: «Я впервые видел королеву так близко, к тому же не сидящей, а стоящей. Я был поражен, обнаружив, как она мала ростом (чтобы не сказать: до чего полна), и — при всей моей преданности ей — до чего проста лицом. Она точь-в-точь такая, как на той небольшой фотографии, где она изображена во весь рост. Я купил фотографии всей королевской семьи и привезу их домой».
Вечером у ректора был устроен прием с бывшими тогда в большой моде «живыми картинами» на темы известных живописных или скульптурных произведений. Чарлз был среди приглашенных. В том же письме он сообщал: «Tableaux vivants[49] были очень хороши. Леди Уильямсон была там, она позаботилась о костюмах и сама принимала участие в одной сцене. „Спящая принцесса“ по Теннисону была одной из самых прекрасных картин: в ней участвовали только дети, которые были чудесно сгруппированы. Думаю, эту картину поставила леди У. Я уверен, что не миссис Лидделл: фотографируя в их доме, я пришел к весьма грустным выводам относительно ее вкуса».
Чарлз попросил одного из старших членов колледжа представить его принцу Уэльскому, и это было сделано, как только у наследника возникла пауза в беседе с гостями. Вечером того же дня Чарлз записал в дневнике: «Принц милостиво протянул мне руку; я начал с извинения за свою назойливость по поводу фотографирования. Он ответил, что погода этому не благоприятствовала. Я спросил, не докучали ли ему в Америке фотографы, и он ответил, что не очень им поддавался. Я рассказал о новом американском методе, при котором можно делать 12 тысяч снимков в час. В ту минуту мимо проходила Эдит Лидделл, и я заметил, что с детьми можно составлять прелестные композиции; он согласился со мной, сказав, что видел мои снимки детей и они ему очень понравились. Тогда я выразил желание получить его автограф на открытке с его портретом. Он обещал. Полагая, что пора завершить разговор, я заверил его, что он окажет мне честь, если пожелает получить копии любых моих снимков. Он поблагодарил, и я отошел, поскольку не заметил с его стороны желания продолжить беседу». Альбом с фотографиями был передан принцу; позже Чарлз отправил ему около дюжины отмеченных им фотографий.
Принц Уэльский, будущий король Эдуард VII (1901–1910), прославившийся своей приверженностью к роскошным обедам, охоте и женщинам, не подозревал, какую ошибку совершил, отказавшись от предложения Чарлза фотографировать его. Согласись он позировать, его портрет работы Кэрролла, подобно фотографиям его младшего брата принца Леопольда, а также наследника датского престола принца Фредерика, украшал бы сейчас многочисленные книги, посвященные писателю.
Назначение Лидделла ректором открывало новую эпоху в жизни колледжа, который, по остроумному замечанию биографа Кэрролла Ф. Б. Леннон, начал «быстро переползать от Средневековья к современности». Для этого Лидделл оказался весьма подходящим человеком. Ректор Крайст Чёрч был очень влиятельным лицом: по статуту он занимал также пост настоятеля оксфордского собора. С годами Лидделл стал и вице-канцлером Оксфордского университета. Он оставался ректором в течение тридцати восьми лет, — это и по сей день самый долгий в Крайст Чёрч срок. Впрочем, после первых решительных шагов он несколько поостыл, чему немало способствовало его пошатнувшееся здоровье, потребовавшее вмешательства врачей и длительного отдыха на острове Мадейра. В 1860-х годах он стал избегать резких перемен, с помощью которых ранее заслужил репутацию радикального реформатора, и избрал политику постепенного введения новшеств, для чего старался привлечь на свою сторону влиятельных членов колледжа. Так началась новая эпоха в жизни Крайст Чёрч.
В конце июня 1860 года весь Оксфорд взволновало событие национального масштаба — дискуссия о дарвинизме, проходившая в Оксфордском университете. Недавно вышедшая книга Чарлза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859) вызвала огромный интерес и ожесточенные споры. В оксфордской дискуссии науку представлял известный ученый Томас Гексли (Хаксли), а Церковь — не менее известный Сэмюэл Уилберфорс, епископ Оксфордский. Дискуссия проходила в новом оксфордском Музее естественной истории, где собралась огромная аудитория. К сожалению, отсутствие дневника за это время лишает нас возможности узнать, что именно думал по этому поводу Доджсон. Нам известно лишь, что он купил билет на дискуссию, заплатив за него две гинеи (42 шиллинга) — весьма значительную по тем временам сумму, принимал участие в подготовке самого собрания и после его окончания сделал серию фотографий известных деятелей, съехавшихся по этому поводу в Оксфорд, в том числе и обоих оппонентов — Гексли и Уилберфорса. Судя по всему, Доджсон надеялся продать эти карточки коллегам и гостям, чтобы покрыть расходы на реактивы и печать снимков.
Для образованного человека того времени было уже нелегко не принимать научные и исторические свидетельства, идущие вразрез с библейскими текстами. Даже самые преданные Церкви верующие понимали, что библейская картина Сотворения мира не могла быть буквально правдивой с научной точки зрения. Внимательное изучение библейских текстов вызвало горячие дискуссии о верности перевода некоторых мест. В библиотеке Кэрролла было несколько книг, подробно рассматривающих идею эволюции, но, как ни странно, дарвиновского «Происхождения видов» на его полках не было.
Эдвард Уэйклинг считает, что во время жарких споров по поводу книги Дарвина Чарлз занял позицию «сидящего на стене» — английское выражение, означающее уклонение от решительных выводов и заключений. Лишь позже, когда появились толкования дарвинизма с церковных позиций, Кэрролл принял их. Однако известно, что он относился к Дарвину с большим уважением и позже послал ему сделанную им самим фотографию улыбающейся «модели» (такие снимки весьма редко удавались из-за необходимости долгой выдержки) в качестве возможной иллюстрации для книги «Выражение эмоций у человека и животных» (1872).
Среди снимков, сделанных Чарлзом в начале его фотографических опытов, есть один, обративший на себя особое внимание уже в наши дни. 27 апреля 2000 года в газете «Индепендент», одной из самых влиятельных в Англии, в разделе «Искусство» появилась статья о проходившей в то время выставке викторианских фотопортретов в Национальном музее фотографии, кинематографа и телевидения в Брадфорде. Вот как она начиналась: «Молодой и представительный викторианский джентльмен во фраке стоит, дружески (и чуть ли даже не любовно) обняв за плечо скелет. Если не принимать во внимание одежду и плоть того, кто стоит слева, то окажется, что они почти одного роста и стоят в одинаковой позе, глядя направо. Возникает странное впечатление (то ли ужасное, то ли смешное), что джентльмен демонстрирует — в буквальном смысле слова — собственные кости, словно на схеме в анатомических учебниках. На столе рядом с этой странной парой — несколько черепов, а также полный скелет небольшого примата, какой-то мартышки или шимпанзе с огромными страшными глазницами. Всё страньше и страньше…» К удивлению журналиста, именно фотография под названием «Реджиналд Саути со скелетом и черепами» и была объявлена лучшей на выставке — ее признали «практически единственной, сделанной с чувством юмора, хотя и весьма своеобразным». Стоит ли говорить, что автором этой жутковатой композиции был Ч. Л. Доджсон? Об этом свидетельствует и известная цитата, приведенная журналистом, прежде чем назвать имя фотографа. Но вот что удивительно: снимок был сделан в 1857 году, за два года до выхода в свет книги Дарвина! Правда, слухи о ней ходили задолго до ее публикации…
Сразу же после разъезда гостей, собравшихся на диспут, Доджсон установил свою камеру в ректорской резиденции и сделал серию снимков детей Лидделлов и их друзей. Среди них — несколько фотографий трех сестер: Лорина, Алиса и Эдит едят вишни (Чарлз назвал это фото «Открой рот, закрой глаза!»); лежащая на диване Эдит; сидящая Алиса с папоротником, стоящим рядом на скамье (фрагмент этой фотографии будет использован Кэрроллом на последней странице рукописи «Приключений Алисы под землей»).
К этому времени Чарлз был уже членом Клуба преподавателей Крайст Чёрч (Common Room). В наши дни так обозначают комнаты отдыха для студентов или преподавателей, однако в Оксфорде тех лет, о которых идет речь, они предназначались только для преподавателей и членов колледжа и означала нечто большее. Эдвард Уэйклинг называет Common Room помещением не только для отдыха, но и для развлечения и интеллектуального общения: «Это было удобное место, где члены колледжа, у которых не было семьи, могли встретиться и побеседовать друг с другом». В этих просторных комнатах можно было повидаться с друзьями, пообедать, выпить кофе или вина (у клуба был весьма обширный винный погреб), услышать последние новости, обсудить различные события и проблемы и пр. Такие клубы были и в других оксфордских колледжах. Чтобы иметь туда доступ, необходимо было стать членом клуба. Преподобный Уильям Таквелл в своих «Воспоминаниях об Оксфорде» (1900), на которые ссылается Уэйклинг, рассказывает о случившемся в клубе в 1860 году «инциденте со скелетом тунца», в котором непосредственное участие принимал и Чарлз Доджсон. Рыбий скелет принадлежал доктору Генри Эклингу, университетскому профессору медицины, который передал его факультету анатомии (School of Anatomy), открытому при новом университетском музее, снабдив свой подарок латинским описанием. Собравшиеся в преподавательской гостиной члены Крайст Чёрч сочинили — также на латыни — пародию на это описание. Зачинщиком, как свидетельствует Таквелл, был Доджсон, который «набросал черновик и пустил его по рукам», а остальные члены «прибавили кое-что от себя». Затем текст был отпечатан и распространен в оксфордских колледжах. Отметим, что Чарлз был хорошо знаком с этим скелетом — еще в первые годы своих занятий фотографией сделал его снимок по просьбе владельца, а также сфотографировал самого Эклинга рядом с его раритетом. Снимки получились весьма впечатляющими. Теперь их можно найти в альбомах фотографий Льюиса Кэрролла.
1860-е годы были временем важных открытий, кардинально изменивших жизнь. В 1863 году в Лондоне начала действовать наземная «Столичная железная дорога» (Metropolitan Railway) — частная железная дорога, обслуживавшая южные и восточные районы города и его предместья. (В настоящее время она входит в сеть лондонского метро, которое англичане фамильярно называют «подземкой» (Underground), в основном образуя его наземную линию.) Она произвела огромное впечатление на жителей столицы. Вот как описывает езду по столичной железной дороге один из мемуаристов того времени: «В мгновение ока мчит она нас от одной станции к другой. Единственная трудность заключается в том, что следует быть начеку, чтобы не проскочить свою станцию, ибо они похожи друг на друга, как две капли воды». Доджсон познакомился с этим чудом в том же году, отправившись вместе с родственниками в Кенсингтон.
В 1865 году, когда была издана «Алиса в Стране чудес», была послана первая телеграмма из Лондона в Нью-Йорк, появились первый «пылесос для ковров» и первая посудомоечная машина. Затем последовали электрический свет, канализация, пишущая машинка, велосипед, цветная фотография и пр. Все эти изобретения уложились в годы между выходом в свет «Алисы в Стране чудес» и «Алисы в Зазеркалье» (1871). Впрочем, поначалу эти технические новинки не сильно изменили жизнь англичан. В шестидесятые годы XIX столетия лондонские камины и плиты всё еще топили углем и Лондон по-прежнему регулярно погружался в описанный классиками черный туман, так что невозможно было отличить день от ночи. От Темзы, в которую сливались отходы, шло такое зловоние, что парламенту приходилось отменять заседания, если ветер дул с реки.
Англия становилась мощной технической и индустриальной державой. Об этом писал Ф. М. Достоевский, посетивший Лондон летом 1862 года. Лондонским впечатлениям посвящена пятая глава его «фельетона» (так в то время принято было называть подобные публикации) «Зимние заметки о летних впечатлениях», опубликованного в феврале — марте 1863 года в двух номерах журнала «Время», которой он дал выразительное название — «Ваал»:
«Я был в Лондоне всего восемь дней, и, по крайней мере наружно, — какими широкими картинами, какими яркими планами, своеобразными, нерегулированными под одну мерку планами оттушевался он в моих воспоминаниях. Всё так громадно и резко в своей своеобразности. <…>
Этот день и ночь суетящийся и необъятный, как море, город, визг и вой машин, эти чугунки, проложенные поверх домов (а вскоре и под домами), эта смелость предприимчивости, этот кажущийся беспорядок, который в сущности есть буржуазный порядок в высочайшей степени, эта отравленная Темза, этот воздух, пропитанный каменным углем, эти великолепные скверы и парки, эти страшные углы города, как Вайтчапель (квартал в Ист-Энде, восточной части Лондона, населенный промышленной и портовой беднотой. — Н. Д.), с его полуголым, диким и голодным населением. Сити с своими миллионами и всемирной торговлей, кристальный дворец, всемирная выставка… Да, выставка поразительна. Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира, в едино стадо; вы сознаете исполинскую мысль; вы чувствуете, что тут что-то уже достигнуто, что тут победа, торжество».
Писатель ясно различал и ужасы урбанизации:
«В Лондоне можно увидеть массу в таком размере и при такой обстановке, в какой вы нигде в свете ее наяву не увидите. Говорили мне, например, что ночью по субботам полмиллиона работников и работниц, с их детьми, разливаются, как море по всему городу, наиболее группируясь в иных кварталах, и всю ночь до пяти часов празднуют шабаш, то есть наедаются и напиваются, как скоты, за всю неделю. Всё это несет свои еженедельные экономии, всё заработанное тяжким трудом и проклятием. В мясных и съестных лавках толстейшими пучками горит газ, ярко освещая улицы. Точно бал устраивается для этих белых негров. Народ толпится в отворенных тавернах и в улицах. Тут же едят и пьют. Пивные лавки разубраны, как дворцы. Всё пьяно, но без веселья, а мрачно, тяжело, и всё как-то странно молчаливо. Только иногда ругательства и кровавые потасовки нарушают эту подозрительную и грустно действующую на вас молчаливость. Всё это поскорей торопится напиться до потери сознания… Жены не отстают от мужей и напиваются вместе с мужьями; дети бегают и ползают между ними. В такую ночь, во втором часу, я заблудился однажды и долго таскался по улицам среди неисчислимой толпы этого мрачного народа, расспрашивая почти знаками дорогу, потому что по-английски я не знаю ни слова. Я добился дороги, но впечатление того, что я видел, мучило меня дня три после этого. Народ везде народ, но тут всё было так колоссально, так ярко, что вы как бы ощупали то, что до сих пор только воображали. <…> В Гай-маркете я заметил матерей, которые приводят на промысел своих малолетних дочерей».
Разумеется, Кэрролл не читал Достоевского, но во время своих долгих прогулок по Лондону он не мог не заметить этих контрастов. Он видел собственными глазами нищих и бездомных, проституток, толпившихся у гостиниц, где он не раз останавливался, осаждавших прохожих и предлагавших своих малолетних детей. Хотя он нигде не писал об этом, из потаенных документов, о которых не знали даже его близкие (о них будет рассказано позже), становится ясно, что он принимал всё это близко к сердцу.
Возможно, он также читал статьи и книги талантливого писателя и журналиста Джеймса Гринвуда (Greenwood), автора повести «Подлинная история маленького оборвыша» (1866). Он был одним из двенадцати детей мелкого служащего. В ранней юности Джеймс и два его брата работали наборщиками; старший брат умер от профессиональной болезни — туберкулеза. Джеймсу и его младшему брату Фредерику удалось «выбиться в люди»: первый стал журналистом и писателем, второй со временем занял пост редактора влиятельной газеты «Пэлл-Мэлл». Очерки Джеймса Гринвуда посвящены жизни лондонской бедноты и поражают правдивостью и беспощадностью описаний. Одевшись в простое платье, а иногда и в лохмотья, в дырявых башмаках, Гринвуд мерз на улицах под пронзительным ветром и дождем, чтобы вместе с сотнями других бездомных получить доступ в вонючую ночлежку. Он посещал тюрьмы и больницы, рынки и трущобы, изучал жизнь мусорщиков, мелких торговцев, беспризорных детей, нищих проникая порой в воровские притоны. Его очерки, несмотря на попытки редакторов смягчить описанные в них картины бедствий, производили ошеломляющее впечатление. В 1869 году вышла его книга «Семь язв Лондона» — о детской беспризорности, нищете, бродяжничестве, алкоголизме, уголовных преступлениях, притонах, болезнях…
Отношения молодого дона с ректором Крайст Чёрч были непростыми. Чарлз, безусловно, относился к ректору с уважением, регулярно обсуждал с ним возникавшие в колледже проблемы. Так, 22 декабря 1862 года он записал в дневнике, что утром у него завтракали его друг Бейн и Гарри Лидделл (сын ректора), после чего он отправился к ректору обсудить новое расположение мест в Холле. По традиции за «высоким» столом на подиуме, подобном сцене, располагались сыновья знати. Ректор и каноники обычно обедали при соборе, в доме капитула[50], а когда им случалось трапезничать в Холле, они занимали часть стола на возвышении. Лекторы и преподаватели сидели внизу, вместе со студентами незнатного происхождения, что, конечно, свидетельствовало об их социальном положении. Примерно в это время ректор Лидделл распорядился, чтобы студенты-аристократы освободили возвышение, а за «высоким» столом обосновались преподаватели. Это был серьезный шаг для того времени, ибо таким образом разрушалась многовековая традиция. Теперь предстояло решить, как разместить преподавателей на возвышении. Ректор призвал Доджсона на помощь. «Мы поднялись на возвышение, — записывает Доджсон, — и стали пробовать различные планы расстановки столов, однако всё вызывало неудовольствие „новичков“». Возможно, предполагает Э. Уэйклинг, трудность заключалась в том, что при новой расстановке обеденных столов половине преподавателей пришлось бы смотреть в стену. Доджсон записал в дневнике: «Я предложил не менять более расположение столов или вообще спуститься снова вниз и занять свои прежние места. Потом я поднялся в детскую и, побыв немного с детьми, вернулся к себе, сложил вещи и отбыл в Лондон».
Что до столов, то преподаватели в итоге, смирившись с некоторыми неудобствами, расположились за «высоким» столом. В конце концов это было делом принципа!
(В наши дни столы стоят по всей ширине возвышения, вследствие чего половине сидящих за ними приходится располагаться спиной к залу. Впрочем, «высокий» стол редко бывает полон, и обедающие устраиваются так, чтобы видеть зал. Как-то на конференции в Крайст Чёрч, проходившей в Холле, мне как одному из докладчиков довелось сидеть за «высоким» столом. Конференция проходила во время летних каникул, и трапезная находилась в нашем полном распоряжении. Признаюсь, сидеть на возвышении было очень приятно и удобно: оттуда был хорошо виден весь огромный зал с его картинами и витражами. Правда, в тот раз все сидели только с одной стороны стола — лицом к залу.)
Доджсон советовался с ректором относительно своих учеников и лекций, а также относительно рукоположения в духовный сан. Чарлз усердно готовился к нему, однако не был уверен в том, что после первого посвящения в дьяконы, обязательного для стипендиата Крайст Чёрч, он примет сан священника. Он не считал себя достойным этого сана и сомневался в том, что сможет на должном уровне выполнять связанные с ним обязанности, опасаясь, что заикание будет мешать ему в службах. К тому же он не был готов принять те ограничения Высокой церкви, на которых настаивал епископ Оксфордский Уилберфорс. Ректор, к которому Чарлз обратился за советом, поначалу выразил мнение, что рукоположение в сан священника является обязательным для члена колледжа, однако после долгих разговоров согласился с ним.
Несомненным авторитетом для Чарлза был и его старший друг Генри Лиддон, с которым он также обсуждал этот вопрос. Чарлз был готов принять сан дьякона в качестве некоего эксперимента, чтобы понять, сумеет ли он должным образом исполнять обязанности священника. Лиддон согласился, что это возможно, ибо положение дьякона совсем иное, чем священника, — он гораздо свободнее и может считать себя практически светским человеком. Лиддон (в изложении Коллингвуда) считал, что дьякон не должен работать с прихожанами, если чувствует, что к тому неспособен.
В августе 1861 года Чарлз принял окончательное решение о принятии сана дьякона, известив об этом епископат, и 12 декабря был рукоположен епископом Сэмюэлом Уилберфорсом. Теперь он имел права на звание «преподобного». Однако Доджсон всё еще не принял окончательного решения и не торопился с ним. Между тем он предложил свою помощь друзьям и коллегам, занимавшим пасторские места, и время от времени — в случае их болезни, отъезда и пр. — совершал службы в их приходах. Порой он с охотой заменял отца по его просьбе, беседовал в школах с детьми, после тщательной подготовки читал им в церквах проповеди.
Доджсон решил завести журнал своей переписки, которая к этому времени очень выросла — он получал и отправлял письма почти каждый день. Он хотел регистрировать письма таким образом, чтобы можно было без труда найти нужное письмо, и в первый день 1861 года начал фиксировать в журнале имена корреспондентов, даты получения и отправки писем, их краткое содержание, оставляя при этом пропуски (обычно два на странице) для последующих отметок. Позже он придумал подробную систему перекрестных ссылок и широко пользовался ею. Она позволяла с легкостью проследить ход переписки, даже продолжавшейся в течение ряда лет. Номер письма проставлялся в правом верхнем углу. До конца жизни Чарлз заполнил 24 тетради регистрации переписки, последним известным нам было письмо № 98 721. Даже без учета переписки до 1861 года это весьма внушительная цифра. Недаром Доджсон сетовал, что порой засиживается над корреспонденцией до поздней ночи. К сожалению, регистрационные журналы до нас не дошли.
В середине 1860-х годов отношения Чарлза с ректором обострились. Нередко он не соглашался с предложениями или действиями Лидделла и не скрывал свое мнение. Такая ситуация возникла, к примеру, при обсуждении в колледже вопроса о неподготовленности студентов к занятиям математикой. Об этом Кэрролл с тревогой писал коллеге Роберту Поттсу. Тот откликнулся письмом, в котором выражал надежду на то, что «позорное незнание элементарной математики, с которым студенты поступают в Оксфорд и Кембридж, вскоре будет ликвидировано»: «Теперь в Итоне и других публичных школах для перехода в старшие классы требуется достаточное знание этих предметов, экзамены же в Оксфорде и Кембридже также оказывают весьма благотворное воздействие как на учеников, так и на преподавателей». Однако Поттс смотрел на положение дел сквозь розовые очки и, как часто бывает в таких случаях, выдавал желаемое за действительное. В публичных школах по-прежнему занимались в основном латынью и греческим, и большинство учащихся не имели никакого представления о математике.
В противовес требованию ввести преподавание математики в публичных школах, готовивших к поступлению в университет, в 1864 году в колледже предложили снизить требования к абитуриентам. К такому предложению Чарлз не мог остаться равнодушным — для него это означало профанацию университетского образования. Он написал язвительные стихи о предлагаемых изменениях «Положения об экзаменах», выбрав для них жанр зарифмованной азбуки, популярный в книжках для малолетних детей, постигающих грамоту. Каждая ее строка начиналась с одной из двадцати шести букв английского алфавита, за которой скрывался тот или другой из видных членов колледжа, которым предстояло голосовать за принятие документа. Добрая половина их, в том числе ректор, была названа по именам, об остальных нетрудно было догадаться. Вследствие ли этой сатиры или по иным причинам новое «Положение» не было принято. Однако уже в феврале следующего года оно прошло 281 голосом против 243. Чарлз написал ректору, что в этой связи слагает с себя обязанности экзаменатора. Лидделл учтиво ответил, что весьма сожалеет об этом. В начале марта Доджсон опубликовал свой протест на страницах влиятельной газеты «Морнинг пост». Он считал, что снижение требований по математике наносит вред преподаванию как самой математики, так и классических дисциплин, представляющих собой «важнейшие составляющие оксфордского образования». Позже ректору удалось убедить Чарлза снова занять пост экзаменатора.
Доджсон по-прежнему продолжал преподавать математику в Крайст Чёрч, уделяя колледжу немало времени. Он был загружен лекциями, но принимал живое участие в дискуссиях, которые проходили в Оксфорде между сторонниками перемен и консерваторами. Позиция его была неоднозначна: будучи консерватором, он подчас поддерживал и некоторые новации. В 1860-х годах в Оксфорде шли бурные споры по поводу выборов в Еженедельный совет — руководящий орган университета, в состав которого входила университетская «верхушка» (ректоры колледжей, капитул) во главе с вице-канцлером, принимавший решения по всем вопросам, касающимся университета. Младшие члены колледжей, на плечах которых лежала большая часть работы, как бы не существовали, не принимая участия в заседаниях совета и его решениях. В 1866 году Кэрролл написал и, распечатав, распространил в университете сатирическое стихотворение, касающееся этой острой проблемы. Приведем отрывок из этого пространного опуса, написанного в форме басни, озаглавленной «О выборах в Еженедельный совет Оксфордского университета»:
<…> хозяйством в неком доме правили коты, Не допуская крыс или мышей до этой суеты. Тут серый люд, устав от гнета правящей реакции, Созвал Совет своей хвостатой фракции. Все собрались, никто не мог собраньем пренебречь, Тут встал старейший крыс и начал свою речь: «Собратья по рабству! Ответьте, доколе Презренным меньшинством пребудем, не боле! В „сплоченном коварном единстве“ коты От нас оставляют одни лишь хвосты! Коты нас теснят — нет гнуснее народца! — С исламским призывом: „Убей инородца!“ Как быть? — Есть решенье! Под игом проклятым Позволим мяукать одним лишь котятам! Котята, играя, нас ловят, конечно, — Но от либеральности часто беспечно. Коты повзрослей — те отнюдь не наивны, Их лапы когтисты и консервативны. Котов на конюшню погоним взашей, А к власти — котят, крыс и серых мышей. Котов — вне закона! Комочки же меха, Котята, — да разве они нам помеха Беспечно грызть сыр, молочко смаковать — Прольется тогда и на нас благодать, Чтоб править могли в кладовой без препона Котята и мыши под сенью закона!»[51]В расшифровке эта басня не нуждалась.
Глава восьмая ДОДЖСОН ФОТОГРАФИРУЕТ
В 1949 году в Англии вышла книга Хельмута Гернсхайма (Helmut Gernsheim), члена Королевского фотографического общества, известного своими работами по истории фотографии. На титуле стояло: «Льюис Кэрролл — фотограф», а внутри находились 64 иллюстрации — отобранные Гернсхаймом фотографии, сделанные Кэрроллом. Книга Гернсхайма произвела настоящий фурор. К середине XX века Кэрролла-писателя уже знали во всём мире: в 1932 году широко праздновалось столетие со дня его рождения, о нем было написано множество трудов, но до той поры никто не думал о Кэрролле как о фотографе.
Гернсхайм рассказывал: «Случайно я узнал, что в одной книжной лавке продается альбом Льюиса Кэрролла. Прежде мне никогда не приходилось слышать, что знаменитый автор очаровательной „Алисы в Стране чудес“ занимался фотографией. В этом альбоме было множество детских портретов (Льюис Кэрролл вообще любил снимать детей) и фотографий выдающихся людей. В альбоме 135 фотографий, которые датировались 1863–1864 годами, но по тем временам он стоил довольно дорого, хотя сейчас эта цена показалась бы смехотворно низкой, так как одна фотография Льюиса Кэрролла оценивается ныне от 500 до 1000 фунтов стерлингов. <…> Я удостоверился, что это был подлинный альбом Кэрролла. Через его биографа, который, кстати, никогда не слыхал об увлечении писателя фотографией, мне удалось разыскать пять сестер писателя, которые и передали мне его альбомы, письма и бесценные неопубликованные дневники. <…> Когда я предложил издателю свой материал о Кэрролле-фотографе, мне вначале не поверили. До этого никто не слышал об этом увлечении писателя».
Гернсхайм не ошибался: фотография долгое время занимала важное место в жизни писателя. В молодости, представляясь, он нередко называл себя фотохудожником — и, конечно, был им. После выхода в свет книги Гернсхайма появились альбомы и статьи других исследователей фоторабот Кэрролла, получивших в наши дни широкое признание. Теперь мы знаем, что он был одним из лучших фотографов Викторианской эпохи, а его фотографии детей по сей день считаются лучшими в XIX веке.
Интерес Чарлза к фотографии — удивительному новшеству, взволновавшему не только Англию, но и всю Европу, — возник в середине 1850-х годов. В первой половине века ограничивались дагеротипами на металлических пластинах, которые подвергались специальной обработке. В ту пору еще не существовало сухих броможелатиновых слоев, которые используются в наше время; лишь в 1851 году был описан мокроколлодионный процесс. Однако в Англии развитие фотографии сдерживалось строгими патентными ограничениями, которые были сняты лишь специальным судебным решением в декабре 1854 года. Фотографирование при использовании мокроколлодионного процесса было делом нелегким, к тому же приготавливать и обрабатывать фотоматериал приходилось прямо на месте съемки. Это был весьма сложный и трудоемкий процесс. Историк фотографии К. В. Вендровский дает его описание:
«Предварительно стеклянную пластинку выдерживали несколько дней в азотной кислоте. Потом ее промывали и тщательно полировали тампоном, смоченным в спиртоэфирной смеси. На очищенное стекло наносили тонкий слой желатина, который в дальнейшем способствовал сцеплению светочувствительного слоя с подложкой. Для светочувствительного слоя прежде всего надо было приготовить коллодий, то есть раствор коллоксилина в эфире и спирте. Из коллодия готовили собственно светочувствительный слой — коллодион, добавляя раствор, содержащий в основном йодистый калий. Всё это делалось заранее. На месте съемки коллодион поливали на стекло. Для этого пластинку водружали на растопыренные пальцы левой руки, как замоскворецкая купчиха — блюдечко с чаем. Правой рукой выливали на пластинку из склянки несколько кубиков коллодиона и легкими покачиваниями разгоняли раствор по пластинке. Избыток сливали через фильтр обратно в склянку. На несколько минут пластинку ставили в козелки. Эфир улетал, а коллодион студенился. Далее пластинку, как говорили в то время, очувствляли, погрузив ненадолго в раствор азотнокислого серебра.
Теперь всё было готово к съемке. Пластинку заряжали в кассету, подложив под нижнее ее ребро полоску фильтровальной бумаги, чтобы стекающий раствор не испортил камеру. Снимать надо было побыстрее, пока не испарился спирт, а выдержка при съемке в помещении достигала минуты-полторы. Немедленно после съемки требовалось проявить пластинку — еще сырую. Снова ею балансировали на пальцах, поливая поверхность проявителем на основе солей железа. А фиксировали почти как теперь — в кювете с раствором. Правда, не в гипосульфите, а в цианистом калии. После промывки и сушки негатив лакировали, чтобы предохранить очень тонкий и неясный слой от повреждений: со стороны стекла пластинку нагревали на спиртовке „настолько, чтобы еще терпела тыльная сторона ладони“, и повторяли всю эквилибристику с нанесением, разравниванием и сливанием жидкости, теперь уже лака».
Впервые Чарлз Доджсон услышал о фотографии от дядюшки Скеффингтона, который всегда был в курсе всех научных и технических новинок. «Написал дяде Скеффингтону, прося приобрести для меня фотографический аппарат: хочу найти для себя занятие помимо чтения и сочинительства», — читаем запись в дневнике от 22 января 1856 года. Дядюшка посоветовал ему заказать аппарат в магазине Т. Оттивела на Шарлотт-стрит. Не прошло и месяца, как Чарлз отправился к Оттивелу, прихватив с собой приятеля по колледжу Реджиналда Саути, счастливого обладателя камеры, успевшего уже приобрести некоторый фотографический опыт. «Аппарат вместе с объективом и прочим будет стоить фунтов 15, не менее», — отмечает он в дневнике. Однако эта немалая по тем временам сумма не покрывала всех расходов. Привыкший к строгой бережливости Чарлз был смущен своей расточительностью. Несколько позже в дневнике появилась запись: «Это моя единственная забава — полагаю, она заслуживает серьезного отношения». Похоже, он старался оправдаться перед самим собой.
Вскоре он уже обзаводится необходимым снаряжением, покупает стеклянные пластинки размером 8×10 дюймов и оборудует настоящую переносную лабораторию, нужную ему и для изготовления снимков дома, и во время поездок к родным и друзьям.
«Фотографирование требовало невероятной пунктуальности, терпения и чистоты… — пишет Вендровский. — Его переносная лаборатория представляла собой громоздкий ящик, крышка которого поднималась, образуя нечто вроде палатки. Сверху свисали занавески из желтого коленкора (коллодионный слой чувствителен только к сине-фиолетовому свету). Всё это водружалось на складной треножник. Кроме переносной лаборатории, камеры и штатива к ней Доджсон возил с собой ящик с бутылями, в которых хранились химикалии, готовые растворы и дистиллированная вода, а еще запасную посуду, спиртовку, весы с разновесами и мензурки, не говоря уже о стеклянных пластинках, — пять килограммов дюжина. Упаковку он не доверял никому, собственноручно заворачивая каждый предмет в несколько слоев бумаги». По подсчетам специалистов, вес всего снаряжения, необходимого для съемок вне дома, доходил до 170 фунтов!
Под руководством Саути Чарлз сделал первые фотографии — и вскоре настолько увлекся новым занятием, что стал посвящать ему всё свободное время. Он не без иронии описал его в стихотворении «Гайавата фотографирует», вышедшем в журнале «Трейн» в декабре 1857 года. Выдержанное в эпическом ритме «Песни о Гайавате» (1855) Генри У. Лонгфелло, оно принадлежит к лучшим комическим стихам Кэрролла. Автор предпослал ему небольшое вступление: «В век подделок не имею я претензий на заслуги за попытку сделать то, что всем известно и несложно. Ведь любой в известной мере чуткий к ритму литератор сочинять часами мог бы в легком трепетном размере славных строк о Гайавате. Посему не стоит, право, обращать свое вниманье к форме маленькой поэмы, к заключенным в ней созвучьям — пусть читатель беспристрастный судит непредубежденно только поднятую тему». За этим якобы прозаическим вступлением следует само стихотворение. По счастью, русским читателям поэма Лонгфелло известна в великолепном переводе И. А. Бунина, что дает нам возможность по достоинству оценить бурлеск Кэрролла:
С плеч могучих Гайавата Фотокамеру из бука, Полированного бука Снял и сей же час составил; Упакована в футляре, Плотно камера лежала, Но раздвинул он шарниры, Сдвинул стержни и шарниры Так, что ромбы и квадраты Получились, словно в книгах, Книгах мудрого Евклида. На треногу всё воздвиг он — Заползал под темный полог — Простирал он к небу руки — Восклицал: «Не шевелитесь!» — Сверхъестественное действо!Интересно, что в этом стихотворении Чарлз упоминает имя Джона Рёскина. Оно появляется в ироническом описании одного из фотографируемых персонажей; однако ирония автора направлена вовсе не на Рёскина:
Следом сын его — блестящий, Славный Кембриджа питомец, Он хотел бы, чтобы образ Эстетически стремился В самый центр, к его булавке, К золотой его булавке. Он из книг усвоил это Джона Рёскина, который «Современных живописцев», «Семь столпов архитектуры» Написал и много прочих; Но, возможно, он не понял Смысла авторских суждений. Как бы ни было, однако Неудачным вышло фото[52].Эта ссылка на Рёскина не случайна и представляет для нас особый интерес. Она не только свидетельствует о знакомстве Кэрролла с трудами Рёскина, но и позволяет предположить, что первый задумывался об использовании в фотографии предлагаемых вторым художественных принципов.
В январе 1860 года в одном из местных любительских журналов (The South Shields Amateur Magazine), где печатались стихи и проза местных фотографов-любителей, Чарлз опубликовал юмористический рассказ «Выходной день фотографа». Деньги, выручаемые от продажи журнала, шли в фонд постройки местного «Института механиков» (S. Shields’ Mechanics Institute). Такого рода центры образования для рабочих были в те годы распространены в Англии, и Чарлз их поддерживал, сохраняя при этом анонимность.
Подобно приведенному выше стихотворению «Гайавата фотографирует», рассказ повествует о тяготах жизни фотографа, делающего «семейные» снимки. Тот хочет снять прекрасную Амелию, но прежде ему приходится фотографировать членов ее семейства. Вот Paterfamilias[53] — похоже, у него в горле застряла кость и он изо всех сил борется с удушьем, обратив глаза на кончик своего носа. Фотограф хочет его переснять, но остальные хором заявляют, что фотография верно запечатлела «его обычное выражение». Затем следует Materfamilias[54]. Усаживаясь для снимка, она с глупой улыбкой сообщает, что «в юности очень любила театр» и что «хотела бы сняться в образе одной из своих любимых шекспировских героинь». Однако она никак не может вспомнить, какую именно героиню имеет в виду, хотя и нарядилась в шелковое голубое платье, накинула шотландский шарф на плечо и взяла в руку охотничий хлыст… Когда наконец очередь доходит до Амелии, бедный фотограф узнаёт, что она помолвлена и все его мечты разбиты!
Вскоре фотография стала для Чарлза жизненно важным делом. Это было уже не просто еще одно «занятие» в свободное время, как он полагал первоначально, не просто увлечение (то, что в Англии издавна называли «хобби»). Она позволяла ему реализовать себя, давая выход его тяге к изобразительному искусству. Возможно, сам не подозревая, Чарлз пытался таким образом осуществить то, что не удавалось ему в рисунке. В оригинале стихотворения «Гайавата фотографирует» он называет своего героя «фотохудожником» (a photographic artist); этот термин весьма подходит ему самому — и вовсе не в ироническом смысле. Не знаю, существовало ли в то время понятие «художественная фотография», однако большинство работ Кэрролла, безусловно, принадлежит именно к ней. Разумеется, речь здесь идет не о цветной фотографии — хотя это дело совсем не далекого будущего (первая цветная фотография была сделана в 1861 году), — а о композиции и психологической выразительности портретных и групповых снимков Кэрролла, которые поражают даже искушенных знатоков нашего времени.
Но всё это еще впереди, а пока он с Саути осваивает фотографию в родном колледже, а также во время поездок в Лондон и по иным маршрутам.
Теперь уже в Оксфорде не удивлялись, видя фигуру молодого дона, шагающего за носильщиком с тележкой, нагруженной громоздким фотографическим снаряжением. Выезжая фотографировать в Лондон, Чарлз брал в городе кеб; возвращаясь в Оксфорд, он нанимал на станции носильщика с тележкой. Экономия была не так уж велика, но бережливость была привита ему с детства. Некоторые из современников вспоминают, что зимой и летом Чарлз носил хлопчатобумажные перчатки, что было несколько странно, ибо даже в зимнее время он не надевал пальто. Это пытались объяснить по-разному: одни ссылались на внушенные ему в школе представления о том, как должен одеваться джентльмен, другие цитировали его школьные письма, в которых он, подобно Белому Кролику из «Страны чудес», волновался из-за потери перчаток. Более вероятным представляется иное, простое объяснение: Кэрролл не только фотографировал, но и проявлял пластинки, и печатал снимки сам, в результате его руки сначала пожелтели, а потом почернели!
Чарлз много снимал: виды Оксфорда и его окрестностей, членов своей семьи — отца, сестер, братьев, дядюшек, тетушек, кузин и кузенов с их детьми, — своих учителей, оксфордских священников, коллег и друзей, их родных, детей и знакомых… В 1860 году, возможно во время пасхальных каникул, он отправился в Ричмонд, где когда-то учился в школе. Там он сделал групповые снимки учеников, а также тогдашнего ректора Лоренса Оттли и его семьи. Сфотографировав ричмондский монастырь, он отправился в графство Чешир, где посетил любимый Дарсбери, сняв с фасада и издали из аллеи ректорский дом, где когда-то жила его семья, а также двух служанок, работавших у них в доме, когда Чарлз был ребенком, — Мэри Клифф (в замужестве Хоутон) и Фиби Босток. Фотографии, сделанные в Дарсбери, к счастью, сохранились, что для нас особенно важно, ибо в 1883 году, еще при жизни Кэрролла, дом в Дарсбери сгорел. Если бы не эти снимки, мы бы не знали, как выглядело место, где родился и провел детство будущий писатель.
Чарлза живо интересовали известные люди, нередко посещавшие Оксфорд, и они с Саути мечтали о том, что удастся «поймать» кого-либо из знаменитостей в свой объектив. Конечно, больше всего шансов на такую удачу было в Лондоне, и потому поездки в столицу с фотоаппаратом они называли между собой «охотой на львов». В азарте фотографа Чарлз забывал о своей застенчивости — или, возможно, усилием воли заставлял себя ее преодолевать. Это далеко не всегда удавалось и нередко вело к неловкостям, за которые приходилось приносить извинения. Впрочем, он не забывал о том, что позировать фотографу — нелегкий труд. Выбор композиции, подготовка пластины и долгая выдержка, во время которой «модели» нельзя было шевельнуться в течение чуть ли не двух минут, требовали большого терпения.
Пожалуй, больше всего ему хотелось выполнить портрет Альфреда Теннисона, прославленного поэта, к которому он относился с восхищением. С 1850 года Теннисон носил звание поэта-лауреата, сменив на этом посту великого Вордсворта, и пользовался всеобщим признанием. В 1855 году вышел в свет поэтический сборник Теннисона «Мод и другие стихи». Монодрама «Мод», состоявшая из отдельных стихотворений с общим героем, произвела на Чарлза глубокое впечатление. Через несколько лет, когда стали постепенно выходить отдельные поэмы, составившие цикл «Королевских идиллий», посвященных рыцарям времен короля Артура, репутация Теннисона как ведущего поэта окончательно утвердилась.
Чарлз мечтал познакомиться с Теннисоном и поговорить с ним о его творчестве — впрочем, это было слишком смело. Поэт, склонный к мрачной меланхолии и болезненной застенчивости, избегал людей; он не переносил любой публичности, не раз отказывался от титула баронета, и лишь в 1884 году по настоянию королевы вынужден был наконец принять его и занять место в палате лордов. Скромному оксфордскому преподавателю было нелегко осуществить свою мечту.
Как нередко бывает, помог случай. В августе 1857 года Доджсоны гостили у старого друга отца Чарлза, Лонгли, который был прежде епископом в Рипоне, а теперь занимал епископский пост в Дареме. Увлечение Чарлза фотографией очень заинтересовало самого епископа, его семью и гостей — всем хотелось попасть в объектив молодого фотохудожника. Чарлз сделал много портретов, в том числе и портрет епископа. Среди гостей, желавших быть запечатленными, была некая миссис Уэлд с дочерью Агнесс Грейс. Девочка не отличалась особой привлекательностью, и Чарлз решил снять ее в образе Красной Шапочки — надел на нее плащ, дал в руки корзинку и поставил перед живой изгородью. Беседуя с миссис Уэлд, он неожиданно обнаружил, что Агнесс Грейс приходится Теннисону племянницей — сестра миссис Уэлд была его женой! Когда фотографии были готовы, Чарлз вручил их миссис Уэлд, присовокупив несколько экземпляров для мистера Теннисона — если тот соблаговолит их принять. Спустя две недели ему передали, что «Красная Шапочка» восхитила поэта — он назвал фотографию «настоящей жемчужиной».
Третьего сентября 1857 года, тщательно упаковав фотографическое снаряжение, Чарлз отправился в Шотландию, где провел три недели вместе со своими братьями Скеффингтоном и Эдвином, путешествуя пешком по живописным окрестностям. На обратном пути он остановился у приятеля в Озерном крае (Lake District) возле красивейшего озера Конистон, неподалеку от которого обосновался на лето Теннисон с семьей, и, по его собственным словам, «взял на себя смелость посетить их». Явившись в Трент-Лодж, где жили тогда Теннисоны, Чарлз послал свою визитную карточку, написав на ней: «Автор портрета Агнесс Грейс (Красная шапочка)». Характерно, что на карточке рядом с его именем стояло: «художник» (artist). Вероятно, именно так он себя и воспринимал — добавим, что к этому времени он уже имел на то основания. Поэта дома не оказалось, но миссис Теннисон приняла его любезно и познакомила с двумя сыновьями. «Я не встречал более красивых мальчиков этого возраста», — записал Чарлз. Он договорился сделать их портреты и через несколько дней нанес второй визит.
В это время и произошла его встреча с поэтом. Вот как описывает ее Чарлз: «Открылась дверь, и в комнату вошел взлохмаченный человек диковатого вида; его волосы, усы и борода росли, казалось, без всякого присмотра и почти скрывали выражение лица. Свободный сюртук, брюки и жилет из простой серой фланели, небрежно повязанный черный шелковый галстук. Волосы у него темные, глаза, кажется, тоже, взгляд острый и беспокойный, нос орлиный, высокий и широкий лоб — лицо и вся голова прекрасны и мужественны. С самого начала его обхождение было приятным и дружественным, в манере говорить ощущался какой-то затаенный суховатый юмор».
Говорили о фотографии, которая всё еще оставалась удивительной новинкой. Теннисона она очень интересовала; он признался, что и сам хотел бы ей заняться, но боится, что ему не хватит терпения. Он согласился позировать Чарлзу, и вскоре портрет был готов. Сфотографировал он и сыновей Теннисона Лайонела и Галлама, названного в память университетского друга Теннисона, поэта Артура Генри Галлама, умершего в возрасте двадцати двух лет. Ему посвящена поэма In Memoriam, одно из лучших творений поэта. Чарлз так высоко ценил эту поэму, что в 1861 году убедил своих сестер составить к ней подробный указатель: в нем было три тысячи пунктов! С разрешения Теннисона указатель был отпечатан в типографии и экземпляр послан ему.
Два портрета сыновей Теннисона принадлежат к лучшим работам Кэрролла. Если принять во внимание, сколько дублей приходилось делать фотографу и как долго — по полторы, а порой и до двух минут — «модели» должны были сидеть или стоять, не шевелясь, можно лишь удивляться тому, в каких свободных и естественных позах удалось Чарлзу запечатлеть мальчиков. Правда, его юные модели неоднократно свидетельствовали, что время обычно летело незаметно, ибо мистер Доджсон имел обыкновение рассказывать им во время съемки истории собственного сочинения.
Портрет Теннисона по-своему также замечателен: сумрачное, углубленное в себя лицо; руки, лежащие на коленях — правая судорожно сжата, в левой раскрытая книга; темные волосы, одежда и борода, приглушенный колорит. Сложный, закрытый мир, который часто приводил поэта к тяжким раздумьям и депрессии. Это психологический портрет, которым мог бы гордиться любой художник.
Чарлз, недавно прочитавший поэму «Мод» и не раз возвращавшийся к ней, просил автора объяснить ему некоторые «темные» места. Теннисон пытался уклониться, но молодой человек настолько увлекся, что, забыв про свою застенчивость, не отступал; Теннисону в конце концов пришлось сказать, что он и сам не знает, что значат эти строки. Чарлз был поражен. Он и не предполагал, что спустя годы сам окажется в подобном положении.
Спустя два года, в 1859-м, Чарлз отправился в Фаррингфорд на острове Уайт, куда перебрался Теннисон с семьей: устав от славы, тот стремился избежать публичной жизни. Впрочем, это ему не очень удавалось — Фаррингфорд стал так же известен в Англии, как Ясная Поляна в России. Спустя годы по просьбе двоюродного брата Уильяма Уилкокса Кэрролл подробно описал свой визит в письме, посланном из Крайст Чёрч 11 мая 1891 года. Он отвергает слух о том, что последовал за поэтом в его убежище:
«Я поехал, не зная о том, что он там; я собирался погостить во Фрешуотере у старого приятеля по колледжу. Находясь там, я воспользовался неотъемлемым правом всякого свободного британца нанести утренний визит, что и сделал, хотя мой друг Коллинз заверил меня, что Теннисоны еще не приехали. Подойдя к дому, я увидел человека, который красил садовую изгородь, и спросил, дома ли мистер Теннисон, ожидая услышать „Нет“. Я был приятно удивлен, когда человек сказал: „Он здесь, сэр“ — и указал на него. И точно, он был всего в нескольких ярдах от нас: в очках и широкополой шляпе, он бодро подстригал лужайку. Мне пришлось представиться, поскольку он настолько близорук, что никого не узнаёт; закончив косить, он повел меня в дом поздороваться с миссис Теннисон, которая, как я с сожалением узнал, была нездорова и страдала серьезной бессонницей. Она лежала на диване и выглядела усталой и изможденной, так что я пробыл с ней всего лишь несколько минут».
Теннисон пригласил его на вечерний чай и «настоятельно просил» пообедать с ними на следующий день. «Он провел меня по дому, показывая картины и проч.; среди них висели „на струне“ и мои фотографии этой семьи в рамках из картонок, которых ты, кажется, называешь „эмалированными“. Вид из окон мансарды он считает одним из самых прекрасных на острове. Еще он показал мне картину, которую написал для него его друг Ричард Дойл, а также маленькую курительную комнату наверху, где он, естественно, предложил мне выкурить трубку; потом провел в детскую, где мы обнаружили его маленького сына Галлама, очень красивого мальчика, который, в отличие от отца, тут же вспомнил меня».
Вечер Чарлз провел у Теннисонов, где познакомился с мистером Уорбертоном, священником и школьным инспектором в местной округе, человеком «с довольно робкими и нервными манерами». Удалившись в маленькую курительную, они провели около двух часов в «очень интересной беседе». Кэрролл, конечно, не курил, но терпеливо переносил дым от сигар курильщиков. «Мы, — писал он кузену, — затронули тему обязанностей священнослужителей, и Теннисон сказал, что, по его мнению, священники как сообщество не приносят и половины той пользы, которую могли бы приносить, будь они менее высокомерны и проявляй более сочувствия своей пастве. „Чего им не хватает, — сказал он, — так это сил и доброты: доброта без сил, разумеется, ни к чему хорошему не приведет, но силы без доброты мало что дают“. Полагаю, что это весьма здравая теологическая мысль».
Вокруг лежали оттиски «Королевских идиллий», на которые Чарлз поглядывал с интересом, но Теннисон не позволил их посмотреть. Зато гость с любопытством изучил книги, стоявшие на нижней из поворачивающихся полок, «чрезвычайно удобных для работы за письменным столом»; все они были на греческом или латыни — Гомер, Эсхил, Гораций, Лукреций, что, конечно, Чарлз не преминул отметить. «Стоял прекрасный лунный вечер, и когда я уходил, Теннисон прошелся со мной по саду и обратил мое внимание на то, как луна светит сквозь тонкое белое облако, создавая эффект, который я никогда раньше не замечал: нечто вроде золотого кольца, но не близко к краю, как ореол, а на некотором расстоянии. Если не ошибаюсь, моряки считают это приметой, сулящей плохую погоду. Теннисон сказал, что часто замечал его и упомянул в одном из своих ранних стихотворений. Его можно найти в „Маргарет“».
На следующий день Чарлз был приглашен на ужин и провел вечер в обществе семьи Теннисон и сэра Джона Симеона, также выпускника Крайст Чёрч, имение которого находилось в нескольких милях от Фаррингфорда; он показался Чарлзу «одним из самых приятных людей», которых ему доводилось встречать. Словом, «вечер был просто замечательный»; Чарлз получил от него исключительное удовольствие. После ужина он достал свой альбом с фотографиями, но Теннисон признался, что слишком устал, чтобы смотреть их. Чарлз оставил альбом, договорившись, что придет за ним на следующее утро, а заодно сможет повидать и остальных детей, которых только мельком видел за ужином.
Теннисон рассказал гостям, что часто, ложась спать после работы над стихотворением, он видел во сне длинные поэтические отрывки («А вам, — обратился он к Чарлзу, — полагаю, снятся фотографии». Видно, он всё еще принимал Чарлза за фотографа, не зная, что имеет дело с оксфордским преподавателем.) Эти стихи Теннисону очень нравились, но он совершенно забывал их, когда просыпался. «Одним из них, — писал Доджсон, — было невероятно длинное стихотворение о феях, в котором строки, вначале очень длинные, постепенно становились всё короче и короче, пока в конце концов стихотворение не завершилось пятьюдесятью или шестьюдесятью строками, каждая длиной в два слога! Единственный кусочек, который ему удалось вспомнить в достаточной мере, чтобы записать на бумаге, приснился ему в десятилетнем возрасте. <…> Думаю, ты со мной согласишься, что в нем нет и намека на его будущую поэтическую мощь:»
May a cock-sparrow Write to a barrow? I hope you’ll excuse My infantile muse. (Может ли воробей Написать письмо тачке? Надеюсь, вы не в претензии На мою младенческую музу.)В целом вечер, проведенный в гостях, был, по признанию Чарлза, «одним из самых восхитительных вечеров за последнее — довольно долгое — время» (он любил точно формулировать свои мысли).
На третий день он снова обедал у Теннисонов, но общался в основном с миссис Теннисон и детьми, которым показывал фотографии. Он не преминул получить автограф Галлама — тот расписался под портретом крупными корявыми буквами. Этот портрет с автографом сейчас воспроизводят почти во всех альбомах кэрролловских фотографий.
В письме есть и кое-какие подробности, касающиеся самого лауреата. Так, когда речь зашла об убийствах, Теннисон рассказал несколько «ужасных историй из реальной жизни», что очень удивило Чарлза: «Похоже, он склонен получать большое удовольствие от такого рода описаний, чего не скажешь, если судить по его поэзии».
Во время этого визита был один небольшой эпизод, на который Чарлзу следовало бы обратить внимание. Он попросил миссис Теннисон объяснить ему стихотворение ее супруга «Волшебница Шалотт», которое толковали по-разному. Ему бы следовало вести себя осторожнее: во время первой встречи с поэтом ничего хорошего из обращения к нему за толкованием отдельных строк не вышло. Сейчас его просьба также не была исполнена. В дневнике читаем: «Миссис Теннисон сказала, что оригинал легенды был написан по-итальянски и что Теннисон передал ее в том виде, в каком она к нему попала, поэтому вряд ли справедливо ожидать от него, чтобы он ее еще и объяснял». Отказ был вежливым, но твердым.
В апреле 1862 года Доджсон снова приехал в Фрешуотер; на этот раз он остановился в гостинице. Он надеялся повидаться с Теннисоном, но тот был занят, побеседовать с ним не удалось. Тот год для Теннисона был тяжелым: его мучила депрессия — наследственный недуг, то и дело дававший о себе знать. Только к весне он наконец поправился. За несколько дней до приезда Чарлза Теннисона вызвали на аудиенцию к королеве в Осборн-хаус, ее летнюю резиденцию на острове Уайт. Принцесса Алиса выразила при этом желание, чтобы Теннисон написал что-нибудь «идеализирующее» недавно умершего принца-консорта. Теннисон отвечал письмом: «Я не выразил желания попытаться сделать это, ибо чувствовал, что не сумею достойно выполнить такую задачу. К тому же я не вижу, как мне идеализировать жизнь, которая сама по себе была идеальна».
Шестнадцатого апреля Чарлз был приглашен в Фаррингфорд к обеду, но Теннисон появился лишь на несколько минут. Зато гость увиделся с его сыновьями — Галламом и Лайонелом: рассказывал им истории, учил играть в «охотников на слонов» (в эту игру когда-то с азартом играли его юные братья и сестры) и взял с собой к Джулии Маргарет Камерон (Cameron), известной своими любительскими фотографиями.
Чарлз познакомился с миссис Камерон несколько раньше и получил от нее в подарок выполненный ею фотопортрет Теннисона. В ответ он преподнес указатель к поэме In Memoriam, который с разрешения поэта был только что выпущен в свет издателем Моксоном. Джулия Камерон была весьма экстравагантной дамой — так отзывался о ней хорошо знавший ее профессор Джоветт, коллега Чарлза по Крайст Чёрч, который на Пасху и Рождество всегда навещал своего друга Теннисона. По словам Джоветта, она обладала способностью сотрясать любой дом, в который входила; впрочем, была весьма умна и доброжелательна. Она боготворила Теннисона и вообще была склонна к почитанию гениев и героев. Незадолго до того Теннисона посетил Гарибальди, и миссис Камерон выразила желание сделать его фотопортрет. Миссис Теннисон записала в своем дневнике, что когда Теннисон представил Джулию Камерон герою Италии, та упала на колени, простирая к нему почерневшие от химических растворов руки. «Он, конечно, принял ее за нищенку, но мы объяснили ему, кто она такая».
В то время Джулии Камерон было 48 лет, у нее росли двое сыновей. Некрасивая, приземистая, полная, в темных развевающихся шалях, она была импульсивна и необычайно энергична, отличалась великодушием и даром притягивать к себе людей. За месяц до того Доджсон видел ее работы на фотографической выставке и отнесся к ее романтическим портретам весьма критично: «Я не восхищаюсь большими головами миссис Камерон, снятыми не в фокусе». Впрочем, познакомившись с ней на острове Уайт, он с готовностью принял предложение устроить в ее доме совместную выставку фотографий. Сестре Луизе Чарлз пишет о миссис Камерон: «Все ее фотографии сняты специально не в фокусе. Кое-какие из них весьма оригинальны, другие ужасны, однако она говорит о них как о великих достижениях искусства. Она выразила сожаление, что не может снять некоторых из моих моделей не в фокусе, а я выразил аналогичное сожаление, что не могу снять некоторых ее моделей в фокусе».
Миссис Камерон предложила ему пользоваться ее моделями и камерой, но он всё же не удержался и выписал свою камеру и всё необходимое для фотографирования. Он снял миссис Камерон и ее сыновей, а также двух прелестных дочек их общих знакомых. С разрешения Теннисона он разместил свою фотолабораторию в его доме и работал там в течение шести дней. Но само семейство не появлялось, и Чарлзу пришлось довольствоваться снимками дома и сада.
В последующие годы Чарлз по-прежнему внимательно следил за публикациями Теннисона; однако более с ним не встречался. Когда в 1865 году вышли «Приключения Алисы в Стране чудес», Чарлз послал поэту авторский экземпляр; однако Теннисон, насколько известно, не откликнулся. По-видимому, Чарлз остался в его памяти скромным преподавателем, увлеченным фотографией; возможно даже, что он не соединил его с именем «Льюис Кэрролл». В марте 1870 года Доджсон послал неосторожное письмо Теннисону, приведшее к неприятной переписке с его женой, но об этом речь пойдет ниже.
Чарлз продолжал серьезно заниматься фотографией, уделяя ей всё больше времени. Он с большим вниманием относился к работам других фотографов, тщательно изучал их и даже завел специальный альбом для лучших снимков коллег. Фотохудожником (этот термин постепенно вошел в обиход), которого он особенно ценил, был швед Оскар Густав Реджлендер (Rejlander), живший в Англии. Говорили, что он придумал остроумный способ определения продолжительности выдержки (специального устройства для этого тогда еще не было) — с помощью своей кошки: смотрел, насколько расширились (или сузились) ее зрачки, и в зависимости от этого ставил выдержку!
Когда Чарлз решил оборудовать себе студию в Оксфорде, он обратился за советом к Реджлендеру: затея была дорогая, и новичок нуждался в совете опытного фотографа. А в 1863 году он заказал Реджлендеру свой портрет. На фотографии Кэрролл сидит с фотолинзой в руках, задумчиво глядя вдаль. Специалисты отмечают, что выбранная поза замечательно сбалансирована. Многие считают, что это лучший из портретов Кэрролла.
Усердно фотографируя, Чарлз регулярно посещал фотовыставки. В обозрении «Выставки фотографий 1860 года», опубликованном 28 января 1860 года в «Иллюстрейтед таймс», появилась его статья об этом новом виде искусства. «Достоинства и недостатки фотографий, вообще говоря, настолько зависят от технических ограничений, — писал он, — что трудно обсуждать художественные особенности и достоинства работы фотографа. В основном фотограф сам несет ответственность за выбор ракурса и времени дня, а порой и за решения перспективы и переднего плана в кадре, а в портретах — за выбор света, позы и группировки». Он отметил, что руки на портрете являются серьезной проблемой, и советует фотографам не поддаваться искушению укладывать их самим: «В противном случае фотограф попадает в положение робкого юноши из анекдота, который впервые понял, что руки ему мешают, и не может вспомнить, как он обычно поступает с ними в жизни».
Чарлз предостерегает и от математически точной организации кадра. «Распространенная ошибка в выборе ракурса заключается в том, что главный объект помещают в центр или, по меньшей мере, так близко к нему, что становится ясно: ими (фотографами. — Н. Д.) руководил расчет, а не воображение, а у зрителя возникает желание схватить линейку и вымерить, насколько точно картина разделена на две половины». Как видим, занятия математикой не помешали Чарлзу руководствоваться не алгеброй, а гармонией и таким образом стать, по его собственному определению, фотохудожником. Обзор выставки, по словам Энн Кларк, «показал, что его успехи как фотографа были неслучайны. Это был результат необычайно развитых критических способностей».
В 1850–1860-х годах всё более заметное место на художественной авансцене занимала новая группа художников, которые называли себя Братством прерафаэлитов. О них говорили и спорили, ими восторгались, их бранили; каждая выставка их работ была событием. Доджсон внимательно следил за всеми перипетиями этих сражений и не пропустил ни одной из их выставок. Джон Рёскин был их теоретиком и энергичным пропагандистом.
В начале 1857 года Чарлз отметил в дневнике, что читает книгу Рёскина «Прерафаэлиты», а летом того же года увидел их работающими. Тем летом Данте Габриель Россетти вместе с товарищами по Братству прерафаэлитов — Уильямом Моррисом, Эдуардом Бёрн-Джонсом, Артуром Хьюзом и другими — приехал в Оксфорд. Они получили заказ на роспись нового Зала дебатов Дискуссионного общества Оксфордского университета, который предстояло украсить сценами из книги Томаса Мэлори «Смерть короля Артура» (Morte d’Arthur), написанной в 1469 году и изданной в 1485-м. Эпоха и стиль были для них самыми подходящими! Вскоре Чарлз познакомился с Артуром Хьюзом. В последующие годы он часто встречался с художником и его семьей и подружился с его дочерьми. Купленная им картина Хьюза «Девушка с сиренью» висела в его гостиной до конца его дней.
Постепенно Чарлз познакомился и с другими художниками и скульпторами; они принимали его как коллегу — фотохудожника и поэта (среди прерафаэлитов были и поэты). Одним из его новых знакомых был скульптор Александр Манро, с которым его познакомил драматург Том Тейлор, известный также своими художественными и театральными статьями в «Таймс». Позже он стал редактором журнала «Панч».
Шестнадцатого апреля 1858 года Чарлз посетил Манро и познакомился с его работами. Судя по всему, они понравились друг другу. Чарлз записал в дневнике: «Он дал мне carte-blanche фотографировать в его студии всё, что я пожелаю, когда я буду в Лондоне в июне, вне зависимости от того, будет он в городе или нет. Приехать к нему с камерой — очень соблазнительное предложение». Мы не знаем, воспользовался ли Чарлз этим предложением тогда же, но, судя по всему, он работал в доме Манро в 1859 и 1860 годах — во всяком случае, именно к этому времени относятся дошедшие до нас фотографии Манро, его семьи и скульптур. Летом 1859 года он провел в доме Манро несколько дней, фотографируя его работы, среди которых были бюсты Данте и итальянского республиканца Джузеппе Мадзини, статуя «Прогулка влюбленных», статуэтка «Надежда» и многие другие. До нас дошли превосходные фотопортреты, выполненные Доджсоном, скорее всего, несколько позже: Манро за работой в своей мастерской, художник с дочерьми и, конечно, его друг Том Тейлор со знаменитыми «пиратскими» усами.
Возвращаясь из Гастингса весной 1860 года, Чарлз навестил в Лондоне Холмана Ханта, члена Братства прерафаэлитов, которому незадолго до того был представлен. Хант провел его на закрытый просмотр своей картины «Христос в храме» в Королевской академии (публике ее покажут на следующий день). Чарлз записал в дневнике: «В зале было всего несколько человек, так что я смог посмотреть картину как следует и к тому же поговорить с самим художником, что было особенно приятно. Это самая замечательная картина из тех, что я видел». На этой выставке он встретил супругов Кум (Combe) из Оксфорда: Томас Кум, видный издатель, был большим любителем искусства. С тех пор Чарлз поддерживал знакомство с ним.
Картину «Христос в плотницкой мастерской» кисти Джона Эверетта Миллеса, который вместе с Холманом Хантом примкнул к Братству прерафаэлитов вскоре после его возникновения, Чарлз видел в июне 1862 года в оксфордской галерее Раймена, где художник выставил ее перед отправкой в Королевскую академию в Лондон. Картина, написанная в 1850 году и первоначально названная «Христос в доме своих родителей», вызвала возмущение публики: изобразив Христа, Марию и Иосифа как простых людей в плотницкой мастерской, художник нарушил общепринятый канон. Чарлзу картина также решительно не понравилась, хотя он и отдал должное мастерству художника. «Конечно, это очень сильная картина, — записывает он в дневнике 13 июня 1862 года, — однако она до невозможности некрасива, и лица Богоматери и Сына чуть ли не хуже всего. Фигура Иоанна Крестителя, несущего воду, чтобы промыть рану на руке Христа, — одна из лучших: цвет тела передан замечательно. Ранка у Господа нашего — в центре ладони, и несколько капель крови упали на Его обнаженную ступню: идея причудливая; нечто подобное нередко встречается на картинах Ханта».
В сентябре 1863 года Манро познакомил Чарлза с Данте Габриелем Россетти, сыном итальянского эмигранта-республиканца, известным поэтом и художником, возглавившим Братство прерафаэлитов. Россетти жил тогда в Тюдор-хаусе на Чейн Уолк в районе Челси. Рыжеволосой Лиззи Сиддел, его натурщицы и возлюбленной, увековеченной им на многих полотнах и ставшей его женой, в то время уже не было в живых: она скончалась за год до того, приняв слишком большую дозу снотворного — случайно или намеренно, так и осталось неизвестным.
В просторном особняке XVI века, окруженном большим садом, у Россетти жили писатель Джордж Мередит, поэт Алджернон Суинберн, а порой и еще кто-то из друзей. Собиралось пестрое богемное общество, завсегдатаями которого были брат художника Уильям Майкл, художник Уильям Моррис. В доме гостили входивший в славу Джеймс Мак-Нейл Уистлер и другие знаменитости, состоявшиеся и будущие. В саду обитали броненосец и кенгуру, а на обеденном столе спал любимец Россетти вомбат (мышь-соня). Форд Мэдокс Браун, еще один член Братства прерафаэлитов, который также порой гостил у Россетти, позже утверждал, что именно этот зверек вдохновил Кэрролла на создание Мыши-Сони в «Стране чудес». Так, верно, и было: глава о Безумном чаепитии появилась лишь в окончательном варианте сказки, над которой Кэрролл работал уже после знакомства с Россетти и его зверинцем. Именно в этой главе появилась и Мышь-Соня: это она будет спать на столе, за которым расселись Безумцы, это ее будут запихивать в чайник Болванщик и Мартовский Заяц.
Первого октября (прошло чуть больше месяца после знакомства с Россетти) Чарлз по предварительной договоренности с хозяином приезжает в Тюдор-хаус с камерой и всем необходимым для фотографирования. «Мистер Россетти, — записывает он в дневнике, — предложил пригласить Роберта Браунинга, чтобы сфотографироваться вместе в среду. Знаменитости, подобно невзгодам, в одиночку не ходят». Однако Браунинг не появился. Зато 6 октября, когда Доджсон вновь приехал к Россетти, день оказался удачным. «Отправился к мистеру Россетти, начал распаковывать камеру и пр. Пока был занят, приехала мисс Кристина Россетти, и мистер Россетти представил меня. Поначалу она казалась немного застенчивой, а разговориться не было времени, но она мне чрезвычайно понравилась». Несмотря на робость Кристины, Доджсону удалось уговорить ее позировать — он сделал два ее портрета. Потом все вместе обедали. Доджсон уехал, оставив камеру и другое оборудование для дальнейших сеансов у Россетти, который предоставил в его распоряжение сад и просторный подвал, где Чарлз оборудовал временную лабораторию.
На следующий день он опять приехал и снова фотографировал Кристину, а также ее сестру Марию Франческу, двух братьев и миссис Россетти, их мать. Кристина понравилась ему больше всех — он давно уже восхищался ее поэзией, к тому же ему импонировали ее глубокая религиозность и скромность. Выдающаяся поэтесса, автор проникновенных религиозных стихотворений и стихов для детей, она долгое время ничего не печатала. Ее брату Данте Габриелю лишь с трудом удалось уговорить ее опубликовать книгу стихов, а затем и поэму «Базар гоблинов» (1862). Она была красива, но, не желая обращать на себя внимание, одевалась не просто скромно, но бедно. Макс Бирбом, известный автор, художник и карикатурист, нарисовал карикатуру, на которой Данте Габриель говорит сестре: «Твое сердце может петь, как певчая птица, но почему ты одеваешься, как церковная служка?»
Доджсон был знаком с поэзией Кристины Россетти. За год до того он прочитал ее поэму «Базар гоблинов», написанную для детей, но, пожалуй, слишком длинную и мрачную для них. Знал он и детские стихотворения Кристины Россетти; их простота и мягкий юмор должны были ему понравиться. Вот два из них:
Гусеница, гусеница В шубке золотистой. Отправляйся, гусеница, Под листок тенистый. От лягушки под листком Сможешь ты укрыться, В голубой его тени Не заметит птица. Предстоит тебе скрутиться В кокон под листком, Чтобы вновь потом родиться Мо — тыль — ком.Этот стишок невольно заставляет вспомнить о встреченной Алисой в Стране чудес Синей Гусенице и ее превращениях.
Во втором стихотворении поэтесса играет словами — такую игру любил и Кэрролл:
Есть у булавки головка, но без волос, увы! Есть у чайника носик, однако нет головы. Есть ушко у иголки, но не слышит оно, Есть язычок у туфель, но туфли молчат всё равно. Есть у дороги ямки, но нет подбородка и щёк, Есть у горы подножье, да что-то не видно ног. Есть у рябины кисти, но нет у бедняжки рук. Белым глазком картошка, не видя, глядит вокруг. Ключ серебрится в чаще, к которому нет замка, По полю, ног не имея, лениво бежит река. Есть у расчески зубы, но есть не может она, За месяцем месяц проходит, а не за луной луна. Есть рукава у потока, хоть поток не одет, Папку носят под мышкой, а под кошкою — нет[55].Когда в 1865 году «Приключения Алисы в Стране чудес» вышли в свет, Кэрролл послал поэтессе экземпляр с дарственной надписью. В ответном письме Кристина благодарила его за сказку и признавалась, что ей особенно нравятся Белый Кролик и Щенок. Знакомства с Безумным Шляпником, писала она, она «постаралась бы избежать, а что до Мартовского Зайца, то пусть он останется под вопросом». Ее брат также прочитал сказку — и пришел в восторг от стихотворений. Пародии на школьную премудрость показались ему «просто восхитительными».
Неменьший восторг Россетти вызывали и фотоработы Чарлза. В Музее Эшмола в Оксфорде хранятся письма художника Кэрроллу, в одном из которых он пишет: «Я опять тревожу вас просьбами о фотографиях. Все так восхищаются ими!» — и заказывает 30 копий, не останавливаясь перед расходами.
Кэрролл продолжал бывать в доме Россетти. Молодой художник Генри Т. Данн, посещавший Россетти в это время, впоследствии вспоминал: «Льюис Кэрролл… был частым гостем на Чейн Уолк в то время, когда Россетти поселился там». Обычно его приглашали к обеду, за которым он имел возможность наблюдать разношерстную богемную публику, собиравшуюся на шумное — а порой и буйное — застолье у Россетти. Кое-кто из гостей был известен своими неблаговидными махинациями и, не стесняясь, рассказывал о них. Доджсон был для них ученым доном, человеком не от мира сего. Его присутствие никого не стесняло; он же, конечно, прекрасно понимал, какие люди окружают Россетти. Сын священника и сам принявший сан, он многое повидал на своем веку, но никогда ни единым словом не упоминал об этом печальном опыте. В его дневнике нет ни слова о разгуле и вольнице, которые царили в доме Россетти.
Постепенно атмосфера в доме на Чейн Уолк ухудшилась. Ухудшилось и состояние самого Россетти: обильные завтраки и обеды (один из мемуаристов назвал их «колоссальными»), крепкие напитки и наркотики усиливали нервную возбудимость, вскоре ставшую болезненной. С каждым днем ситуация накалялась. Мышь-соня пристрастилась к поеданию сигар; нагие художники гонялись друг за другом по саду. Мередит, отличавшийся остроумием, позволял себе смеяться над хозяином, и тот в конце концов в гневе плеснул ему чаем в лицо. Визгливое восхищение Суинберна маркизом де Садом и его дикие пляски в саду действовали Россетти на нервы. Немудрено, что Доджсон был чужим в этом кругу; Уильям Майкл говорил, что ему не нравятся шутки дона, — он находил их «странными и не смешными». Визиты Кэрролла становились всё более редкими.
Знакомство с Россетти и его окружением нашло неожиданное отражение в поэтическом творчестве Кэрролла. В 1865 году Суинберн опубликовал трагедию в стихах «Аталанта в Калидоне»; в основу ее лег древний миф о дочери аркадского героя Иаса, известной охотнице, которая убивала претендентов на ее руку. Произведение обратило на себя внимание публики и критики. Правда, у рецензентов не было единого мнения; кто-то метко назвал поэму «викторианской версией греческой трагедии»[56]. И всё же это было началом известности ее автора. Приведем некоторые строфы из «Аталанты в Калидоне».
МЕЛЕАГР Есть невеста милее? Есть дева честней? Лицо — как лилея В сплетеньи кудрей, Аталанта, средь женщин нет тебя совершенней, святей. АТАЛАНТА В край здешний зачем Босиком я пришла, Ненавидима всеми, Неразумна, смела, В Калидон из Аркадии Божий гнев с собой принесла! МЕЛЕАГР Над каждым свой рок, Над всем воля того, В чьей руке как пушок Тяжесть мира всего, Но хотел бы я смерть поразить, над нею вкусить торжество. ………………………… Ты огонь, что горит, Не давая тепла; Мой восторг не избыт, Как роса, ты светла, Выше звезд безупречных, чище дождя, что весна принесла. АТАЛАНТА Хочу, чтоб водою Моя жизнь утекла, Иль, как листья зимою, По низинам легла, Лучше так, чем смотреть, как твой яркий рассвет скроет мгла…[57]Двадцать седьмого июля 1867 года в «Панче» появилось небольшое стихотворение Кэрролла «Аталанта в Кэмден-Тауне». Оно написано от лица неудачливого поклонника героини древнегреческой трагедии, по воле автора появившейся в Кэмден-Тауне, одном из пригородов Лондона. Имя Аталанты в заглавии и строфика, используемая в стихотворении, достаточно ясно указывали на оригинал, легший в основу этого бурлеска — не узнать его было невозможно.
Утром летнего дня Мною страсть овладела. Аталанта меня Замечать не хотела, А на нежные речи в ответ говорила: «Какое мне дело!» Ожерелье и брошь Подарив чаровнице, Уповал я, что всё ж Сердце милой пленится, А прическу носила она в стиле правящей Императрицы. Ожерельем играл Я прелестницы Пери, А в ответ я внимал: «Я признаньям не верю. Я устала уже от жары и толпы в этом жутком Дандрери». ………………………… Я шептал: «Это так — Не тоска, а томленье! Остается на брак Получить разрешенье! Только дорого это, и нам надо бы предпочесть оглашенье. Будь Геро моей! Свет Маяка предо мною». Но услышал в ответ, Чтоб оставил в покое. Но в каком? Я сквозь уличный шум разобрать не сумел остальное[58].Высмеивал ли здесь Кэрролл Суинберна с его трагедией, переводя ее из высокого штиля в низкий, намеренно снижая статус и речи героев? Или он не столько пародировал самого поэта и «Аталанту», сколько использовал ее как «подмалевок», на фоне которого ироническое соединение высоких речей с пошлой городской интрижкой звучало особенно выразительно? Как бы то ни было, стихотворение Кэрролла названием и весьма верной копией излюбленного поэтического размера Суинберна, к тому времени уже хорошо знакомого читателям, прямо указывало на оригинал. Вряд ли Суинберну это понравилось…
(Тут я невольно вспоминаю популярный во времена моей юности стишок, в основу которого неизвестный автор положил строки из пушкинского «Онегина» (цитирую по памяти). Здесь, разумеется, речь не идет о том, чтобы пародировать оригинал, который используется лишь для создания юмористического эффекта:
В трамвай садится мой Евгений, Но бедный, бедный человек, Не знал таких передвижений Его спокойный, мирный век. Судьба Евгения хранила, Ему лишь ногу отдавило, И только раз, пихнув в живот, Ему сказали: «Идиот!»)Иронические бурлески будут и позже отличать Кэрролла, при этом степень пародийности станет варьироваться в зависимости от его отношения к выбранному оригиналу и автору, а иногда и полностью отсутствовать.
Выше уже говорилось о том почтении, которое Чарлз питал к Джону Рёскину. Еще в августе 1855 года он сделал краткую запись в дневнике о том, что читает книгу «Камни Венеции». Наверное, ему был знаком и знаменитый труд Рёскина «Современные художники», который печатался частями с 1843 по 1860 год. С годами они подружились, хотя большой близости между ними так и не возникло, да ее и трудно было ожидать: Рёскин был тринадцатью годами старше Чарлза, которому в то время было 25 лет. К тому же во время их первой встречи в Клубе колледжа Рёскин, автор трудов по истории искусства и сам незаурядный художник, был уже знаменит, что воздвигало барьер между ними. Впрочем, они относились друг к другу с теплотой и доверием.
Вскоре после знакомства Чарлз попросил Рёскина посмотреть его рисунки — он хотел выслушать мнение критика, на которого мог полностью положиться. Тот высказался прямо, без всяких околичностей: он полагал, что Чарлзу «недостает таланта, чтобы позволить себе тратить время на рисование», прибавив, однако, что «вместе с тем все, кто видят его фотографии, восхищаются ими». В глубине души Чарлз и сам чувствовал, что его рисунки недотягивают до должного уровня; мнение Рёскина окончательно его в этом убедило.
В последующие годы Чарлз внимательно следил за выходом в свет книг Рёскина, его выступлениями в защиту Братства прерафаэлитов и статьями о выставках. Он мечтал сделать фотопортрет критика и не раз подступал к нему с предложением, но тот упорно отказывался. Лишь в 1875 году (после восемнадцати лет знакомства) он наконец согласился. Портрет Рёскина занял достойное место в собрании фотографий Кэрролла, несмотря на некоторую неказистость позировавшего (возможно, это и смущало его?).
В Национальной портретной галерее в Лондоне хранится немало сделанных Кэрроллом фотографий выдающихся людей: Теннисона, Данте Габриеля и Кристины Россетти, Рёскина, Ханта, Эллен Терри, Солсбери, Гексли и др. Но, пожалуй, больше всего вызывают восхищение портреты детей, которые то и дело экспонируются на различных выставках. Высоким признанием таланта Кэрролла-фотохудожника был показ его работ на выставке «Детство. Отрочество. Юность», проходившей в Москве в конце 2010 года в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина среди картин прославленных художников — от Боттичелли до Кандинского, представлявших мир детства. Выставлялись также и стилизации его фотографий современными художниками (заметим, кстати, заметно уступающие оригиналам).
Помимо отдельных портретов, у Кэрролла есть и замечательные групповые фотографии: две его тетушки в чепцах и старинных нарядах играют в шахматы, напряженно изучая шахматную доску; группы шалящих школьников; пять сестер, сидящих на кушетке с младшим братом Эдвином, теряющимся среди их юбок. Общая композиция, расположение фигур, естественность поз, воздух и фон — всё обращает на себя внимание, всё свидетельствует о зоркости глаза фотографа. Следует при этом принять во внимание, что по большей части фотографии снимались не в помещении, где было недостаточно света (искусственного фотоосвещения тогда еще не существовало), а под открытым небом, как правило, в солнечную погоду; фоном нередко служила натянутая скатерть или ковер, что ясно видно на необрезанных снимках.
В викторианскую пору большой популярностью пользовались и постановочные — театрализованные, костюмные — фотографии, которые «рассказывали» какую-то известную историю или специально придуманный сюжет. Такие фотографии были и у Кэрролла: «Красная Шапочка» в плаще на опушке леса с корзинкой гостинцев для бабушки; «Похищение», где юная Алиса Донкин (вышедшая впоследствии замуж за брата Кэрролла) снята на веревочной лестнице, укрепленной в открытом окне второго этажа; «святой Георгий» с копьем в руках, освобождающий из лап «дракона» «деву» в длинном белом платье. Были у Кэрролла и снимки ландшафтов, и даже сделанные специально для Музея естественной истории, но, конечно, они не шли в сравнение с его фотопортретами и снимками детей.
Глава девятая «ПОЛДЕНЬ ЗОЛОТОЙ…»
Вечером 4 июля 1862 года Чарлз сел за стол, чтобы, как обычно, сделать в дневнике краткую запись о прошедшем дне. «Аткинсон привел ко мне своих друзей, миссис и мисс Питерс, — записал он. — Я их фотографировал, а потом они посмотрели мой альбом и остались завтракать. Затем они отправились в музей, а мы с Даквортом, взяв с собой трех девочек Лидделл, отправились на прогулку вверх по реке в Годстоу; пили чай на берегу и вернулись в Крайст Чёрч только в четверть девятого. Зашли ко мне, чтобы показать девочкам мое собрание фотографий, и доставили их домой около девяти часов». Лодочная прогулка по Айсис (так в этих местах называют рукав Темзы) мимо моста и гостиницы «Форель» в Годстоу, где сохранились развалины старинного монастыря, была одним из излюбленных маршрутов Чарлза и его юных друзей. Он и не подозревал, что этот день войдет в историю литературы и будет снова и снова поминаться его исследователями и поклонниками. Спустя столетие известный по обе стороны океана поэт Уистен Хью Оден напишет, что 4 июля 1862 года — дата, «столь же памятная в истории литературы, как 4 июля в истории Америки[59]», и это никого не удивит. Да, этот день отмечает начало истории о сказочных приключениях Алисы под землей, увлекательной истории, которая будет разворачиваться на протяжении ряда лет.
Но вернемся немного назад — в то время, когда Чарлз только осваивал искусство фотографии и вместе со своим другом Саути бродил по Оксфорду в поисках достойных сюжетов. Став помощником хранителя библиотеки, он немало времени проводил в библиотечном помещении и с удовольствием наблюдал через окно, выходившее в сад ректора Лидделла, как его дети — Гарри, Лорина, Алиса и Эдит — играют в крокет.
Тут, пожалуй, я позволю себе отступление. Летом 1988 года я впервые попала в Англию — пресловутый «железный занавес» наконец поднялся — и вместе с Лиз Мэзлин, лектором одного из лондонских университетов, отправилась в Оксфорд. Мы вошли в ворота Крайст Чёрч, полюбовались пустынным внутренним двором Том Квод, осмотрели готический Холл с высокими потолками и окнами, где столько лет сидел за столом Кэрролл — сначала внизу с товарищами-студентами, а затем за «высоким» столом с коллегами-преподавателями. На стене, среди портретов выдающихся питомцев Крайст Чёрч, мы нашли портрет Кэрролла, выполненный художником Уильямом Блейком Ричмондом. Побывали мы и в старинном соборе Крайст Чёрч, где у алтаря, как и прежде, стоят огромные букеты прекрасно подобранных цветов, а потом направились в библиотеку, где Кэрролл проводил столько времени. Огромный двусветный зал с обегающей его наверху галереей, с пола до потолка уставленный книгами, был пуст.
К нам подошел служитель и с полупоклоном объявил, что нас желает видеть хранитель библиотеки. Он провел нас к святая святых — кабинету хранителя. Когда-то здесь составлял свои книжные списки Кэрролл, поглядывая в окно на детей ректора Лидделла, игравших в саду. Тихо постучав, служитель распахнул перед нами дверь. У открытого окна за столом сидел убеленный сединами старец. Не поднимаясь с кресла, он приветствовал нас и предложил сесть. После того как мы обменялись обычными в таких случаях вопросами и ответами, он спросил меня, не хотела бы я увидеть первое издание «Приключений Алисы в Стране чудес». Конечно, хотела бы! Он вынул из сейфа, стоявшего рядом с его креслом, небольшую красную книжечку. Было так странно держать ее в руках, бережно перелистывать страницы и думать, что, возможно, ее держал в руках Кэрролл, еще не знавший, что его ожидает всемирная слава…
Ночевала я в спальне Алисы Лидделл. Домоправительница показала мне просторный дом с высокими потолками и окнами. Мы поднялись по Лексиконовой лестнице. Домоправительница провела меня в спальню, где стояли две кровати с ночными столиками, креслами и камином, и рассказала, что в этой комнате сто с лишним лет назад спали две старшие сестры Лидделл — Алиса и Лорина. Я долго не могла заснуть, сидела на широком подоконнике — древние стены массивны, и окна здесь очень глубоки. Для удобства к каждому окну была пристроена небольшая лесенка в три узкие ступеньки, а на широких подоконниках лежали плоские подушки в светлых чехлах. Здесь, думалось мне, сидя на этих подоконниках, Алиса и ее сестры читали, болтали, играли… Взошла луна. Внизу простирался пустой квадрат внутреннего двора. Тишину нарушало лишь тихое плескание воды в бассейне у ног маленького Меркурия…
В суровой академической атмосфере, царившей в Оксфорде, Чарлз Доджсон не раз вспоминал родной дом и многочисленных братьев и сестер, окружавших его. Ему не хватало их общества, которое так много значило для него. В пору жизни в Дарсбери и Крофте он привык беседовать с ними, придумывать для них разные игры и развлечения, всячески их опекать, заботиться, ухаживать за ними во время болезни. В Оксфорде, где у него было много добрых знакомых и друзей, ему не хватало общения с детьми — искреннего, естественного. Гораздо позже, 13 ноября 1881 года, он записал в дневнике, что устал от людей, встречаемых в модных гостиных, «скрывавших все чувства, которые, возможно, существовали под непроницаемой маской общепринятого спокойствия».
Он легко знакомился с детьми своих оксфордских друзей и коллег, благо все в Оксфорде знали друг друга. С детьми он становился самим собой, их непосредственность и искренность освежали его; когда он играл с ними, было ясно, что он полностью погружается в игру и она увлекает его так же, как и их. Его племянница Ирен Доджсон годы спустя вспоминала, как он сидел рядом с ней на ковре и с увлечением разглядывал великолепного медведя, который открывал и закрывал рот, когда говорил. Подобно детям Чарлз любил шутки, розыгрыши, спектакли, шарады и всевозможные выдумки. Он радовался всяким новинкам вместе с детьми; заводные игрушки он мастерски разбирал и чинил, когда в этом была нужда.
Среди юных друзей Кэрролла были и мальчики, но девочек было значительно больше. Современников это не удивляло. В ту пору в Англии в кругах, к которым принадлежал Кэрролл, был распространен культ ребенка, в особенности девочек, которые в глазах викторианцев были нежными и безгрешными созданиями, близкими к ангелам Божьим. Еще на рубеже XVIII и XIX веков этот взгляд на детство нашел выражение в «Песнях невинности» и «Песнях опыта» великого английского поэта и художника Уильяма Блейка, которого Кэрролл высоко ценил, а также в поэзии романтиков XIX столетия, произведениями которых он зачитывался подростком.
Отношение Кэрролла к его маленьким друзьям было глубоким и искренним. «Чтобы понять натуру ребенка, — писал он матери одной из своих юных знакомых, — нужно немало времени, особенно если видишь детей всех вместе да еще в присутствии старших. Не думаю, что те, кому довелось наблюдать их только в этих условиях, имеют представление о том, насколько прелестен внутренний мир ребенка. Я имел счастье общаться с ними наедине. Такое общение очень полезно для духовной жизни человека: оно заставляет убедиться в скромности собственных достижений по сравнению с душами, которые настолько чище и ближе к Господу».
В наше время, охочее до сенсаций определенного рода, говоря о девочках, с которыми дружил Кэрролл, часто вспоминают о набоковских «нимфетках». Такой взгляд был бы грубым искажением истины. Есть документы, решительно опровергающие эту версию: его удивительная переписка с детьми и их родителями, в которой скрупулезно обсуждались все детали прогулок, визитов, «безумных чаепитий», пикников или поездок в театр, отмеченные крайней щепетильностью, а также воспоминания всех, кто его знал, включая его юных подружек и их родных. Все они, без единого исключения, тепло вспоминают «мистера Доджсона».
Кэрролл не любил говорить о себе, но однажды, спустя годы, поведал молодому коллеге Артуру Гёрдлстоуну, чем для него были дети. Как-то Гёрдлстоун зашел к нему вечером. Кэрролл выглядел усталым, но, когда гость похвалил фотографию младенца, стоявшую на пюпитре для книг, он оживился и сказал: «Это ребенок моей приятельницы». Гёрдлстоун записал: «Он сказал, что в обществе совсем маленьких детей мозг его наслаждается отдыхом. Если он слишком напряженно работал, игра с детьми действует на его нервную систему как настоящий освежающий бальзам». Гёрдлстоун признался, что не понимает детей, и спросил, не скучает ли Кэрролл с ними. «Во время нашей беседы он в основном стоял, но когда я задал ему этот вопрос, он внезапно сел. „Они составляют три четверти моей жизни, — сказал он. — Я не понимаю, как кто-то может скучать в обществе маленьких детей. Думаю, когда вы будете постарше, вы это поймете, — надеюсь, что поймете“».
Коллингвуд писал, что Кэрролл любил играть с детьми, учить их; ему нравилась их внешность, но их души его привлекали еще больше.
Среди первых «детских друзей» (child-friends) Чарлза были дети членов оксфордских колледжей, а также те, с кем он знакомился во время поездок и отдыха на море. В первом из сохранившихся дневников мы находим упоминание о «трех милых крошках» некой миссис Крошей, с которыми он познакомился в Тайнмауте (Tynemouth). «Мне особенно понравилась старшая из них, Флоренс, у нее чудесные манеры; лицо у нее замечательное, хотя она и не хорошенькая; не исключено, что она вырастет в красавицу-брюнетку», — записывает Чарлз в дневнике 21 августа 1855 года. А спустя месяц он отмечает, что познакомился в Уитбёрне с Фредерикой (Фредди, как ее называли дома) Лидделл, племянницей ректора Крайст Чёрч, «одной из самых прелестных детей, которые я когда-либо встречал: она выглядит невинной и нежной, а не бездушной куклой-красоткой». Спустя месяц он делает в дневнике запись о знакомстве с ее младшей сестрой, маленькой Гертрудой, показавшейся ему «еще милее, чем моя любимица Фредди».
Дерек Хадсон замечает, что Кэрролла как художника привлекали красивые дети, и в этом смысле семейство ректора Лидделла занимало особое место: все дети были очень хороши собой. Первым из детей ректора, с которым свел знакомство Чарлз, был его старший сын Генри, которого все называли Гарри. 16 марта 1856 года Чарлз записал в дневнике: «Подружился с маленьким Гарри Лидделлом (я познакомился с ним у лодочного причала на прошлой неделе); это самый красивый мальчик из тех, кого я знаю». Кэрролл хорошо греб и учил своего юного приятеля гребле. Он предложил также заниматься с Гарри математикой, но миссис Лидделл не сочла это нужным и отказала ему под предлогом, что «это займет слишком много времени». Впрочем, потом она всё же согласилась на это предложение, возможно, не без влияния ректора. Кэрролл отметил в дневнике, что Гарри «соображает неплохо, но знает на удивление мало». Занятия продолжались недолго, поскольку математикой Гарри не очень увлекался — гораздо интереснее для него были прогулки и беседы с новым другом.
Кэрролл познакомился и со старшей дочерью ректора Лориной Шарлоттой, которую домашние звали Иной. 25 апреля 1856 года Чарлз вместе с Саути сделал попытку сфотографировать собор Крайст Чёрч из ректорского сада, где в это время играли три дочери Лидделла. «Мы быстро подружились с ними и попытались сгруппировать их на первом плане, но они все время крутились», — записал Чарлз в дневнике. Алисе Лидделл в то время было без малого четыре года (она родилась 4 мая 1852-го). Старшей сестре Лорине было семь лет, а младшей, Эдит, — всего два. Хотя ни собор, ни детей снять не удалось, эта первая встреча с девочками Лидделл, по-видимому, произвела впечатление на Чарлза. Он записал в дневнике: «Я отмечаю этот день белым камешком». Этой формулой, заимствованной у древних римлян, он обозначал исключительные события.
Чарлз сказал ректору, что хотел бы сделать фотопортреты детей. Миссис Лидделл с радостью приняла его предложение и на время предоставила в его распоряжение подвальное помещение в ректорском доме. Чарлз перевез туда свою фотолабораторию и всё необходимое снаряжение и принялся за работу. Он отпечатал фотографии и изготовил достаточно копий для своего альбома, для Лидделлов и для подарков родным и друзьям. Фотографии очень понравились семейству Лидделл; а дети быстро подружились с «мистером Доджсоном». Так они будут называть его и дальше — это было принято в те годы. К тому времени относится первая фотография четырехлетней Алисы.
Вскоре Чарлз стал частым гостем в доме Лидделлов. Он навещал ректора и его жену, играл с детьми в крокет и другие игры, брал их с собой на прогулки, фотографировал их — правда, не всегда удачно, ибо снимки часто зависели от погоды, ведь «вспышек» тогда не было. В июне он снимал молодых Лидделлов и вместе со своим двоюродным братом Фрэнком взял Гарри и Ину на лодочную прогулку. Вскоре миссис Лидделл устала от фотокамеры. Она была персоной суровой и решительной и в целом не очень жаловала Чарлза — возможно, потому что дети его любили и всегда были ему рады.
В 1856 году здоровье ректора пошатнулось и врачи отправили его на зиму на остров Мадейра; жена поехала вместе с ним. На следующий день после их отъезда Чарлз навестил детей и остался «„обедать“ в детской». К этому времени он уже был близким другом младших Лидделлов и завоевал симпатию их гувернантки мисс Прикетт.
Как известно, шестая и седьмая тетради дневников Льюиса Кэрролла (с 18 апреля 1858 года по 8 мая 1862-го) не сохранились. Исследователи восстанавливают события тех лет по письмам, воспоминаниям и, конечно, по биографии Кэрролла, написанной Коллингвудом, в распоряжении которого были все 13 дневниковых тетрадей.
Весной и летом 1858 года в промежутках между лекциями и занятиями со студентами Доджсон обращался к фотографии, с особым удовольствием снимая детей. Он делал сотни снимков, особенно часто фотографировал Гарри и девочек Лидделл. Примерно в это время он завел журнал своих фотографий и стал методически нумеровать их, что позволяет теперь более или менее точно определять время их создания. К примеру, портрет Алисы в костюме нищенки (в каталоге Чарлза он значится под номером 354), который так понравился Теннисону, был, вероятно, сделан летом 1858 года — Алисе тогда было шесть лет. Тогда же он снял Алису сидящей на стуле (номер 355). Об этом портрете Эдвард Уэйклинг отзывается так: «…необычный и удивительный профиль». В другой раз были сделаны фотографии Лорины с куклой-негритянкой в руках, Эдит с книгой, а также всех трех сестер на диване. На одной из ранних фотографий Алисы рядом с ней стоит горшок с папоротником. На языке цветов, очень распространенном в Викторианскую эпоху, папоротник означал искренность и очарование.
Весной 1860 года Чарлз снова фотографировал дочерей ректора: спящая Алиса; Лорина в китайском наряде; Алина и Лорина в китайских костюмах; Эдит на софе; Лорина с гавайской гитарой в руках; групповой портрет: Алиса Донкин, Сара Экленд и Лорина Лидделл.
Время летело быстро. Вскоре Гарри отправили в школу, а три сестры — Лорина, Алиса и Эдит — стали заниматься дома с гувернанткой мисс Прикетт, которую они прозвали «Прикс» (Pricks) — «Колючка». Она происходила из простой семьи и не отличалась образованностью; впрочем, к образованию девочек не относились слишком серьезно даже в семействе ректора. Конечно, их учили читать и писать, они занимались с гувернанткой историей по скучнейшему учебнику Хэвилленда Чемпелла (цитаты из него потом появятся в «Стране чудес» в главе «Бег по кругу и длинный рассказ»), но основное внимание уделялось манерам, танцам, музыке, рисованию.
Спустя годы Кэрил Харгривс расскажет со слов матери[60], что мисс Прикетт ничем не походила на «прекрасно образованную гувернантку нашего времени; впрочем, принимая во внимание требования тех дней, воспитывала детей совсем неплохо». Позже мисс Прикетт вышла замуж за виноторговца, стала хозяйкой оксфордской гостиницы «Митра» и окончила жизнь в полном достатке. В семье вспоминали, что гувернантка недолюбливала Алису — возможно, потому, что та была очаровательна и не очень послушна. К тому же Алиса неплохо рисовала; как мы помним, одно время ее даже учил сам Рёскин. В семье сохранились некоторые из ее акварелей и резная дверь, позже выполненная ею.
В Оксфорде часто видели Чарлза с девочками Лидделл в сопровождении гувернантки, и вскоре прошел слух, что он неравнодушен к мисс Прикетт. 17 мая 1857 года Чарлз записал в дневнике: «Взял Гарри Лидделла с собой в церковь, а после службы прошелся вместе с детьми до дома ректора. К большому моему удивлению, обнаружил, что мое внимание к ним кое-кто из членов колледжа толкует как ухаживание за гувернанткой… Что до меня, то я не придаю значения столь необоснованным слухам; но я был бы невнимателен по отношению к гувернантке, если бы и в будущем дал повод для подобных замечаний. И потому буду впредь стараться не проявлять к ней внимание на публике, за исключением тех случаев, когда подобное толкование невозможно».
Мисс Прикетт вряд ли могла увлечь Доджсона: судя по сохранившемуся портрету, она не отличалась привлекательностью; к тому же ограниченность ее образования и положение в обществе говорили не в ее пользу. Доджсон, как все викторианцы, всегда знал, какое место в обществе занимают люди, с которыми его сводила судьба. Впрочем, он вовсе не был одним из снобов, которых так едко высмеивал Теккерей: не смотрел с презрением на тех, кто стоял на социальной лестнице ниже его, и с подобострастием и восхищением — на стоявших выше. Об этом свидетельствуют и вышеприведенная запись относительно гувернантки, и другие факты его биографии. Вспомним хотя бы о студенте-служителе, которому Доджсон предложил заниматься с ним математикой.
В обществе Чарлз держался сдержанно и с достоинством, как и подобает джентльмену, преподавателю Крайст Чёрч и священнослужителю. Его не смущали титулы и посты; среди его друзей и знакомых уже и в то время было немало людей, занимавших высокое положение. Впрочем, он нередко общался с людьми, которые в глазах викторианского общества стояли гораздо ниже, в частности, с бедными студентами и актерами, которым не удалось достигнуть всеобщего признания и славы.
Отношения с семейством ректора поначалу были самыми дружескими. Чарлз много времени проводил с детьми: совершал с ними прогулки, порой довольно далекие, знакомил с достопримечательностями Оксфорда и окрестностей. Однажды он повел их в Оксфордский музей, где среди прочих диковинок показал засохшую лапу дронта (крупной нелетающей птицы додо) с острова Святого Маврикия, истребленного европейскими колонистами к 1681 году. Он играл с детьми в ректорском саду в крокет и другие игры, зачастую придуманные им самим, ставил с ними шарады, показывал фокусы и, конечно, фотографировал их, следя при этом, чтобы им не было скучно.
Порой миссис Лидделл отправляла девочек в гости к «мистеру Доджсону», даже не спросив его согласия; иногда он сам посылал им записку с приглашением. При этих визитах, как полагалось в то время, присутствовала гувернантка или кто-то из его друзей. Дочери ректора с удовольствием бывали у «мистера Доджсона»: там было много удивительных игр и разнообразных заводных игрушек, вызывавших их восторги. Впоследствии юные друзья Кэрролла вспоминали, что он играл вместе с ними с неменьшим увлечением, чем они сами.
Девочки любили фотографироваться, переодеваясь в разные костюмы, и слушать удивительные истории, которые рассказывал им мистер Доджсон, — все «собственного сочинения»! Но, пожалуй, еще больше они любили посещать маленькую темную комнату, в которой он проявлял фотографии. Спустя много лет, когда «мистера Доджсона» уже не было в живых, Алиса Лидделл вспоминала: затаив дыхание, они следили за тем, как он мерно покачивал ванночки с погруженными в раствор отснятыми фотопластинами, на которых постепенно, словно в сказке, проступали лица: «Темная комната к тому же была так таинственна — там могло случиться любое приключение! Нас завораживали все эти приготовления, мы предвкушали чудесные результаты и от души радовались тому, что участвуем в таинствах, обычно доступных лишь взрослым!»
Сохранился снимок, на котором Чарлз запечатлел четверку юных Лидделлов — Гарри и трех сестер. Все четверо были хороши собой и фотогеничны (существовало ли это слово в те годы?), а миссис Лидделл следила за тем, чтобы дети были всегда одеты со вкусом. Она любила наряжать девочек в одинаковые платья, что всегда обращало на них внимание.
Когда лил дождь и прогулка была невозможна, Доджсон угощал своих маленьких приятельниц чаем. Чарлз всегда сам заваривал чай: аккуратно отмерив должное количество ложек, он брал чайник в руки и десять минут — по часам! — прохаживался по комнате, осторожно потряхивая чайник; так, по его словам, чай заваривался лучше. К чаю он заказывал обильное угощение — бутерброды, пирожки, печенье, пирожные, — и все от души веселились. К тому же хозяин, как правило, развлекал юных гостей всякими играми и историями, которые сочинял на ходу.
В апреле 1862 года мисс Прикетт повезла девочек погостить у бабушки в Карлтон Кингз неподалеку от Челтнема (Челтенхема). Девочки скучали и с позволения бабушки написали Доджсону письмо, зовя его приехать. Чарлз, который собирался в эти края навестить родных, приехал в Челтнем, остановился в гостинице и каждый день проводил с сестрами Лидделл, чем весьма обрадовал и их, и бабушку. В Оксфорд они вернулись вместе. В одной из комнат в доме бабушки над камином висело большое зеркало, которое запомнилось Чарлзу. Возможно, именно оно стало прообразом зеркала, через которое прошла героиня «Алисы в Зазеркалье».
Чарлз то и дело встречал девочек Лидделл на улицах Оксфорда и на прогулках. Если он никуда не спешил, он присоединялся к ним. Иногда он сталкивался с ними на художественных выставках в Лондоне, куда их привозил отец, а в конце июня 1862 года он увидел их в Оксфорде на лужайке, где выступал известный французский канатоходец Шарль Блонден, прославившийся тем, что перешел по туго натянутому канату через Ниагарский водопад — это заняло всего пять минут! 30 июня 1862 года Оксфорд торжественно праздновал День поминовения, посвященный памяти основателей оксфордских колледжей. Блонден на этот раз прошел по «низко натянутому канату». Местная газета приветствовала «всемирно известного героя Ниагары» и радовалась тому, что публика могла наслаждаться замечательным представлением, которое давалось «не среди облаков». Чарлз, с детства любивший цирк, не мог, конечно, пропустить выступление знаменитого канатоходца.
За восемь недель летнего семестра, как вспоминала впоследствии миссис Харгривс, «мистер Доджсон» раза четыре, а то и пять отправлялся с ними на лодочную прогулку. По этому случаю он менял свою обычную черную пару на белые фланелевые брюки, а неизменный цилиндр — на соломенную шляпу с широкими твердыми полями. Он всегда захватывал на прогулку корзину с пирожками и чайником, а если поездка могла затянуться — корзину побольше с ланчем. С ними обычно отправлялся один из двух братьев Чарлза, учившихся в то время в Крайс Чёрч (старший брат внимательно следил за их успехами и всячески им помогал), или кто-то из его друзей. Часто компанию им составлял Робинсон Дакворт, преподаватель химии в Тринити-колледже, отличный гребец и обладатель прекрасного голоса. Нередко, возвращаясь после лодочной прогулки домой, он пел вместе с девочками популярную в то время песню «Звезда вечерняя»:
Звезда вечерняя в высоких небесах, Какой покой в твоих серебряных лучах, Когда стремишься ты неведомо куда, Звезда вечерняя, блаженная звезда
Лодочная прогулка, предпринятая 17 июня 1862 года, за две с небольшим недели до исторического пикника, оказалась не очень удачной. В ней помимо Дакворта, трех девочек Лидделл и Чарлза, приняли участие его сестры Фанни и Элизабет, приехавшие погостить в Оксфорд вместе с тетушкой Люси. Присутствие сестер «мистера Доджсона» девочек смутило — они притихли, не было слышно обычных шуток и смеха. Впоследствии Алиса вспоминала, что обе мисс Доджсон казались им «ужасно старыми» и к тому же «толстыми» — девочки боялись, как бы лодка не перевернулась. На обратном пути — английская погода всегда так ненадежна — внезапно собрались тучи, пошел проливной дождь. Чарлз решил оставить лодку и возвращаться домой сушей. Он довел девочек вместе с Фанни и Элизабет до единственного дома, известного ему в Сэдфорде, — дом миссис Бротон, у которой снимал комнату его друг Рэнкин, — где они могли обсушиться; сам же вместе с Даквортом отправился искать коляску. Поиски затянулись: лишь дойдя до Иффли, Дакворт и Чарлз, наконец, наняли шарабан и послали его к миссис Бротон. Эта прогулка нашла отражение в сказке, рассказанной девочкам Лидделл, в которой у «моря слез» появляется странное общество промокших насквозь птиц и зверьков, «имевших весьма неприглядный вид». Девочки с радостью узнавали в этой компании птицу Додо (это сам Доджсон), попугая Лори, который поспорил с Алисой, надулся и твердил: «Я старше, чем ты, и лучше знаю, что к чему!» (это, конечно, Лорина, старшая из сестер), Орленка по имени Эд (младшая сестра Эдит) и даже Дакворта, который был известен под именем Дак (Duck — утка). Девочки потом очень веселились, читая сказку; особенно приятно было то, что никто, кроме них, этой шутки не понимал.
После этой неудачной прогулки Доджсон был очень занят — принимал экзамены, а 2 июля присутствовал в Шелдонском театре[62], где происходили торжественные собрания при ежегодном вручении почетных премий докторов наук. По обычаю их вручал кто-то из оксфордских выпускников, занявших к тому времени высокое положение. Здесь Чарлз впервые увидел Гладстона, представлявшего в парламенте Оксфордский университет[63], будущего премьер-министра.
На следующий день он обедал у ректора и собирался после ланча взять девочек на прогулку по реке. Однако пошел дождь и прогулку пришлось отменить. Впрочем, дети и «мистер Доджсон» не скучали; девочки принялись петь. Между прочим, спели и популярную в то время негритянскую песню «Эй, Салли». Особенно задорно звучал ее припев:
Эй, Салли, прямо и бочком, Эй, Салли, топни каблучком!В дневнике Чарлз отметил, что его юные приятельницы «очень выразительно» исполнили эту песню. Она (разумеется, с измененным текстом) вошла в первоначальный вариант сказки, где Черепаха Квази, адресуясь к треске, поет «грустную песню» — это не что иное, как пародия на веселую «Эй, Салли»:
А ну, на дно со мной спеши — Там так омары хороши, И спляшут с нами от души, Треска, моя голубка!Грифон подхватывает припев:
Треска и прямо, и бочком, Мигни глазком, махни хвостом! Есть много рыб — но нет милей Трески, моей голубки![64]Можно себе представить, как веселились сестры, услышав этот вариант песни!
Четвертого июля 1862 года Доджсон, Дакворт и три девочки Лидделл отправились на прогулку по реке. День выдался солнечным и даже жарким. Правда, в метеорологическом журнале Оксфорда записано, что день был «прохладным и хмурым»; но, вероятно, к тому времени, когда после ланча компания собралась в путешествие, распогодилось. Поднялись в лодке вверх по реке, миновали гостиницу «Форель». (Теперь там паб с тем же названием, где подают прекрасную форель и, конечно, бифштекс; поклонники Кэрролла часто посещают его. Довелось и мне посидеть в солнечный день за столиком над рекой и отведать тамошние яства.)
Солнце припекало. В 1932 году миссис Харгривс (в далеком прошлом — Алиса Лидделл) свидетельствовала: «„Приключения Алисы под землей“ были почти целиком рассказаны в палящий летний день, когда в воздухе под лучами солнца дрожало знойное марево. Мы сошли на берег в Годстоу, чтобы переждать жару под стогом сена».
Доджсон был в превосходном настроении и охотно согласился рассказать девочкам сказку.
В стихотворном посвящении, которое позже откроет публикацию сказки, он описал эту прогулку:
Июльский полдень золотой Сияет так светло, В неловких маленьких руках Упрямится весло, И нас теченьем далеко От дома унесло. Безжалостные! В жаркий день, В такой сонливый час, Когда бы только подремать, Не размыкая глаз, Вы требуете, чтобы я Придумывал рассказ. И Первая велит начать Его без промедленья, Вторая просит: «Поглупей Пусть будут приключенья». А Третья прерывает нас Сто раз в одно мгновенье. Но вот настала тишина, И, будто бы во сне, Неслышно девочка идет По сказочной стране И видит множество чудес В подземной глубине. Но ключ фантазии иссяк — Не бьет его струя. — Конец я после расскажу, Даю вам слово я! — Настало после! — мне кричит Компания моя. И тянется неспешно нить Моей волшебной сказки, К закату дело, наконец, Доходит до развязки. Идем домой. Вечерний луч Смягчил дневные краски…[65]Нет, до развязки было далеко: пройдет еще немало дней, прежде чем сказка будет закончена.
Первая, Вторая, Третья… В стихотворении они выступают под именами Prima, Secunda, Tertia (в Оксфорде часто прибегали к латыни) — так Чарлз назвал девочек Лидделл: старшую — тринадцатилетнюю Лорину Шарлотту, среднюю — десятилетнюю Алису Плэзнс и младшую — восьмилетнюю Эдит. Экспедиция описана в стихотворении весьма подробно; те же детали находим в мемуарах остальных участников. Героиней сказки была Алиса, черноволосая девочка с челкой.
В тот день, как вспоминали они потом, сказка Доджсону особенно удалась. Впоследствии Робинсон Дакворт так опишет впечатление, которое произвел на него этот рассказ: «Я греб, сидя на корме, а он на носу… так что сказка сочинялась и рассказывалась буквально через мое плечо Алисе Лидделл, которая была „рулевым“ нашей лодки. Помнится, я обернулся к нему и спросил: „Доджсон, ты это сам сочинил?“ А он ответил: „Да, я сочиняю на ходу“». Сам Чарлз позже признавался: «Я очень хорошо помню, как в отчаянной попытке придумать что-то новое я для начала отправил свою героиню вниз по кроличьей норе, совершенно не думая о том, что с ней будет дальше…» Сказка так понравилась сестрам Лидделл, что Чарлз то и дело прибавлял к ней что-то во время последовавших прогулок — до начала августа ректорское семейство оставалось в Оксфорде, девочки требовали продолжения истории.
Спустя несколько недель, 6 августа, Чарлз снова отправился с девочками Лидделл на лодочную прогулку; на этот раз с ними был его друг Август Вернон Харкорт. День был пасмурный. Они доплыли до Годстоу, и Кэрроллу пришлось опять, как он отметил в дневнике, «продолжать мою бесконечную сказку о приключениях Алисы». Вероятно, на этот раз ему удалось ее закончить. Он также отметил, что миссис Лидделл вряд ли разрешит Лорине, которой уже исполнилось 13 лет, и дальше участвовать в их прогулках.
Возможно, вскоре он забыл про данное Алисе обещание записать сказку. Во всяком случае, осенью он почти не видел детей, так как их мать была сердита на него. Это произошло из-за конфликта, связанного с виконтом Ньюри. Восемнадцатилетнего Чарлза Фрэнсиса Нидэма, виконта Ньюри, студента-аристократа, принимали в доме ректора, миссис Лидделл ему благоволила. Ньюри намеревался дать бал в Крайст Чёрч, что противоречило правилам колледжа. Правда, в данном случае ректор не возражал против нарушения правил, но члены колледжа выступили против такого фаворитизма. Среди них был и Доджсон, без обиняков высказавший свое мнение. В результате от бала пришлось отказаться. Миссис Лидделл Чарлзу этого не простила, хотя сам Ньюри после беседы с Доджсоном обиды на него не держал.
Двадцать восьмого октября 1862 года Чарлз записал в дневнике: «Посетил миссис Лидделл, чтобы получить ее согласие относительно сеанса для художника, который должен раскрасить мои фотографии детей: это необходимо для достижения сходства. Однако она просто не ответила на мой вопрос (после истории с лордом Ньюри я у нее в немилости)». Правда, вскоре отношения были восстановлены, Ньюри даже участвовал в одной из лодочных прогулок, совершённых семейством Лидделл вместе с Чарлзом и другими выпускниками.
Тринадцатого ноября он случайно встретил Ину, Алису и Эдит во дворе колледжа и они, как прежде, весело поболтали. Чарлз отметил в дневнике, что это «редкость в последнее время». Дети так обрадовались встрече с «мистером Доджсоном», что убедили мать сменить гнев на милость и разрешить им снова с ним видеться. Она смягчилась, и прежняя дружба была восстановлена. В марте Чарлз позаимствовал у Лидделлов зоологический атлас — рисовал животных в своей сказке о приключениях Алисы под землей. Он снова принимал деятельное участие в жизни детей. Вместе со своим младшим братом Эдвином он повел Алису полюбоваться на иллюминацию, устроенную по случаю бракосочетания принца Уэльского. Спустя несколько дней он взял девочек на прогулку и бегал наперегонки с Иной, которой уже исполнилось 14 лет. В дневнике он отметил, что старшая из сестер Лидделл «стала очень высокой».
Весна 1863 года была тяжелой для ректора и его жены — в мае умер их новорожденный сын. Как нарочно, тогда же какие-то вандалы изуродовали их сад. В эти мрачные дни Кэрролл проводил с детьми немало времени: помогал им делать уроки, водил на цирковые представления, которые и сам очень любил, и всячески их развлекал. В середине июня чете Лидделл пришлось снова принимать принца Уэльского с супругой. По случаю их приезда был устроен благотворительный базар, в котором принимали участие и три дочери ректора. 16 июня базар был закрыт для публики, но Чарлзу удалось проникнуть к прилавку девочек незадолго до появления принца. Алиса продавала белых котят. Когда их высочества подошли к столу дочерей ректора, Кэрролл приветствовал их и предложил принцессе купить котенка. К великому сожалению девочек, принцесса отказалась, сказав, что уже приобрела котенка.
Двадцать третьего июня Кэрролл вместе с семейством Лидделл и их друзьями отправился на прогулку, по завершении которой миссис Лидделл, к его удивлению, попросила его вернуться с детьми поездом, чему он весьма обрадовался. А спустя несколько дней произошло что-то, над чем по сей день ломают головы исследователи. 27 июня Кэрролл сделал запись в дневнике: «Написал миссис Лидделл, предлагая ей либо прислать детей фотографироваться, либо…» Фраза не закончена. Слово «либо» было кем-то вычеркнуто, а следующая страница вырезана. К этой странице, не дошедшей до нас, Кэрролл сделал примечание, отсылающее к записи от 17 мая 1857 года, в которой говорилось о мисс Прикетт. Затем наступило молчание.
Восьмого августа 1863 года Кэрролл записывает в дневнике: «Утром случайно проходил по Квадрату, когда из ректорской резиденции выехали две коляски и я в последний раз увидел моих юных друзей». Ректор с семейством уехал в Уэльс — они теперь проводили летние каникулы в живописном городке Лландидно на берегу моря. Дом, выстроенный по проекту самого Лидделла, стоял на самом краю городка, был весьма удобен и назывался «Пенморфа»[66] (в те времена домам обычно вместо номеров давали имена). Из окон открывался удивительный вид на море. Дом, увы, совсем недавно снесли.
В 1993 году мне довелось побывать в Лландидно и увидеть «Пенморфу». Небольшой курортный город с белыми невысокими зданиями раскинулся на морском берегу. Повезло с погодой — солнце ярко сияло, на небе были легкие облачка. Жители Лландидно по сей день твердо знают: Льюис Кэрролл не только посетил их городок, но и увидел здесь Белого Кролика, который кинулся от него прочь и исчез в норе. Что с того, что галька и пляж — не самое подходящее место для белых кроликов? Здесь вообще кроликов множество! И мысль о «Стране чудес», безусловно, пришла Кэрроллу в Лландидно! В результате на морском берегу был воздвигнут удивительный памятник — Кролик с часами в руках, сделанный из благородного белого камня. Удивительно было видеть его в десятке шагов от прибоя.
Мы посетили достопримечательность города — книжный магазин на одной из улиц Лландидно с выразительной надписью «Кроличья нора» на вывеске. Спустившись по затемненному наклонному туннелю вниз, оглядываясь по пути на полки по стенам, где стояли банки с вареньем и висели карты, совсем как в сказке, посетители оказывались в помещении, наполненном книгами и игрушками. Чего там только не было! Всевозможные издания «Алисы в Стране чудес» — огромные и крошечные, ярко раскрашенные и поскромнее, для детей маленьких и постарше, моющиеся, плавающие, раскладные, а еще множество игрушек, пазлов, кукол, сделанных по сказкам Кэрролла, и всяческие игры…
Солнце уже стало понемногу клониться к закату, когда мы добрались до «Пенморфы», где когда-то проводили лето Лидделлы. В доме теперь расположился отель, и вход в него был открыт лишь постояльцам — за этим строго следил швейцар.
Что ж, я приготовилась сфотографировать дом снаружи, но мои английские спутницы решили, что я обязательно должна увидеть дом внутри. Вызвали владельца отеля. Когда зазвучали слова «Алиса», «русская переводчица», «специально приехала из Москвы», владелец сдался и разрешил нам войти в здание. Он лишь просил, чтобы мы не поднимались выше второго (нашего третьего) этажа и не беспокоили постояльцев, на что мы с готовностью согласились — постояльцы нас решительно не интересовали. Мы вошли в гостиную на первом этаже и бросились к окнам. Солнце садилось, озаряя багровыми отблесками небо и море. Это было прекрасное и торжественное зрелище. Так вот какой вид открывался ежевечерне из окон «Пенморфы» Алисе и ее родным!
Спустя несколько лет я снова посетила Лландидно. Белый Кролик стоял на своем месте — закованный в шар из железных прутьев! Это была вынужденная мера: какие-то варвары регулярно отбивали ему уши. Недавно я узнала, что теперь Белого Кролика на берегу уже нет…
Известно, что именно Алиса Лидделл попросила Доджсона записать для нее сказку. Он обещал, но не торопился выполнить обещание — пришлось Алисе снова и снова напоминать о нем. Прошло почти пять месяцев, прежде чем он приступил к работе. 13 ноября 1862 года, после того как Чарлз по дороге на станцию (он отправлялся в Лондон) встретился с сестрами Лидделл, идущими на прогулку с мисс Прикетт, он набросал в поезде названия основных эпизодов, а вечером записал в дневнике: «Начал писать сказку для Алисы — надеюсь кончить ее к Рождеству». (Обычно Чарлз делал записи в дневнике на правой странице — левая оставалась пустой; иногда он возвращался к прошлым записям и делал дополнения на левой стороне.)
Однако работа над рукописью затянулась: Доджсон многое менял в своей импровизации. Лишь в феврале 1864 года он наконец написал на левой стороне дневникового листа напротив первоначальной записи: «Закончил текст сказки, которую обещал Алисе». Этот первый письменный вариант не сохранился. Мы можем лишь весьма приблизительно представить себе, как он выглядел. Обычно Доджсон использовал для черновиков оборотную сторону исписанного листа, будь то его математические вычисления или счета от торговцев. Скорее всего, и этот текст был записан на «оборотках» четким почерком Чарлза. Этот документ — столь важный не только для исследователей текста, но и просто для любителей творчества Кэрролла, — к сожалению, утрачен. Скорее всего, Чарлз сам уничтожил его, после того как перебелил текст для Алисы (второй рукописный вариант). А может быть, черновик пропал после смерти Кэрролла, сразу же после похорон. Торопясь освободить казенную квартиру, родственники, вряд ли понимавшие всю ценность наследия писателя, сожгли часть бумаг, разобрав остальное. Как выяснилось впоследствии, многое было утеряно.
Как бы то ни было, но до нас дошел лишь третий — также рукописный — вариант: текст с иллюстрациями самого Кэрролла, подготовленный им в подарок Алисе. На этот раз он с особым тщанием, почти каллиграфически, переписал сказку в специально купленную для этой цели тетрадь, оставив пробелы для рисунков. Если не считать титульного листа и посвящения, в тексте было 37 рисунков. Чарлз много трудился над ними: советовался с художниками; рисовал героиню то с собственных ранних фотографий Алисы, то с натуры (судя по всему, с ее младшей сестры Эдит). На это была причина: Алисе к тому времени было уже 12 лет, а героине — семь. В конце сказки Чарлз нарисовал портрет ее героини, но рисунок не удался, и он заклеил его фотографией Алисы, выполненной им самим, когда Алисе было семь лет (любимый возраст Кэрролла). Это одна из его лучших работ — к тому времени Доджсон уже был мастером.
Наконец 26 ноября 1864 года Доджсон вручил Алисе Лидделл тетрадь с рукописью сказки «Приключения Алисы под землей». Он торопился выполнить свое обещание и не стал дожидаться Рождества. На титульном листе, украшенном скромной виньеткой, он вывел: «Рождественский подарок милому дитяти в память о летнем дне». Со времени летней прогулки по реке прошло более двух лет.
Рукопись (так называл тетрадь Чарлз) во многом отличается от известного нам текста сказки, опубликованного в 1865 году под названием «Приключения Алисы в Стране чудес». Она намного короче: в ней отсутствуют целые главы (нет, к примеру, замечательной главы о Безумном чаепитии), а сцена суда занимает не две главы, а всего несколько абзацев. Нет и процитированного выше стихотворного посвящения Алисе. А «длинная история» Мыши складывается в воображении Алисы несколько по-другому, чем тот фигурный стишок, к которому мы привыкли. Вот несколько строк из первого варианта, мастерски нарисованных в виде мышиного хвоста:
[67].
Как видим, Мышь здесь разговаривает не с Котом, как в «Стране чудес», а с «дворнягой». Есть в рукописи и ряд деталей, которые впоследствии были автором изменены: реальные имена девочек, которых вспоминает Алиса (отзывы ее были не очень лестными, и Чарлз, очевидно, решил никого не обижать); оброненный Белым Кроликом букет — Алиса нюхает его и начинает стремительно уменьшаться (в «Стране чудес» Кролик роняет перчатки); страусы, служившие молотками игрокам в Королевский крокет (позже ими стали фламинго), и некоторые другие подробности. Остроумная игра слов, веселый нонсенс, отличающий «Страну чудес», почти полностью отсутствует в рукописи.
Казалось бы, сказка наконец вручена Алисе и на этом можно поставить точку. Но, как ни странно, история «Приключений Алисы под землей» на этом не заканчивается. Об этом будет рассказано позже. Пока же заметим только, что Чарлз продолжал работу над текстом и после того, как рукопись была передана Алисе. Очевидно, тот творческий импульс, который все эти годы давал о себе знать, тот талант, который не находил приложения, окончательно пробудился и после первых, не всегда удачных попыток нашел наконец себе достойное воплощение. Спустя годы, в апреле 1887-го, Кэрролл рассказал об этом в статье «Алиса на сцене», опубликованной в журнале «Театр»: «В процессе работы мне приходили в голову новые мысли, которые, казалось, возникали сами собой, словно расцветали на неком волшебном стебле. Еще больше добавок я сделал спустя несколько лет, когда заново переписывал сказку, готовя ее к публикации. Немало времени протекло с того „золотого полудня“, что дал тебе рождение, но он стоит у меня перед глазами ясно, словно вчерашний день: безоблачная голубизна неба, зеркальная гладь воды, лениво скользящая лодка, звон капель, роняемых с медлительных весел, и лишь один проблеск жизни среди этого сна — три напряженных личика, жадно внимающих повествованию, и та, кому не может быть отказа, с чьих уст сорвавшееся „Расскажите нам, пожалуйста, сказку“ обернулось непреложностью Судьбы».
Да, Кэрролл прекрасно понимал, чем он обязан своей маленькой приятельнице: именно она побудила его записать эту сказку, она способствовала пробуждению его таланта, его гения. Недаром он посвятил эту книгу реальной Алисе, и цитировавшееся выше стихотворение, предваряющее ее, заканчивается прямым обращением к ней:
Алиса, сказку детских лет Храни до седины В том тайнике, где ты хранишь Младенческие сны, Как странник бережет цветок Далекой старины[68].К тому времени, когда вышли «Приключения Алисы в Стране чудес», Алиса, которой посвятил эти стихи Кэрролл, уже достигла того возраста, когда, как он говорил, «ручей с рекой сольется воедино». Они уже не видятся, как прежде, и это уже не та девочка, которую он фотографировал в детстве. Но Кэрролл не перестает помнить о ней и любить ее. Вот почему так элегично звучит стихотворение, открывающее вторую сказку, «Алису в Зазеркалье», вышедшую спустя шесть лет и также посвященную ей:
Дитя с безоблачным челом И удивленным взглядом, Пусть изменилось всё кругом И мы с тобой не рядом, Пусть годы разлучили нас, Прими в подарок мой рассказ. Тебя я вижу лишь во сне, Не слышен смех твой милый, Ты выросла и обо мне Наверное, забыла. С меня довольно, что сейчас Ты выслушаешь мой рассказ…[69]Глава десятая «АЛИСА» ВЫХОДИТ В СВЕТ
Поначалу Доджсон не собирался публиковать свою рукопись, однако сказку, записанную им для Алисы Лидделл, но еще не снабженную его рисунками, читали его друзья. Среди них был Джордж Макдональд (MacDonald), проповедник, профессор, сказочник и поэт.
С Макдональдом Доджсон познакомился в апреле 1860 году в Гастингсе, куда он поехал навестить тетушку Генриетту Латвидж. Он намеревался также посетить доктора Ханта, известного автора книги о заикании (Hunt J. Stammering and Stuttering). Макдональд, страдавший туберкулезом, с октября 1857 года жил в Гастингсе: считалось, что климат южного побережья Англии благоприятен при этой болезни. Благодаря покровительству леди Байрон Макдональд снимал там дом. Он, как и Кэрролл, страдал заиканием. В доме Ханта они и встретились. Для семьи Доджсон это был животрепещущий вопрос: брат Чарлза Эдвин и почти все сестры также заикались. Чарлз прошел у Ханта курс лечения. 11 апреля 1860 года он писал из Гастингса сестре Мэри: «Мне очень нравится система доктора Ханта; я думаю, она мне помогает».
К времени их знакомства Макдональд был уже известен благодаря сборнику «Стихотворения» и книге «Фантазион: волшебный роман» (1858), успех которой дал ему возможность вскоре переехать с женой и детьми из Гастингса в Лондон, где он занял пост профессора литературы в Бедфорд-колледже. Его романы о родной Шотландии, опубликованные несколько позже, принесли ему широкую известность.
Макдональд был поэтом-мистиком, высоко ценил немецких романтиков и особенно выделял Новалиса, оказавшего несомненное влияние на его поэтическое творчество. Впрочем, у него было немало общего с Кэрроллом, весьма далеким от немецкого романтизма, и они прекрасно понимали друг друга. Подобно Кэрроллу, Макдональд много размышлял о природе сна, занимавшего немало места в его творчестве. В его романе «Фантазион» действие происходит в пространстве снов, а в позднем романе «Лилит» (1895) автор размышляет о зыбкости грани между бодрствованием и сном.
В его сказках 1860-х годов порой звучали шутливые интонации (примером тому может служить «Принцесса Невесомость», не раз выходившая на русском языке), которые отчасти сближали его с Кэрроллом; однако с годами они уступили место более мрачному тону. Как и Кэрролл, Макдональд задумывался над тайной творчества. В написанном им позже эссе «Воображение» он заметил: «Человек, когда ему в голову приходит новая мысль, не столько думает, сколько слышит то, что ему диктуется». Этот феномен отмечают и другие поэты и писатели, в том числе и Кэрролл.
Вскоре после встречи в Гастингсе Чарлз познакомился с двумя детьми Макдональда — Мэри и Гревиллом, будущим биографом отца. Это произошло в студии Александра Манро, где шестилетний Гревилл позировал для скульптуры «Мальчик с дельфином», предназначавшейся для Гайд-парка. Тут же была семилетняя Мэри, которая как старшая сестра «приглядывала» за ним. «Я тотчас познакомился с детьми, — записал в тот день Кэрролл, — и начал доказывать Гревиллу, что он должен не упустить возможность обменять свою голову на мраморную. Не прошло и двух минут, как оба — и Гревилл, и Мэри — совершенно забыли о том, что они меня совсем не знают, и спорили со мной, как со старым знакомцем. Я сказал Гревиллу, что мраморную голову не надо причесывать ни гребешком, ни щеткой. При этих словах мальчик повернулся к сестре и произнес с великим облегчением: „Слышишь, Мэри? Не надо причесывать!“ Я уверен, что его пышные волосы, такие же длинные, как у Галлема Теннисона, причиняли ему немало неприятностей. В конце концов он заявил, что мраморная голова не может говорить, и как я ни старался убедить их обоих, что это только к лучшему, мне пришлось сдаться».
Гревилл в воспоминаниях писал о Кэрролле: «Дядюшка Доджсон (так иногда называли его дети, с которыми он был особенно дружен. — Н. Д.) и не подозревал, чем он был для нас, и за это мы его очень любили. Мы ползали по нему, в то время как он рисовал пером и чернилами безумцев и романтичные или семейные сцены, рассказывая при этом истории, в которых никогда не было нравоучений. Я хорошо помню, как он доказывал мне — совершенно в стиле „Алисы“, — что мраморная голова будет для меня гораздо удобнее: ее не придется причесывать и от нее нельзя будет требовать, чтобы она учила уроки. И он изобразил также для меня, в какой ужас придет от моей мраморной головы скульптор Манро, которому я позировал».
Дружбу с Макдональдом и его семьей Кэрролл сохранил на долгие годы. Дети каждый раз бурно радовались его приходу. Кэрролл фотографировал писателя, его жену и детей; многие из этих снимков сохранились. На одной из фотографий, сделанной в 1863 году, мы видим Кэрролла сидящим вместе с детьми и миссис Макдональд на траве — чувствуется, что он только-только успел добежать и сесть рядом с ними!
В течение последующих лет Кэрролл поддерживал самые теплые отношения со всем семейством Макдональд. Годы спустя Гревилл вспоминал: «Я его очень любил. На Риджент-стрит был игрушечный магазин, куда он водил нас, чтобы мы выбрали себе игрушки. Одна из них останется со мной, пока я буду его помнить. Это была некрашеная деревянная лошадка. Я любил ее, как девочки любят свою куклу».
Сохранились письма Кэрролла супругам Макдональд и их детям. Приведем несколько писем, посланных им Мэри Макдональд[70].
«Крайст Чёрч, Оксфорд
23 мая 1864 г.
Дорогое дитя!
У нас стоит такая ужасная жара, что я совсем ослабел и не могу даже держать в руках перо, а если бы мог, то толку всё равно было бы мало: все чернила испарились и превратились в черное облако. Оно плавало по комнате, пачкая стены и потолок, так что на них не осталось ни одного светлого пятнышка. Сегодня стало несколько прохладнее и немного чернил выпало на дне чернильницы в виде черного снега — как раз столько, чтобы мне хватило написать и заказать фотографии для твоей мамы.
От этой жары я впал в меланхолию и сделался очень раздражительным. Подчас мне едва удается сдерживать себя. За примером далеко ходить не надо. Не далее как несколько минут назад ко мне с визитом пришел епископ Оксфордский. С его стороны это было очень любезно, и он, бедняга, не имел в виду ничего дурного. Но когда я увидел своего гостя, то настолько вышел из себя, что швырнул ему в голову тяжелую книгу. Боюсь, что книга сильно его ударила.
Примечание. То, о чем я тебе рассказал, не совсем верно, поэтому верить всему сказанному не нужно. В следующий раз не верь ничему так быстро. Ты хочешь знать почему? Сейчас объясню. Если ты будешь стараться верить всему, то мышцы твоего разума устанут, а ты сама ослабеешь настолько, что уже не сможешь поверить даже в самые простые вещи. Всего лишь на прошлой неделе один мой приятель решил поверить в Мальчика с пальчик. После долгих усилий это ему удалось, но какой ценой! У него не осталось сил даже поверить в то, что на улице идет дождь, хотя это была абсолютная правда, — и он выбежал из дому без шляпы и зонтика! В результате его волосы серьезно намокли, и один локон почти двое суток никак не хотел принимать нужный вид. (Примечание. Боюсь, что кое-что из сказанного не вполне верно…)
Передай Гревиллу, что я продолжаю работать над его фотографией (той, которая должна быть в овальной рамке) и надеюсь выслать ее через день-два. Передай маме, что, как ни жаль, никто из моих сестер не сможет приехать в Лондон этим летом.
Наилучшие пожелания твоим папе и маме и самые нежные приветы тебе и другим детям. Остаюсь преданный тебе друг
Чарлз Л. Доджсон. P. S. Единственная неприятность, которая приключилась со мной в пятницу, — полученное от тебя письмо. Вот так-то!»«Крайст Чёрч, Оксфорд
14 ноября 1864 г.
Дорогая Мэри!
Давным-давно жила-была маленькая девочка и был у нее ворчливый старый дядюшка — соседи звали его Скрягой (что они хотели этим сказать, я не знаю). Как-то раз эта маленькая девочка пообещала своему дяде переписать для него сонет, который Россетти написал о Шекспире, и своего обещания, как ты знаешь, не выполнила. Нос у бедного дядюшки стал расти всё длиннее и длиннее, а характер — портиться всё сильнее и сильнее. Но почтальон день за днем проходил мимо дверей дядюшки, а сонета всё не было…
Здесь я прерву свой рассказ, чтобы объяснить, как люди в те далекие дни отправляли письма. Ворот и калиток тогда еще не было, и поэтому столбы у ворот и калиток не должны были стоять на одном месте и носились вперед и назад, где им только вздумается. Если кому-нибудь нужно было послать письмо, то он просто прикреплял его к столбу, который несся в подходящем направлении (правда, иногда столбы ни с того ни с сего меняли направление, и тогда возникала ужасная путаница), а тот, кто получал письмо, говорил, что оно „доставлено письмоносцем“.
Всё делалось очень просто в те давние дни. Если у кого-то было много денег, он просто клал их в банку, закапывал ее под забором, говорил: „У меня деньги в банке“, — и больше ни о чем не беспокоился.
А как путешествовали в те далекие времена! Вдоль дорог тогда стояли шесты. Люди влезали на них и старались удержаться на самой верхушке как можно дольше, а потом (обычно это происходило очень скоро) падали оттуда. Это и называлось путешествовать.
Но вернемся к нашему рассказу о плохой девочке. Заканчивается он, как и следовало ожидать, тем, что пришел большой серый ВОЛК и… Нет, я не в силах продолжать. От девочки не осталось ничего, кроме трех маленьких косточек. Что и говорить, грустная история!
Твой любящий друг Ч. Л. Доджсон».«Крайст Чёрч, Оксфорд
[5 декабря 1864 г.]
Дорогая Мэри!
Я уже давно должен был написать тебе, чтобы передать мою благодарность за сонет. Пожалуйста, не думай, что я не писал, — еще как писал! Сотни раз. Трудность была лишь в том, чтобы направить письмо куда следует. Сначала я направлял письма с такой силой, что они пролетали далеко мимо цели — некоторые из них потом подбирали на другом конце России. На прошлой неделе мне почти удалось попасть в цель и написать на конверте „Эрлз Террас, Кенсингтон“, но я перебрал с номером и поставил 12 000 вместо 12. Поэтому если ты спросишь на почте письмо с номером 12 000, то, смею думать, они отдадут тебе его. После этого здоровье мое сильно пошатнулось и я стал направлять письма так слабо, что они едва долетали до конца комнаты. „Оно еще лежит у окна, Самбо?“ — „Да, масса, оно чуть не вылетело в окно“. Ты, должно быть, думаешь, что мой слуга негр, но это не так. Просто мне так нравятся негры, что я научил его говорить на ломаном английском и дал ему имя Самбо (его настоящее имя Джон Джонс). Каждое утро я начищаю ему физиономию сапожной щеткой. Он говорит, что ему нравится говорить на ломаном английском, но не нравится ходить с черным от ваксы лицом. „Странная фантазия“, — сказал я ему.
Я намереваюсь приехать в город на несколько дней перед Рождеством и зайду к вам минут этак на 5 или около того. Знают ли твои папа и мама мисс Джин Ингелоу? Мне известно, что она живет в Кенсингтоне.
Твой любящий друг Ч. Л. Доджсон».«Мэри Макдональд
Крайст Чёрч, Оксфорд
22 января 1866 г.
Дорогая Мэри!
Я очень рад, что тебе понравилась новая книжка „Алиса в Стране чудес“, и я с большим удовольствием отправился бы в Лондон и снова увидел всех вас и Снежинку (котенка; потом он появится в „Зазеркалье“. — Н. Д.), если бы у меня было время, но, к сожалению, его у меня нет. Кстати сказать, теперь твоя очередь навестить меня. Я твердо помню, что в последний раз гостем был я. Как только ты приедешь в Оксфорд, найти мои апартаменты не составит никакого труда. Что же касается расстояния, то от Оксфорда до Лондона оно такое же, как от Лондона до Оксфорда. Если в твоем учебнике географии об этом ничего не говорится, то он безнадежно устарел и тебе лучше раздобыть другой учебник.
Я долго ломал себе голову над тем, почему ты называешь себя противной девчонкой за то, что долго мне не писала. Противная девчонка? Как бы не так! Что за глупости? Стал бы я называть себя противным, если бы не писал тебе лет этак с 50? Ни за что! Я бы начал свое письмо, как обычно:
„Дорогая Мэри! Пятьдесят лет назад ты спрашивала, что делать с котенком, у которого заболели зубы, а я только сейчас вспомнил об этом. За пятьдесят лет боль могла пройти, но если же зубы у котенка всё еще болят, то сделай следующее. Выкупай котенка в заварном креме, затем дай ему 4 подушечки для булавок, вываренных в сургуче, а кончик его хвоста окуни в горячий кофе. Боль как рукой снимет! Это средство еще никогда не подводило“.
Поняла? Вот как надо писать письма!
Я хотел бы, чтобы ты сообщила мне фамилии твоих двоюродных сестер (думаю, что это были твои кузины), с которыми мне довелось однажды вечером встретиться у вас дома. Звали их Мэри и Мэй. Передай, пожалуйста, своему папе, что я прочитал „Алека Форбса“ и в восторге от него. Я очень хотел бы встретить Анни Андерсон в реальной жизни. Где она живет?
С наилучшими пожеланиями папе и маме и любовью к твоим братьям и сестрам остаюсь твой любящий друг
Чарлз Л. Доджсон».«Крайст Чёрч, Оксфорд
30 ноября 1867 г.
Дорогая Мэри!
Я не видел тебя так давно, что опасаюсь, как бы ты не воспользовалась представившейся возможностью, не „выросла большой“ и не стала воротить нос от моих писем, восклицая:
— Какая несносная композиция! Любящий тебя дядюшка! Вот еще! Любящий тебя смычок! Напишу-ка я ему ответ в третьем лице! „Мисс М. Макдональд свидетельствует свое почтение и выражает удивление по поводу того, что… и т. д. и т. п.“.
Посылаю тебе новый номер „Журнала тетушки Джуди“ вместе с твоим экземпляром „Алисы“, так как в этом журнале напечатана повесть того же автора. Мои наилучшие пожелания твоим папе и маме и сердечный привет братьям и сестрам, если они у тебя есть.
Остаюсь любящим тебя дядюшкой Ч. Л. Доджсон».«Мэри Макдональд
Крайст Чёрч, Оксфорд
13 марта 1869 г.
Нечего сказать! Ты бесчувственная юная леди! Заставив меня в эти недели ждать ответа, ты преспокойно пишешь о чем-то другом, как будто ничего особенного не произошло! Я писал (заметьте, мадам, что я пишу в прошедшем времени: весьма возможно, что я никогда не стану писать об этом впредь) тебе 26 января, предлагая прислать экземпляр немецкого издания „Алисы“. И что же? Дни проходили за днями, ночи — за ночами (если я правильно помню, каждая ночь отделяет друг от друга два дня или что-нибудь вроде этого), но ответа всё не было. Неделя проходила за неделей, месяц за месяцем, я постарел, отощал и загрустил, а ОТВЕТА ВСЁ НЕ БЫЛО. Мои друзья стали поговаривать о том, что волосы мои поседели, что от меня остались кожа и кости, и отпускать тому подобные приятные замечания, и… Но я не буду продолжать, ибо вспоминать об этом слишком тяжело. Скажу лишь, что за все эти годы беспокойства и ожидания (которые прошли с 26 января сего года — видишь, как быстро течет время у нас в Оксфорде!) ОТВЕТА от юной особы с каменным сердцем ВСЁ НЕ БЫЛО! А потом она спокойно пишет:
— Приезжайте посмотреть регату! Будет столько народу!
На это я отвечаю со стоном:
— Видно, мне на роду написано терпеть такое! Роду человеческому свойственна неблагодарность, но из всего человечества самая неблагодарная, самая черствая, самая… Перо мое отказывается писать, и я не скажу больше ни слова!
P. S. Боюсь, что меня не будет в городе, иначе я с удовольствием воспользовался приглашением, хотя бы для того, чтобы сказать тебе: „Неблагодарное чудовище! Прочь с глаз моих!“».
Отметим сразу, что переписка с Мэри Макдональд, которая продолжалась и в последующие годы, не была исключением: Кэрролл не любил терять друзей. Он переписывался — часто очень подробно — и с другими своими юными друзьями, а с некоторыми из них продолжал поддерживать отношения и тогда, когда они становились взрослыми.
Чарлз, питавший глубокую симпатию к Макдональду и его семье, еще в мае 1863 года передал им рукопись своей сказки, предложив прочитать ее детям, — ему хотелось узнать, что они скажут о ней. Впоследствии Гревилл вспоминал, как все они радовались и смеялись, слушая сказку, которую читала мать: «Я хорошо помню это первое чтение. Помню и свое хвастливое заявление: „Хочу, чтобы у этой сказки было еще 60 000 томов!“». Миссис Макдональд отправила Кэрроллу восторженное письмо, уговаривая его выпустить сказку в свет.
Были и другие, более «серьезные» отзывы. Примерно в это же время ректора Лидделла посетил Генри Кингсли, брат Чарлза Кингсли, также писатель, хотя и уступавший в славе старшему брату. Кингсли прочитал рукопись, лежавшую на столе в гостиной Лидделлов, и посоветовал миссис Лидделл убедить Доджсона ее опубликовать. Летом 1864 года Чарлз познакомился с Генри Кингсли на острове Уайт, куда тот приехал с молодой женой. Позже Чарлз навещал их в Уоргрейве, в 28 километрах от Оксфорда, и в Лондоне.
Единодушие друзей и читателей в конце концов заставило Чарлза задуматься. Он решил обратиться за советом к своему другу Дакворту. Вот как вспоминает об этом Дакворт: «Доджсон послал мне письмо, в котором спрашивал, не могу ли я прийти к нему прочитать „Приключения Алисы“ и честно сказать ему, достойны ли они публикации, ибо сам он далеко не уверен в этом и не может позволить себе потерять на этой затее деньги. Я заверил его, что если ему удастся убедить Джона Тенниела сделать к сказке иллюстрации, книга будет иметь несомненный успех. По моему настоянию он послал рукопись Тенниелу, который вскоре написал ему, что он в восторге от сказки и что для него будет удовольствием иллюстрировать такую восхитительную книжку».
Впрочем, всё было не так просто. Прежде всего предстояло выбрать издателя книги. Доджсон решил обратиться к Александру Макмиллану, с которым познакомился в октябре 1863 года благодаря Томасу Куму, владельцу «Кларендон Пресс» и университетской типографии. Доджсон хотел заказать Макмиллану отпечатать для него листы из «Песен невинности» Уильяма Блейка (эти стихи и рисунки были впервые выгравированы Блейком на меди в 1789 году). О Блейке Доджсон узнал, скорее всего, от кого-то из прерафаэлитов, высоко ценивших его как поэта и художника и открывших его для своих современников. Возможно, его притягивала также известная близость поэта к Мильтону.
Дэниел и Александр Макмилланы основали свое издательство в Кембридже в 1843–1844 годах. После смерти старшего брата Александр Макмиллан переехал в Лондон. Ко времени знакомства с Доджсоном он уже стал преуспевающим издателем, пользующимся серьезной репутацией. Среди его первых изданий были упоминавшиеся выше книги «Эй, на Запад!» и «Дети воды» Чарлза Кингсли, а также «Школьные годы Тома Брауна» Томаса Хьюза. Эти книги получили широкую известность и стали классикой детской литературы. С годами Макмиллан расширил издательство, введя ряд новшеств и основав в 1859 году «Журнал Макмиллана». Среди его авторов были Теннисон, Мэтью Арнолд, Джордж Мередит, Томас Харди и Шарлотта Янг, известная в основном как детская писательница.
Доджсон заключил с Макмилланом обычное для тех лет соглашение: его книга печаталась «на комиссионной основе». Он должен был оплатить труд иллюстратора и издательские расходы, составлявшие около трети отпускной цены, и определить вместе с Макмилланом оформление книги и количество экземпляров (выпускаемых отдельными заводами, как это называют в типографском деле). Макмиллан передавал отпечатанные экземпляры книготорговцам и получал комиссию с вырученной суммы. Основные расходы выпадали на долю автора — немудрено, что Доджсон признался Дакворту, что не может позволить себе потерять деньги «на этой затее». Первый же завод мог обернуться убытками до 500 фунтов стерлингов (на такие огромные по тем временам деньги многие могли прожить в течение десяти лет). Впрочем, как видим, он всё же рискнул…
Выше уже говорилось об изменениях, внесенных Кэрроллом в «Приключения Алисы в Стране чудес» по сравнению с подаренной им Алисе Лидделл рукописью. Он написал стихотворное посвящение и поместил его в начале сказки; сочинил для «истории Мыши» другое стихотворение, ставшее самым известным «фигурным» стихотворением в английской литературе; развернул небольшие фрагменты в целые главы и ввел новые эпизоды и даже главы: главу о Безумном чаепитии, две главы о Грифоне и Черепахе Квази, а также две заключительные главы о суде над Валетом — пожалуй, самые блестящие сцены во всей сказке. В целом «Приключения Алисы в Стране чудес» почти вдвое больше рукописи, подаренной Алисе: в рукописи — 18 тысяч слов, а в книге — 35 тысяч!
Художник Джон Тенниел, к которому обратился Кэрролл, был к тому времени широко известен благодаря своим иллюстрациям к «Басням Эзопа» (1848) и карикатурам в юмористическом журнале «Панч». Свою первую картину маслом он выставил в Королевской академии в 1837 году, когда ему было всего 16 лет (он был одиннадцатью годами старше Чарлза), после чего выставлялся там в течение пяти лет. В 1845 году он получил заказ на исполнение фрески в палате лордов по мотивам оды святой Цецилии Джона Драйдена. «Книга английских баллад», первая книга с его иллюстрациями, вышла в 1842 году (Чарлзу тогда едва исполнилось десять лет, и его отправили в школу). Тенниел согласился взяться за иллюстрации к книжке неизвестного автора, запросив за работу весьма внушительную сумму — 138 фунтов. Цена была слишком высока для скромного преподавателя колледжа, но Кэрролл без колебаний согласился.
Приняв предложение, Тенниел никак не ожидал, что его ждут сюрпризы. В лице никому не известного оксфордского преподавателя, который к тому же был значительно моложе, он нашел весьма сурового критика. Кэрролла не смущали ни возраст, ни известность художника: он хорошо знал, чего хочет, и с присущим ему вниманием к мельчайшим деталям изучал присылаемые рисунки. Тенниел жил в Лондоне, а Кэрролл, за исключением каникул, в Оксфорде, так что общались они главным образом с помощью почты. Сохранилась их переписка, которая отражает все перипетии этого сотрудничества. Надо отдать Тенниелу должное: он скоро понял, что младший член этого неожиданного тандема ясно видит свой замысел и, не будучи, строго говоря, художником, ни в чем не уступает ему. Работа шла нелегко. Едва ли хотя бы один рисунок Тенниела был сразу принят Кэрроллом. Впрочем, оба относились друг к другу с уважением, не мешавшим им с прямотой выражать свои мысли. Тенниел познакомился и с иллюстрациями самого Кэрролла, что, несомненно, сыграло немаловажную роль.
Кэрролл полагал, что Тенниел будет рисовать героиню с натуры, и предложил ему снимки одной из девочек, которых он фотографировал в это время. К его удивлению, Тенниел решительно отверг такую помощь. Вспоминая позже об этих годах, Кэрролл писал: «Мистер Тенниел, единственный из иллюстраторов моих книг, наотрез отказался рисовать с натуры. Он сказал, что она так же не нужна ему для рисования, как мне — таблица умножения для решения математической задачи! Я склонен думать, что он ошибался и что из-за этого некоторые рисунки в „Алисе“ непропорциональны — голова слишком велика, а ноги слишком малы».
Эту непропорциональность сейчас отмечают многие. Однако как знать — возможно, Тенниел вовсе не ошибался, а хотел избежать строго реалистического портрета и попытался как-то «маркировать» Алису как героиню сказки, а не бытовой повести. Подобного рода маркировку мы встречаем и в наши дни — вспомним хотя бы Алису замечательного английского художника Ральфа Стедмана или нашего соотечественника Мая Митурича. Каждый из них, разумеется, принимал в этом вопросе собственное — весьма оригинальное — решение[71].
Первые 48 переплетенных книжных блоков, отпечатанных в типографии Оксфордского университета «Кларендон Пресс», были получены 27 января 1865 года. Кэрролл подписал 20 экземпляров и разослал их друзьям; остальные 28 пошли в продажу. Радостный день, совпавший с днем рождения Чарлза, — являлось ли это случайностью, можно только гадать, — был, впрочем, вскоре омрачен. Тенниел заявил, что решительно недоволен тем, как в Оксфорде отпечатали иллюстрации. Многие биографы утверждают, что это Доджсон — «известный педант» — был недоволен качеством печати рисунков, однако это не соответствует действительности. Осенью того же года Тенниел признался работавшему с ним граверу Дэлзиелу: он так негодовал по поводу плохого выполнения иллюстраций, что Доджсону пришлось отозвать весь первый завод в две тысячи экземпляров.
Надо признать, что отзыв первого завода и печатание нового вели за собой серьезные расходы, на которые Доджсон вовсе не рассчитывал. К его чести, надо сказать, что, невзирая ни на что, он принял во внимание мнение Тенниела и согласился на переиздание: остановил продажу отпечатанного тиража, обратился к тем, кто успел приобрести книжки, с письменной просьбой вернуть их и отдал распоряжение безвозмездно передать их в больницы для детей. В дневнике же он не без горечи записал, что остальные экземпляры завода, стоившего ему 135 фунтов, «будут проданы, как макулатура». Однако оставшиеся непереплетенными комплекты — 1952 экземпляра — в конце концов нашли лучшее применение: решив сократить, насколько возможно, расходы, Доджсон отправил их в Соединенные Штаты. Их купила нью-йоркская фирма Эплтона; комплекты тут же получили новый переплет и были пущены в продажу. В Англии меж тем кое-кто из обладателей книжек первого завода не захотел с ними расстаться.
«Таким образом, — отмечал московский библиофил и собиратель произведений Кэрролла А. М. Рушайло, — на роль первого теперь претендуют, по существу, три разных издания: единичные экземпляры (по некоторым данным — 6) из 48 переплетенных, но отвергнутых автором; непереплетенные блоки, проданные в США и выпущенные там предприимчивым Эплтоном с новым титульным листом и в новой обложке, и книги, отпечатанные в типографии Ричарда Клея. Каждое из этих трех изданий является библиофильским раритетом, но особую ценность на книжных распродажах и аукционах всегда составляли первые экземпляры, отвергнутые Кэрроллом».
Как видим, по странной иронии судьбы именно экземпляры первого, забракованного завода стали теперь подлинными раритетами, за которыми гоняются коллекционеры, готовые платить за них фантастические суммы. Замечу, кстати, что разница между первым и вторым заводами заметна лишь опытному, натренированному глазу. Если вам выпадет случай сравнить их, убедитесь в этом сами.
Во время одного из посещений Англии мне неожиданно представилась редкая возможность положить рядом два экземпляра из первого и второго заводов «Приключений Алисы в Стране чудес» и сравнить их. После одного из регулярных собраний в Лондоне Общества Льюиса Кэрролла один из его членов Селвин Гудейкер пригласил американскую супружескую пару и меня к себе в гости в Бёртон-на-Тренте в графстве Стаффордшир, обещая показать свою коллекцию.
Путь из Лондона в Бёртон-на-Тренте не близкий, и мы доехали до места уже поздно вечером. Нас ждал вкусный ужин, после которого мы поспешили в кабинет Селвина. Там в большом книжном шкафу располагалась — полка за полкой — его коллекция. Почетное место в ней занимали последовательно собранные заводы прижизненных изданий «Приключений Алисы в Стране чудес» — от первого и до последнего. Мы бережно брали в руки два первых издания — 1865 и 1866 годов — и внимательно рассматривали их. Признаюсь, лично я не заметила никаких дефектов в иллюстрациях первого издания, на которые жаловался Тенниел! Возможно, будь у меня увеличительное стекло… Правда, я не обладаю особой зоркостью, а главное, не являюсь специалистом в области полиграфии. Американские гости, казалось, всё же что-то увидели и поспешили обратить мое внимание на то, что в забракованном издании шрифт местами слегка просвечивает с другой стороны. На этом и закончились наши «исследования» двух первых заводов знаменитой «Алисы».
Наконец вторично отпечатанный первый завод был благополучно одобрен. 4 июля 1865 года, специально ровно через три года после знаменитой речной прогулки вместе с девочками Лидделл, в лондонском издательстве Макмиллана вышли «Приключения Алисы в Стране чудес». Книжка поступила в продажу и начала быстро расходиться. Этот третий, значительно расширенный вариант рукописи автор напечатал под новым и окончательным псевдонимом «Льюис Кэрролл».
Появление сказки об Алисе в Стране чудес вызвало разноречивые отзывы критики. Оно и понятно — уж очень необычна была эта книга! Такое, по словам У. X. Одена, «нередко происходит с шедеврами». Влиятельный журнал «Атенеум» в отзыве, появившемся 16 декабря 1865 года в разделе «Детские книжки», сказку решительно не одобрил: «Это сказка-сон, но разве возможно хладнокровно сфабриковать сновидение со всеми его неожиданными зигзагами и пересечениями, оборванными нитями, путаницей и несообразностью, с подземными ходами, которые никуда не ведут, с послушной паломницей Сна, которая так никуда и не приходит? Мистер Кэрролл немало потрудился и нагромоздил в своей сказке странные приключения и разнообразные комбинации — и мы отдаем должное его стараниям. Иллюстрации мистера Тенниела грубоваты, мрачны, неуклюжи, несмотря на то, что художник чрезвычайно изобретателен и, как всегда, почти величествен. Мы полагаем, что любой ребенок будет скорее недоумевать, чем радоваться, прочитав эту неестественную и перегруженную всякими странностями сказку». «Спектейтор» отозвался о ней в общем положительно, но раскритиковал Безумное чаепитие; а «Иллюстрейтед таймс», хотя и признала за автором богатство воображения, заявила, что приключения Алисы «чересчур экстравагантны и абсурдны и не столько развлекают, сколько разочаровывают и раздражают». Зато «Иллюстрейтед Лондон ньюс» и «Пэлл-Мэлл газетт» сказку одобрили; последняя даже назвала ее «торжеством бессмыслицы и праздником для детей». В результате «Атенеум» оказался в меньшинстве: несмотря на некоторую растерянность, отзывы в основном были благожелательными. Появились и восторженные отклики.
«Ридер» писал: «Господа Макмиллан и К° выпустили великолепное художественное произведение — книгу, которую надо поставить на свою книжную полку: она будет служить вам прекрасным средством против печали». Вообще говоря, по замечанию одного автора, критики разделились «на тех, у кого есть чувство юмора, и тех, у кого его нет». В целом надо признать, что некоторые даже весьма строгие критики настолько устали от набивших оскомину морализаторских книжек с их утомительными длиннотами и нравоучениями, что с радостью приветствовали необычную сказку Кэрролла. Уже вскоре после первых рецензий появились статьи, отмечавшие, что «Приключения Алисы в Стране чудес» — книга, которую оценят не только дети, но и взрослые. Высокую оценку получили иллюстрации Тенниела — о них почти все отзывались с большой похвалой.
Были и восторженные отзывы, посвященные лично Чарлзу. Генри Кингсли, который был дружен с Макмилланом, писал ему после получения от Кэрролла «Алисы»: «Какую очаровательную книжку ты опубликовал для Доджсона! Он посетил нас на днях и прислал нам экземпляр». Кингсли написал и автору: «Огромное спасибо за Вашу очаровательную книжку. О моем мнении свидетельствует тот факт, что я, получив ее утром, еще лежа в постели, несмотря на угрозы и уговоры, не встал, пока не прочитал ее. Если бы я расхваливал Вас на дюжине страниц, я не смог бы сказать Вам лучшего комплимента, чем признавшись, что не мог оторваться от Вашей книжки, пока не прочитал ее до конца. Фантазия всей книги прелестна, ощущение такое, будто рвешь первоцветы по весне… А Ваше стихотворчество — дар, которому я бесконечно завидую».
Вскоре об «Алисе» Кэрролла пошли всевозможные анекдоты и рассказы — верный признак растущей популярности книжки. Говорили, что королева Виктория, похоронившая мужа в 1861 году и безудержно оплакивавшая его, с удовольствием читала «Алису в Стране чудес». Говорили даже, что книжка ей так понравилась, что она милостиво вручила автору медальон! Ходил также слух, что королева, придя в восторг от «Алисы в Стране чудес», попросила принести ей другие книги, написанные этим автором. Каково же было ее удивление, когда ей принесли «Сведения из теории детерминантов», «Элементарное руководство по теории детерминантов» и прочие математические труды Ч. Л. Доджсона. Впрочем, этот анекдот принадлежит более позднему времени: в 1860-х годах еще очень немногим было известно, что Льюис Кэрролл и мистер Доджсон — одно и то же лицо, да и труды эти вышли позже.
Кэрролл был скромным человеком, лишенным обычного авторского честолюбия. Он отказывался принимать письма от поклонников, присылаемых ему в Оксфорд на имя «Льюис Кэрролл», и дал указание почте отсылать их обратно. Впрочем, друзьям, старым и малым, он посылал в подарок свои книги, подписанные псевдонимом. С годами его псевдоним стал секретом Полишинеля. Он не гнался за популярностью и не интересовался отзывами о своих книгах. Ему были настолько неприятны доходившие до него слухи о милостях королевы, что спустя годы он опубликовал заявление: «Пользуюсь случаем публично опровергнуть сообщения газет о том, будто я преподнес некоторые свои книги в дар Ее Величеству. Считаю необходимым заявить раз и навсегда, что подобные сообщения являются ложными от начала и до конца и что ничего подобного никогда не было».
Однако это заявление не мешало даже некоторым серьезным авторам повторять эти слухи. В 1932 году известный английский поэт и писатель Уолтер де ла Мар выпустил о Кэрролле очень интересную и глубокую книгу, но и он не удержался — изложил рассказ некой старой дамы, которая вспоминала, как в три с половиной года, еще не умея читать, сидела у королевы и рассматривала картинки Тенниела: «Увидев девочку, склонившуюся над книжкой и ничего не замечавшую вокруг, королева спросила, чем это она так увлечена. Девочка встала и подала королеве книгу, раскрыв ее на той странице, где Алиса, уменьшившись в размерах, купается в море собственных слез. Указывая на рисунок, малышка подняла глаза на королеву и спросила: „А вы смогли бы столько наплакать?“». Старушка не помнила в точности ответа ее величества, но говорила, что королева весьма одобрила автора. На следующий день, по ее словам, специальный курьер из Виндзора доставил ему в дар медальон.
Эта легенда оказалась очень живучей. Даже в 1939 году Александр Уолкот, также весьма уважаемый писатель, писал, что «Алиса в Стране чудес» настолько «покорила сердце королевы, что она милостиво предложила мистеру Доджсону посвятить ей следующую книгу»!
Чтобы более не возвращаться к теме «Льюис Кэрролл и королева Виктория», расскажу об эпизоде, взволновавшем в конце XX века не только Англию, но и другие страны, в том числе и Россию. Еще бы! Авторство «Страны чудес» было поставлено под сомнение! 21 февраля 1984 года в газете «Известия» появилась небольшая заметка «Кто автор „Алисы в Стране чудес“», в которой говорилось:
«Исследователи из Континентального исторического общества в США, проведшие 11 лет за изучением неизвестных дневников королевы Виктории, склонны приписывать ей авторство популярнейшей сказки для детей и взрослых „Алиса в Стране чудес“. В одном из своих „откровений“, приведенных в монографии „Секретные дневники королевы Виктории“, она якобы писала: „Это, вероятно, поразит многих, когда станет известно, что я выступала под именем Чарлза Доджсона и его литературным псевдонимом Льюис Кэрролл“.
В исследовании проводятся параллели между персонажами сказки и реальными лицами. Так, Герцогиня — это мать королевы, герцогиня Кентская, Белый Кролик — ее отец, герцог Кентский, а Белый Рыцарь в Сияющих Латах — ее муж, принц Альберт. Американские историки утверждают, что ее величество подкупила английского математика Ч. Доджсона, пробовавшего свое перо в рассказах для детей, чтобы он приписал авторство „Алисы“ себе, а также сэра Джона Тенниела, чьи иллюстрации в книге полны скрытых намеков на эпизоды из биографии королевы Виктории. Ошеломляющее заключение американцев, как пишет агентство ЮПИ, звучит следующим образом: „Алиса в Стране чудес“ представляет собой тайную автобиографию королевы Виктории. Что ответят на это английские литературоведы?»
«Литературная газета», сочтя необходимым ответить на этот вопрос в рубрике «По следам сенсации», обратилась к Сергею Воловцу, собственному корреспонденту агентства печати «Новости». Как видим, была задействована тяжелая артиллерия — еще бы, ведь вопрос задала такая газета, как «Известия», которая в советские годы была рупором «партии и правительства»! В свою очередь Воловец счел необходимым обратиться к двум авторитетам: всемирно известному Мартину Гарднеру, американскому знатоку творчества Кэрролла, автору «Комментированной „Алисы“», а также статей о Кэрролле и ряда научных книг («Теория относительности для миллионов», «Этот правый, левый мир» и др.), и профессору Оксфордского университета Кристоферу Батлеру, специалисту в области английской литературы Викторианской эпохи. 2 мая того же года в «Литературной газете» появилась статья Воловца под названием «Кто автор Алисы?», где он приводит мнения обоих ученых.
На вопрос корреспондента, что думает Гарднер по поводу сенсации, тот ответил письмом, что «теория» эта совершенно «бредовая» и он не считает даже нужным упомянуть имя автора, преследовавшего его в течение десяти лет своими «открытиями», в которые могут поверить лишь «наивнейшие из наивных». Посредством компьютера он связал «каким-то известным только ему способом» различные аспекты жизни Кэрролла и королевы. Статья в «Литературной газете» приводила его мнение: «„Одно из двух, — пишет Гарднер, — либо автор решил пошутить, либо он просто сумасшедший. Впервые с этим исследователем’ я познакомился десять лет назад. Подписывался он тогда женским именем и лишь спустя некоторое время признался, что он — мужчина“». Гарднер заявил, что его несказанно возмущает то, как охотно газеты «печатали сообщения о книге проходимца, не дав ей при этом никакой серьезной оценки»: «Так делаются дешевые сенсации на потребу наивных читателей».
С Батлером корреспондент разговаривал лично. Поначалу в ответ на вопросы Воловца тот только смеялся, однако, отсмеявшись, решительно отверг «теорию американского проходимца»: «Дело не только в том, что существует огромный мемуарный и исторический материал, просто не позволяющий всерьез покушаться на авторство Кэрролла. Важнее то, что его стиль сохраняет легко отличимые черты повсюду, хотя бы в переписке с иллюстратором его „Алисы“ сэром Джоном Тенниелом или в „Русском дневнике“». Добавим к этому, что королева не обладала чувством юмора, не была ни математиком, ни логиком, ни священнослужителем, что ее образование было весьма ограниченно и что хотя она и писала множество писем, они ничем не походили на письма Кэрролла. Самый элементарный анализ языка текстов Кэрролла и королевы Виктории убил бы всякую охоту играть в подобные игры.
В заключение приведу один пример из сопоставлений текста «Алисы в Стране чудес» и «тайной автобиографии» королевы Виктории. Откроем начало второй главы, где Алиса внезапно вырастает: «Всё страньше и страньше! — вскричала Алиса. От изумления она совсем забыла, как нужно говорить. — Я теперь раздвигаюсь, словно подзорная труба. Прощайте, ноги!» А вот отрывок из дневника королевы: «Хотя мой отец, герцог Кентский, был англичанином, он умер, когда я была совсем маленькой. Я росла под наблюдением матери. Она была немкой и так и не научилась говорить как следует по-английски. В моменты возбуждения я переходила на родной язык (немецкий), как это обычно делают люди, владеющие двумя языками». И эти фрагменты приводились в поддержку авторства королевы! Как говорится, комментарии излишни.
В оправдание того, что я привела здесь эти строки, скажу лишь одно: видите, как всех волнует всё, что касается Кэрролла и его «Алисы»! Такие эпизоды, причем без участия безумцев, происходят то и дело.
Многое поражало первых критиков и читателей в «Алисе в Стране чудес», но более всего, кажется, их восхитили шутливые пародии на знакомые с детства нравоучительные стихи. Вот, скажем, стихотворение известного классика Роберта Саути «Радости старика и как он их приобрел», которое многие в детстве заучивали наизусть:
— Папа Вильям, — сказал любознательный сын, — Голова твоя вся поседела, Но здоров ты и крепок, дожив до седин, Как ты думаешь, в чем же тут дело? — В ранней юности, — старец промолвил в ответ, — Знал я: наша весна быстротечна. И берег я здоровье с младенческих лет, Не растрачивал силы беспечно…[72]В сказке Кэрролла этот стишок звучит так:
— Папа Вильям, — сказал любопытный малыш, — Голова твоя белого цвета. Между тем ты всегда вверх ногами стоишь. Как ты думаешь, правильно это? — В ранней юности, — старец промолвил в ответ, — Я боялся раскинуть мозгами, Но, узнав, что мозгов в голове моей нет, Я спокойно стою вверх ногами[73].Такое новое «прочтение» заученного в детстве серьезного стихотворения дает удивительный взрывной эффект! Нравоучительный стишок забытого Дэвида Бейтса под пером Кэрролла приобретает совершенно неожиданное звучание. Его распевает у себя на кухне Герцогиня, качающая своего младенца. У Бейтса читаем:
Любите! Истина вела Любовью, а не страхом, Любите! — Добрые дела Не обратятся прахом. Любите малое дитя С терпеньем и вниманьем — Как знать? Оно у нас в гостях, И близится прощанье.А у Кэрролла Герцогиня поет младенцу совсем другую колыбельную да при этом еще и яростно встряхивает его
Лупите своего сынка За то, что он чихает. Он дразнит вас наверняка, Нарочно раздражает! Припев (его подхватывают младенец и кухарка) Гав! Гав! Гав! Сынка любая лупит мать За то, что он чихает. Он мог бы перец обожать, Да только не желает! Припев: Гав! Гав! Гав![74]Читателей, как малых, так и больших, восхитили веселые шутки и всякие «чепуховины» или «бессмыслицы» Кэрролла, известные в Англии под названием «нонсенсы». Кэрролл соединял несовместимое, отчуждал части от целого, менял местами причину и следствие и то и дело изрекал, как просили его девочки Лидделл, «всякие глупости». «Сказку! — требовали они во время знаменитого пикника. — Расскажите нам сказку! И пусть там будет побольше всяких глупостей!» Оказалось, что «всяких глупостей» в этой сказке хоть отбавляй. Но как ни странно, многие из этих глупостей были, если подумать, далеко не так глупы, как могло показаться. В «бессмыслице» (nonsense) нередко прятался свой смысл (sense).
В «Алисе в Стране чудес» основное действие происходит во сне. Задремав на берегу реки, героиня проваливается, как в глубокий сон, в кроличью нору и начинает свои странствия, во время которых встречается с разными странными существами. Возможно, читателя поначалу удивляет, что Алиса не осознаёт, что все ее приключения происходят во сне. Однако природа сна сложна: нередко спящий, подобно Алисе, не понимает, что ему снится сон. Кэрроллу это было хорошо известно. Еще за несколько лет до того, как сказка была окончена, он записал в дневнике: «Мы часто видим сон и ничуть не подозреваем, что он — нереальность. Сон — это особый мир, и часто он так же правдоподобен, как сама жизнь».
Особенно интересовало Кэрролла пограничное состояние полусна-полубодрствования. Он пишет: «Мысль: когда мы спим и, как это часто бывает, смутно сознаём это и пытаемся проснуться, не говорим ли мы во сне таких вещей и не совершаем ли таких поступков, которые наяву заслуживают название безумных? Нельзя ли в таком случае иногда определять безумие как неспособность отличать бодрствование от жизни во сне?» Тут невольно возникает вопрос: не потому ли во сне Алисы так много безумцев?
Немало удивила читателей и сама Алиса. Героиня Кэрролла, смело шагающая по диковинной стране, в которой она неожиданно очутилась, ничем не походила на обычных для того времени персонажей детских книжек — благонравных и скучных детей, строго соблюдающих сословную иерархию, покорно повторяющих истины, внушаемые им родителями и воспитателями. И дети в назидательных рассказах известных авторов — Марии Эджворт, Ханны Мур, Анны Летиции Барбо, писавшей вместе со своим братом Джоном Эйкином, и даже Чарлза Лэма, а также многих других — походили на маленьких взрослых, которым были неведомы ни смех, ни шалости, ни игры. Читатель всегда знал наперед, как эти дети сейчас поступят, что скажут и о чем подумают. Если и случалось им иногда допустить какую-то шалость или самостоятельность, то очень скоро они признавали свою вину, искренне сокрушались и просили у взрослых прощения. Кэрролловская Алиса была совершенно новой героиней детской книжки — живой, готовой к восприятию нового, умной девочкой, в голове которой роятся «всякие мысли». Она отважно шла вперед и почтительно, но с достоинством беседовала на самые неожиданные темы с самыми неожиданными персонажами, встреченными на своем пути. Э. Уилсон замечает: «Алиса всегда ведет себя как воспитанная девочка — разумно, практично», — и специально указывает на то, что в отношении Кэрролла к Алисе «нет ничего сентиментального». Не будет преувеличением сказать, что на протяжении многих десятилетий сентиментальность в той или иной степени неизменно присутствовала в книгах для детей. Такой героини детской книжки, как Алиса, английская литература еще не знала.
В 1962 году по случаю столетия исторического пикника, во время которого была впервые рассказана сказка о приключениях Алисы под землей, появилась статья Уистена Хью Одена, которую он назвал «Сегодняшнему „миру чудес“ нужна Алиса». Обстоятельный портрет героини он заканчивает словами:
«Можно ли считать Алису тем идеалом, к которому должен стремиться любой человек?
Я склонен ответить на этот вопрос утвердительно. Одиннадцатилетняя девочка (или двенадцатилетний мальчик) из хорошей семьи, то есть из такой семьи, где их окружали любовью, но вместе с тем приучали к определенной дисциплине, где к интеллектуальной жизни относились достаточно — но не излишне — серьезно, может быть замечательным существом. Уже не дети, они научились самообладанию, приобрели внутреннюю цельность и способность логически мыслить, не утратив вместе с тем воображения. Они не знают, конечно, что эта цельность досталась им слишком легко — это родительский дар, а не результат собственных усилий — и что им скоро предстоит его утратить, сначала в „буре и натиске“ юности, а затем, когда они вступят в мир взрослых, — в заботах о деньгах и положении в обществе.
Однако, встретившись с такой девочкой или мальчиком, невозможно не почувствовать, что в них, пусть ненадолго, по счастливой случайности воплощено именно то, чем после долгих лет и бесчисленных глупостей и ошибок нам хотелось бы в конце концов стать».
«Приключения Алисы в Стране чудес» имели успех, какого не ожидали ни автор, ни художник, ни издатель. Вскоре был напечатан второй завод, а за ним и третий, четвертый… С 1865 по 1868 год «Страна чудес» переиздавалась ежегодно. Было подсчитано, что за два года она принесла автору 250 фунтов дохода помимо тех 350 фунтов, что покрыли расходы на издание, включая и расчеты с Тенниелом.
В январе 1869 года вышли первые переводы «Алисы в Стране чудес» — переводы на немецкий и французский языки, инициированные самим Кэрроллом и осуществленные под его наблюдением. Для этого он даже специально занялся французским языком, в котором был не слишком силен. Он неплохо преуспел в этих занятиях и даже сочинил как-то по-французски коротенький стишок (не имевший никакого отношения к Алисе или «Стране чудес»), который дошел до нас благодаря тому, что его старый друг Томас Бейн записал его в своем дневнике.
On son, on crie; C’est la vie. On crie, on con, C’est la mort. (Уходя, прощаться — это жизнь. Смерть — с ушедшим Навсегда простись[75].)В 1872 году появился первый итальянский перевод и вскоре за ним и голландский. А в 1879 году «Алиса в Стране чудес» вышла на русском языке под названием «Соня в царстве дива» — перевод был анонимным, имя автора на титуле также не значилось[76].
Но что же семейство Лидделл? Как оно реагировало на успех сказки? Как ни странно, об этом мы ничего не знаем. Среди писем, полученных Кэрроллом и тщательно им зарегистрированных, нет ни одного от Лидделлов. А ведь он послал всем трем участницам июльской прогулки по экземпляру своей сказки, и они должны были бы ответить ему, как полагается, благодарственным письмом или письмами, хотя и жили поблизости. Нет и слов благодарности от родителей. В дневнике Кэрролла мы не находим ни слова об ответах на его подарки. Сказка, рассказанная девочкам и подаренная им, выросла почти вдвое, и их должны были бы заинтересовать новые, неизвестные им приключения Алисы. Видно, отношения ректорского семейства с «мистером Доджсоном» вконец испортились.
Кэрролл иногда видел сестер Лидделл издалека. 5 декабря 1863 года он отметил в дневнике, что встретил миссис Лидделл с детьми на любительском спектакле, но «не подошел к ним, как делал это весь семестр». Через две недели, будучи приглашен в ректорскую резиденцию, он высчитал, что не общался со своими юными приятельницами полгода. А летом 1864 года миссис Лидделл объявила, что не позволит более девочкам отправляться с ним на лодочные прогулки. Лорине в это время было уже 15 лет, Алисе — 12, а Эдит — 10[77]. Самая младшая сестра Рода была еще совсем малышкой. Вскоре всё семейство уехало на лето в Лландидно.
Художник Уильям Блейк Ричмонд был приглашен в Лландидно четой Лидделлов, где написал портрет трех сестер. Впоследствии он вспоминал, что летом 1864 года Доджсон также гостил у Лидделлов в Лландидно. То же читаем в воспоминаниях миссис Харгривс (Алисы Лидделл), записанных ее младшим сыном. Однако оба, по-видимому, ошибаются — в это время Кэрролл находился на острове Уайт. К тому же отношения Кэрролла с Лидделлами настолько охладились, что он никак не мог гостить у них в «Пенморфе». В дневниках Кэрролла нет упоминаний о поездке в Лландидно.
Что касается портрета трех сестер кисти Ричмонда, то он до сих пор бережно хранится в семействе Лидделл. Кэрролл видел его в апреле на выставке в Британском институте и отозвался о нем весьма благосклонно. Однако, скажем прямо, портрет во всём — выборе поз, композиции, естественности и живости моделей — решительно уступает фотографиям Кэрролла.
В замкнутом пространстве Оксфорда, как всегда, ничто не проходило незамеченным. Не было пропущено и охлаждение между Лидделлами и Кэрроллом. Пошли сплетни, высказывались разные предположения. Говорили, что Доджсон сделал предложение то ли Алисе, то ли ее старшей сестре. До последнего времени исследователи ломали головы над тем, что же именно произошло. Недавно появились новые сведения о вырезанных страницах дневника Кэрролла, относящихся ко времени «ссоры» с семейством Лидделл. Мортон Коэн убежден, что страницы были вырезаны не самим Кэрроллом, а одной из его незамужних племянниц, Менеллой Доджсон, строго блюдущей честь семьи. Именно у нее находились дневник Кэрролла и другие семейные документы с 1941 по 1960 год. Коэн приводит свидетельства американских поклонников Кэрролла, посетивших Менеллу. Нимало не смущаясь, она призналась им, что вырезала эти страницы собственными руками, и прибавила, что собирается вырезать еще кое-что, ибо публике незачем знать о сугубо семейных делах Доджсонов.
Что было написано на этих страницах, мы, вероятно, никогда бы не узнали, если бы не недавние открытия исследователей. Среди бумаг, хранящихся в архиве семейной коллекции Доджсона в Суррее, была обнаружена запись сестер Доджсон, кратко излагавшая содержание уничтоженных страниц. На одной из них рукой Менеллы было написано: «Л. К. узнаёт от миссис Лидделл, что он, как полагают, использует детей для того, чтобы ухаживать за гувернанткой. Некоторые также полагают, что он ухаживает за Иной».
О слухе относительно мисс Прикетт уже говорилось выше, что же касается сообщения об Ине (Лорине), то его вряд ли следует принимать всерьез. Кэрролл никогда не выделял ее. Две сказки — «Приключения Алисы в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» — и стихотворные посвящения к ним адресованы Алисе Лидделл, а не ее старшей сестре. С Алисой связаны и две поздние, вышедшие в 1880-х годах публикации Кэрролла — факсимильное воспроизведение подаренной ей рукописи «Приключения Алисы под землей» и авторский пересказ «Алиса для малышей». О том же свидетельствует письмо к миссис Харгривс (Алисе Лидделл), написанное 1 марта 1885 года в связи с публикацией факсимиле рукописи.
Судя по всему, Кэрролл вообще не думал о женитьбе. Он никогда не выказывал склонности к браку. Это становится ясно еще из его ответа отцу, который по окончании сыном университета прислал ему рекомендации относительно дальнейшей жизни — вплоть до подробного расчета трат, устройства дома и пр. Преподобный Доджсон полагал, что старший сын последует его примеру: оставит через некоторое время колледж, женится и станет священником. Однако Чарлз ответил отцу, что вряд ли он когда-либо женится. Он был вполне доволен своим положением в Оксфорде и не думал изменять его.
Со временем отношения между семейством Лидделл и Кэрроллом наладились, хотя уже никогда не стали даже отдаленно похожими на те, какими были во время его дружбы с детьми. 5 декабря 1866 года, спустя более полутора лет после последней встречи с сестрами Лидделл, Кэрролл был приглашен на обед (по существующей традиции ректор время от времени приглашал преподавателей). Миссис Лидделл показала ему новые снимки дочерей, сделанные другим фотографом. В мае 1867 года он записывает в дневнике, что «долго беседовал» с миссис Лидделл в ректорском саду. «Приключения Алисы в Стране чудес», вышедшие в 1865 году, продолжали свое триумфальное шествие, и Чарлз уже не был в ее глазах просто скромным преподавателем в колледже, руководимом ее супругом. К сожалению, Кэрролл не указывает, о чем говорил с миссис Лидделл, — его записи вообще весьма коротки и сдержанны.
Да, отношения с семейством Лидделл вошли в обычные для колледжа рамки. Однако заметим: литература понесла при этом невосполнимую потерю, ибо, по свидетельству миссис Харгривс (Алисы Лидделл), ее мать «уничтожила все письма мистера Доджсона, которые он писал мне, когда я была девочкой». Она пишет об этом спокойно, без каких бы то ни было эмоций, просто констатируя факт. О недовольстве миссис Лидделл нет ни слова: возможно, миссис Харгривс о нем забыла или не сочла нужным вспоминать. Тон воспоминаний позволил некоторым исследователям предположить, что по прошествии времени письма Кэрролла были уничтожены вместе с другими бумагами, как это обычно делалось в конце года в викторианских домах. Однако сам факт уничтожения писем говорит о том, что для Лидделлов они не отличались от «других бумаг».
Даже позже, когда Кэрролл стал известным писателем и отношения с семейством Лидделл были восстановлены, никто из его членов не выразил ни сожаления об уничтоженных письмах, ни удовольствия от чтения его книжек, которые он продолжал исправно посылать им и которыми зачитывалась вся Англия. Видно, для них Доджсон слишком долго оставался всего лишь одним из преподавателей Крайст Чёрч.
По иронии судьбы, Лидделлы отвернулись от Кэрролла в то самое время, когда он подготовил и издал окончательный вариант сказки, которой суждено было принести всемирную славу — и автору, и им самим, и особенно Алисе, вдохновившей его на написание этой сказки.
Глава одиннадцатая В РОССИЮ! Европейская интродукция
Решение ехать в Россию было принято Кэрроллом внезапно. Мысль о путешествии принадлежала его другу Генри Лиддону. 4 июля 1867 года тот сделал запись в дневнике: «Предложил Доджсону ехать вместе в Россию. Эта мысль его очень увлекла»[78]. Спустя шесть дней он отмечает: «Мы с Доджсоном заняты последними приготовлениями перед отъездом в Россию». А Кэрролл на следующий день записывает: «Получил свой паспорт из Лондона. Несколько дней назад Лиддон сообщил мне, что может отправиться со мной за границу, и мы остановились на Москве! Смелое решение для человека, который никогда не выезжал за пределы Англии… Завтра я еду в Дувр»[79]. Как видим, все приготовления, включая получение по почте паспорта, заняли всего неделю! Правда, паспорт был заказан еще до разговора с Лиддоном — Кэрролл размышлял о поездке в Париж на Всемирную выставку, которая его очень интересовала.
Многие задаются вопросом: почему Кэрролл отправился именно в Россию? К этому времени он немало поездил по Англии, побывал в Шотландии и Уэльсе, но за пределы острова ни разу не выезжал. А ведь среди людей того круга, к которому он принадлежал, было принято после окончания университета совершить заграничный вояж, да и в более поздние годы отправляться в «путешествия на континент» (так их называли англичане, неизменно ощущая себя «островитянами»). Обычно ездили во Францию, Грецию и Италию, реже — в Швейцарию и Германию. Юные аристократы отправлялись в Большое путешествие по Европе, добираясь порой и до Испании; однако Россия их не интересовала.
У нас склонны объяснять предпринятую Кэрроллом поездку в Россию его эксцентричностью. Впрочем, континентальные европейцы издавна посещали Россию: помимо деловых людей, ездили сюда и художники, и архитекторы, и прославленные музыканты, артисты, писатели. Многие из них подолгу жили здесь. Некоторые оставили воспоминания о «загадочной стране». С известной осторожностью можно предположить, что какие-то из этих воспоминаний (скажем, маркиза де Кюстина или Александра Дюма) были известны Кэрроллу, много читавшему и следившему за книжными и журнальными новинками. Вряд ли он читал их по-французски, но такие книги моментально переводили на другие языки, в том числе и на английский.
Предложение Лиддона ехать за границу пришлось как нельзя кстати. Кэрролл и сам уже подумывал о том, что пора совершить такое путешествие. В юности он был лишен возможности отправиться в Европу — семья жила весьма скромно даже тогда, когда отец получил приход в Крофте. О дальних вояжах не приходилось и думать. Лишь после того как Чарлз прочно обосновался в университете, а его книжка о приключениях Алисы в Стране чудес стала, к его изумлению, снова и снова переиздаваться, с лихвой покрыв расходы на издание, он понял, что может позволить себе такую поездку.
Из дневниковой записи Кэрролла становится ясно, что, прежде чем «остановиться на Москве», друзья перебрали несколько вариантов. Предложение отправиться именно в Россию исходило от Лиддона. Оно и понятно: Лиддон к тому времени был уже опытным путешественником, немало поездил по разным странам Европы, но в России не был. Он хотел собственными глазами увидеть загадочную страну, познакомиться с ее храмами и православными священниками. На то у него были особые причины, к которым его друг не мог остаться равнодушным.
1850–1860-е годы в Англии были отмечены растущим интересом к Русской православной церкви. Английские историки и богословы обратились к ее истории, а также к сравнительному изучению православной и англиканской литургий. В это время вышло несколько книг священнослужителей, которые побывали в России и поддерживали серьезно обсуждавшуюся в те годы идею воссоединения Церкви, разделившейся еще в XI веке на Западную и Восточную. Лиддон, сторонник воссоединения, собирался встретиться в России с влиятельными государственными и церковными деятелями, с которыми был знаком лично или имел рекомендательные письма. Среди прочих планировалась встреча с епископом Дмитровским Леонидом, викарием московского митрополита Филарета[80], и с самим святителем Филаретом, пятидесятилетие архипастырского служения которого готовилась отметить вся Россия.
Доджсон ехал как турист: он хотел познакомиться со страной и не принимал участия в церковных дебатах, хотя, разумеется, знал о них. Решение отправиться в Россию казалось ему весьма смелым — недаром он поставил восклицательный знак после слов «остановились на Москве».
Впрочем, в обществе Лиддона он готов был рискнуть. Доджсон знал его не один год. Они познакомились вскоре после поступления Чарлза в Крайст Чёрч — к тому времени Лиддон уже окончил курс и получил статус пожизненного члена этого старинного и влиятельного колледжа. В 1853 году он был рукоположен в священники, а вскоре на его проповеди собиралось так много людей, что уместиться они могли лишь в самом большом в Оксфорде зале — трапезной Крайст Чёрч. К этому времени уже и Чарлз стал членом колледжа. Друзья часто встречались, обсуждали религиозные проблемы и университетские дела, ездили в Лондон на выставки и в театры (позже Лиддон отказался от посещений театра), совершали вместе долгие прогулки. Оба любили природу и искусство, оба обладали незаурядным чувством юмора. Преподаватели Крайст Чёрч не раз вспоминали, какой смех царил в их клубе, когда там бывали Кэрролл и Лиддон.
Во время путешествия в Россию приятели вели дневники — викторианская привычка, очень полезная для биографа! Кэрролл писал дневник, по его собственным словам, себе «на память» и как будто не собирался публиковать его. Впрочем, нельзя утверждать, что он вовсе исключал такую возможность; во всяком случае, для этого путешествия он специально купил две небольшие тетрадки.
При жизни Кэрролла «Русский дневник» (сокращенное название «Дневника путешествия в Россию в 1867 году») издан не был. В 1928 году Морис Л. Пэрриш, американский коллекционер из Нью-Джерси, купивший рукопись, выпустил его тиражом 66 экземпляров. В 1935 году появилось первое доступное публике издание «Дневника», осуществленное Дж. Ф. МакДермоттом; оно же было воспроизведено в 1977 году. Издание МакДермотта было выполнено очень неряшливо: в нем немало пропусков, русские имена и названия не выверены и часто искажены. Лишь в 1999-м английский исследователь Эдвард Вейклинг, подготовивший предпринятое Обществом Льюиса Кэрролла полное издание кэрролловских дневников, опубликовал в пятом томе тщательно выверенный текст.
«Русский дневник» представляет для нас особый интерес не только потому, что большая часть его посвящена именно России, в которую Кэрролл вглядывается с особым вниманием, но еще и потому, что позволяет внимательнее вглядеться в его автора. Заметки в этом дневнике более подробны и нередко более открыты, чем обычные ежедневные записи. В «Русском дневнике» Кэрролла много описаний. Есть там и гротески, и «нонсенсы», и — что особенно для нас важно — его личные оценки, порой весьма тонкие, которых, как правило, не хватает в других его дневниках. Это дает нам редкую возможность глубже заглянуть в мысли и чувства Кэрролла. Вот почему «Русский дневник» заслуживает весьма внимательного прочтения. Отметим также, что о путешествии в Россию биографы Кэрролла обычно пишут очень кратко, меж тем его подробное описание будет особенно интересно для русского читателя.
Немалую роль играют и дневники Лиддона, порой неожиданно проливающие свет на личность его друга. Кроме того, он едва ли не каждый день слал письма своей сестре Луизе, часто жившей у него после того, как потеряла мужа через несколько месяцев после свадьбы. Эти письма и дневник Лиддона подчас дополняют записи Кэрролла, сообщая некоторые подробности, не занесенные в его тетрадь.
В силу различия характеров и жизненных установок внимание каждого из друзей привлекали разные события и детали. Лиддон — любитель и знаток архитектуры, истории, живописи и искусства, но в первую голову священнослужитель, сосредоточенный на своей миссии. Его дневник в целом носит более строгий и деловой характер. Помимо обычных заметок путешественника, в нем есть и описания встреч с русскими церковными деятелями, и собственные мнения по различным церковным вопросам. Дневник Чарлза свободнее по стилю и содержанию. Его интересует многое вокруг, его острый взгляд хватает мельчайшие детали и характерные черты. Художественный нерв Чарлза сказывается во всём, отражаясь даже в кратких записях, нередко приправленных юмором, который отсутствует в дневнике его старшего друга. Особенно остро реагирует Чарлз на всяческие несообразности и парадоксы в поведении людей и ситуациях.
Мы, конечно, не можем с уверенностью сказать, читал ли Доджсон книги путешественников по России, но нет сомнения, что жанр путевых заметок был ему хорошо знаком. Возможно, отправляясь в путь, он вспоминал о «Сентиментальном путешествии» своего соотечественника Лоренса Стерна, которого и знал, и любил, на что в его дневнике есть прямое указание. Разумеется, дневник Чарлза в целом вряд ли можно назвать сентиментальным (напомним читателям, что это слово понималось в то время совсем не так, как сейчас, не говоря уже о советском времени, когда оно было чуть ли не бранным); впрочем, будут и здесь неожиданности.
Кэрролл ехал в Россию, предполагая по пути отчасти познакомиться и с Европой. Для первой части путешествия друзья выбирают следующий маршрут: Оксфорд — Лондон — Дувр — Кале — Брюссель — Кёльн — Берлин — Данциг — Кёнигсберг — Петербург. Из Дувра в Кале они плыли пароходом, а весь остальной путь, за одним исключением, проделали по железной дороге. Проведя в России месяц, они отправились в обратный путь уже другим маршрутом: Петербург — Кронштадт — Варшава — Бреслау — Дрезден — Лейпциг — Эмс — Париж — Кале — Дувр, останавливаясь в каждом из этих городов (естественно, за исключением Дувра) на 1–5 дней.
Путешествие началось 12 июля 1867 года: Чарлз приехал из Оксфорда в Лондон, чтобы отправиться в Дувр, где ему предстояло встретиться с Лиддоном и уже вместе плыть пароходом в Кале.
В Лондоне он неожиданно для себя обнаружил большое скопление народа: в этот день в столицу въезжал турецкий султан Абдул-Азиз, прибывший в Англию с официальным визитом. Принц Уэльский встречал его в Дувре; королевский поезд прибывал в Лондон на станцию Черинг-Кросс в 2 часа 30 минут пополудни. Газеты широко отмечали это событие, называя его беспрецедентным, ибо «никогда прежде „отец правоверных“ не ступал на британскую землю».
Передвижение по городу затруднялось и прибытием в Лондон бельгийских добровольцев, которым столичный лорд-мэр устраивал торжественный прием в Мэншн-хаус, роскошной резиденции для подобного рода церемоний. «Начиная часов с шести в восточном направлении шел непрерывный поток омнибусов с героями», — не без иронии замечает Чарлз в дневнике[81]. Лишь к вечеру Чарлзу удалось сделать необходимые покупки и отправиться в Дувр. Прибыв в гостиницу «Лорд Уоррен» (Lord Warren), он увидел поджидавшего его Лиддона.
Отметим, что утром этого дня Лиддон отправился к епископу Оксфордскому Сэмюэлу Уилберфорсу, чтобы взять письмо митрополиту Московскому Филарету, но не застал его дома.
Начало первого путешествия обычно протекает не слишком гладко. Вот и для Чарлза первые дни были временем небольших открытий (не всегда приятных), которые делают те, кто, нарушая привычный уклад своей жизни, впервые выезжает за пределы родной страны. Первое из них ему пришлось сделать еще в Дувре: явившись вместе с Лиддоном в восемь часов к завтраку, он обнаружил, что официанты в гостинице далеко не так проворны, как слуги в Крайст Чёрч. Доджсон и Лиддон нервничали — их пароход отходил в девять. В дневнике он изложил этот эпизод не без юмора. «Мы позавтракали, как договорились в 8 — по крайней мере, в это время мы сели за стол и принялись жевать хлеб с маслом в ожидании, пока будут готовы отбивные… Мы пробовали взывать к жалости случайных официантов, которые ласково нас утешали: „Сейчас подадут, сэр“; мы пробовали строго им выговаривать, на что они обиженно возражали: „Но их сейчас подадут, сэр“; с этими словами они удалялись в свои закуты, укрываясь за суповыми крышками и буфетами, — отбивные так и не появлялись. Мы пришли к заключению, что из всех добродетелей, коими может обладать официант, наименее желательна любовь к уединению». В конце концов отбивные всё же появились, и приятели благополучно взошли на борт парохода.
Плавание было спокойным, хотя на всём его протяжении непрерывно лил дождь. К счастью, наши путешественники, взявшие каюту, чувствовали себя лучше многих других. Вечером в дневнике Чарлза появилась запись: «Перо отказывается живописать муки некоторых пассажиров во время нашего тихого плавания, длившегося 90 минут; я же могу только сказать, что был чрезвычайно удивлен и несколько возмущен и думал лишь одно: я платил деньги не за это».
Он так описал свои впечатления о море:
Я нечисть и зонтик, один на троих, Налоги и всякие хвори Терпеть не могу, только более их Я ненавижу море. Рискните соленую воду разлить. (Противно — скажу априори.) А если ту лужу на мили продлить? Похоже — не так ли — на море? Побейте собаку хорошим кнутом (Жесток сей поступок — не спорю), Но именно так воют ночью и днем Холодные ветры с моря. ………………………… Влечет вас стихии манящая песнь Поспорить с волной на просторе. А если вас скрутит морская болезнь? Ну как? Привлекательно море?..[82]Это стихотворение под названием «Морская болезнь» Кэрролл включил в сборник «Фантасмагория и другие стихи», вышедший в январе 1869 года.
По прибытии в Кале нашим путешественникам пришлось отбиваться от толпы местных жителей, предлагавших всевозможные услуги и советы. Вот тут-то Чарлзу и пригодились уроки французского языка, которые он брал в Оксфорде. Правда, из усвоенного словаря он воспользовался лишь одним словом: «Нет!» — которым отвечал на все предложения. Встречавшие, записывает он в дневнике, «один за другим удалились, повторяя мое Non! на разные лады, но с одинаковым отвращением». Пройдясь по рыночной площади, Чарлз отметил непривычную его глазу картину: площадь была «усыпана белыми чепцами оглушительно болтавших женщин».
Не задерживаясь в городе, они сели в поезд, идущий на Брюссель. В Бландене, на бельгийской границе, Чарлз впервые подвергся таможенному досмотру, впрочем, если судить по его дневнику, вовсе не строгому: их чемоданы выгрузили и «досмотрели — вернее, открыли и закрыли», после чего снова погрузили.
Дорога в Брюссель, шедшая по плоской однообразной равнине, задержала внимание Кэрролла лишь одной особенностью ландшафта: «Деревья здесь посажены длинными ровными рядами, и так как все они клонятся в одну сторону, чудится, что это разбросанные по равнине длинные ряды измученных солдат; некоторые выстроены в каре, другие застыли по стойке „смирно“, но большинство безнадежно бредет вперед, согнувшись, словно под тяжестью невидимых глазу вещевых мешков». Как этот ландшафт отличался от английского сельского пейзажа с его разбросанными небольшими группками деревьями и мягкими пологими холмами!
От Лилля до Турне с нашими путешественниками ехала семья с двумя дочерьми, старшей из которых было шесть лет, а младшей — четыре. «Последняя не закрывала рот почти всю дорогу», — отмечает Кэрролл. Лиддон в своем дневнике более критичен: «Она дергала отца за усы и бакенбарды, залезала ему на спину, мерила его очки и пр.». Верный себе Чарлз набросал карандашом портрет девочки. Родители, пишет он, «изучили рисунок, а оригинал изложил свое мнение в свободной (и, кажется, одобрительной) манере». Рисунок, разумеется, был подарен семье. «Когда они собрались выходить, мать велела девочке подойти и пожелать нам доброго вечера; мы поцеловали ее на прощание».
Остановившись в Брюсселе в гостинице «Бельвью» (Bellevue), путешественники пообедали (обед, по словам Чарлза, был tres simple[83] — «и потому состоял всего из семи перемен»!) и пошли прогуляться по городу. Услышав в городском саду музыку, они направились туда и просидели в саду часа два, слушая оркестр, который показался им превосходным. Сад был ярко освещен фонарями, а за столиками, расставленными между деревьями, сидели «сотни людей».
Лиддон, приехав в Брюссель, надеялся посетить князя Николая Алексеевича Орлова, российского посла в Бельгии. Лиддон встречал его в Оксфорде и знал, что князь принимал участие в обсуждении вопроса о воссоединении Восточной и Западной церквей. Однако и здесь Лиддона постигла неудача. 14 июля он записывает: «Князя Орлова в Брюсселе нет. Но рекомендательные письма главе Синода и митрополиту Московскому Филарету будут отправлены в британское посольство в Санкт-Петербурге, где достопочтенный У. Стюарт будет рад оказать нам помощь». (Уильям Стюарт был секретарем английского посла в Петербурге; он был вторым сыном барона Блэнтайра — отсюда его титул «достопочтенный».)
Следующий день был воскресным, и друзья отправились в церковь Святой Гудулы, пользовавшуюся репутацией самой красивой в Брюсселе. Конечно, для Кэрролла посещение церквей не было ни пустой формальностью, ни обычным для туристов осмотром достопримечательностей. На протяжении всего путешествия он внимательно приглядывался к различным храмам: католическим, лютеранским, епископальным, а в России — православным. В Берлине он посетил синагогу, в Нижнем Новгороде — мечеть. Его интересовало всё: архитектура и убранство, подробности богослужения, музыка, пение, а главное, поведение молящихся.
Служба в церкви Святой Гудулы Чарлзу понравилась, и он пожалел, что не мог принять в ней участие: «Когда удавалось понять, что происходит, я присоединял свой голос к молящимся, но даже с помощью Лиддона, находившего мне тексты, я едва понимал слова». Эта открытость и готовность принять участие в службе христианских церквей различных конфессий будет сопутствовать Чарлзу не только на протяжении всего путешествия. Хотя он по-прежнему оставался членом Высокой церкви, к которой принадлежал его отец, он уже в это время начал отходить от нее. В последние годы своей жизни он написал об этом в статье «Вечное наказание».
Наблюдая за тем, как проходит служба в церкви Святой Гудулы, он заметил некоторую разобщенность между священнослужителями, а также между клиром и молящимися: «Хор пел свои гимны и пр., а священник, не обращая на него никакого внимания, вел свою часть литургии, меж тем как прочие священнослужители шествовали небольшой процессией к алтарю, на миг преклоняли пред ним колена (слишком короткий отрезок времени для настоящей молитвы) и возвращались на свои места. В важнейшие моменты службы, заглушая все остальные звуки, пронзительно звонил колокольчик. Вокруг нас кто молился сам по себе (мужчина рядом со мной, у которого не было скамеечки для коленопреклонения, опустился прямо на пол и читал молитвы, отсчитывая их на четках), кто просто смотрел; люди непрестанно входили и выходили». Впрочем, замечает он, музыка была очень красива, а два мальчика, кадившие перед алтарем, выглядели очень живописно.
В этот день друзьям повезло: они стали свидетелями церемонии, происходящей лишь раз в году, — пышного шествия с дароносицами[84]. Впереди ехал отряд кавалерии (здесь Чарлз ставит в дневнике восклицательный знак, означающий в данном случае не столько восхищение, сколько удивление), затем длинными рядами шли мальчики в белых с алым одеждах, за ними девочки в белых платьях и длинных белых вуалях, потом толпа поющих мужчин, священников и прочих в роскошных одеждах, с хоругвями в руках, которые становились всё больше. Несли огромную статую Девы Марии с Младенцем в руках, снова хоругви и огромный балдахин, под которым выступали священники с дароносицами, при виде которых многие становились на колени. «Я никогда не видел такого великолепного шествия, — пишет он, — всё было очень красиво, но ужасно театрально и искусственно». Эти слова характерны для Кэрролла.
Пятнадцатого июля путешественники отбыли в Кёльн, где Чарлз пережил глубокое потрясение — он увидел Кёльнский собор. Сам он в дневнике так говорит об этом: «Мы провели около часа в соборе, который я даже не пытаюсь описать, — скажу лишь, что ничего подобного по красоте я в жизни своей не видел и не могу вообразить. Если бы можно было представить себе дух молитвы в некой материальной форме, это и оказался бы этот собор». Лиддон в своем дневнике не без удивления записал: «Доджсон был потрясен красотой Кёльнского собора. Я нашел его на клиросе: он стоял, облокотясь о поручень, и плакал, как дитя. Завидев служку, пришедшего, чтобы показать нам молельни за клиросом, он поспешил удалиться, говоря, что не может слышать его грубый голос в присутствии такой красоты».
Этот знаменательный день был завершен обедом с бутылкой рюдешсхаймского вина, полностью оправдавшего рекомендацию коротышки-официанта, и вечерней прогулкой, во время которой друзья перебрались на другую сторону реки, откуда открывался великолепный вид на город.
Следующий день прошел в осмотре города. Они посетили собор Святого Петра. Лиддон, большой любитель и знаток искусства, обратил внимание Доджсона на ранее закрытое полотно Рубенса в алтаре, изображающее распятие святого Петра, и на сохранившийся неподалеку дом с табличкой, сообщающей, что в нем родился Рубенс.
Днем приятели расстались: Лиддон отправился в гостиницу к табльдоту[85], а Кэрролл — к церкви Святых Апостолов, где проходила свадьба. «Народу собралось множество, — записывает он в дневнике. — Было много детей, которые бегали по церкви свободно, но тихо, совсем не так, как английские дети». Он внимательно следит за обрядом, который во многом отличается от англиканского, и заносит свои наблюдения в дневник; неменьшее внимание он уделяет описанию молящихся: «Осматривая церкви, я был поражен, увидев, сколько людей молятся в них сами по себе… Удивительно, сколько там было детей, пришедших помолиться; некоторые держали в руках книги, но не все, многие, как мне кажется, поглядывали на нас, пока мы осматривали церковь: впрочем, они скоро вернулись к своим молитвам, а потом один за другим встали и ушли: очевидно, они приходят и уходят, когда хотят. Среди молящихся я не заметил ни юношей, ни мужчин (хотя на воскресной службе в Брюсселе их было немало)».
Вечером путешественники отправились в Берлин. Им предстоял долгий ночной переезд. Судя по всему, это была первая поездка Чарлза в спальном вагоне; во всяком случае, он подробно описал ее: «Сиденья в вагоне выдвигаются навстречу друг другу, образуя довольно удобное ложе, а если нам хотелось, чтобы было темно, лампу можно было задернуть зеленой шелковой шторкой. Мы провели ночь вполне удобно, хотя Лиддон не спал». В Берлин они прибыли в восемь часов утра.
Первые же минуты пребывания в Берлине заставили Кэрролла насторожиться, о чем свидетельствует его дневниковая запись: «В Берлине, когда нам понадобился кеб (называемый здесь дрожками), который отвез бы нас в Hotel de Russie, нам выдали талон с номером, что вынудило нас взять тот кеб, на котором стоял этот номер, — в Англии такой порядок долго не продержался бы».
Этот эпизод, пустячный сам по себе, тем не менее ясно продемонстрировал нашим англичанам, что порядку (пресловутому Ordnung’y) и дисциплине в Германии отдают решительное предпочтение перед свободой личного выбора. В прусской столице они задержались на пять дней. Причиной тому было желание осмотреть город и сокровища искусства, собранные в городских музеях, о которых Чарлз был наслышан еще в Англии.
Друзья спешили посетить художественные галереи, но вскоре поняли, что их осмотру надо посвятить не один день. Вечером они присутствовали на богослужении в евангелистском соборе Святого Петра, отметив, что пространная проповедь не читалась с листа, а столь же пространная молитва также была произнесена в свободной форме.
В дневнике за этот первый проведенный в Берлине день находим и небольшие замечания по поводу обеда за табльдотом: «Не забыть, что potage a la Flamand означает бульон из баранины, что утку едят с вишнями и что не следует просить, чтобы во время обеда тебе поменяли прибор».
Осмотр достопримечательностей занимает все последующие дни. Чарлз восхищается великолепным видом на знаменитую улицу, носящую поэтическое имя «Под липами» (Unter den Linden), открывшимся с крыши омнибуса, и превосходной конной статуей Фридриха Великого работы известного немецкого скульптора Христиана Даниэля Рауха.
Путешественники посещают Королевский дворец (Schloss) с анфиладой великолепных покоев, часовней и величественной «лестницей без ступеней», полого, «словно мощеная улица», шедшей вверх. Чарлзу она напомнила улицы в Уитби (графство Йоркшир), с которым были связаны счастливые дни студенческих лет. Описание королевских покоев и часовни Доджсон сопровождает словами: «Куда ни бросишь взгляд, всё, что только можно позолотить, позолочено». В заключение он пишет: «Осмотрев покои и расплатившись с нашим гидом, мы остались одни; никто не обращал на нас никакого внимания, предоставив нам самим выбираться на улицу по задней винтовой лестнице, где рабочие с ведрами занимались ремонтом, из чего проистекает глубокая мораль, которую можно было бы выразить словами: „Такова судьба царей…“».
Чарлз, всегда особенно интересовавшийся живописью, устремился в картинную галерею, устроенную по замыслу хорошо известного в Англии немецкого искусствоведа Густава Фридриха Ваагена, который с 1844 года возглавлял в Берлинском университете кафедру истории искусств (этой чести он был удостоен первым в Германии). В Англии Вааген пользовался известностью благодаря своему трехтомному труду «Сокровища искусства Великобритании», который вышел в 1854 году вместе с дополнительным томом, описывающим британские картинные галереи и хранилища. Впрочем, подробнейший каталог Ваагена, которым пользовался Чарлз во время осмотра экспозиции, разочаровал его настолько, что он усомнился в репутации автора как «великого критика»: «В его каталоге, однако, практически нет никакой критики, он просто перечисляет, что следует видеть в каждой из картин».
Из всех картин, собранных в галерее (а их там, как отмечает Вааген в каталоге, 1243), наибольшее впечатление на Чарлза произвело полотно фламандца Рогира ван дер Вейдена «Снятие с креста» (около 1436), которое он восторженно описывает в дневнике: «Одна из самых удивительных по тщательности отделки работ, которую мне доводилось видеть, это триптих Ван Вейдена, где изображены сцены после смерти Господа Нашего — на одной из них Мария плачет, причем каждая ее слеза представляет тщательно выписанную полусферу (или даже более того) с собственным источником света и собственной тенью — на земле лежит книга с приподнятыми ветром страницами, причем тень от одной застежки падает на край страниц, и хотя вся она не более дюйма размером, там, где между страницами есть хоть малейшее расстояние, художник тщательно пририсовывает ее продолжение на следующей странице». Завершается описание словами: «Охватывая картину общим взглядом, не очень чувствуешь ее красоту, но вряд ли найдется другая, представляющая такое чудо мастерства, стоит только вглядеться попристальнее». К сожалению, замечает Чарлз, «чтобы хоть в какой-то мере отдать должное собранным здесь работам, потребовалось бы немало дней». Вечером шел сильный дождь, что не помешало Доджсону вытащить Лиддона на прогулку, о чем последний упоминает в дневнике не без досады. Они бегло осмотрели старейшую в Берлине церковь Святого Николая (XIII век).
На следующий день друзья встали в 6.30 утра, чтобы успеть осмотреть особенности архитектуры и убранства этой церкви.
После обеда, взяв места на крыше омнибуса, они отправились в Шарлоттенбург, расположенный примерно в четырех милях к западу от Берлина (теперь он входит в черту города). Чарлз записывает: «По пути нам открылся великолепный вид на Unter den Linden. В Шарлоттенбурге есть еще один дворец, окруженный прекрасным парком, но по-настоящему замечательна там только часовня, где похоронена княгиня фон Лигниц. Надгробие представляет собой великолепную мраморную фигуру, возлежащую на ложе; дивный эффект создают сиреневые стекла, вставленные кое-где в окна на потолке, что придает всему неописуемую мягкость и таинственность».
Вечером друзья вышли прогуляться. Некий «господин из Нью-Йорка», приехавший сюда с женой, посоветовал им осмотреть синагогу. Американцы, отмечает Чарлз в дневнике, «приехали сюда, не зная ни слова по-немецки, так что жизнь здесь представляется им весьма сложной».
Лиддон был не очень доволен этой поздней прогулкой — по ее окончании он записал в дневнике: «Поздно вечером Доджсон настоял на том, чтобы мы отправились на поиск Новой Еврейской Синагоги, которую нам удалось отыскать. Похоже, на постройку этого здания ушло много денег». На обратном пути друзья обсуждали вопрос о том, следует ли сохранить «правило утренней и вечерней службы».
На следующий день путешественники посетили синагогу, строительство которой на Ораниенбургерштрассе началось в 1859 году, а закончилось совсем недавно, в 1866-м. Чарлз, никогда не видевший синагогу, в дневнике подробно описывает службу:
«Мы прослушали ее до конца; всё было мне внове и очень интересно. Здание великолепное, внутри много позолоты и лепнины; почти все арки имеют полукруглую форму. <…> Над восточной частью здания возвышается круглый купол, а внутри — шатер меньшего размера, поддерживаемый колоннами, где (за занавесом) находится ларь, в котором хранится Тора; перед ним кафедра, развернутая на восток, а перед ней еще одна, поменьше, глядящая на запад; последней пользовались всего один раз. Мы последовали примеру молящихся и не снимали шляп. Многие из мужчин, подойдя к своему месту, вынимали из вышитых сумок белые шелковые шали[86] и накидывали их прямоугольником на себя, что создавало совершенно необычайный эффект… Время от времени кто-нибудь из мужчин выходил вперед и читал отрывок из Талмуда. Читали они по-немецки, но многое пели нараспев по-древнееврейски, под звуки дивной музыки; некоторые из мелодий очень старые, возможно, они сохранились со времен Давида. Главный Рабби многое читал нараспев, но без музыки. Молящиеся то вставали, то садились; я не заметил, чтобы кто-то опускался на колени».
Днем друзья отправились в Потсдам, где провели шесть часов за осмотром Нового дворца, по мнению Чарлза, еще более великолепного, чем берлинский Шлосс, личных комнат Фридриха Великого с его «письменным столом и креслом, обивка которого разодрана чуть не в клочья когтями его собаки», и церкви, «где находится его гробница — простая, без надписи, как он завешал». Особое впечатление на Чарлза произвел выстроенный Фридрихом дворец Сан-Суси: «Жемчужина города — его любимый дворец Сан-Суси; мы побродили по парку, разбитому на строгий старинный манер, с прямыми аллеями, расходящимися из центра, дивными парковыми террасами, поднимающимися одна над другой, и множеством апельсиновых деревьев».
Впрочем, роскошь архитектуры и скульптурных украшений Потсдама кажется Чарлзу излишней: «Художественное великолепие, щедро разбросанное по Потсдаму, поражает; на крышах некоторых дворцов возвышается прямо-таки лес статуй; в парке тоже великое множество статуй, установленных на пьедесталах». Однако в этом отношении Потсдам в глазах Чарлза не идет ни в какое сравнение с Берлином. В Чарлзе сказывается художник-иронист:
«Вообще говоря, берлинская архитектура, на мой взгляд, руководствуется двумя основными принципами: если на крыше есть хоть сколько-нибудь подходящее местечко, ставьте туда мужскую статую; лучше, если она будет стоять на одной ноге. Если же местечко найдется на земле, разместите там кружком группу бюстов на постаментах, и пусть они держат совет, повернув головы друг к другу; неплохо [установить] и гигантскую статую мужа, убивающего, намеревающегося убить или только что убившего (настоящее время предпочтительнее) какого-нибудь зверя; чем больше у зверя шипов или колючек, тем лучше, еще бы хорошо дракона, но если художник на это не решится, он может вполне удовольствоваться львом или кабаном.
Принцип звероубийства выдержан повсеместно с неуклонной монотонностью, что превращает некоторые кварталы Берлина в подобие окаменевших боен».
Воскресенье 21 июля было последним днем, который друзья провели в Берлине. Утром Кэрролл отправился на единственную в городе англиканскую службу — за неимением Англиканской церкви она проводилась в одной из комнат дворца Монбижон. А вечером, пока Лиддон был на вечерней службе в соборе, Чарлз прогулялся в городском саду, где с особенным удовольствием наблюдал за маленькими берлинцами: «Люди сидели кучками на скамьях и на ступенях музея, а дети играли. Любимое их занятие — водить, развернувшись спиной друг к другу и взявшись за руки, хоровод под песенку, слов которой я не смог разобрать. Раз они увидали огромного пса, лежащего на земле, и заплясали, напевая, вокруг него; пес был весьма удивлен этой новой игрой и вскоре решил, что не желает в ней участвовать и должен во что бы то ни стало скрыться».
Доджсон не следовал примеру большинства английских туристов, которые то ли от незнания языка, то ли из высокомерия, как правило, не общались с местными жителями. В его дневнике мы читаем: «Я встретился в саду с очень приятным немецким господином, который, как и я, прогуливался в одиночестве, и, как сумел, немного побеседовал с ним. Он был настолько добр, что пытался угадать, что я хочу сказать, и приходил мне на помощь в моих потугах говорить на немецком языке, весьма приблизительном, конечно, если он вообще заслуживает такого названия».
Чарлз утешался тем, что «немецкий, на котором он говорит, не хуже английского, который он слышит». Так, накануне отъезда путешественников из Берлина официант, принеся заказ, наклонился к нему через стол и, доверительно понизив голос, сообщил: «I brings in minutes ze cold ham[87]».
На следующее утро они прибыли в Данциг «в весьма приличном состоянии». День прошел в осмотре города, который показался Чарлзу «чрезвычайно интересным и фантастичным». Он записывает: «Улицы здесь узкие и извилистые, дома очень высокие, и чуть ли не каждый увенчан диковинной островерхой кровлей с причудливыми загогулинами и изгибами. Собор доставил нам огромное удовольствие».
В соборе они провели три часа, после чего поднялись на колокольню, откуда с высоты 328 футов (Кэрролл усердно фиксирует все цифры) открывался чудесный вид на Старый город, изгибы Мотлау и Вислы и широкую полосу Балтийского моря вдали. В храме на Чарлза огромное впечатление произвело полотно фламандца Ганса Мемлинга «Страшный суд» — «великое творение» и «одно из величайших чудес, которые мне довелось видеть». Правда, в его дневниковой записи слышится и критическая нота: «…некоторые из злых духов служат доказательством того, что художник обладал безграничным воображением; впрочем, они слишком причудливы, чтобы устрашать». Путешественники осмотрели и хранящееся в соборе великолепное собрание старинных облачений, реликвий и музыкальных инструментов, а также большую редкость — две везики[88] (футляры из гнутых металлических полос, в которых хранятся изображения Девы Марии). «Каждая пара полос, расположенных друг против друга, изображает по идее рыбу (IXΘYE)[89]. Везики подвешены на цепях в алтаре. Храм внутри весь белый с золотом, очень высокий, с множеством великолепных стройных колонн», — записывает Кэрролл.
Выйдя вечером погулять, путешественники увидали в сумерках «солдатика, стоявшего с примкнутым штыком посреди улицы». Тот устремил на них яростный взгляд, но позволил пройти, не причинив никакого вреда. «Примкнутый штык» и «яростный взгляд» Чарлз явно не одобрил.
В гостинице друзья увидели клетку с попугаем и, вспомнив, возможно, «Сентиментальное путешествие» Стерна, попробовали с ним заговорить. Они сказали ему то, что обычно говорят в таких случаях англичане: «Полли-красотка!» Попугай склонил голову к плечу и, по мнению Чарлза, задумался над их словами, но не пожелал ничего им ответить. Подошедший официант объяснил им причину его молчания: «Er spricht nicht English, er spricht nicht Deutsch»[90]. «Выяснилось, что злосчастная птица говорит только по-мексикански! Так как мы не знаем ни слова по-мексикански, нам оставалось лишь пожалеть ее».
Утром 23 июля наши путешественники погуляли в последний раз по городу, купили фотографии и в 11.39 отправились в Кёнигсберг. По дороге на станцию они стали свидетелями события, которое Кэрролл с грустной иронией называет «грандиозным образцом Величия Справедливости»: они увидели «маленького мальчишку… которого вели не то в суд, не то в тюрьму (возможно, он залез кому-то в карман). Осуществление этого подвига было поручено двум солдатам в полном обмундировании, торжественно шагавшим впереди и позади несчастного мальчишки, разумеется, с примкнутыми штыками, чтобы кинуться на него в случае, если он попытается бежать».
Дорога между Данцигом и Кёнигсбергом показалась Чарлзу очень однообразной. Впрочем, немного отъехав от Данцига, они увидели деревенский дом с гнездом на крыше, в котором стояли, по его словам, журавли (вероятно, аисты). «В немецких книжках для детей говорится, что они строят гнезда на крышах домов и выполняют глубоко назидательные функции, унося непослушных детей», — записывает Чарлз, чья небольшая книжка о приключениях Алисы нанесла сокрушительный удар по назидательным историям.
В Кёнигсберг они прибыли в семь часов вечера и остановились в гостинице «Немецкий дом» (Deutsches Haus). На следующий день Чарлз бродил по городу один — Лиддону нездоровилось. В те годы питьевая вода представляла серьезную опасность для путешественников; Лиддон, судя по всему, оказался к ней весьма чувствителен. Впрочем, уже к вечеру ему стало лучше и он отправился вместе с Кэрроллом в городской сад, где они провели около двух часов, слушая музыку, которую Чарлз нашел чудесной, и наблюдая за тем, как развлекается местная публика. Чарлз отмечает в дневнике, что это делается «весьма сосредоточенно и серьезно»: «Те, кто постарше, устроились вокруг столиков (на четверых — шестерых), причем женщины — с рукоделием в руках, меж тем как дети, взявшись за руки, бродили по саду группками в 4–5 человек. Официанты прохаживались между столиками в ожидании заказов, но пили там, как мне показалось, немного. Всё было тихо и чинно, словно в лондонской гостиной. Казалось, все друг друга знают, и в целом всё имело гораздо более семейный вид, чем в Брюсселе».
Осмотру города был посвящен и следующий день. Не без удивления Чарлз отметил, что «на некоторых лавках вывески писаны по-немецки, а потом повторены древнееврейскими литерами».
Вечером верный своей привязанности Кэрролл отправился в одиночестве в театр — не потому, что Лиддон был нездоров, а потому, что теперь, подобно многим иереям Высокой церкви, считал посещение театра и прочих «зрелищ» неприемлемым для священнослужителя. Местный театр показался Чарлзу неплохим, но, впрочем, особого восторга не вызвал. Показывали пьесу под названием Anno 66[91], в которой, судя по его дневнику, нашли отражение события Австро-прусской войны 1866 года, в частности битва при Садовой в Чехии, где прусские войска разгромили австро-венгерскую армию по плану фельдмаршала графа X. К. Мольтке-старшего. Вполне подходящий сюжет для местных патриотов! «Был там и такой персонаж: „корреспондент английской газеты“, — пишет Чарлз. — Это удивительное существо появлялось (перед битвой при Садовой) меж солдат на бивуаке облаченным почти исключительно во всё белое — очень длинный сюртук и цилиндр на затылке, тоже почти белые. При первом появлении он сказал morning[92], а затем изъяснялся, по-видимому, на ломаном немецком. Солдаты, судя по всему, всячески над ним потешались, а под конец он провалился в барабан».
Острый глаз Кэрролла продолжает не без юмора регистрировать мельчайшие несообразности, обычно незаметные простому наблюдателю: «Лучше всего в Кёнигсберге должны продаваться 2 вещи, которые видишь едва ли не во всех лавках: перчатки и шутихи. Тем не менее, я видел немало господ, которые шли по улице без перчаток; возможно, они имеют обыкновение надевать их только в тех случаях, когда пускают шутихи».
Но вот и последний день в Кёнигсберге. Европейская интродукция подошла к концу — в пятницу 26 июля 1867 года поездом, отходящим в 12.54, друзья отправились в Петербург, куда прибыли на следующий день в 5.30 пополудни. «Вся дорога заняла 28 ½ часа!» — читаем в дневнике. Восклицательный знак выглядит здесь весьма уместно, выражая крайнюю степень удивления — англичане не привыкли к подобным расстояниям.
В купе было четыре спальных места. Вместе с нашими путешественниками ехали еще две дамы и господин, и потому Чарлз устроился на полу, подложив под голову саквояж и пальто. «Довольно удобно, хотя и не роскошно, — записывает он. — Я крепко проспал всю ночь».
Глава двенадцатая ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ Петербург — Кронштадт — Москва — Сергиев Посад — Новый Иерусалим — Нижний Новгород
С попутчиком друзьям, безусловно, повезло: по словам Чарлза, им оказался «англичанин, который прожил в Петербурге 15 лет, а сейчас возвращался туда после поездки в Париж и Лондон». В этой записи от 26 июля Доджсон не называет имени попутчика, но отмечает, что он чрезвычайно любезно ответил на все вопросы и весьма подробно разъяснил, что следует посмотреть в Петербурге, как произносить русские слова и прочее, предупредив друзей, что из местных жителей мало кто говорит на каком-либо языке, кроме родного. Доджсон и не подозревал, что их любезным попутчиком был Эндрю Мюр, состоятельный шотландский коммерсант, один из владельцев известной в России фирмы «Мюр и Мерилиз» (фирма эта, кстати сказать, просуществовала до установления советской власти). Лиддон в своем дневнике также отметил знакомство с Мюром, прибавив с некоторым неудовольствием: «Он большой поклонник рационализма и весьма свободно высказывается на эту тему».
Коллекция курьезов Чарлза пополняется в этот день еще одним экспонатом — на этот раз из области лингвистики. Мюр рассказал друзьям, что русский язык изобилует необычайно длинными словами, и в качестве примера записал им по-русски одно такое слово: ЗАЩИЩАЮЩИХСЯ, тут же передав его произношение английскими литерами: Zashtsheeshtschayjushtsheekhsya! Кэрролл комментирует: «…это устрашающее слово представляет собой родительный падеж множественного числа причастия и означает „те, кто себя защищает“». (В английском языке у причастий нет ни родительного падежа, ни множественного числа; тут Чарлзу, вероятно, помогло знание латыни.)
Заметим, впрочем, что русское слово «защищающиеся» ничуть не длиннее некоторых английских — вспомним хотя бы английское understatement или любимое словечко Шалтая-Болтая impenetrability, которое вскоре появится у Кэрролла в «Зазеркалье». Конечно, это русское слово представляет известную трудность для нетренированного английского слуха и речевого аппарата; на письме же необходимо было передавать отсутствующие у англичан звуки «щ» и «х» доступными средствами: первый звук требует четырех букв английского алфавита, а второй — трех!
Мюр оказался очень приятным попутчиком; Чарлз сыграл с ним три партии в шахматы, которые, против своего обыкновения, не записал, о чем не слишком жалел, ибо все три были проиграны. Это событие, как предполагает один из исследователей, определило шахматные темы в написанном позже «Зазеркалье».
Весь день наши путешественники прилежно смотрели в окно вагона, однако ландшафт в этой части пути был плоским и однообразным. «Лишь время от времени мелькали вдруг крестьянин в непременной меховой шапке и подпоясанной рубахе или церковь с большим круглым куполом и четырьмя маленькими вокруг, выкрашенными в зеленый цвет и весьма напоминающими судок для приправ (как заметил наш новый знакомец)», — читаем в дневнике Чарлза. Привыкший к суровым квадратным башням английских церквей Чарлз, очевидно, был поражен видом русских куполов.
На одной станции, где поезд остановился для обеда, Чарлз, большой любитель всего необычного, увидел мужчину, исполняющего нехитрую мелодию «на гитаре с дудочками, прикрепленными сверху, и колокольчиками еще где-то — он умудрялся играть на всех этих инструментах в тон и в лад». Здесь же друзья приобщились к русской кухне — впечатление было, пожалуй, несколько неожиданным. «Станция запомнилась мне еще и потому, — признается он в дневнике, — что там мы впервые попробовали местный суп под названием ЩI (произносится shtshee), очень недурной, хотя в нем чувствовалась какая-то кислота, возможно, необходимая для русского вкуса».
Перед самым прибытием в Петербург наши путешественники, полагая, что им придется взять извозчика, попросили мистера Мюра научить их произносить по-русски название их гостиницы: gostinnitsa Klee. К счастью, на вокзале их встретил специально посланный человек, который обратился к ним по-немецки, посадил в свой «омнибус» и получил их багаж. Времени до обеда оставалось мало, но по прибытии в гостиницу друзья поспешили на улицу. Вид города и городской толпы произвел на них сильнейшее впечатление: «Всё нас поражало новизной и необычностью. Чрезвычайная ширина улиц (даже второстепенные шире любой в Лондоне), крошечные дрожки, шмыгающие вокруг, явно не заботясь о безопасности прохожих (вскоре мы поняли, что тут надо смотреть в оба, ибо извозчики и не думают кричать, как бы близко они ни оказались), огромные пестрые вывески над лавками, гигантские церкви с усыпанными золотыми звездами синими куполами и диковинный говор местного люда — всё приводило нас в изумление во время нашей первой прогулки по Санкт-Петербургу. По дороге мы миновали часовню, красиво украшенную и позолоченную снаружи и внутри, с распятием, иконами и пр. Бедняки, проходящие по улице, почти все снимали шапки, кланялись и часто крестились — непривычное зрелище среди уличной толпы».
В Петербурге путники провели в этот первый приезд шесть дней, успев побывать во многих местах и многое увидеть. Начали они осмотр города с Исаакиевского собора, архитектуру и убранство которого Доджсон подробно описал. Они присутствовали на службе, поразившей их тем, что хор, в отличие от западного богослужения, пел без музыкального сопровождения. «Однако, — записывает Чарлз, — голоса и без всякой помощи производят дивное впечатление». Как всегда, он внимательно наблюдал за молящимися и особенно за детьми:
«Участие прихожан в богослужении ограничивалось тем, что они кланялись и крестились, а иногда опускались на колени и касались лбом пола. Остается надеяться, что всё это сопровождалось молчаливой молитвой; впрочем, вряд ли это возможно во всех случаях: я видел, как маленькие дети проделывали всё это без малейшего выражения на лицах, которое указывало бы на то, что они придают этому какой-то смысл; одному маленькому мальчику (я заметил его днем в Казанском соборе), которого мать заставила стать на колени и коснуться пола лбом, было никак не больше 3 лет. Люди кланялись и крестились перед иконами; поджидая на дворе Лиддона (я вышел, когда началась проповедь), я заметил, что многие делали то же, проходя мимо церковных дверей, даже если они шли по другой стороне невероятно широкой улицы. От входа в церковь на ту сторону улицы идет узкая дорожка, так что все, кто шел или ехал мимо, точно знали, когда они поравняются с церковью».
Чарлзу показалось, что в России крестятся указательным пальцем (очевидно, так ему с расстояния представлялось троеперстие), и это привело его в недоумение. Впрочем, по-видимому, недоразумение вскоре разъяснилось, ибо больше он об этом не упоминает. Смущают его «великолепие облачений священнослужителей», ладан и «церковные шествия», живо напомнившие ему о посещении католической церкви в Брюсселе: «Чем более видишь эти великолепные службы, столь много говорящие органам чувств, тем более начинаешь, по-моему, ценить простую, строгую (однако, на мой взгляд, гораздо более проникновенную) литургию Англиканской церкви».
Снова, как на прошлой неделе в Берлине, он пытался найти англиканскую церковь, но узнал — слишком поздно, — что единственная англиканская служба бывает здесь лишь по утрам. Так что день приятели посвятили осмотру «этого чудесного города». «Он настолько не похож на всё, что мне доводилось видеть, что, кажется, я мог бы много дней подряд просто бродить по нему; вероятно, так и следовало бы поступить. Невский с многочисленными прекрасными зданиями мы прошли весь, из конца в конец, что составляет около 3 миль; это, верно, одна из самых прекрасных улиц в мире; она оканчивается, возможно, самой большой площадью в мире, называемой площадью Адмиралтейства[93]; в ней не менее мили длины, причем Адмиралтейство занимает одну из ее сторон почти целиком». Чарлз любуется статуей Петра Великого, не преминув при этом вспомнить о «звероубийственном» принципе берлинской скульптуры. Он пишет в дневнике: «Возле Адмиралтейства стоит прекрасная конная статуя Петра Великого. Пьедесталом ей служит необработанная гранитная глыба, подобная настоящей скале. Конь взвился на дыбы, а вокруг его задних ног обвилась змея, которую, насколько я мог рассмотреть, он попирает. Если бы этот памятник стоял в Берлине, Петр, несомненно, был бы занят непосредственным убийством сего монстра, но тут он на него даже не глядит: очевидно, „убийственный“ принцип здесь не признаётся. Мы видели двух колоссальных каменных львов, до того миролюбивых, что оба, словно котята, катят перед собой огромные шары».
Вечером их ждал обед за табльдотом, который, по словам Чарлза, был «очень хорош». Тут снова подавали «ЩI», и путешественники обнаружили, что это блюдо вовсе не обязательно бывает кислым (вероятно, на железнодорожной станции им подавали щи из квашеной капусты, а в гостинице Г. К. Клее — из свежей).
На следующее утро Доджсон купил карту Петербурга, маленький словарь и разговорник. Последний оказался очень полезен: в этот день они не раз брали извозчика и объясняться им приходилось самим. Мистер Мюр, надававший им в поезде всевозможных советов, верно, наказал им торговаться с извозчиками и лавочниками, объяснив, что таков местный обычай. В качестве курьеза Чарлз описывает в дневнике образчик такой «торговли» с извозчиком, где стороны попеременно называют цифры «тридцать» и «двадцать» (копеек), а потом разыгрывается некое действо: Чарлз берет Лиддона под руку и уводит, не обращая внимания на крики извозчика, а тот едет за ними и, в конце концов, с радостной улыбкой усаживает в свои дрожки. Русские реплики действующих лиц Чарлз не без гордости вписывает в дневник английскими буквами, однако в конце замечает: «Когда такая сцена разыгрывается один раз, это забавно, но если бы то же повторялось в Лондоне каждый раз, когда нужно взять кеб, это бы со временем немного приелось».
Большую часть дня заняли неудачные визиты к русским сановникам, которых, к своему великому сожалению, они не застали дома. Сказалась разница в обычаях: английскую знать и чиновников летом в разгар лондонского сезона легко застать в городе, в то время как в России в это время все разъезжаются — кто в деревню, кто за границу… Лиддон и Доджсон заезжали, в частности, в британское посольство, но достопочтенного У. Стюарта не застали, ибо он уехал в Англию за четыре дня до того. Впрочем, Лиддону вручили в посольстве письмо — это оказалось послание епископа Оксфордского Сэмюэла Уилберфорса митрополиту Московскому Филарету, по-видимому, то самое, за которым он заходил к епископу в день отъезда из Англии.
Посетили друзья и Гостиный двор — «огромное здание, занимающее несколько кварталов и окруженное скромными лавками под колоннадой». Оглядев ряды, где, как им показалось, 40 или 50 лавок подряд торговали перчатками, воротничками и прочей галантереей, они обнаружили с десяток других лавок, где продавали иконы — «от простеньких иконок в один-два дюйма высотой до искусных изображений в фут и более, где всё, кроме лиц и рук, закрыто золотом. Купить их будет непросто; нам сказали, что торговцы здесь говорят только по-русски». Как видим, оба решили привезти в Англию русские иконы, хотя и предвидели трудности при покупке.
Друзья продолжают осматривать столицу России. 30 июля Чарлз делает запись в дневнике:
«Долго гуляли по городу; прошли, вероятно, в целом миль 15 или 16 — расстояния здесь огромные, кажется, будто идешь по городу великанов. Мы посетили Кафедральный собор, расположенный в крепости[94]: внутри великолепные украшения из золота и драгоценных камней, скорее роскошные, чем красивые. Водил нас по крепости русский солдат (служат здесь по большей части солдаты), чьи объяснения на родном языке не очень-то нам помогли. Здесь покоятся все (за исключением одного) русские императоры, начиная с Петра Великого; гробницы совершенно одинаковые — белый мрамор с золотым орнаментом по углам, массивным золотым крестом сверху и надписью на золотой пластине — и более ничего».
В соборе Чарлз был глубоко тронут поведением бедной женщины с больным ребенком на руках у иконы святого Петра: «Попросив стоявшего у дверей солдата опустить монету в ящик для пожертвований, она потом долго крестилась и кланялась, тихонько приговаривая что-то, чтобы успокоить бедного малыша. По ее исхудавшему, измученному лицу было видно: она твердо верит в то, что таким способом убедит Св. Петра помочь ее ребенку».
Перебравшись из крепости на Васильевский остров, путешественники довольно долго там гуляли, а проголодавшись, стали изучать вывески, но все они были написаны по-русски. Друзья решили купить хлеба и воды, и с помощью разговорника, в котором Чарлз нашел слова khlaib и vadah, им это удалось.
Вечером, обнаружив, что в номере нет ни полотенца, ни воды, а колокольчик не звонит, Чарлз отправился на поиски слуги, а найдя его, попытался объясниться с ним по-немецки. Когда это не удалось, он снова прибегнул к разговорнику и «повторил свою просьбу в стиле суровой простоты, игнорируя всё, кроме главных слов».
В среду 31 июля мистер Мюр, их любезный попутчик, нанес путешественникам визит и пригласил их отправиться на следующий день в сопровождении его партнера в Петергоф — осмотреть тамошние достопримечательности, а затем пообедать с ним и его семьей. Приглашение было с благодарностью принято.
Этот день друзья посвятили осмотру Эрмитажа, куда они уже пытались попасть сразу же по приезде; однако тогда им это не удалось — по той причине, записывает Лиддон в дневнике, что паспорта их находились на регистрации в полицейском участке. Очевидно, к среде паспорта уже были им возвращены. Чарлз в дневнике ничего не пишет о первой попытке и паспортах, однако отмечает, что собрание картин и прочих произведений искусства, называемое Эрмитажем, находится в Зимнем дворце. Дворец в то время был резиденцией царской семьи, но в определенные дни вход туда был свободный.
В Эрмитаже Доджсон и Лиддон намеревались ограничиться осмотром картин, однако попали в руки гида, показывавшего скульптуру, который настоял на том, чтобы провести их по всем «своим» залам и получить причитавшуюся ему мзду. Осмотрев поневоле эти залы, Чарлз отмечает в дневнике: «…должен признать, что там находится великолепная коллекция древнего искусства, стоимость которой трудно себе даже представить». В результате картины смотрели торопливо и видели далеко не все, однако даже тех, что они увидели, было достаточно, чтобы понять, как записал вечером Чарлз, что они представляют собой «бесценное собрание». Особенно отмечает он зал, посвященный почти исключительно Мурильо («дивное „Успение Девы Марии“ и „Видение Якова“»), и другой, где висело множество полотен Тициана, а также голландцев. Но более всего запомнилось ему круглое «Святое семейство» Рафаэля. «Совершенно изумительное произведение», — записывает он вечером в дневнике[95].
На следующий день друзья по приглашению Эндрю Мюра (Кэрролл ошибочно называет его Александром) отправились навестить его в Петергофе. Повез их туда партнер Мюра Уильям Мерилиз, старший сын основателя фирмы Арчибалда Мерилиза. Чарлз с благодарностью отмечает, что мистер Мерилиз «любезно пожертвовал целым днем, чтобы свезти нас в Петергоф — около 20 миль пути — и показать нам этот город». Они отправились в Петергоф на пароходе по Финскому заливу. Чарлза всё удивляло, и он тщательно фиксировал все подробности, связанные с этой поездкой. «Вода в заливе пресная, — записывает он в конце дня, — приливов и отливов не бывает; первое характерно для всего Балтийского моря, второе — для большей его части. Мы пересекли залив там, где от берега до берега миль 15, море здесь мелкое, во многих местах не более 6–8 футов глубины; каждую зиму оно полностью замерзает, причем лед достигает 2 футов толщины, и когда сверху его покрывает снег, образуется надежный наст, который регулярно используют для санного пути, — однако огромное расстояние, где нет ни еды, ни укрытия, представляет большую опасность для плохо одетого пешехода. Мистер Мерилиз рассказал нам о своем друге, который, пересекая залив прошлой зимой, видел на своем пути тела 8 замерзших людей… Во время плавания нам хорошо был виден берег Финляндии и Кронштадт».
В Петергофе они сели в поджидавший их экипаж и, «выходя из него время от времени там, где невозможно было проехать, осмотрели парки двух императорских дворцов, включая множество маленьких павильонов, прекрасно благоустроенных и убранных с большим вкусом, не стесняясь с затратами». Вечером Чарлз записывает в дневнике:
«Разнообразием красот и совершенством в сочетании природы и искусства эти парки, по-моему, превосходят Сан-Суси. В каждом уголке в конце дорожки или аллеи, который можно бы украсить скульптурой, мы неизменно находили бронзовые или беломраморные статуи; последние установлены в круглых нишах с синими задниками, прекрасно выделяясь на этом фоне. Здесь мы любовались гладкой пеленой водопада, ниспадающего с широких каменных ступеней; тут — длинной аллеей, сбегающей под сводом вьющихся растений вниз по лестницам и склонам; там — огромным камнем, обтесанным в форме гигантской головы с лицом и глазами, загадочными, как у кроткого сфинкса, так что казалось, будто какой-то Титан пытается освободиться из-под бремени легшей на его плечи земли; а дальше — фонтаном, до того искусно устроенным из трубок, поставленных кругами, что по мере приближения к центру вода в каждом из них взлетает всё выше, образуя цельную пирамиду из сверкающих струй; а ниже — мелькающей в лесной просеке лужайкой, усыпанной алыми геранями, напоминающими огромную ветку коралла; идущими там и сям в разные стороны аллеями, порой по три-четыре подряд, а порой расходящимися звездой и убегающими так далеко вдаль, что глазу уже за ними не уследить.
Всё это я пишу, скорее, для памяти, ибо не могу даже приблизительно описать то, что мы видели».
Вечер Доджсон и Лиддон провели у мистера Мюра, в кругу его семьи; к обеду пришли еще друзья, и лишь поздно вечером неутомимый Мерилиз доставил их назад в Петербург. Так завершилось их первое пребывание в Петербурге (на обратном пути они проведут в столице еще несколько дней).
На следующий день, 2 августа, они отбыли в Москву. В дневнике Лиддона находим интересные подробности путешествия из Петербурга в Москву: «Московская [железнодорожная] линия привлекательнее Варшавской: ее монотонность чаще разнообразят мосты и церкви. Длина вагонов 80 футов, а в высоту они двухэтажные. Колея средней ширины; но вагон с обеих сторон выдается над колесами примерно на ярд. Мы купили спальные места, [доплатив по] 2 рубля каждый. Билет первого класса стоит 19 рублей».
Весь день Чарлз провел, любуясь окрестностями:
«Я не ложился до часу ночи, стоя, чаще в одиночестве, в конце вагона на открытой площадке с поручнем и навесом, откуда открывался превосходный вид на те места, мимо которых мы проносились; правда, шум и тряска здесь были гораздо сильнее, чем внутри».
В 11 часов вечера явился проводник, чтобы приготовить всё для сна; Чарлз с интересом следил, как он производил в купе несколько манипуляций:
«Спинка дивана поднялась вверх, превратившись в полку; сиденья с ручками исчезли, появились валики и подушки — и в результате мы устроились на означенных полках, которые превратились в весьма удобные постели. На полу можно было бы устроить еще трех человек, но, к счастью, никто больше не появился».
В Москве, куда они прибыли на следующее утро в 10 часов, их встретил экипаж с носильщиком от гостиницы Дюссо (Dusaux Hotel), в которой для них были забронированы номера. Устроившись, друзья поспешили на прогулку, с восторгом и удивлением озирая всё вокруг. Чарлз описывает свои первые впечатления:
«5 или 6 часов мы бродили по этому удивительному городу — городу белых и зеленых кровель, конических башен, выдвигающихся одна из другой, словно в подзорной трубе, городу золоченых куполов, где, словно в кривом зеркале, отражаются картины городской жизни; городу церквей, которые снаружи похожи на кактусы с разноцветными отростками (одни венчают зеленые почки, другие — голубые, третьи — красные с белым), а внутри всё увешано иконами и лампадами и до самого потолка расписано красочными фресками; и, наконец, городу, где мостовые изрезаны ухабами, словно вспаханное поле, а извозчики требуют, чтобы им надбавили 30 процентов, „потому как сегодня Императрица — именинница“.
После обеда мы поехали на Воробьевы горы, откуда открывается величественная панорама на целый лес церковных колоколен и куполов с излучиной Москвы-реки на переднем плане; с этих холмов армия Наполеона впервые увидела город».
Утром в воскресенье 4 августа наши друзья снова предприняли попытку найти англиканскую церковь, но безуспешно. И немудрено: церковь Святого Андрея (St. Andrews) на углу Брюсова и Большого Чернышевского переулка располагалась в доме, принадлежавшем в XVIII веке советнику Н. В. Колышеву. Он был приобретен англиканской общиной в 1840 году взамен сгоревшего в 1814 году храма для устройства в нем «кирхи англиканского вероисповедания». Богослужения в этом доме происходили вплоть до начала 1880-х годов.
Но Кэрролл не сдавался и в тот же день снова отправился на поиски — на этот раз один. Ему повезло: какой-то русский господин, говоривший по-английски, любезно довел его до самого места. Живший при церкви молодой священник (младше Чарлза на шесть лет) Роберт Джордж Пенни, по счастью, оказался дома, и приезжий вручил ему рекомендательное письмо из Англии. Преподобный Пенни с женой приняли его очень сердечно. Доджсон вернулся к вечерней службе вместе с Лиддоном. Им было о чем поговорить — Пенни тоже был сторонником сближения Восточной и Западной церквей. Он дал нашим путешественникам ряд ценных советов и предложил помощь в покупке сувениров, икон и пр. (Мистер Пенни после встречи в Москве поддерживал знакомство с Доджсоном и в июне 1886 года навестил его в Оксфорде.)
В понедельник 5 августа друзья встали в пять часов утра, чтобы попасть к шестичасовой службе в Петровском монастыре, особенно торжественной по случаю годовщины освящения храма. «Музыка и вся обстановка были чрезвычайно красивы», — записывает Чарлз, выражая сожаление о том, что литургия во многом осталась ему непонятной. Тут они увидели епископа Леонида, викария митрополита Филарета, с которым им предстояло встретиться.
Епископ Леонид (до принятия монашества Лев Васильевич Краснопевков) получил первоначальное образование в английском, затем во французском пансионах. С 1859 года он был епископом Дмитровским и викарием Московской епархии, правой рукой митрополита Филарета. Сторонник воссоединения Восточной и Западной церквей, он принимал деятельное участие в проходивших в 1864 году в Москве переговорах с делегатом Нью-Йоркской конвокации пастором Юнгом.
«Епископу Леониду, — записывает Кэрролл, — принадлежала главная роль в обряде Причастия; причащали всего одного ребенка — и более никого. Мы с интересом наблюдали, как по окончании службы епископ, сняв перед алтарем роскошное облачение, вышел в простой черной рясе, как толпились на его пути люди, чтобы поцеловать ему руку».
Надолго зарядивший дождь помешал друзьям после завтрака продолжить осмотр города, и они решили заняться осмотром интерьеров. «То, что мы увидели, описать словами невозможно», — читаем в дневнике Чарлза, который всё же делает записи:
«Мы начали с храма Василия Блаженного, который внутри так же причудлив (почти фантастичен), как снаружи; гид там самый отвратительный из всех, с кем мне когда-либо приходилось иметь дело. Его первоначальный замысел состоял в том, чтобы прогнать нас сквозь храм со скоростью 4 миль в час. Увидев, что это не удается, он принялся греметь ключами, топтаться на месте, шаркать ногами, громко петь и бранить нас по-русски, словом, только что не тащил нас за шиворот дальше. Прибегнув к простому упрямству и удобной глухоте, мы всё же умудрились сравнительно спокойно осмотреть эту церковь или, вернее, группу церквей, расположенных под одной кровлей. У каждой из них свои особенности, но общими для всех являются позлащенные врата и живописные фрески, покрывающие все стены и уходящие высоко в купол».
Затем Доджсон и Лиддон отправились в Оружейную палату.
«Мы осматривали троны, короны и драгоценности до тех пор, пока в глазах у нас не зарябило от них, словно от ежевики. Некоторые троны и пр. были буквально усыпаны жемчугом, будто каплями дождя.
Затем нам показали такой дворец, после которого все другие дворцы должны казаться тесными и неказистыми. Я измерил шагами один из приемных покоев — в нем оказалось 80 ярдов в длину и не менее 25 или, пожалуй, 30 в ширину. Таких покоев мы видели, по меньшей мере, 2, а кроме того, еще множество других просторных залов — все высокие, изысканно убранные, от паркета из атласного дерева и прочих пород до расписных потолков, всюду позолота — в жилых комнатах стены обтянуты шелком или атласом вместо обоев — и всё обставлено и убрано так, словно богатство их владельцев не имеет границ. Потом мы отправились в ризницу, где, помимо неслыханных сокровищ — богато расшитых жемчугом и драгоценными камнями риз, распятий и икон, — хранятся 3 огромных серебряных котла, в которых приготовляют елей, употребляемый при крещении и прочих обрядах, и рассылают по 16 епархиям».
Путешественники поднялись на колокольню Ивана Великого, откуда любовались открывавшимися на все стороны «чудесными видами Москвы со сверкающими на солнце золотыми куполами и колокольнями».
Вечером мистер Пенни повел их в православный храм, чтобы показать обряд венчания. Чарлз подробно описывает его в дневнике: «Перед началом службы большой хор из собора исполнил пространное и красивое песнопение — и дьякон (из Успенской церкви) великолепным басом прочитал нараспев некоторые части литургии, понемногу повышая голос (я бы сказал, если только это возможно, каждый раз на полтона) и увеличивая при этом звук, пока последняя нота не прозвучала под сводами так, словно ее пропел многоголосый хор. Я и не представлял, что один голос может произвести такой эффект». Сам обряд венчания, столь непохожий на английский, удивил Чарлза:
«Одна часть церемонии — возложение венцов — показалась мне едва ли не гротеском. Принесли две великолепные золотые короны, которыми священник сначала помахал перед женихом и невестой, а потом возложил им на головы — вернее, на голову бедного жениха; на невесту, чьи волосы были предусмотрительно уложены в весьма сложную прическу с кружевной фатой, надеть венец было невозможно; дружка держал его у нее над головой. Жених, в строгом вечернем платье, со свечой в руках, увенчанный, словно царь, короной, с покорным и грустным выражением на лице, выглядел бы жалко, если бы не был столь смешон».
Знакомство с Москвой было прервано поездкой в Нижний Новгород. Неизвестно, намеревались ли Доджсон и Лиддон посетить его изначально или кто-то подал им эту мысль уже в России — в дневнике Чарлз не дает по этому поводу никакого объяснения. Надо сказать, что в то время ежегодная ярмарка в Нижнем уже пользовалась широкой международной известностью. Каждое лето в честь ее открытия поднимались флаги и шумные пестрые многоязычные толпы заполняли огромную площадь всероссийского торжища. Вот что читаем о Нижегородской ярмарке: «Ежегодно с 15 июля обширная низина на стрелице Оки и Волги, застроенная кварталами приземистых каменных корпусов, становилась главным торговым центром России. Открывалась знаменитая на весь мир Нижегородская ярмарка, на которую съезжалось купечество не только отечественное, но и из многих стран Европы, Азии, Америки. Бесчисленные караваны судов теснились на ярмарочном рейде. Пристани ломились от изобилия привезенных на ярмарку товаров. Сгибаясь в три погибели под многопудовыми тюками, кулями, ящиками, мешками, с трудом передвигались по узким шатким мосткам грузчики. В Главном ярмарочном доме, в рядах, кофейнях, трактирах вершились тысячные и миллионные сделки купцов нижегородских и московских, столичных и провинциальных, российских и иностранных. Потому и называли Нижний Новгород „карманом России“». Прибавьте к этому удивительное местоположение Нижнего на берегу двух великих рек, заставившее И. Е. Репина, побывавшего в нем спустя три года после Кэрролла, воскликнуть: «Этот царственно поставленный над всем востоком России город совсем закружил нам головы. Как упоительны его необозримые дали!»
Лиддон и Доджсон отправились в Нижний Новгород вместе со встреченными в Москве знакомыми, братьями Томасом и Эдвардом Уэрами, также оксфордскими выпускниками.
Путешествие в Нижний было нелегким. «Такая роскошь, как спальные вагоны, — записывает Чарлз в дневнике, — на этой дороге неизвестна; пришлось нам устраиваться, как могли, в обычном вагоне второго класса. По пути туда и обратно я спал на полу. Монотонность нашего путешествия, которое длилось от 7 часов вечера до второй половины следующего дня, нарушила лишь одна неожиданность (не скажу, что особенно приятная): в одном месте нам пришлось выйти и переправляться через реку по временному пешеходному мосту, ибо железнодорожный мост здесь смыло наводнением. Из-за этого двадцати или тридцати пассажирам пришлось под проливным дождем брести около мили».
Вдобавок ко всему на линии случилось какое-то происшествие, которое задержало поезд, в результате чего Доджсон и Лиддон не смогли, как намеревались, отправиться обратно в тот же день. Если бы они держались первоначального плана, то на посещение ярмарки у них осталось бы всего два с половиной часа, что, конечно, было бы бессмысленно. Они решили остаться еще на день. Устроились в гостинице «Смирновская» (Чарлз записывает в дневнике «Смирновая», но отмечает, что не уверен в правильности передачи названия). Гостиница, которая считалась одной из лучших в городе, в глазах англичан не оправдала этой репутации: «Еда там была очень хороша, а всё остальное — очень скверно».
Целый день они бродили по ярмарке, очарованные ее разнообразием и богатством. «Ярмарка — чудесное место, — записывает Чарлз. — Помимо отдельных помещений, отведенных персам, китайцам и др., мы то и дело встречали каких-то странных личностей с болезненным цветом лица и в самых невероятных одеждах. Из всех, кого мы видели в этот день, самыми живописными были персы с их мягкими смышлеными лицами, широко расставленными удлиненными глазами, желтовато-коричневой кожей и черными волосами, на которых, как у гренадеров, красуются черные фетровые фески». На закате они вышли к мечети в тот самый миг, когда муэдзин с крыши призывал единоверцев к молитве. Увиденное затмило все прочие сюрпризы этого удивительного дня: «Будь даже этот крик сам по себе ничем не примечателен, он всё равно представлял бы интерес своей исключительностью и новизной; однако мне в жизни не доводилось слышать ничего подобного. Начало каждого предложения произносилось монотонной скороговоркой, а по мере приближения к концу голос служителя поднимался всё выше, пока не заканчивался долгим пронзительным воплем, который так заунывно звучал в тишине, что сердце холодело; ночью его можно было бы принять за крик феи-плакальщицы, пророчащей беду». Послушные призыву, в мечеть стали стекаться мусульмане. Старший служитель разрешил иностранцам наблюдать за происходящим. Поздно вечером Чарлз подробно рассказывает об увиденном в написанном карандашом письме сестре:
«Моя дорогая Луиза,
Интереса ради пишу тебе отсюда несколько строчек; сейчас уже ночь и чернил достать негде. Вчера мы приехали сюда из Москвы, а завтра едем обратно: здесь идет большая ежегодная ярмарка (справься в любом большом словаре), всюду греки, евреи, армяне, персы, китайцы, не говоря о русских. В Москве, по счастью, мы встретили 2 оксфордцев и приехали сюда вместе, наняв „комиссионера“ — сопровождающего, который говорит по-русски и по-французски; он переводит и торгуется, когда мы хотим что-то купить.
Сегодня днем нам очень повезло. Мы побывали в единственной здесь татарской мечети; мы подошли к ней в тот момент, когда на крыше появился человек, сзывающий на молитву. Ничего подобного я в жизни не слышал: странные дикие звуки неслись в воздухе над нашими головами, по большей части произносимые быстрым речитативом, причем каждая фраза кончалась продолжительным воплем. Потом нам разрешили стать при входе и наблюдать за „правоверными“, которые входили и, обратись лицом к Мекке, падали ниц.
Надеюсь, дома всё в порядке. Всех вас обнимаю.
Ваш далекий, но любящий брат
Ч. Л. Доджсон».Вечером Чарлз вместе с Эдвардом Уэром, который был младше его на 14 лет, отправился в нижегородский театр. Англичане были удивлены его видом — они не знали, что после недавнего пожара театр располагался во временном помещении. «Более простого здания я не видывал, — замечает Чарлз, — единственным украшением внутри были побеленные стены». Народу было немного, и после утомительного дня путешественники наслаждались простором и прохладой. Давали три пьесы: бурлеск «Аладдин и волшебная лампа» и два водевиля — «Кохинхина» и «Дочь гусара». Больше всего Чарлзу понравилась первая пьеса: исполнители, по его мнению, «играли превосходно, а также очень прилично пели и танцевали». Следить за представлением было нелегко, однако в антрактах они с помощью карманного словаря усердно трудились над программкой и в общих чертах понимали происходившее на сиене.
Игра русских артистов произвела на Чарлза большое впечатление. Он записывает: «Я никогда не видел актеров, которые бы так внимательно следили за действием и своими партнерами и так мало смотрели в зал». Это замечание дает некоторое представление об исполнительской манере, к которой Чарлз привык у себя на родине. Он особенно выделяет двух молодых членов труппы, записывая (вернее, копируя из программки) их имена по-русски: «Лучше всех был актер по имени Ленский, игравший Аладдина, и одна из актрис в другой пьесе по имени Сорокина». Удивительная проницательность! Двадцатилетний Ленский — это будущая слава русского театра Александр Павлович Ленский, знаменитый премьер московского Малого театра. Кэрролл увидел его в самом начале его театральной карьеры: Ленский пришел на сцену в 1865 году, когда ему едва исполнилось 18 лет; в Нижнем Новгороде он выступал в сезоны 1866–1868 годов. Анна Петровна Сорокина — актриса иного масштаба, однако ее имя также вошло в историю русского театра. Молоденькая дочь кассира нижегородского театра скоро обратила на себя внимание публики и антрепренеров и позже, став женой Ленского, также выступала в Малом театре.
После ночи, проведенной в «постелях, состоящих из досок, покрытых матрасом не более дюйма толщиной, подушки, простыни и стеганого одеяла», путешественников ждал завтрак, «основным блюдом которого была удивительно вкусная большая рыба, называемая Стерлядью» (Чарлз пишет ее название с большой буквы — видимо, из уважения к ее вкусовым достоинствам).
День был посвящен осмотру собора, где приезжие услышали прекрасное пение, и Мининой башни, с которой «открывается великолепный вид на весь город и на излучины Волги, уходящей в туманную даль». Посетив еще раз Гостиный двор, ничем не уступавший петербургскому, а возможно, и превосходивший его, и сделав последние покупки, около трех часов пополудни путешественники отправились в обратный путь, на котором, по словам Чарлза, «если это только возможно, претерпели еще большие неудобства», чем по дороге в Нижний. Около девяти часов следующего утра они прибыли в Москву — «усталые, но восхищенные всем увиденным». Оглядываясь назад, Доджсон, не раздумывая, резюмирует: «Это путешествие стоило всех тех неудобств, которые нам пришлось претерпеть с самого начала и до конца».
Нельзя не пожалеть о том, что во время предельно краткого пребывания в Нижнем Новгороде у друзей не нашлось времени прогуляться по улицам, как они это делали в Петербурге, Москве и других городах. В противном случае они непременно заметили бы на Осыпной улице ателье «Фотография и живопись художника А. Карелина», что, несомненно, заинтересовало бы Чарлза. Андрей Осипович Карелин, петербургский художник и фотограф, после того как врачи объявили ему, что сырой климат столицы опасен для его легких, в 1866 году обосновался в Нижнем Новгороде. Вскоре он прославился работами, посвященными Волге и городу, групповыми и семейными снимками и фотопортретами. Его называли «нижегородским светописцем», он выставлялся в России и за рубежом, по приглашению Британского фотообщества принял участие в выставке в Шотландии. Встреча в Нижнем Новгороде с Карелиным могла бы стать связующей нитью между Чарлзом и русскими фотографами и художниками. Жаль, что этого не произошло.
И снова Москва, осмотр достопримечательностей, визиты с рекомендательными письмами, скромные развлечения… В день приезда Доджсон и Лиддон вместе с братьями Уэрами отправились в Симонов монастырь и поднялись на колокольню, насчитав 380 ступеней лестницы. Они полюбовались видом Москвы, открывающимся с колокольни, который, на взгляд Чарлза, был не только ближе, но и лучше, чем с Воробьевых гор. «Мы осмотрели церкви, кладбища и трапезную, — записывает он. — Церкви расписаны чудесными фресками, одна из которых представляет любопытное, почти гротескное изображение пылинки в луче света. Нас угостили черным хлебом, который едят монахи, несомненно, съедобным, но не аппетитным…»
Вечером Чарлз, на этот раз со старшим Уэром, Томасом, посетил Малый театр. Как ни ограничен был его запас русских слов, всё же название театра вызвало у него недоумение — он отметил в дневнике: «…на деле это большое красивое здание». Публики было много, давали «Свадьбу бургомистра» и «Секрет женщины», зрители бурно аплодировали, однако, по мнению Чарлза, обе пьесы проигрывали в сравнении с нижегородским «Аладдином».
И опять они наносят визиты, надеясь встретиться с влиятельными русскими и обсудить с ними вопросы сближения Восточной и Западной церквей, — и снова терпят неудачи. Лиддон записывает в дневнике: «Завез рекомендательные письма князю Долгорукову, генерал-губернатору Москвы, и князю Владимиру Черкасскому, который тоже живет на Тверской площади. Первый сейчас в Париже, второго нет в его официальной резиденции, так что мы зря потеряли время».
Днем поехали в Петровский дворец, выстроенный императрицей Екатериной для последней остановки на пути из Петербурга для отдыха перед торжественным въездом в Москву. Дворец был окружен большими прекрасно разбитыми парками, которые стали излюбленным местом пеших и конных прогулок, а зимой — катания на тройках. Яркая раскраска дворца не понравилась Доджсону; возможно, он отнесся бы к ней иначе, если бы знал, что она сделана в духе популярных в свое время лубков.
Уходя, Чарлз скопировал надпись над Тверскими воротами, ведущими в парк:
«PIÆ MEMORIÆ
ALEXANDRI I.
Ob Restitutam Е Cineribus
Multisque Paternae Curae Monumentis Auctam
Antiquam Hanc Metropolin
FLAGRANTE BELLO GALLICO ANNO MDCCCXII
FLAMMIS DATAM»[96].
Вечером Доджсон и Лиддон обедали у мистера Пенни, где неожиданно встретили супругов Кум и их племянницу Натали. Томас Кум, видный английский издатель, старший партнер издательства Оксфордского университета (Oxford Unversity Press), старейшего в Англии, был также одним из первых меценатов, поддержавших прерафаэлитов, которых высоко ценил и Чарлз, а потому им было о чем поговорить. Приходится лишь сожалеть о том, что ни Доджсон, ни Лиддон не упомянули об этом в своих дневниках. Впоследствии Чарлз неоднократно бывал в гостеприимном доме Томаса и Марты Кум в Оксфорде. Сохранилась даже сделанная им фотография Томаса Кума.
После обеда все вместе отправились в Симонов монастырь, службу в котором Чарлз нашел «очень длинной и очень красивой». Он внимательно следил за богослужением и отметил кое-что новое для себя: «Главный священник вынес вперед Евангелие и держал его, пока все остальные священнослужители, а затем все монахи подходили по двое и целовали его. Затем он положил Евангелие на стол и стал рядом, а прихожане подходили и целовали книгу, а потом его руку».
В воскресенье 11 августа с утра по просьбе мистера Пенни Лиддон читал в англиканской церкви проповедь на тему из «Послания к Римлянам апостола Павла»: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим. 8:14). Днем произошла встреча, к которой Лиддон так готовился: он, Чарлз и мистер Пенни были приняты епископом Леонидом, викарием 84-летнего митрополита Московского Филарета, в его московской резиденции.
Чарлз записывает в дневнике: «Епископ Леонид совершенно восхитил нас своим приемом и очаровательной мягкой манерой, которая через минуту позволяет почувствовать себя совершенно свободно. Мы пробыли у него, как мне кажется, часа полтора; на прощание мы условились поехать с ним на следующий день в Троицу (Троице-Сергиеву лавру. — Н. Д.) в надежде, что сможем встретиться с архиепископом Филаретом[97], митрополитом Московским». Лиддон, в свою очередь, сообщает некоторые подробности: «Сам епископ вышел нам навстречу и попросил нас сесть. Я подал ему мои рекомендательные письма и письмо от князя Орлова, в котором тот представлял меня. Разговор зашел о Панангликанском синоде[98] и епископе Коленсо[99]».
Спустя три дня в письме епископу Солсберийскому Лиддон подробно описывает эту встречу:
«Епископ Леонид относится к Английской церкви весьма сердечно. <…> Он посоветовал мне, например, предпринять перевод Английского церковного катехизиса на русский язык и снабдить его комментариями с тем, чтобы указать на отсутствие различий в основах ортодоксальной доктрины. То же с Английским служебником. Он „постарается распространить эти документы среди духовенства, чтобы нас лучше поняли“. Он полностью принял наши основания говорить с Восточной церковью с позиций, в целом отличных от позиций Лютеранских и Протестантских общин. Он мягко дал мне понять, что наша приверженность примитивной древности не так широка в теории, а тем более в практике, как хотелось бы. „Но, говорит он, я считаю, что столь быстрое распространение безверия в Европе вопиет к Господу, который призывает христиан объединиться под знаменем Христовым и, дабы они могли свершить это, указует им на то, каково подлинное учение Божьей Церкви“».
Посетив вечером женский Страстной монастырь, где Чарлз, внимательно следивший за службой, особо отметил, что «женские голоса, певшие без сопровождения, звучали удивительно красиво», друзья завершили день прогулкой вдоль стен Кремля: «Вечерняя прохлада и великолепный вид на анфиладу прекрасных зданий вокруг нас были чрезвычайно приятны».
Одним из самых важных дней за всё путешествие для Лиддона и Доджсона оказалось 12 августа: прихватив с собой мистера Пенни, они отправились в Троице-Сергиеву лавру, где произошла их встреча с главой Русской православной церкви митрополитом Московским и Коломенским Филаретом. Святитель Филарет (до принятия монашества Василий Михайлович Дроздов) был одним из крупнейших церковных деятелей, проповедников и богословов России XIX столетия. Важнейшими делами его жизни были перевод Библии на русский язык, а также написание текста манифеста об освобождении крестьян. В 1867 году праздновался пятидесятилетний юбилей его епископского служения.
Лиддон записывает: «Встали в 5, позавтракали в 5.30, выехали из гостиницы в 6. Встретили епископа Леонида на станции. Он пригласил нас в свой вагон и, прочитав молитвы и проглядев бумаги, чрезвычайно дружелюбно беседовал с нами». Чарлз делает более подробную запись:
«Епископ, несмотря на ограниченное знание английского языка, оказался весьма приятным и интересным спутником. Богослужение в соборе уже началось, когда мы вошли туда, но епископ провел нас сквозь переполнявшую его огромную толпу в боковое помещение, соединенное с алтарем, где мы и простояли всю литургию; таким образом, нам выпала редкая честь наблюдать, как причащается духовенство: во время этого обряда двери алтаря всегда затворяют, а занавес задергивают, так что прихожане никогда его не видят. Церемония была весьма сложной: священнослужители творили крест и кадили ладаном перед каждым предметом, прежде чем взять его в руки, и всё это совершалось с явным и глубоким благоговением. К концу службы один из монахов вынес блюда с маленькими хлебцами и подал каждому из нас: эти хлебцы освященные, а то, что нам их подали, означает, что нас помянут в молитвах».
Лиддон посвятил литургии краткую, но предельно выразительную запись: «Лицо и вся фигура священника, служившего литургию, сияло небесным светом, словно он ощущал себя окруженным ангельским хором».
По выходе из храма гостям показали мощи святого Сергия, ризницу, литографскую, живописную и фотографическую мастерские, где мальчики обучались этим искусствам применительно к церковным нуждам. Фотомастерская должна была заинтересовать Чарлза, но он не упомянул об этом, хотя, наверное, за время путешествия не раз вспоминал о своей прекрасной камере, которую пришлось оставить дома, ибо она была слишком тяжела для такого долгого вояжа. В живописной мастерской гостям показали, как свидетельствует Чарлз, «множество превосходных икон, писанных по дереву, а некоторые — по перламутру; трудность для нас заключалась не в том, чту именно купить, а в том, чего не покупать. В конце концов каждый из нас купил по три иконы, что было продиктовано скорее ограниченностью времени, чем соображениями благоразумия».
Ризница, пишет Чарлз, «оказалась настоящей сокровищницей — драгоценные камни, вышивки, кресты, потиры и пр. Там мы увидели знаменитый камень — отполированный и, словно икона, в окладе, в пластах которого видна (так, по крайней мере, кажется) фигура монаха, молящегося перед крестом». Доджсон, впрочем, отнесся к камню с сомнением: «Я внимательно его разглядывал, но так и не смог поверить, что такой сложный феномен мог возникнуть естественным путем».
Гостей сопровождал некий русский господин, бывший с ними в храме; он любезно давал им по-французски различные пояснения и помогал в покупках. «Лишь после того как он распрощался с нами и удалился, мы узнали имя этого человека, который оказал нам столько внимания, — пишет Доджсон. — Боюсь, что мало кто из англичан мог бы сравниться с ним в подобном внимании к чужестранцам». Знаменательное признание!
Доджсон называет их добровольного помощника князем Чирковым. По поводу этого имени у исследователей возникли сомнения. М. Коэн, публикуя дневник Лиддона, в комментариях отмечает: «Лиддон как будто бы пишет Chilkoff, но втискивает это имя в последнюю на странице строчку. Вероятно, это князь Григорий Хилков (Khilkoff), церемониймейстер императорского дома (Высочайшего двора. — Н. Д.)». У читателя, естественно, возникает вопрос: почему же имя этого человека наши друзья узнали лишь после его ухода? Почему не представились ему? Кстати, был бы удобный случай познакомиться с воспитанным, любезным, знающим русским, с которым можно было бы о многом поговорить, тем более что его манеры, внешний вид и французский язык были безукоризненны. Возможно, английским путешественникам недоставало обязательных рекомендательных писем, которыми они непременно пользовались при знакомствах дома? Да и французский язык Чарлза был весьма ограниченным, и можно предположить, что в этом вопросе он понадеялся на Лиддона. Как бы то ни было, знакомство не состоялось, о чем можно лишь пожалеть.
Зато обед в монастырской гостинице предоставил нашим путешественникам, как свидетельствует Чарлз, «возможность отведать два истинно русских угощения: горькую настойку из рябины, которую пьют по стакану перед обедом для аппетита (в оригинале Ribinov. — Н. Д.), и щи — к ним обычно подают в кувшинчике сметану, которую размешивают в тарелках».
Днем, после обеда, гости отправились в резиденцию митрополита Филарета, где обычно происходили официальные встречи, и были представлены ему епископом Леонидом. В дневнике и письмах Лиддона находим некоторые подробности: «Пообедав в гостинице, мы подъехали к дому митрополита, где нас ждал епископ Леонид. Спустя несколько минут мы были приняты. Митрополит вошел в комнату — маленький, высохший, хрупкий старец с кротким лицом; беседа продолжалась около полутора часов».
Чарлз добавляет к этому свое наблюдение, не лишенное некоторой парадоксальности: «Архиепископ (митрополит Филарет. — Н. Д.) говорил только по-русски, так что беседа между ним и Лиддоном (чрезвычайно интересная, которая длилась более часа) велась весьма оригинальным способом: архиепископ говорил фразу по-русски, епископ переводил ее на английский, после чего Лиддон отвечал ему по-французски, а епископ переводил его слова архиепископу на русский. Таким образом, беседа, которую вели всего два человека, потребовала применения трех языков!» Причины такого «пассажа» Чарлз не объясняет, однако пропустить его, конечно, не может. Возможно, епископу Леониду, воспитанному сначала во французском, а затем в английском пансионе, было удобнее переводить с русского на английский, а с французского — на русский.
Вероятно, во время этой встречи митрополиту Филарету было вручено письмо от епископа Оксфордского, которое так долго догоняло Лиддона. После долгих поисков оно было обнаружено А. М. Рушайло среди обширных материалов, посвященных празднованию юбилея митрополита Филарета. Письмо приводится в переводе, подготовленном для «Православного обозрения», где оно и было опубликовано в мае 1868 года, уже после смерти митрополита Филарета (он скончался 19 ноября 1867 года):
«Досточтимому отцу о Боге, Филарету, митрополиту Московскому в святой Православной Церкви, Самуил Божиею Милостию лорд епископ Оксфордский.
Приветствую о Господе достоуважаемого и многолюбимого отца во Христе! С глубоким интересом узнал я, что Вы близки к празднованию исполнения пятидесятого года Вашего епископства. И я желаю присовокупить мое братское поздравление и молитвы к множеству поздравлений, которые будут принесены Вам, и молитв, которые будут вознесены за Вас по поводу сего знаменательного события.
Я привык любить и чтить имя Филарета. Да благословит Бог остальное течение Вашей жизни благословениями, коими доселе ущедрял Вас, и да благоволит во время благое призвать Вас в то блаженное единство, о котором молился наш Господь.
Есмь всегда верный Вам слуга и брат по нераздельному епископству
Самуил Оксфордский. Дано в Лондоне, в 12-й день июля 1867 г.».После встречи с митрополитом епископ Леонид поручил одному из студентов-богословов, говорившему по-французски, показать гостям монастырь, что тот и сделал «с большим рвением». Среди прочего он продемонстрировал им подземные кельи отшельников, где некоторые из них жили многие годы. На англичан, не знакомых с традицией отшельничества, они произвели тяжелое впечатление. Чарлз записывает в дневнике: «Студент подвел нас к дверям двух таких обитаемых келий; когда мы стояли со свечами в руках в темном и тесном коридоре, странное чувство стеснило нам грудь при мысли о том, что за этой узкой и низкой дверью день за днем проходит в тиши и одиночестве при свете одной лишь крошечной лампады жизнь человеческого существа…»
В тот день Доджсон завершает свои записи фразой: «Вместе с епископом мы вернулись поздним поездом в Москву, проведя в монастыре один из самых памятных дней нашего путешествия».
В отправленном спустя два дня епископу Солсберийскому письме с подробным описанием беседы с митрополитом Филаретом Лиддон отметил его искреннюю заинтересованность и осведомленность относительно всего происходившего в церковной жизни Англии и в заключение попросил послать митрополиту поздравление с приближающимся юбилеем, что и было позже исполнено, правда, с некоторым опозданием.
Интересно письмо Лиддона коллеге, преподобному Уильяму Брайту, в котором он, в частности, сообщает: «Филарет имеет около 7000 фунтов в год, из которых он раздает всё, оставляя себе лишь 200. Его жизнь явно следует незнакомому нам строгому и величественному образцу — в Англии он, вероятно, был бы невозможен, но здесь оказывает безграничное влияние на людей».
После поездки в Троицу друзья решили на несколько дней задержаться в Москве, чтобы присутствовать на праздновании юбилея митрополита Филарета, которое должно было состояться в лавре в субботу 17 августа и обещало быть очень торжественным. Епископ Леонид взялся провести их на литургию в соборе.
В ожидании торжественного дня Доджсон и Лиддон продолжали знакомиться со старой столицей и ее многочисленными — «сорок сороков» — храмами. Их интересовали православные праздники, монастыри, подробности литургии, крестные ходы и многое другое. Они отправились в Новодевичий монастырь, любовались его местоположением «против Воробьевых гор», осматривали его храмы и кладбище. Чарлз записал, что кладбище показалось ему весьма живописным, а надгробия «отмечены глубоким чувством и художественным вкусом».
Тринадцатого августа праздновался день Освящения вод на источниках[100]. В дневнике Чарлза читаем:
«Это большой церковный праздник, во время которого торжественное богослужение проводится частично в соборе, частично на берегу реки». В этот день Чарлз поднялся несколько позже обычного и, решив пожертвовать завтраком, поспешил вместе с Лиддоном в собор. Служба началась в девять часов, однако в соборе собралось такое множество народа, что Чарлз тотчас выбрался из толпы и, заняв место на берегу реки, стал вместе с собравшимися там людьми ждать крестного хода. Ему не удалось увидеть освящение вод, зато он наблюдал «пышное шествие» к реке и обратно: хоругви (не зная, как их обозначить, он с некоторым сомнением называет их «знаменами», впрочем, тут же описывая их различия), священников, дьяконов и прочих духовных лиц в роскошных расшитых облачениях, свечи, иконы, множество поющих мужчин и мальчиков в красно-синих облачениях: «На них взирали огромные толпы народа, но всё было тихо и чинно; суматоха возникла лишь тогда, когда один из дьяконов в конце хода вынес большой сосуд с водой. Все, кто стоял поблизости, кинулись приложиться к сосуду губами, в результате чего вода расплескалась во все стороны и почти вся пролилась. Я вернулся завтракать в гостиницу только в 12½».
Лиддону повезло больше, чем его младшему коллеге: с кремлевской стены он видел само освящение вод и засвидетельствовал: «Народ следил за ним с восхищением».
Чарлз в дневнике отмечает, что они посетили ярмарку, устроенную на Петровке по случаю праздника:
«В ней не было ничего специфически русского, если не считать возраста людей, принявших участие в очаровательном, но совсем не интеллектуальном развлечении: катании на деревянных лошадках, прикрепленных к карусели. Мы наблюдали, как степенные мужчины средних лет, а среди них и солдаты в мундирах, громоздились на животных, когда-то похожих на лошадок, изо всех сил стараясь получить от катания удовольствие. Там и сям на территории ярмарки виднелись небольшие цирковые шатры, где у входа висели огромные вывески с изображением гимнастов, выполняющих такие номера, какие были бы чрезвычайно трудны, даже если бы — вопреки изображению — руки и ноги у них не были совершенно вывернуты из суставов. В ларьках продавалась еда, судя по которой можно решить, что лучшим угощением в праздничный день считается сырая рыба и сушеные бобы».
В дневнике Лиддона в тот день появляется запись: «Серьезный спор с Доджсоном о характере русской религии: он считает ее слишком обрядовой, внешней и пр.». Этот спор весьма характерен.
Совместное путешествие всегда чревато некоторыми трениями. Не обошлось без них и в данном случае, при всей взаимной симпатии друзей. Это становится очевидно при параллельном чтении записей Лиддона и Доджсона. Они достаточно хорошо знали друг друга, завели с первого дня своего путешествия «общий кошелек», однако при всём том, что их объединяло, различия в темпераменте, привычках и жизненных установках со временем становились всё более ощутимы. Разумеется, это были мелочи. Чарлз не фиксировал их в своем дневнике. Однако Лиддон отмечал: то Доджсон настоял на том, чтобы на ночь глядя искать синагогу, то он встал в 9.30 и из-за этого пропало всё утро… Надо сказать, что в целом круг интересов Чарлза был шире, разнообразнее, живее, чем у его друга, в основном определяясь его художественной одаренностью. Выше уже говорилось о расхождении во взглядах по поводу посещения театра, о чем Лиддон прекрасно знал, ибо в свое время Чарлз обсуждал с ним эту проблему. Строго говоря, старший из друзей относился отрицательно к публичным развлечениям и зрелищам. Скорее всего, ярмарка его в принципе мало интересовала, а если он и отправился, скажем, в среду в зоологический сад, то, возможно, лишь под влиянием приятеля. Во всяком случае, в дневнике Лиддон сухо замечает, что в зоологическом саду им пришлось искать место, где поют тирольцы, потому что их хотел послушать Доджсон. Чарлз же с удовольствием описывает, как они рассматривали птиц и зверей, а потом уселись под деревьями, увешанными гирляндами цветных фонариков, и стали слушать «тирольских певцов», что, по его словам, «было очень приятно». Со временем подобные мелочи стали вызывать у Лиддона досаду, которую он поверял только своему дневнику, но от этого ему вряд ли становилось легче.
Расхождение относительно обрядовой стороны религии, разумеется, не относилось к числу досадных мелочей. Хотя оба друга принадлежали к Высокой церкви, Доджсон с годами явно стал тяготеть к более простому и строгому крылу англиканства, называемого в Англии Широкой церковью (Broad Church). Возможно, для Лиддона это оказалось неожиданностью — отсюда «горячие споры» и болезненность его реакции, ведь и по возрасту, и по сану, и по положению он был старше Чарлза и, верно, помнил, как тот совсем молодым обращался к нему за советом относительно принятия дьяконского сана. Сейчас они, конечно, были друзьями, но, возможно, ему всё же нелегко было это принять, тем более что Чарлз всегда прямо и без обиняков высказывал свое мнение и спорить с ним было нелегко.
Русский язык по-прежнему оставался для друзей серьезной проблемой. Лиддон с самого начала путешествия не делал никаких усилий в этом направлении. Доджсон, выучивший русский алфавит, пользовался любым случаем, чтобы копировать русские слова, помечая, когда удавалось, их произношение. В театре он «работал» с программкой, в ресторанах внимательно изучал счета и меню. Обедая в среду 14 августа в знаменитом ресторане «Московский трактир» напротив кремлевских ворот, он записывает, что «еда и вино были настоящие русские», и копирует — вместе с ошибками — поданный счет, помечая в скобках произношение русских слов.
«Супъ и пирошки (soop ее pirashkeé)
Поросе́нок (parasainok)
Асетри́на (asetrina)
Котлеты (kótletee)
Моро́женое (marojenoi)
Крымское (krimskoe)
Кофе (kofe)».
К этому Чарлз присовокупляет пояснения: «Суп был прозрачный, с мелко нарезанными овощами и куриными ножками, а pirashkeé к нему маленькие, с начинкой в основном из крутых яиц. Parasainok — это кусок холодной свинины под соусом, приготовленный, очевидно, из протертого хрена со сметаной. Asetrina — это осетрина, еще одно холодное блюдо с гарниром из крабов, маслин, каперсов и под каким-то густым соусом. Kótletee были, по-моему, телячьи; Marojenoi — это различные виды мороженого, удивительно вкусного: одно — лимонное, другое — из черной смородины, каких я раньше никогда не пробовал. Крымское вино также оказалось очень приятным, да и вообще весь обед (разве что за исключением стряпни из осетрины) был чрезвычайно хорош». Лиддон же в своем дневнике замечает: «Мне стыдно сказать, что обед стоил 5 рублей».
Вечером между друзьями снова возникает «горячий спор» (слова Лиддона) — на этот раз по поводу молитв за усопших. Лиддон не без досады записывает в дневнике, что Доджсон, «как всегда, ссылался на обычную практику действующей Англиканской церкви». Английский исследователь цитирует по этому поводу письмо Доджсона сестре Элизабет, написанное, правда, спустя много лет, 25 ноября 1894 года, когда Лиддона уже не было в живых: «О „Молитвах за усопших“ мне не надо распространяться. Хотя я не могу заходить так далеко, как это делал доктор Лиддон, который полагал, что Английская Церковь определенно предписывает их, я не вижу, чтобы она где-либо их запрещала. Каково бы ни было мнение Церкви, это, как я думаю, практика хорошая, которая вполне отвечает Господней воле».
Пятнадцатого августа друзья неожиданно приняли решение съездить в Новый Иерусалим, чтобы осмотреть мужской монастырь, основанный в 1656 году патриархом Никоном. Ехавший в том же направлении органист мистера Пенни, немец по имени Шпир (впрочем, англичане, скорее всего, произносили его имя на английский манер — Спайер), взялся довезти их до монастыря. Доджсон с Лиддоном надеялись обернуться за один день, но не приняли во внимание состояние русских дорог. Сойдя около десяти часов утра с поезда, путешественники наняли тарантас и тряслись в нем около четырнадцати миль по чудовищной дороге, хуже которой, пишет Чарлз, он в жизни не видывал: «Она была вся в рытвинах, непролазной грязи и ухабах; мостами служили неотесанные бревна, кое-как скрепленные между собой. Хотя в тарантас были впряжены три лошади, нам понадобилось почти 3 часа, чтобы преодолеть это расстояние». В описании поездки в тарантасе Кэрролл, пожалуй, не уступает маркизу де Кюстину, давшему в первой части своей книги подробнейшее описание путешествия в дрожках по российским дорогам.
Нашим путешественникам хотелось зайти в крестьянскую избу, чтобы посмотреть, как живут русские крестьяне, и, следуя совету У. Мюра, они решили попросить в крестьянской избе хлеба с молоком. В избе, возле которой они остановились, они нашли двух мужиков, старуху и шесть или семь мальчиков разного возраста. «Черный хлеб и молоко, которые нам дали, оказались очень хороши, — читаем в дневнике Чарлза. — Увидеть собственными глазами дом русского крестьянина оказалось очень интересно». Он попытался сделать два наброска — избы снаружи и внутри, сгруппировав для второго мальчиков и девочку, верно, жившую по соседству. «Фотография получилась бы чудесная, — сокрушенно замечает Кэрролл, — но у меня не хватило способностей художника, чтобы нарисовать эту группу».
Распрощавшись по прибытии в монастырь со своим проводником и попросив его напоследок заказать им обед, постели и завтрак на три часа утра, друзья поняли, что впервые за всё путешествие остались совсем одни. «Так, верно, чувствовал себя Робинзон Крузо на своем острове», — записывает Чарлз. Они поспешили в монастырь, где их встретил монах, «настоящий русак», говорящий только по-русски. В тоске Чарлз показал ему фразу из своего разговорника: «Кто-нибудь здесь говорит по-немецки, по-французски или по-английски?» Тут колесо фортуны внезапно повернулось — их представили другому монаху, который «говорил на превосходном и достаточно понятном французском языке» (что было немаловажно для Чарлза) и был «настолько добр, что отдал себя в наше распоряжение — можно сказать, на весь оставшийся день».
С этим добровольным гидом они осмотрели храм Гроба Господня (известный тем, что в точности воспроизводил иерусалимский), библиотеку и ризницу, а после обеда в гостинице снова вернулись в монастырь. Монах отвел путешественников к себе. Какого же было их удивление, пишет Чарлз, когда «вместо кельи с черепом, костями и проч. мы увидели уютную гостиную, в которой пили чай 2 дамы, мать и дочь, и джентльмен, который, как я полагаю, был отцом семейства». К тому же оказалось, что обе дамы говорят по-французски, а младшая преподавательница французского языка в одной из московских гимназий — к тому же чрезвычайно хорошо знает английский: «Она была явно хорошо образованна и умна. Оказаться в таком обществе было очень приятно, но всё это произошло так внезапно и неожиданно, что казалось едва ли не сном».
После чая все гости вместе прошли по монастырю; им показали комнаты, где обычно останавливается императорская семья, когда изредка приезжает сюда, и разные достопримечательности, воспроизводящие места, связанные с жизнью Христа (Вифлеем, Иордан, купальню в Вифезде, колодец в Самарии и пр.). Всё это было им очень интересно, однако более всего поразил Чарлза скит Никона в лесу, куда тот удалился после своего добровольного изгнания: «Снаружи дом кажется небольшим, но в нем множество комнат, таких крошечных, что их и комнатами не назовешь; они соединены низкими переходами и винтовыми лестницами; спальня около 6 футов в длину и в ширину; высеченное из камня ложе с каменным же изголовьем, длиной всего 5 футов и 9 дюймов, упирается одним концом в стену, где выбито углубление для ног; епископ, который был высокого роста, верно, всегда лежал, согнув ноги. Всё здание похоже скорее на игрушечный дом, чем на настоящий; епископ, как видно, вел жизнь, полную непрестанных лишений, уступая в этом лишь своим слугам, жившим в крошечной келье, куда ведет дверь не более 4 футов высотой и едва проникает дневной свет».
Попрощавшись с новыми друзьями (так называет их Чарлз), путешественники, возвратись в гостиницу, снова затосковали в предвкушении проблем, связанных с неумением изъясняться по-русски. Тут судьба опять улыбнулась им — хозяин представил им остановившегося в гостинице господина, который говорил по-французски и (по словам Чарлза) «с чрезвычайной любезностью» помог во всех их нуждах. Оставим в стороне болтливость доброхота, просидевшего у зевавших от усталости англичан до полуночи, и общительность хозяина, который был немного навеселе (к тому же доброхот поведал, что хозяин, потеряв в одночасье огромное состояние, повредился в уме). После сцены прощания с поклонами, жестикуляцией, поцелуями гости наконец вырвались на свободу и без всяких приключений вернулись в Москву.
Оба друга интересовались благотворительностью, в которой, надо сказать, они принимали живое участие не на словах, а на деле. Они изъявили желание осмотреть учрежденный еще императрицей Екатериной II Воспитательный дом для сирот и подкидышей. Правда, директора, который мог бы дать им подробные разъяснения, на месте не оказалось, а старшие дети были отправлены на лето в деревню. В результате Доджсон и Лиддон увидели лишь «множество длинных и узких дортуаров, уставленных кроватями, нянек да бесчисленных младенцев». Зато, по словам Доджсона, «все малыши были чистенькими, ухоженными и веселыми».
Наконец наступил день юбилея, ради которого они задержались в Москве. Он отмечался в Троице-Сергиевой лавре весьма широко, торжественными богослужениями при большом стечении народа.
Однако англичанам не повезло. Они надеялись найти епископа Леонида на станции, но там его не оказалось; пришлось пробиваться сквозь толпу самостоятельно. Всё же им удалось попасть в Успенский собор, где литургию служил архиепископ Ярославский и Ростовский Нил, а помогали ему восемь архиереев; среди них был и Филарет, который из-за немощи не мог сам вести службу. Доджсону удалось пробраться в небольшое помещение возле алтаря, откуда они следили за службой в свой первый приезд (именно туда хотел провести их епископ). «Положение мое было совершенно особенным, — записывает он, — ибо в толпе епископов и прочего духовенства я оказался единственным лицом в светском платье. Я явно не имел ни малейшего права там находиться — но, так как на меня не обращали внимания, я остался и хорошо разглядел самих епископов и некоторые части богослужения; однако епископ Леонид так и не появился: впоследствии мы узнали, что он служил литургию в другом месте». Доджсон сделал несколько попыток его отыскать, но, увы, они ни к чему не привели.
Неудачи этого дня, с которым было связано так много ожиданий, друзья постарались возместить осмотром окрестностей монастыря: они поднялись на колокольню, откуда открывался великолепный вид Сергиева Посада, с двух сторон окруженного лесом. Тут им весьма пригодилась подзорная труба, привезенная Доджсоном из Англии; на горизонте они различили множество колоколен. «Верно, это была уже Москва, до которой было сорок миль», — записывает Чарлз. Неужто и в самом деле они оттуда видели Москву? Впрочем, где еще могло быть такое множество колоколен? К тому же воздух в те времена был удивительно чист и прозрачен.
Лиддон отметил в дневнике, что Доджсон купил в Посаде игрушки. Конечно! Город издавна славился всевозможными детскими игрушками, ярко раскрашенными дудками, трещотками и свистульками, которые Чарлз, верно, сумел по достоинству оценить. К сожалению, мы никогда так и не узнаем, какие именно игрушки он выбрал, — об этом он в дневнике не упоминает. А так хотелось бы знать, дарил ли он по возвращении в Англию русские игрушки своим юным друзьям или оставил у себя, чтобы они могли забавляться, когда приходили в его комнаты в Крайст Чёрч…
На понедельник 19 августа был назначен отъезд в Петербург, и накануне друзья отправились в Успенский собор Московского Кремля, где должен был служить литургию епископ Леонид. Они рассчитывали встретить его у входа, надеясь пройти вместе с ним, но их ждал человек, который по поручению епископа провел их в храм. Лиддон записывает в дневнике: «Во всё время службы лицо епископа сияло дивным светом духовной красоты». Служба, начавшаяся в десять часов утра, продолжалась почти два с половиной часа. Не дожидаясь ее окончания, Доджсон ушел, так как хотел поспеть в англиканскую церковь; Лиддон остался до конца.
Побывав на вечерней службе в Британском посольстве и напившись чаю у гостеприимной четы Пенни, друзья отправились в гостиницу пешком и прошлись по Кремлю. Чарлз записывает: «В последний раз мы любовались прекрасной анфиладой этих зданий в самое, возможно, прекрасное для них время: в холодном и чистом свете луны стены и башни ярко белели, лунный свет бросал на позолоченные купола блики, которые выразительнее солнечных, ибо тень от них не так темна». Лиддон так описывает эту прогулку: «Мы прошли Кремлем при свете луны. Ночь была необыкновенно прекрасна; в памяти у меня запечатлелось таинственное очарование центральной группы этих церквей и дворцов, которые я никогда не забуду». В Москве в ту пору стояла жара, и Лиддон отмечает, что в этот день воздух в Москве сух и прозрачен, словно в Италии. «В Англии такое редко увидишь», — прибавляет он.
Двадцатого августа, на день позже запланированного срока, в два часа пополудни наши путешественники отбыли в Петербург, провожаемые добрыми пожеланиями преподобного Пенни и его супруги, которые пришли на вокзал и, словно настоящие москвичи, вручили им на дорогу бутылку вкуснейшей наливки собственного приготовления.
Поезд останавливался в Клину, где продавали множество расшитых сумочек и туфель, в Твери и в Любани, где путешественников ждал легкий — Лиддон назвал его «предварительным» — завтрак. В пути Лиддон разговорился с «дружелюбным русским», поведавшим ему о том, как он мечтает об объединении христианского мира. Он присутствовал на праздновании юбилея в Троице-Сергиевой лавре и очень сожалел, что английских гостей не было на угощении в трапезной.
Места у англичан были спальные, но, к несчастью, третий пассажир, оказавшийся с ними в купе («судя по всему, человек с положением», замечает Чарлз), был простужен и, несмотря на жару, возражал против открывания окна. В результате Чарлз как прирожденный англичанин «предпочел отдыху в духоте купе усталость и свежий воздух на площадке в конце вагона». Лишь в пять часов утра он вернулся в купе, где ему удалось час поспать.
И снова Петербург: гостиница Клее, которая оказалась переполненной; «Русский отель» (Hotel de Russie); визит к мистеру Мюру; посещение Исаакиевского собора, с высоты которого друзья любовались «видом этого величавого города»; безуспешные попытки связаться с различными людьми, в том числе с графом Дмитрием Андреевичем Толстым, тогдашним министром народного просвещения и обер-прокурором Святейшего синода; еда в ресторанах — то в «великолепном заведении Бореля» на Большой Морской, где за пять рублей им подали первоклассный обед с бутылкой бургундского, то в «Доменике» на Невском; катание на островах, «где обитают высшие классы — в прекрасных небольших особняках, вокруг которых разбиты очаровательные сады, откуда с приближением зимы каждый цветок придется убирать в помещение». Чарлз замечает, что избранный ими маршрут, видно, моден среди людей света, и сравнивает его с лондонским Роттен-Роу.
Граф Путятин, с которым Лиддон тщетно пытался встретиться ранее, приехал к нему с ответным визитом и, услышав, что друзья хотят осмотреть Эрмитаж, вызвался свезти их туда. Он показал им не только саму галерею, но и Зимний дворец, часовню, апартаменты, в которых останавливался принц Уэльский, когда в ноябре 1866 года приезжал в Петербург на бракосочетание своей невестки Дагмар с цесаревичем Александром, и прочие места, недоступные обычным посетителям. В Эрмитаже друзья уделили особое внимание произведениям Рембрандта и, конечно, русских художников, которые они не успели осмотреть в прошлый раз. Чарлз описывает полотна, поразившие его воображение:
«Там висят некоторые совершенно изумительные картины — гигантский „Моисей, освобождающий от змей в пустыне“ Бруни[101], в котором, по приблизительным подсчетам, до 27 футов длины и 18 высоты; масштаб композиции и необыкновенное многообразие в выражении лиц толпы евреев — ужас, мольба, отчаяние — раненые и умирающие — делают это полотно эпическим. Перед глазами у меня так и стоит центральная фигура на переднем плане — цветущий мужчина в смертных корчах, члены которого обвили блестящие кольца змея. Впрочем, возможно, самая поразительная из всех русских картин — это недавно купленный и еще не пронумерованный морской пейзаж: на нем изображена буря — на переднем плане видна мачта тонущего корабля с уцепившимися за нее людьми, — а позади к небу вздымаются огромные валы, яростный ветер срывает брызги с их гребней, а заходящее солнце пронизывает их бледным зеленоватым светом, создающим обманчивое впечатление, будто он проходит сквозь воду. Я видел подобные попытки в других картинах, но такого совершенства в исполнении мне не встречалось никогда».
Друзей ждала еще одна, последняя поездка — они получили приглашение посетить город-порт Кронштадт на острове Котлин от преподобного мистера МакСуинни, тамошнего английского капеллана. Он принял Лиддона и Доджсона очень любезно и даже озаботился оформлением для пропуска, благодаря чему они получили возможность осмотреть крепость. Чарлз записывает в дневнике: «Сначала он показал нам верфь и цейхгауз, и хотя времени для подробного осмотра у нас не было, всё же мы смогли составить очень недурное общее представление о размахе ведущихся здесь работ и об имеющихся на случай войны запасах, хранящихся в цейхгаузе (который нам любезно показал командующий офицер). Мы видели весьма редкий трофей: взятую у англичан пушку с канонерки „Гриф“ (Vulture)». Этот отзвук недавней войны не помешал англичанам нанять лодку и пройти на веслах по гавани, а потом высадиться на берег, чтобы осмотреть строящуюся верфь. «Верфь эта колоссальных размеров, — читаем в дневнике Чарлза, — стены там кладут из прочных гранитных плит, внешняя сторона которых так гладка, словно их предназначают для украшения интерьера; одну такую плиту с неизбежными криками и суматохой как раз укладывали под наблюдением офицера. В целом вся стройка походит на муравейник: сотни работников суетятся в огромном котловане, со всех сторон непрестанно раздается звон молотов. Так, верно, выглядело строительство Пирамид. Насколько можно судить, верфь обойдется в 3 ½ миллиона рублей».
В Компасной обсерватории их принял директор, капитан 2-го ранга Бенавенец, познакомивший их с ее работой. «Он изложил на весьма приблизительном английском, — пишет Чарлз, — теорию и практику своего дела; что до меня, то он мог бы свободно говорить на древнеславянском, ибо всё это совершенно выше моего разумения — и на прощание весьма любезно преподнес нам свои книги на ту же тему — увы, написанные по-русски». Лиддон записал, что они осмотрели не только торговую, но и главную гавань, «получив весьма неплохое представление о позиции и укрепленности отдельных фортов, образующих защитные заграждения, перегораживающие Финский залив».
Позже друзья поднялись на колокольню английской церкви, откуда открывался великолепный вид на весь остров. Отобедали они у мистера МакСуинни, которому пришлось их оставить, так как его пароход отходил раньше, чем пароход гостей. Тут-то и произошел забавный случай, описанный в дневнике Доджсона:
«В начале дня Лиддон оставил в доме мистера МакСуинни свое пальто; когда настало время и нам уезжать, мы сообразили, что должны его забрать у горничной, говорящей только по-русски, и так как я не взял с собой словаря, а в маленьком разговорнике слова „пальто“ не было, мы оказались в трудном положении. Лиддон начал с того, что стал показывать ей на свой сюртук — он жестикулировал и даже приспустил сюртук с плеч. К нашему восторгу, она, казалось, его тотчас поняла — вышла из комнаты и через минуту вернулась… с большой одежной щеткой в руках. В ответ Лиддон предпринял более энергичную попытку — снял сюртук и, положив его к ее ногам, стал указывать вниз (давая понять, что предмет его вожделений находится в нижних областях дома), а потом заулыбался, демонстрируя радость и благодарность, с которыми он получит пальто, и надел сюртук. Снова простое, но выразительное лицо юной особы осветилось догадкой — на этот раз она отсутствовала гораздо дольше и, возвратившись с двумя подушками, стала, к нашему ужасу, стелить на диване постель — она не сомневалась, что именно об этом просит ее немой господин. Тут меня осенило, и я торопливо набросал рисунок: Лиддон в одном сюртуке берет из рук добродушного русского крестьянина второй сюртук, побольше. Язык иероглифов имел успех там, где все остальные попытки потерпели поражение, и мы возвратились в Петербург приниженные, с грустью сознавая, что наш культурный уровень опустился сейчас до древней Ниневии».
Последние дни перед отъездом, как обычно, прошли в суете и разнообразных занятиях: прощальные визиты, в том числе к Мюру; посещение храмов — Троицкого, Благовещенского Преображенского, армянской церкви; поход в банк, где Лиддон разменял последние циркулярные аккредитивы; покупка сувениров и вещей в дорогу; посещение сенатора и заместителя министра народного просвещения Ивана Давыдовича Делянова, который обещал Лиддону помочь ему материалами для статьи о Русской церкви (ее предполагалось напечатать в журнале «Христианская хроника» (Christian Remembrancer), однако издатель «Русского дневника» Лиддона отмечает, что статья в этом журнале так и не появилась).
Одна из прогулок по городу была отмечена весьма характерным для Кэрролла эпизодом. Он рассказывает в дневнике:
«Во время наших прогулок я увидел прелестную фотографию маленькой девочки и приобрел экземпляр небольшого размера, заказав при этом еще одну, в полный рост, так как у них не было экземпляра без паспарту. Позже я зашел справиться об имени девочки и узнал, что фотография была уже отпечатана, но хозяева мастерской не знали, как поступить, ибо сказали об этом отцу девочки и обнаружили, что он не одобряет продажу фотографии. Разумеется, мне не оставалось ничего другого, как вернуть купленную мною carte[102]; в то же время я оставил письмо, в котором сообщал об этом и выражал надежду, что мне всё же будет дозволено ее купить».
Дважды — видно, по совету кого-то из петербургских знакомых — друзья ездили на Стрелку смотреть закат солнца. В первый раз им решительно не повезло — они приехали слишком поздно; во второй раз они подъехали в тот самый миг, когда солнце опускалось за черту горизонта. Чарлз пишет в дневнике: «Зрелище было необыкновенно красивое: чистое небо пламенело багрянцем и отливало зеленью, залив был гладок, как зеркало, лишь кое-где в воде отражались островки камышей и темная линия противоположного берега, где дома казались почти черными на фоне неба, да одна-две лодки, словно диковинные водяные птицы, лениво плескались на сумрачной воде».
Им довелось быть свидетелями пожара, случившегося в ресторане Дюссо, где они собрались пообедать:
«Не успели мы сделать заказ, как нам сообщили, что пообедать нам по весьма серьезной причине не удастся: в здании пожар! Возможно, горел лишь дымоход, ибо через полчаса всё потушили, но прежде собралась большая толпа, подъехали — неторопливо, с достоинством — десятка два пожарных машин, примечательных, главным образом, своими чрезвычайно малыми размерами. Некоторые из них были, по-видимому, переделаны из старых водовозных бочек. Меж тем мы пообедали напротив, у Боррелля, наблюдая за всем происходившим из окна, в то время как официанты толпились в дверях, следя за несчастьями своего конкурента с интересом, однако, боюсь, без особого сочувствия».
Вечером Доджсон и Лиддон отстояли службу в Александро-Невской лавре. «Это было одно из самых прекрасных православных богослужений, которые мне довелось услышать, — записывает Чарлз в дневнике. — Пели чудесно и не так однообразно, как обычно. Один распев, в особенности, много раз повторенный во время службы (т. е. повторялась мелодия, а слова, возможно, были другими), был так прекрасен, что я охотно слушал бы его еще и еще».
В воскресенье 25 августа, последний день перед отъездом друзей, граф Путятин, как обещал, заехал за ними и повез в своем экипаже в греческую церковь, где провел в алтарь и познакомил с архимандритом, служившим литургию. Служба шла по-гречески, и потому Лиддон и Доджсон смогли, несмотря на различия в произношении, следить за ней по книгам — и, что весьма знаменательно, молиться с прихожанами («…за исключением „Посланий“», — записал в дневнике Лиддон. «Исключение составляли лишь одно или два места, касающиеся Девы Марии», — отметил Доджсон).
По окончании службы граф повез их в Александро-Невскую лавру и показал Духовную академию, где около восьмидесяти юношей готовились к принятию сана. Друзья вернулись туда к вечерне, а позже гуляли по набережной и, пишет Доджсон, «любовались Николаевским мостом на закате: людские фигуры черными точками ползли по линии, прочертившей ало-зеленое небо».
День отъезда был отмечен приятным для Чарлза сюрпризом: пришел фотограф и принес снимки девочки, которые ее отец князь Голицын разрешил продать Доджсону. Чарлз записывает русскими буквами в дневник адрес фотоателье, скорее всего копируя его с карточки: «Артистическая Фотография, Большая Морская, 4». Собирался ли он заказать еще какие-либо снимки? Думал ли о друзьях, которые приедут в Петербург? Или — кто знает? — у него мелькнула мысль о возвращении в Северную Пальмиру?
В два часа дня путешественники сели в поезд, отходящий в Варшаву, приготовившись к утомительной поездке. Видно, для англичан, у которых на родине самые длительные переезды по железной дороге занимали не более двух-трех часов, российские расстояния и вправду были тяжелы. Недаром и Лиддон, и Доджсон жаловались на тяжелые переезды. Но при этом ни тот ни другой никогда не выражали неудовольствия по поводу пеших прогулок, пусть даже протяженностью 16–20 миль!
Глава тринадцатая ВОЗВРАЩЕНИЕ
Варшава показалась друзьям шумной и грязной; церкви, куда они заходили, гуляя по городу, в основном католические, сочетали, по мнению Чарлза, богатство с дурным вкусом — обильной позолотой, мраморными группками «уродливых младенцев, долженствующих изображать херувимов»; однако он оговаривает, что «в алтарях иногда попадались хорошие Мадонны». Гостиницу «Англетер», в которой они поселились, Доджсон называет третьесортной; правда, одно обстоятельство его с этим почти примирило: «В нашем коридоре обитает очень высокий и дружелюбный грейхаунд, который, стоит только на миг открыть дверь, заходит к нам в номер; он довольно долго грозил свести на нет труды полового, носившего воду для ванны, умудряясь быстро вылакать только что принесенную порцию».
По дороге в Бреслау Доджсон предавался размышлениям, которые запечатлел в дневнике: «Приятно было наблюдать, как по мере приближения к Пруссии зёмли становились всё более обитаемыми и возделанными — грубого сурового русского солдата сменил более мягкий и сообразительный пруссак — даже крестьяне, казалось, менялись к лучшему, в них чувствовалось больше индивидуальности и независимости; русский крестьянин с его мягким, тонким, часто благородным лицом всегда, как мне кажется, более походит на покорное животное, привыкшее молча сносить жестокость и несправедливость, чем на человека, способного и готового себя защитить». Вспомним, что это написано в 1867 году, спустя всего лишь пять лет после отмены в России крепостного права. Горько читать эти слова, но в них, верно, немало правды…
Чарлзу нездоровилось, и после непродолжительной прогулки и осмотра трех церквей — Святой Марии Магдалины, Святого Христофора и Святой Доротеи — он возвратился в гостиницу. Впрочем, вечером он всё же отправился с Лиддоном в «зимний сад», чтобы послушать «неизбежный концерт на воздухе, который так любят все немцы».
Проведя в Бреслау один день, путешественники отбыли в Дрезден, где посетили знаменитую картинную галерею. «Мне вполне хватило двух часов осмотра, — записывает Чарлз, — да и те лучше бы посвятить великой „Сикстинской“ Мадонне». На следующий день перед отъездом они возвратились в галерею, чтобы посмотреть знаменитую картину Корреджо «Рождество Христово», но Доджсон замечает в дневнике, что не может сказать о ней ничего, что укрепило бы его репутацию критика.
Записи в дневнике в эти дни звучат непривычно резко. Он весьма саркастически отзывается о спектакле в Королевском парке и даже замечает в какой-то связи, что «русские дети, как правило, некрасивы, а как исключение — простоваты». И это всего через несколько дней после того, как он приложил столько усилий, чтобы купить в Петербурге понравившийся ему фотопортрет девочки!
Лейпциг, Гиссен, Эмс… Наши путешественники проезжают их быстро, не задерживаясь ни на один день: ночуют — и дальше… Чарлз любуется пейзажем:
«…долины, которые вились в разных направлениях меж гор, до самых вершин одетых лесами, и белые деревеньки, ютившиеся во всевозможных укромных уголках. Деревья были настолько низкорослые, настолько одноцветные и шли так густо, что дальние горы казались покрытыми мхом берегами.
Этот пейзаж отличала одна неповторимая особенность: старые замки выглядели так, будто их не выстроили, а они сами выросли на вершинах скалистых утесов, высившихся там и сям среди деревьев. Я никогда не видел архитектуры, которая так отвечала бы духу места. Казалось, старинные архитекторы каким-то тонким чутьем выбрали такую форму, цвет и расположение башен с их заостренными шпилями, такие неброские оттенки светло-серого и коричневого для стен и кровель, что воздвигнутые ими здания выглядели столь же естественно на своих местах, как вереск или колокольчики. В них, словно в цветах и скалах, не ощущалось никакого иного смысла, кроме покоя и тишины».
Остановившись в Эмсе, друзья провели остаток дня «в прогулках по этим дивным местам — где людям нечего делать и для этого есть целый день. Здесь, несомненно, можно от души насладиться бездельем». Днем покупали в городе дрезденские фарфоровые фигурки, слушали музыку в курхаусе[103]; вечером поднялись на гору, возвышавшуюся над Эмсом, откуда наблюдали заход солнца. Позже, отправившись на концерт, обнаружили, что в соседнем помещении идет игра в «красное и черное» и рулетку. «Зрелище, интересное для неискушенных, — замечает Чарлз. — Лица игроков почти ничего не выражали, даже когда они проигрывали большие суммы; лишь изредка мелькало какое-то чувство, тем более сильное, что его подавляли. Женщины представляли собой зрелище еще более интересное, а потому и более грустное, чем мужчины: поглощенные игрой, старые и совсем молодые, они казались безвольными существами, загипнотизированными взглядом хищника». Лиддон с болью записывает в дневнике: «Тяжелее всего для меня было видеть среди игроков едва оперившихся юношей и древних стариков, полностью поглощенных игрой», — и, словно подчеркивая контраст между людскими страстями и «равнодушием природы», прибавляет: «Прекрасная безоблачная ночь».
С грустью друзья покидали Эмс, где обоим хотелось побыть подольше. Утром 6 сентября они сели на пароход, идущий вверх по Рейну до Бингена. Чарлз записывает:
«День выдался великолепный, и хотя мы купили места на корме (считающиеся самыми роскошными согласно теории, которую я никогда не мог до конца понять), всё время плавания (4 или 5 часов) я провел на носу, глядя на пейзажи, разворачивавшиеся передо мной по мере того, как мы плыли по реке, петлявшей меж холмов. Конечно, зрелище это было весьма однообразным, чтобы не сказать монотонным: одна за другой вставали передо мной покрытые редкими виноградниками, а то низкорослыми деревьями горы с заостренными вершинами, у подножия которых ютились там и сям деревеньки или лепился к скале замок диковинного вида, чаще всего подсказанного формой самой скалы (парижские лавочники назвали бы эту архитектуру extraordinaire, forcé[104], однако оторваться от этого зрелища я не мог)».
Начался, по словам Чарлза, «последний отрезок нашего путешествия». Переночевав в Бингене, утром друзья выехали в Париж, куда прибыли около десяти часов вечера и остановились в отеле «Лувр», в комнатах на пятом этаже.
Утром Доджсон отправился в церковь, где капелланом был их соотечественник Арчер Гёрни, служивший ранее викарием в Букингеме, известный как автор нескольких томов стихотворений. Его проповедь показалась Чарлзу «эксцентричной, но весьма интересной». По дороге в церковь он встретил еще одного соотечественника — Джорджа Торли из оксфордского Уэдхем-колледжа — и договорился отправиться с ним днем на прогулку в Булонский лес. Они прошли парком Тюильри и Елисейскими Полями, получив таким образом «неплохое представление о том, какими красотами в виде парков, садов, фонтанов и проч. располагает этот прекрасный город». Чарлз не описывает в дневнике свои впечатления от прогулки по Парижу, а только замечает: «Увидев всё это, я больше не удивляюсь тому, что парижане называют Лондон triste[105]». Интересно, что почти тот же отзыв о мрачности англичан (английском сплине) находим в написанной за несколько лет до того повести Диккенса, в которой рассказчиком выступает француз по рождению, заброшенный судьбой в Англию: «Столкнись он с мистером Сплином на земле Франции, он бы наверняка остолбенел от изумления. Но мистер Сплин на английской почве — это всего лишь одно проявление мрачности национального британского характера. Пресловутый британский сплин — тому причина, британская склонность к самоубийству — следствие…»[106]
Вечером Доджсон и Торли встретились с Лиддоном, проведшим день на Всемирной выставке, пообедали, а затем пошли в церковь мистера Гёрни.
Но больше всего, конечно, Доджсона интересовала выставка, ведь именно ради нее он и приехал в Париж. В понедельник 9 сентября он провел там весь день, смотрел в основном картины и скульптуры, от которых пришел в восторг:
«Такое большое собрание, в котором почти нет посредственных полотен или скульптур, — редкое для современного искусства наслаждение. <…> Французских картин было, разумеется, больше, но они были также (и тут уж не скажешь „разумеется“) и лучше других. Наши художники, видно, прямо-таки старались перещеголять друг друга, посылая второсортные картины. В небольшой коллекции американских картин есть несколько совершенно прелестных».
Последующие дни были «пестрыми» (по собственным словам Чарлза) и полными впечатлений. Он встретил еще двух оксфордцев, Чендлера и Пейджа.
Чарлз снова отправился на выставку, бродил вместе с соотечественниками по городу, выбирал и заказывал фотографии, слушал военную музыку на Елисейских Полях, делал покупки. Он попытался раздобыть бальзам для лечения невралгии тройничного нерва, которой порой страдал, для чего поехал в монастырь Святого Фомы на Рю де Севр (Rue de Sevres), где получил отказ: монахини объяснили, что никому не продают бальзам, а лишь раздают беднякам. Впрочем, на вопрос Чарлза о том, не разрешат ли они оставить что-то для их бедняков, монахини с готовностью ответили согласием, и сделка, завуалированная таким образом, была заключена. Лиддон был занят деловыми переговорами, корреспонденцией, встречами и даже для посещения выставки с трудом выкроил время.
В среду Чарлз поменял отель: «Так как отель „Лувр“ слишком велик, чтобы быть уютным, мы с Пейджем осмотрели несколько других, остановившись на „Отеле двух миров“, показавшемся нам лучше других, и сняли там номера. Днем я еще раз отправился на Выставку, а к обеду вернулся в свой новый отель, столовая которого превращается в ресторан, и притом очень хороший». Лиддон остался в «Лувре». Довод, приведенный Кэрроллом для оправдания своего переезда в «Отель двух миров», кажется несколько странным. Некоторые его биографы делают вывод, что отношения между друзьями не выдержали испытания совместным путешествием и неизбежным ежедневным общением. Конечно, расхождения по ряду церковных вопросов могли несколько осложнить их отношения. Мы знаем также, что любовь Кэрролла к театру, а также излишнее (с точки зрения Лиддона) время, потраченное на зарисовки, покупку фотографий и прочее, раздражали его старшего друга, но всё же поостережемся делать поспешные выводы. Друзья возвратились в Англию вместе и впоследствии продолжали встречаться в Оксфорде и Лондоне, о чем свидетельствуют дневниковые записи и Кэрролла, и Лиддона, занявшего пост настоятеля лондонского собора Святого Павла. Когда до Кэрролла дошла весть о том, что 9 сентября 1890 года Лиддона не стало, он записал в дневнике, что узнал о смерти «своего старого доброго друга».
Скорее всего, для переезда в «Отель двух миров» была другая причина. Об этом отеле Чарлз узнал от американки, с которой познакомился в Москве. В респектабельном отеле особенно часто останавливались спириты, привлекаемые его названием. В 1860-х годах там не раз выступала мисс Николь, известный в Европе медиум (в конце 1867 года она вышла замуж и приобрела широкую известность под именем миссис Гаппи). Не исключено, что Чарлз надеялся встретиться с ней. Произошла ли эта встреча, нам неизвестно: ни в дневнике Кэрролла, ни в его письмах нет упоминаний о ней.
«Психические» (сейчас мы называем их парапсихологическими) явления интересовали Кэрролла. Он был одним из основателей английского Общества психических исследований (Psychic Society of Research), куда входили многие известные люди (в частности Артур Конан Дойл). Кэрролл не посещал сеансов столоверчения и прочих популярных в те годы представлений, но и не отвергал возможности существования экстрасенсорики. Один из студентов, которому лектор Доджсон предложил помощь в занятиях, был поражен, увидев на книжных полках в его комнатах «сотни книг» на эту тему. 4 декабря 1882 года Кэрролл написал своему другу Джеймсу Лэнгтону Кларку, что не думает, что эти явления можно полностью объяснить обманом и мистификацией, хотя и не допускает, что бестелесные духи имеют к этому какое-либо отношение[107]. Он серьезно размышлял о ясновидении, в частности о чтении мыслей, которому была специально посвящена одна из публикаций Общества психических исследований, и считал, что собранные обществом свидетельства позволяют предполагать, что «существует некая естественная, но не известная пока сила (force), связанная с электричеством и нервной энергией, при которой один мозг может воздействовать на другой». Эта «сила», писал Кэрролл Кларку, войдет, в конце концов, в число известных естественных сил, а ее законы будут изучены: «Научным скептикам, которые обычно до последней минуты закрывают глаза на любое свидетельство, которое идет дальше материализма, придется принять ее как доказанный факт»[108].
Сам Кэрролл, судя по всему, обладал в какой-то степени парапсихологическими способностями, но, будучи священнослужителем, не находил возможным говорить об этом или пользоваться ими. Однако 6 сентября 1891 года он описал в дневнике событие, произошедшее с ним во время службы в церкви: «Прежде чем объявить прихожанам номер второго гимна, викарий прочитал несколько объявлений. Я же, меж тем, взял свою книгу гимнов и сказал про себя (не знаю почему): „Это будет гимн 416“. Я никогда не слышал этого гимна и, взглянув на него, увидел, что он весьма прозаичен. „Вряд ли викарий его выберет“, — подумал я. Каково же было мое изумление, когда через минуту он объявил: „Гимн 416“!». К сожалению, он никак не комментирует этот эпизод.
Покупка бальзама в монастыре Святого Фомы была заключительным аккордом двухмесячного путешествия по чужим краям. В тот же вечер друзья выехали в Кале, а на следующий день, в субботу 14 сентября, отбыли на пароходе в Дувр. Последняя запись, которой Чарлз завершает свой дневник, поражает — в ней он предстает с совсем неожиданной стороны:
«Плавание было на удивление спокойным, небо безоблачным и ясным; луна сияла во всём своем великолепии, словно стремясь возместить время, потерянное из-за случившегося за четыре часа до того затмения; большую часть путешествия я провел на носу, то болтая с впередсмотрящим, то следя — в этот последний час моего первого путешествия в чужие края — за огнями Дувра, медленно ширившимися на горизонте; казалось, будто наш милый остров раскрывает свои объятия возвращающимся домой детям, пока, наконец, огни не засияли ярко и смело с двух маяков на скале, пока то, что долгое время оставалось лишь мерцающей, словно отражение Млечного Пути, полосой на темной воде, не выступило вперед в виде освещенных домов на берегу, а зыбкая белая линия за ними, поначалу казавшаяся ползущим вдоль горизонта туманом, не превратилась наконец в сером предутреннем сумраке в белые скалы милой Англии».
И непроизвольно вырвавшийся из груди пассаж, для которого понадобилось долгое дыхание, и двукратное повторение эпитета «милый» (милый остров, милая Англия), и взволнованная метафора («будто наш милый остров раскрывает свои объятия возвращающимся домой детям») — всё это не похоже на обычную сдержанность Чарлза. Пожалуй, путешествие наблюдателя нравов и любителя парадоксов было всё же сентиментальным… Во всяком случае, создается впечатление, что этот выплеск был неожиданностью и для самого автора. Но почему на протяжении всей последующей жизни он больше ни разу не покинул свой «милый остров»? Ведь в приведенном дневниковом отрывке он говорит о своем первом путешествии, следовательно, не исключает возможности других поездок. Впрочем, путешествия тем и хороши, что нередко заставляют взглянуть на себя и свою жизнь со стороны, а порой и сделать неожиданные открытия.
Осталось ли путешествие в Россию в памяти Кэрролла? Что он думал о нем? Обычно исследователи отвечают на этот вопрос решительно и однозначно: мол, он никогда не вспоминал об этой поездке и Россия ничего не значила для него. Однако существует его собственное признание о том впечатлении, которое произвела на него Россия и в особенности Москва. Когда спустя 23 года Мод Бланден, одна из его юных подружек, к тому времени выросшая, собралась вместе со своими родными поехать в Россию, он послал ей письмо, в котором просил записать для него русские детские имена — и ностальгически прибавил: «Когда-то я знал русский алфавит довольно хорошо, но это было тогда, когда я поехал в Россию в 1867 году, и теперь я начинаю его забывать… В целом, я думаю, Москва была самым замечательным из того, что я когда-либо видел».
Зачем он просил прислать ему русские детские имена? Неужели хотел что-то написать? Это так и остается неизвестным.
Глава четырнадцатая ПО ТУ СТОРОНУ ЗЕРКАЛА
Двадцать четвертого августа 1866 года, спустя менее года после выхода в свет «Алисы в Стране чудес», Кэрролл писал своему издателю Макмиллану: «У меня то и дело возникает мысль написать своего рода продолжение „Страны чудес“, и если из этого что-то получится, я намереваюсь с самого начала посоветоваться с Вами, чтобы всё было сделано как следует».
Конечно, это опять должна была быть книжка с иллюстрациями. Для Кэрролла было чрезвычайно важно с самого начала работы над книгой решить вопрос о художнике, ибо он всегда считал, что работать надо вместе с ним и многое зависит от совместных решений. К кому же обратиться, как не к Тенниелу, иллюстрации которого к «Алисе в Стране чудес» так понравились и публике, и издателю? Он написал Тенниелу, что задумал «вторую „Алису“», и выразил надежду, что тот возьмет на себя иллюстрации. Однако, к его удивлению, Тенниел ответил отказом, отговорившись, что слишком занят и не может взять на себя такой труд. Разумеется, он был занят: у него были новые заказы; к тому же он продолжал работу в «Панче», еженедельно выдавая новую карикатуру. Конечно, «Страна чудес» имела огромный успех, и Тенниел отдавал должное ее автору, но, видно, ему не очень хотелось снова работать под его недреманным оком.
К тому же, возможно, история с первым заводом «Алисы в Стране чудес» оставила у Тенниела неприятный осадок. Ведь именно он проявил излишнюю требовательность (чтобы не сказать придирчивость), а Кэрролл, надо признать, стойко перенес удар и согласился на его требования.
Как бы то ни было, Тенниел был занят. Кэрролл обратился было к другим иллюстраторам, потом к миссис Макдональд, знавшей многих художников и всегда готовой помочь ему, но вскоре понял, что ни один из них ему не подходит. В результате он снова написал Тенниелу. В конце концов ему удалось уговорить художника взять на себя иллюстрации к новой книге. Если гонорар в 138 фунтов, который потребовал Тенниел за «Страну чудес», в свое время поразил Кэрролла (это составляло четверть его тогдашнего годового дохода), что уж говорить о 290 фунтах за «Зазеркалье»? Правда, в этой книге было на восемь иллюстраций больше, но гонорар увеличился более чем вдвое! Может быть, Тенниел назвал такую сумму в надежде, что она испугает автора и он откажется от его услуг? Но Кэрролл без колебаний согласился: он был перфекционистом и понимал, что «Зазеркалье» должен иллюстрировать только Тенниел. Ему пришлось также принять поставленное художником условие: он приступит к работе лишь после окончания других заказов.
В отличие от первой сказки об Алисе вторая уже не была импровизацией: в ней чувствуется продуманный авторский замысел. Мартин Гарднер в «Комментированной „Алисе“» высказывает предположение, что тема Зазеркалья возникла позже основного замысла второй сказки, в основу которой, как вспоминала Алиса Лидделл, легли экспромты, которые сочинял Кэрролл, обучая девочек Лидделл игре в шахматы. Тема шахмат присутствует в окончательном тексте сказки, хотя теперь ее вряд ли можно назвать основной. Вместе со второй темой — Зазеркалья — она организует и крепко держит сюжет. И всё же Кэрролл назвал свою сказку «Зазеркальем». Очевидно, что в конце концов именно тема зеркала оказалась для него ведущей.
Как же возникла мысль о Зазеркалье — стране, лежащей по ту сторону зеркала? Трудно определить, как рождаются замыслы художников. Порой какие-то мелочи, смутные воспоминания, встречи подсказывают автору решения. Возможно, такой подсказкой стали для Чарлза оставленные когда-то стекольщиками подписи на внешней стороне окон, мимо которых он мальчиком проходил каждый день, подымаясь в свою комнату в Крофте. Возможно, была права Алиса Лидделл — сказка возникла как воспоминание об игре с ней и ее сестрами. А возможно, к созданию «Алисы в Зазеркалье» Кэрролла подтолкнул разговор с другой девочкой по имени Алиса, родившейся в 1862 году и приходившейся ему дальней родственницей. (Имя «Алиса», заметим, было весьма популярно в ту пору — так звали старшую дочь королевы Виктории.) Алиса Теодора Рейкс была старшей дочерью члена парламента Генри Сесила Рейкса; семья жила в доме на Онслоу-сквер, «через несколько дверей» от дядюшки Скеффингтона Латвиджа, которого Чарлз часто навещал. Задние двери домов на этой улице выходили в общий сад для жильцов. Спустя много лет Алиса Рейкс вспоминала об этой встрече с Кэрроллом:
«В детстве мы жили на Онслоу-сквер и играли, бывало, в саду за домом. Чарлз Доджсон гостил там у старого дядюшки и часто прогуливался по лужайке, заложив руки за спину. Однажды, услышав мое имя, он подозвал меня к себе.
— Так ты, значит, тоже Алиса. Я очень люблю Алис. Хочешь взглянуть на что-то очень странное?
Мы вошли в дом, окна которого, как и у нас, выходили в сад. Комната, в которой мы очутились, была заставлена мебелью; в углу стояло высокое зеркало.
— Сначала скажи мне, — проговорил он, подавая мне апельсин, — в какой руке ты его держишь.
— В правой, — ответила я.
— А теперь, — сказал он, — подойди к зеркалу и скажи мне, в какой руке держит апельсин девочка в зеркале.
Я с удивлением ответила:
— В левой.
— Совершенно верно, — сказал он. — Как ты это объяснишь?
Я никак не могла этого объяснить, но, видя, что он ждет объяснения, решилась:
— Если б я стояла по ту сторону зеркала, я бы, должно быть, держала апельсин в правой руке?
Помню, что он рассмеялся.
— Молодец, Алиса, — сказал он. — Лучше мне никто не отвечал.
Больше мы об этом не говорили; однако спустя несколько лет я узнала, что, по его словам, этот разговор навел его на мысль о „Зазеркалье“, экземпляр которого он и прислал мне в свое время вместе с другими своими книгами».
Этот рассказ был напечатан в «Таймс» 22 января 1932 года, накануне празднования столетия со дня рождения Льюиса Кэрролла, которое широко отмечалось в Англии и США. Долгое время считалось, что именно разговор с Алисой Рейкс навел Кэрролла на мысль о «Зазеркалье». Однако всё оказалось не так просто. Энн Кларк отмечает: Кэрролл лишь 24 июня 1871 года впервые упоминает в дневнике о том, что встретил Алису Рейкс на лужайке, а она пригласила его в дом и познакомила со своим отцом. «Это весьма интригующий эпизод, — замечает Кларк. — Ведь уже в 1867 году „книга серьезно продвинулась вперед“»[109]. Между тем девочке было в то время всего пять лет. Вряд ли тогда состоялась беседа, о которой она рассказывала 65 лет спустя. Как бы то ни было, Кэрролл подружился с Алисой Рейкс и навещал ее, когда бывал у дядюшки; их дружба сохранилась и после ее замужества и рождения дочери.
Мартин Гарднер полагает, что мысль о стране, лежащей по ту сторону Зеркала, появилась у Кэрролла в 1868 году, вскоре после возвращения из России. Заманчиво было бы предположить (Кэрролл провоцирует всех на самые невероятные предположения), что путешествие в Россию летом 1867 года нашло какой-то отклик в «Зазеркалье»: что, скажем, битва между Львом и Единорогом отражает события Крымской войны, а, к примеру, Труляля и Траляля представляют братские церкви, которые всё мечтают о единении, но ссорятся по пустякам… Тут можно было бы дать волю своей фантазии, как не так давно сделал французский критик Жан Перро. Ему пришло в голову, что русская народная сказка «Василиса Премудрая», переведенная на английский язык вскоре после возвращения Кэрролла из России и, возможно, известная ему, нашла свое отражение в «Зазеркалье». Впрочем, доводы Перро слишком натянуты и неубедительны, чтобы принимать их всерьез.
Скорее всего, в России Кэрролл думал о другой сказке. Во всяком случае, вскоре после возвращения из путешествия он послал рассказ «Месть Бруно» (Bruno’s Revenge) в ежемесячный детский «Журнал тетушки Джуди» (Aunt Judy’s Magazine), печатавший нравоучительные рассказы и сказки для детей и пользовавшийся большой популярностью. Журнал издавала известная детская писательница Маргарет Гэтти (Gatty). Свое семейное прозвище «тетушка Джуди» она использовала при издании книг «Рассказы тетушки Джуди» (1859), «Письма тетушки Джуди» (1862). Миссис Гэтти, прочитав присланную Кэрроллом «Месть Бруно», написала ему восторженное письмо и в декабре 1867 года опубликовала рассказ в своем журнале.
Кэрролл снабдил текст собственным рисунком. На нем был изображен сидящий на мыши крошечный эльф в причудливом камзольчике с буфами на рукавах и веточкой ландыша, перекинутой, словно палка, через плечо; на заднем плане видна девочка в коротком платьице, а на переднем, спиной к читателю, расположился человек, лица которого как следует не разглядеть, — рассказчик, повествующий о своей встрече с двумя представителями «волшебного народца» по имени Сильвия и Бруно.
Вот как начинает Кэрролл свой рассказ:
«День был очень жаркий, до того жаркий, что и на прогулку не пойдешь, и делать ничего не хочется, — потому-то, я думаю, всё и случилось.
Во-первых, почему это, позвольте вас спросить, феи всегда учат нас выполнять свой долг и бранят нас, чуть что не так, а мы их никогда не наставляем? Ведь не станете же вы утверждать, что феи никогда не жадничают, не думают только о себе, не сердятся, не жульничают, — ведь это было бы, признайтесь, бессмысленно. Значит, вы со мной согласитесь, что им же было бы лучше, если бы время от времени их слегка бранили и наказывали? Право, я не понимаю, почему бы не попробовать, и я почти уверен (только, прошу вас, не говорите об этом громко в лесу), что если бы вам удалось поймать фею, поставить ее в угол и подержать денек-другой на хлебе и воде, она бы тотчас изменилась к лучшему, во всяком случае, дерзости бы в ней поубавилось…»
Собственно, об этом и повествует Кэрролл: как маленький Бруно не хотел учить уроки и был наказан — нет, не автором, а своей старшей сестрицей Сильвией, и как ей за это «отомстил». И героев здесь трое: Сильвия, Бруно («один был шалунишка, а вторая — добрая девочка») и, конечно, рассказчик. Автор прямо участвует в сказке и играет в ней далеко не последнюю роль: беседует с маленькими героями, поучает их, а еще говорит — с интонацией, присущей ему одному, — о разных весьма отвлеченных материях, живо его интересующих. Словом, он — настоящий лирический герой. Интересно, что он не прячется за чужое имя. Когда Бруно спрашивает, как его зовут, он прямо отвечает: «Льюис Кэрролл», словно ставит свою подпись под всеми речами и мыслями «рассказчика».
(Здесь, пожалуй, следует отметить, что сказочный народец, который британцы называют fairies, по старой традиции, идущей из глубины времен, состоит из особей разного возраста, пола и поведения, включая в себя фей, волшебниц, как добрых, так и злых, и всяких прочих эльфов. В сказочной повести «Питер Пэн и Венди», написанной известным шотландским писателем Джеймсом Мэтью Барри (Barrie) в начале XX века, Питер как-то жалуется, что фея Дзинь-Дзинь очень дерзка и ревнует его к Венди, а другие — безымянные — fairies вечно лезут ему под ноги. Последние, пожалуй, всё же скорее принадлежат к мужскому полу… Впрочем, кто знает? Барри, конечно, хорошо знал сказки Кэрролла. Словом, не будем удивляться тому, что Бруно у Кэрролла — мальчик из племени «фей».)
Автор — вернее, рассказчик — продолжает:
«Ну а во-вторых, возникает такой вопрос: когда можно лучше увидеть фей и прочий волшебный народец? Я, пожалуй, могу вам на этот вопрос ответить.
Первое правило здесь такое: день должен быть очень жарким — об этом даже спорить не приходится; и вас должно слегка клонить ко сну — однако не слишком, так что глаза у вас, не забудьте, не должны закрываться. Ну и, конечно, настроены вы должны быть на „нездешний“ лад — шотландцы называют такой настрой „призрачным“, а то и „потусторонним“ — может, это и лучше звучит; ну а если вам неизвестно, что это значит, вряд ли я смогу вам объяснить, подождите, пока увидите фею, тогда и поймете».
Собственно, здесь Кэрролл снова возвращается к теме сна и бодрствования, к тому переходному состоянию, которое дарит возможность «видеть фей». Рассказ написан для детского журнала: он очень прост по сюжету и, в противоположность «Стране чудес», поучителен и сентиментален. Бруно, рассердившись на сестру, начинает рвать цветы в ее цветнике, но его взрослый друг предлагает другую «месть»: привести цветник в порядок, вырвать сорняки и украсить его разноцветными камешками. Сначала Бруно не понимает его, но в конце концов соглашается. А когда появляется Сильвия и приходит в восторг от цветника, Бруно разражается слезами:
«— Я хотел… испортить твой цветник… сначала… но я ни за что… ни за что…
И он снова зарыдал, заглушая конец фразы. Наконец он с трудом произнес:
— Мне было весело… сажать цветы… для тебя, Сильвия… Мне никогда раньше не было так весело…
И он поднял голову, так что Сильвия смогла, наконец, поцеловать его розовые щечки, мокрые от слез.
Теперь уж и Сильвия расплакалась.
— Бруно, милый! — только и говорила она. — Я никогда не была так счастлива…»
Да, это не тот Кэрролл, которого мы знаем по сказке о Стране чудес. Однако и в этом рассказе, как в «Алисе» и многом из того, что еще создаст Кэрролл, есть второй, а возможно, и третий план. Кэрролл пишет для детей, которые читают «Журнал тетушки Джуди», но также и «для себя»: для того «ребенка», который, по тонкому замечанию Вирджинии Вулф, спрятан в нем, и для «рассказчика», который любуется «местью Бруно». А еще — для мыслителя, занятого сложнейшими проблемами, в данном случае — проблемой творчества.
Спустя годы эта сказка войдет главой в книгу Кэрролла «Сильвия и Бруно». Он будет занят этим вопросом и многими другими: судьбами того царства, где появились Сильвия и Бруно, и другого, реального царства, в котором живет рассказчик, и еще третьего царства — но об этом позже…
Трудно представить себе, что сказочный рассказ «Месть Бруно» был написан тем же автором, который создал «Алису в Стране чудес» и в голове которого роились мысли о «Зазеркалье». Но Кэрролл был очень своеобычный человек, многообразный и противоречивый.
Вернувшись из путешествия в Россию, он возобновил встречи и переписку со своими маленькими друзьями. Вот письмо, адресованное Анни Роджерс[110]:
«Дорогая Анни!
Это поистине ужасно. Ты не имеешь ни малейшего представления о той печали, которая охватила меня, пока я пишу. Мне пришлось воспользоваться зонтиком, чтобы слезы не капали на бумагу. Ты приезжала вчера фотографироваться? И ты очень рассердилась из-за того, что меня не оказалось дома? Вот как было дело. Я отправился на прогулку с Бибкинсом, моим закадычным другом Бибкинсом. Мы отмахали много миль от Оксфорда — пятьдесят или сто, не помню. И в тот момент, когда мы пересекали поле, на котором паслось множество овец, мне внезапно пришла в голову одна мысль, и я спросил торжественно: „Добкинс, который сейчас час?“ — „Три часа“, — ответил Фипкинс, несколько удивленный моим тоном. Слезы потекли у меня по щекам. „Это тот самый ЧАС, — сказал я. — А скажите, скажите мне, Хопкинс, какой сегодня день недели?“ — „Разумеется, понедельник“, — ответствовал Лупкинс. — „Это тот самый ДЕНЬ!“ — простонал я. Я заплакал. Я зарыдал. Овцы сгрудились возле меня и стали тереться своими нежными носами о мой нос. „Мопкинс! — воскликнул я. — Вы мой самый старый друг. Не обманывайте меня, Нупкинс! Который сейчас год?“ — „Думаю, что 1867-й“, — отвечал Пипкинс. — „Это тот самый ГОД!“ — вскричал я так громко, что Тапкинс упал в обморок. Всё было кончено: меня привезли домой на тележке в сопровождении верного Уопкинса, разобранного на несколько частей.
Когда я немного оправлюсь от потрясения и проведу несколько месяцев на морском курорте, я непременно навещу тебя и назначу другой день для фотографирования. А пока я еще слишком слаб, чтобы писать самому, и поэтому за меня пишет Зипкинс.
Твой несчастный друг Льюис Кэрролл».Это письмо, несомненно, принадлежит к числу маленьких шедевров эпистолярного наследия Кэрролла.
Приведем еще письмо, посланное из Крайст Чёрч 28 ноября 1867 года Агнесс Арглз, в котором Кэрролл разыгрывает одну из своих излюбленных тем:
«Дорогая мисс Долли!
Я получил важные сведения от одного моего друга — некоего мистера Льюиса Кэрролла, престранного человека и большого любителя нести всякую чепуху. Он сообщил мне, что когда-то ты попросила его написать еще одну книгу вроде той, которую ты прочитала, — забыл, как она называется, что-то о лисе.
— Передайте ей, — сказал он, — что я только что написал небольшую повесть, которая напечатана в „Журнале тетушки Джуди“, и заказал один экземпляр для нее.
— Прекрасно, — заметил я, — и это всё, что вы хотели сообщить мне?
— Передайте ей еще вот что, — сказал он, и несколько слез скатилось по его щекам. — Я очень надеюсь (так ей и передайте), что она не рассердилась на меня за все те глупости, которые я наговорил о ее имени. Вы ведь знаете, что иногда…
— Всегда, — поправил его я.
— …иногда я несу чепуху, и если она рассердилась, то надеюсь, что на этот раз простит меня!
Тут слезы хлынули на меня проливным дождем (я забыл сообщить тебе, что, разговаривая со мной, он высунулся из окна, под которым я стоял), и я промок почти насквозь.
— Немедленно прекратите, — пригрозил я, — или я ни о чем не сообщу ей!
Он втянул свою голову и закрыл окно.
Если ты вздумаешь написать ему письмо, то лучше всего пришли это письмо мне.
Преданный тебе Чарлз Л. Доджсон».Посылая своим юным друзьям сказку о Бруно, Кэрролл сопровождает его письмами от лица ее героев. Таково письмо Димфне Эллис от 2 декабря 1867 года:
«Уважаемая мисс Димфна!
Поскольку мистер Доджсон попросил меня написать Вам вместо него, извещаю Вас, что он послал Вам номер „Журнала тетушки Джуди“, чтобы Вы могли прочитать небольшую повесть, которую он написал о Бруно и обо мне. Дорогая мисс Димфна! Если Вам доведется побывать в нашем лесу, я буду очень рад повидать Вас и покажу Вам красивый сад, который Бруно разбил для меня.
Любящая Вас крошка Сильвия».В письме, отправленном Агнесс Арглз 4 декабря 1867 года, он подробнее развивает эту тему:
«Достопочтенная леди!
Мистер Льюис Кэрролл попросил меня сегодня утром написать тебе вместо него и сообщить тебе вот о чем. Прежде всего, он очень признателен за твое чудесное письмо, посылает тебе свою фотографию, чтобы ты больше не гадала, как он выглядит, и надеется получить от тебя твою фотографию. (Мистер Льюис Кэрролл считает, что мне не следовало делать в конце это замечание, и предпочитает закончить предыдущую фразу словами „как он выглядит“.) Затем он очень хотел бы знать, сколько тебе лет. Я сказал ему, что спрашивать леди про ее возраст невежливо, на что он заметил:
— Эта леди очень молода и не станет возражать против моего вопроса.
Бруно говорит, что ему очень хотелось бы показать тебе наш сад, который стал теперь „еще красивее“. Бруно устроил в саду небольшую бухточку — ты даже не представляешь, как красиво он всё сделал.
Бруно просит передать тебе свой привет. Мистер Льюис Кэрролл также хотел бы передать тебе привет, но я сказал ему, что этого не следует делать, так как ему было бы лучше передать тебе „наилучшие пожелания“, если уж ему так хочется, но он в ответ сказал только:
— Тогда я не передам ей ничего, — и ушел.
Не очень-то вежливо с его стороны?
Любящая тебя крошка Сильвия».Эпистолярное наследие Кэрролла необыкновенно разнообразно. В корреспонденции с детьми он дает волю своему творческому воображению. В качестве примеров приведем еще два письма Маргарет Каннингем, с которой Кэрролл подружился в 1868 году. Первое письмо написано в виде счета:
Февраль 1868 г.
Мисс М. Каннингем, долг мистеру Ч. Л. Доджсону СЧЕТ
Фунтов стерлингов Шиллингов Пенсов За одну похищенную перчатку по цене 4 шиллинга пара - 2 0 За боль от потери - 3 8 ½ За доставленное беспокойство - 4 4½ За причиненные неприятности - 14 7 За время, потраченное на поиски вора - 1 6 Итого 1 6 2Получено с благодарностью Ч. Л. Доджсон
В другом письме, посланном Маргарет Каннингем из Лондона 7 апреля 1868 года, Кэрролл писал:
«Дорогая Мэгги!
Боюсь, я очень плохой корреспондент, но надеюсь, что ты не перестанешь писать мне из-за этого. Я завел себе записную книжку и постараюсь внести в нее и самого себя, если только не забуду, когда мой день рождения, но такие вещи легко забываются.
Кто-то сказал мне (думаю, какая-то птичка), что у тебя есть более удачные фотографии, на которых изображена ты. Если это действительно так, то, надеюсь, ты позволишь купить несколько таких фотографий. Фанни заплатит тебе за них. Но как ты можешь, о Мэгги, просить у меня мою фотографию, которая была бы лучше той, которую я послал тебе! Ведь это самая лучшая фотография, которая была когда-либо сделана! Какая осанка, какое достоинство, какая благожелательность, какое… (пропуск сделан Кэрроллом — якобы он не мог найти достойное слово. — Н. Д.)! По секрету скажу тебе (и прошу не говорить об этом никому!), что сама королева прислала попросить у меня одну такую фотографию, но так как уступать в подобных случаях против моих правил, я был вынужден ответить: „Мистер Доджсон свидетельствует Ее Величеству свое почтение и с сожалением сообщает, что неукоснительно придерживается правила не дарить своих фотографий никому, кроме юных леди“.
Мне сказали, что мой ответ вызвал неудовольствие Ее Величества, и она заметила:
— Я вовсе не так стара, как кажется.
Разумеется, не следует вызывать неудовольствие Ее Величества, но тут, как ты знаешь, я ничем не мог помочь.
Любящий тебя друг».Летом 1868 года семью Доджсон постигло несчастье: 21 июня скончался отец. Смерть была внезапной; он чувствовал недомогание, но никто не полагал, что болезнь серьезна. Дочери, ухаживавшие за ним и внимательно следившие за его температурой, были потрясены его смертью. Чарлз находился в Оксфорде, когда пришла печальная весть. Годы спустя он, по свидетельству Коллингвуда, признался, что смерть отца «была самым тяжелым ударом в его жизни».
Кэрролл как старший сын взял на себя заботы о семье, особенно о семи сестрах (в то время ни одна из них не была замужем). Им предстояло расстаться с Крофтом, где они были так счастливы, найти новый дом и устроиться там. Всем этим занялся Чарлз. Отец оставил каждой из дочерей обеспечение, весьма скромное; Чарлз на протяжении всей своей жизни регулярно посылал сестрам денежные переводы и подарки. Братьям он помогал больше советами, если в них была нужда, но при необходимости и деньгами.
После долгих и тщательных поисков, в которых Чарлз принимал самое деятельное участие, в Гилфорде был наконец найден дом, подходящий для сестер (братья к тому времени уже жили самостоятельной жизнью). Гилфорд находится недалеко от Лондона и Оксфорда, а дом под названием «Честнатс» («Каштаны»), приобретенный для сестер, обладал всеми необходимыми качествами, чтобы там могли устроиться семья и навещавшие ее родственники и друзья. Кэрролл часто посещал сестер и неизменно праздновал с ними Рождество. Если места в доме для всех не хватало, он селился в гостинице.
Старшая сестра Чарлза, Франсис (Фанни), была старше его на четыре года. Она любила цветы и музыку, была артистична и глубоко религиозна, ухаживала за больными и калеками.
Наиболее близок Чарлз был со второй сестрой, Элизабет. Несмотря на всего лишь двухлетнюю разницу в возрасте, она нередко заменяла ему в детстве мать, вечно занятую другими детьми, опекала его, как могла, а он делился с ней своими радостями и печалями. Элизабет очень любила детей и с удовольствием нянчила младенцев. Третья сестра, Кэролайн, более других детей страдала заиканием и была чрезвычайно робка и замкнута. Из семейных писем видно, что близкие о ней особенно беспокоились.
Мэри, с которой Чарлз также был очень дружен, единственная из всех сестер вышла замуж. В 1869 году, когда ей было уже за тридцать, ее супругом стал преподобный Чарлз Коллингвуд. Вскоре после помолвки Чарлз написал преподобному Коллингвуду теплое письмо, а впоследствии поддерживал с их семьей самые добрые отношения. Когда у Мэри родился сын и она попросила Чарлза стать его крестным отцом, брат ответил, что у него уже столько крестников, что обычно он не соглашается, однако ей, конечно, отказать не может. Жили они с мужем, часто болевшим, очень скромно. Она скучала по сестрам и после смерти мужа вернулась к ним. Ее сын Стюарт Доджсон Коллингвуд стал семейным биографом. В 1898 году, когда писателя не стало, его племянник и крестник подготовил и выпустил его первую биографию.
Луиза обладала незаурядными способностями к математике и до конца своих дней занималась ею с таким увлечением, что не замечала ничего кругом. Она умерла в возрасте девяноста лет, пережив всех братьев и сестер. Маргарет помогала отцу в школе для бедных детей, которую он учредил в Крофте. Она также любила математику, а еще — игру в триктрак.
Младшая сестра, эксцентричная Генриетта, получив небольшое наследство, поселилась отдельно от семьи, в Брайтоне, но поддерживала близкую связь с сестрами и братьями.
Дом в Гилфорде сохранился, и приезжающие поклонники Кэрролла могут полюбоваться на него, но лишь из-за высокой ограды. На воротах, которые всегда заперты, прикреплена небольшая мемориальная доска.
К концу 1868 года Кэрролл закончил поэму в семи песнях, которую назвал «Фантасмагория». Возможно, мысль о ней пришла ему в голову в связи с возрастающим в обществе увлечением всяческими духами и фантомами. Книга вышла в начале января 1869 года под названием «Фантасмагория и другие стихотворения»; помимо поэмы в ней было свыше двадцати стихотворений самых различных видов и содержания. Уже 7 января Макмиллан уведомил автора, что продано 700 экземпляров и он заказал отпечатать еще тысячу. Это было неплохое начало, особенно если учесть, что в книге отсутствовали иллюстрации. А 19-го Макмиллан писал Кэрроллу, имея в виду, очевидно, критиков: «„Фантасмагорию“ еще не заметили. Вчера Генри Кингсли ее безумно хвалил».
Раз поздно вечером зимой, Рассержен и простужен, Я чуть живой пришел домой, Где, знал я, ждут меня покой, Вино, сигара, ужин. Но что-то было здесь не так, Бледнело, прячась в угол, Взглянул я пристально во мрак: Какой-то, я решил, пустяк Оставила прислуга. Тут кашель, вздохи, стоны вдруг Во мраке зазвучали, И я спросил: «Ты кто, мой друг? Я не люблю подобных штук, Их прекратить нельзя ли?» «На вашем я простыл крыльце», — Мне что-то отвечало. Я с удивлением в лице Взгляд поднял: привиденьице Передо мной стояло![111]Так начинается поэма «Фантасмагория». Весьма неожиданное начало! Такого Кэрролла читатели еще не знали. Впрочем, у него всё было необычным и неожиданным. «Привиденьице» представляется фантомом второй степени (всего лишь!) и с готовностью повествует о сложной фантомной иерархии, а потом излагает пять правил поведения фантомов, вспоминает о своем детстве — «О, чудная пора!» — и горько сетует на незавидное существование. Тонкий юмор, ирония и всяческие парадоксы соседствуют здесь с размышлениями о Шекспире, поэзии и прочих высоких материях. Немудрено, что в конце поэмы рассказчик горько плачет, расставшись с дружелюбным посетителем:
Казалось, было всё во сне, — Настолько эфемерно. Подкралась тихо грусть ко мне, Я сел и плакал в тишине Час или два, наверно.Насладившись чтением этой удивительной поэмы, викторианский читатель, возможно, невольно задумывался: а не сатира ли это на охватившее в ту пору Англию увлечение столоверчением и прочими попытками связаться с потусторонним миром? Как отмечалось выше, Кэрролл интересовался парапсихологией и не отметал безоговорочно экстрасенсорику. Его «Фантасмагория» — всё же не сатира, а скорее легкое юмористическое повествование, в котором автор в равной степени смеется и над необычным героем, и над рассказчиком, а возможно, и над самим собой.
В сборнике было несколько очень удачных стихотворений. Вот «Мисс Джонс» — горестная история юной девы, назначившей свидание робкому поклоннику и тщетно прождавшей его до поздней ночи:
Так сидела Арабелла и вздыхала то и дело На сыром, холодном камне и ужасно оробела. Когда кто-то, незнакомый ей совсем, Вдруг промолвил: «Добрый вечер, мэм! И не страшно вам одной? Бродят воры в час ночной… Это что у вас, браслетик? Вероятно, золотой! А колечки? Разрешите… и напрасно вы кричите, Потому что полицейский совершил уже обход И чаёк на кухне пьет». — «Стой! Держите негодяя! — Завопила Арабелла, руки к небу воздевая, — О, когда решилась я осчастливить Смита, Разве знала я, что стану жертвою бандита? О мой Саймон, как ты мог поступить так гадко? И зачем сидят с кухарками блюстители порядка!» И вопль ее в ночную тьму летел шагов на двести: «Ну почему, ну почему их вечно нет на месте?»[112]Кэрролл снова прибегает к излюбленной строфе Суинберна, что усиливает юмористическое звучание стишка.
В стихотворении Poeta fit, поп nascitur[113] Кэрролл переворачивает известное изречение Цицерона: Oratores fiunt, poetae nascuntur[114]. Вот какие советы дает любящий дед внуку, возмечтавшему стать поэтом и тем «избежать тленья».
Ты, значит, вздумал сей же час Заделаться поэтом? Садись и слушай мой наказ, Внимай моим советам. Сперва усвой прием простой, Сравнимый с винегретом: Ты должен фразу написать, Нарезать на слова И как попало разбросать, Перемешав сперва. Порядок слов не важен тут, И не нужна канва. Чтоб впечатленье произвесть, Как все твои собратья, Учись писать с заглавных букв Абстрактные понятья: Добро и Совесть, Ум и Честь, Все, словом, без изьятья…Умудренный дед советует начинающему поэту употреблять слова, которые, подобно редингскому соусу, «пойдут к еде любой», и перечисляет наиболее часто встречающиеся эпитеты:
Всех лучше: сирый, тайный, злой, Безумный и младой! — А взявши несколько, нельзя ль В одну собрать их фразу: «Безумец сирый, глядя вдаль Младую кушал зразу»? — Нет, мальчик мой, остерегись Их применять все сразу…[115]В этом весьма пространном — 108 строк! — саркастическом стихотворении содержится целый набор избитых приемов, которыми охотно пользовались посредственные поэты той поры.
Есть в сборнике и стишки на случай (день рождения, встречу, ошибку, погоду и пр.), и веселые шутки, и знакомая нам «Аталанта в Кэмден-Тауне», и такой шедевр, как «Гайавата фотографирует». Как мы помним, Кэрролл использует для «подмалевка», создающего юмористический эффект, произведения поэтов, пользовавшихся известностью в те годы: Теннисона («Три голоса»), Лонгфелло («Гайавата фотографирует»), Суинберна («Аталанта в Кэмден-Тауне»). Степень ироничности и звучание этих стихотворений разнятся в зависимости от замысла автора.
Меж тем работа над иллюстрациями к новой сказке об Алисе продвигалась медленно. Кэрроллу не терпелось увидеть ее напечатанной, но Тенниел, как ему казалось, не очень торопился. Тенниел, в свою очередь, имел претензии к автору. Он решительно не одобрил эпизод, в котором речь шла о странном насекомом — Кэрролл назвал его «Оса в парике» (The Wasp in the Wig). По первоначальному замыслу этот эпизод должен был предварять заключительную главу «Зазеркалья», где Алиса становится Королевой. Не одобрил Тенниел и одну деталь в главе о поездке Алисы в поезде. 1 июня 1870 года он послал Кэрроллу письмо:
«Мой дорогой Доджсон,
Мне кажется, что во время прыжка через ручей (сцена в поезде) Вы могли бы заставить Алису вцепиться в козлиную бороду, а не в волосы старой дамы. Ведь в результате прыжка Алису просто швыряет в этом направлении.
Не сочтите меня бестактным, но я вынужден сказать, что глава об осе меня решительно не устраивает. Я не вижу в ней ничего для иллюстраций. Думаю — при всей готовности согласиться с Вашим решением, — что если Вы хотите сократить книжку, этой возможности упускать не следует. Мучительно спешу —
Искренне Ваш
Дж. Тенниел».Как видим, Тенниел только приступил к иллюстрациям для третьей главы («Зазеркальные насекомые»); немудрено, что Кэрролл волновался. Он принял оба предложения Тенниела: старая дама и фрагмент с Осой исчезли. (Долгое время этот эпизод считался безнадежно потерянным, однако в 1977 году он был найден и опубликован Мартином Гарднером. Я перевела на русский язык этот любопытный фрагмент и включила его в издание Кэрролла в серии «Литературные памятники» (1978). Замечу кстати, что Осу пришлось заменить на Шмеля, так как речь в этом отрывке идет о старичке, жаловавшемся Алисе на свои хвори. Русская «оса» никак здесь не подходила — мешал грамматический женский род.)
Кэрроллу пришлось изменить и первоначальный замысел стихотворения «Бармаглот», первая строфа которого («Варкалось. Хливкие шорьки…»), как читатель, верно, помнит, появилась еще в 1855 году. Полный текст этого «бессмысленного» стихотворения, о котором Алиса говорит, что она поняла только, что там «кто-то кого-то убил», занимал две страницы. Кэрролл хотел, чтобы всё стихотворение было набрано в зеркальном отражении (сам он писал и читал так без всяких трудностей, о чем свидетельствуют некоторые из его писем детям). Тенниел решительно возражал. В конце концов в зеркальном отражении были напечатаны лишь первая строфа и заголовок стихотворения в главе I («Зазеркальный дом»), где Алиса впервые читает его. Полный текст — в обычном виде — появляется лишь в главе VI, где Шалтай-Болтай объясняет Алисе непонятные слова. Так его и печатают по сей день.
Потом начались волнения из-за фронтисписа. Тенниел предполагал поместить на него свой рисунок с изображением Бармаглота, Кэрроллу эта идея не нравилась, и он решил провести по этому поводу опрос читателей. Он, по словам Коллингвуда, разослал «примерно тридцати замужним приятельницам» послания следующего содержания:
«С этим письмом посылаю Вам оттиск предполагаемого фронтисписа к „Алисе в Зазеркалье“. Мне дали понять, что это чудище слишком устрашающее и может напугать впечатлительных и нервных детей и что в любом случае следовало бы открывать книгу более привлекательным рисунком.
Посему предлагаю решить этот вопрос моим друзьям, для чего были заказаны оттиски фронтисписа.
Перед нами три пути:
1) Оставить эту иллюстрацию в качестве фронтисписа.
2) Перенести ее в то место книги, где напечатана баллада, которую она иллюстрирует, а фронтиспис дать другой.
3) Вовсе отказаться от этой иллюстрации.
Выбрать последнее решение означает принести в жертву огромный труд, затраченный на эту иллюстрацию; делать так без достаточной необходимости не хотелось бы.
Я буду весьма благодарен, если Вы выскажете свое мнение, какой путь следует избрать. Его можно проверить, показав, по Вашему усмотрению, изображение детям».
Матери и дети выбрали второй путь — с фронтисписа Бармаглота убрать, но в книжке оставить. Джон Падни по этому поводу замечает: «Этот единственный в своем роде случай читательского соучастия в творчестве раскрывает нам еще одну особенность личности Кэрролла — его стремление к совершенству и доверие к читателям»[116].
(Я последовала примеру Кэрролла и задала своей внучатой племяннице тот же вопрос: как быть с Бармаглотом? Семилетняя Маруся без колебаний ответила: «Удалить!» Сказать по правде, я удивилась: мне казалось, что современные дети насмотрелись всяких «ужастиков» и ничего не боятся. Я возразила, что эту сказку читают не только дети, но и взрослые, но она стояла на своем. Впрочем, позже, когда этот вопрос был предложен на семейное рассмотрение, Маруся внезапно решила: «Перенести в другое место!» И я сказала: «Знаешь, сам Кэрролл тоже так думал».)
Как ни был Кэрролл занят «Зазеркальем» и иллюстрациями Тенниела, он продолжал внимательно следить за литературой, в частности за творчеством своего любимого поэта Теннисона. В 1870 году Кэрролл, к тому времени уже известный писатель, снова обратился к Теннисону с письмом:
«Дорогой мистер Теннисон,
Прошло уже столько лет с тех пор, как я бывал у Вас в доме, что, боюсь, Вы даже не вспомните мое имя. Пишу Вам по тому же поводу, что и оба раза прежде. Мое глубокое восхищение Вашими творениями (включая и Ваши ранние стихи) должно извинить мою назойливость.
Одно из Ваших стихотворений под названием „Окно“ было, кажется, отпечатано для узкого круга лиц. Однако оно переписывалось и распространялось в списках. Один из моих друзей, став обладателем такого экземпляра, в свою очередь преподнес его копию мне. Я пока не прочел стихотворение, но с тем большим удовольствием сделаю это, когда буду знать, что Вы не возражаете, чтобы я сохранил его у себя. Прошу также Вашего позволения показать его моим друзьям. Не смею просить о разрешении дарить им копии с него, хотя я счел бы такое разрешение величайшей милостью».
Очевидно, Кэрролл не догадывался, что затронул тему, весьма болезненную для поэта-лауреата; он еще не раз попадал в трудное положение из-за своей крайней щепетильности и прямоты. К тому же он имел неосторожность напомнить Теннисону, что однажды уже обращался к нему с аналогичной просьбой: речь шла о поэме «Жизнь влюбленного», которую «одна молодая дама, его двоюродная сестра, переписала для себя». Тогда по просьбе поэта он убедил кузину уничтожить копию.
Теннисона сердило распространение неавторизованных списков его стихов. «Жизнь влюбленного» не принадлежала к их числу, но всё же с ней у автора были связаны неприятные воспоминания. Поэма была написана им в 19 лет; напечатав две ее части, он приостановил публикацию. Лишь в 1879 году (Теннисону было уже 70 лет) переработанная поэма вышла целиком, с предисловием, в котором автор объяснял, что ранее приостановил публикацию, ибо «понял ее несовершенство». «Однако один из моих друзей без моего ведома распространил среди наших знакомых определенное количество экземпляров этих двух частей — без сокращений и исправлений, которые я собирался сделать».
Конечно, Кэрролл не мог знать этих подробностей, но всё же ему стоило вспомнить о реакции поэта на его предыдущую просьбу.
Чарлзу ответила миссис Теннисон:
«Сэр,
Не следует тревожить мистера Теннисона просьбой, которая лишь воскресит в нем пережитую досаду и, к тому же, еще добавит новую.
Несомненно, „Окно“ распространялось стараниями той же бесцеремонной особы, чье вероломство вложило в Ваши руки и „Жизнь влюбленного“.
Что бы ни предпринимали подобные люди, всякий джентльмен должен понимать, что автор, не предающий огласке свои сочинения, имеет на то основания.
Преданная Вам Эмили Теннисон».Можно понять раздражение Теннисона по поводу списков его неопубликованных стихотворений, однако в данном случае его супруга, написавшая письмо с согласия, а скорее даже по поручению самого поэта-лауреата, зашла слишком далеко. Список двух частей поэмы «Жизнь влюбленного» был сделан кузиной Чарлза с опубликованного самим Теннисоном текста; вряд ли бедная «молодая дама» заслужила звания «бесцеремонной» и «вероломной». Откуда ей было знать, что поэт приостановил публикацию, осознав несовершенство поэмы? Ведь сам он напишет об этом лишь спустя годы. С другой стороны, в последней фразе содержится явный намек на то, что Чарлз повел себя не по-джентльменски. Такое обвинение он не мог оставить без ответа. Свое письмо он адресует Теннисону, а не его супруге; тон его сдержан, но содержание недвусмысленно:
«Позвольте напомнить Вам, что в обоих случаях моя роль была чисто пассивной и что каждый раз я сообразовывался с Вашими желаниями и следовал им. Стихотворение находится в обращении и оказалось в моих руках без всяких действий с моей стороны. При таких обстоятельствах я имею право просить Вас точно определить, в чем именно я нарушил самые строгие требования чести».
Полученный ответ не удовлетворил Кэрролла, и недоразумение не было разрешено, что заставило его послать Теннисону еще одно письмо, уже гораздо более резкое:
«Милостивый государь,
Итак, Вы, как я вижу, сперва наносите человеку оскорбление, а потом прощаете его — то есть сначала наступаете ему на ногу, а затем просите не кричать!
Тем не менее я принимаю Ваши слова по существу за то, чем они не являются по форме: как мое освобождение (правда, без тени извинений или сожалений) от всех оскорбительных обвинений и как признание того, что они были сделаны Вами без достаточных оснований.
Искренне Ваш Ч. Л. Доджсон».К сожалению, на этом закончилось так хорошо начинавшееся знакомство с поэтом-лауреатом. Собственно говоря, ни для щепетильности Кэрролла, ни для суровых писем Теннисона не было серьезных оснований, поскольку «Окно» не только ходило в рукописи, но и было напечатано с разрешения поэта в 1867 году. Впрочем, для нас важно одно: вся эта история не помешала Чарлзу по-прежнему высоко ценить поэзию Теннисона, следить за новыми публикациями, читать и перечитывать его стихи.
«Мод», несмотря на неровность и темные места, оставалась среди его любимых сочинений. Эта поэма о преданной и страстной любви, написанная с глубоким чувством, не переставала его восхищать. Об этом свидетельствует и эпизод из «Зазеркалья» (глава II «Сад, где цветы говорили»), вышедшего в свет в декабре 1871 года, уже после разрыва с Теннисоном. Зазеркальный сад, где цветы переговариваются о приближении Черной Королевы, появился не без влияния поэмы Теннисона (стихотворение «Сад Роз»). Обратим внимание на то, что у Кэрролла в этой главе переговариваются те же цветы, что у Теннисона: розы, лилия и шпорник.
Мартин Гарднер, указавший в своих комментариях на сходство этих эпизодов, называет вариант Кэрролла «пародией» на Теннисона. Это не совсем так. В данном случае точнее было бы употребить старое русское слово «травестия». Ведь Кэрролл не высмеивает оригинал, а лишь использует его для создания особого фона и предлагает скорее шуточное, чем пародийное прочтение.
Заметим также, что в «Зазеркалье» фраза молодого Шпорника: «Вон она идет. Я слышу ее шаги — топ-топ! — по дорожке!» — связана с эпизодом, который Кэрролл вряд ли стал бы высмеивать. Вот как звучит этот фрагмент у Теннисона:
Уронили цветы мои слезы, и ниже Лепестки наклонили в бреду. Не она ли идет, не ее ли увижу, Жизнь мою и голубку в саду? Роза алая вскрикнула: «Ближе, ближе!» Плачет белая, прочит беду, И прислушался шпорник: «Я слышу, слышу!» И шепнула лилия: «Жду!»[117]Викторианский читатель достаточно хорошо знал поэзию Теннисона, чтобы по достоинству оценить этот шутливый «отзвук».
Кэрролл внимательно следил за всем происходящим в колледже и не раз вступал в конфликт с ректором Лидделлом, нередко посвящая очередным событиям едкие памфлеты, которые рассылал по всему колледжу, а то и университету. Один из них был написан в 1872 году по случаю возведения новой колокольни Крайст Чёрч. Сейчас уже забыты причины создания этого памфлета. Некоторые исследователи пишут, что кубическая надстройка была возведена лишь на время ремонта, другие с этим не соглашаются. Но все хорошо помнят сатиру Кэрролла, ибо она прекрасно иллюстрирует его стиль памфлетиста. Приведем несколько выдержек.
«…II. О стиле Новой Колокольни Крайст Чёрч.
Стиль этот известен под названием „Ранний Искаженный“, очень ранний и на удивление искаженный.
III. О происхождении Новой Колокольни Крайст Чёрч.
Люди посторонние не раз вопрошали — с настойчивостью, грозящей принять личный характер, и с безрассудством, которое порой бывает трудно отличить от безумия: кому мы обязаны первым грандиозным замыслом этого сооружения? Был ли то Казначей, говорят они, постаравшийся, вопреки всем протестам, навязать его колледжу? Или какой-либо профессор сделал проект этой коробки, которая вне зависимости от того, прикрыта она крышкой или нет, одинаково режет глаз?.. Слухи по этому поводу ходят самые разные. Говорят, что Ученый совет породил эту идею сообща: первоначально было выдвинуто предложение принять за образец башню Св. Марка в Венеции, однако после серии дополнений и поправок всё свели, в конце концов, к простому кубу. Говорят еще, что профессор химии предложил для этого сооружения форму кристалла. А еще утверждают, будто профессор математики обнаружил ее в „Одиннадцатой Книге“ Евклида. По правде говоря, различным легендам, ходящим по этому поводу, нет числа. К счастью, мы располагаем подлинными фактами, полученными из самых надежных источников.
Действительное происхождение проекта таково: Глава колледжа вкупе с архитектором, испытывая естественное желание увековечить возможно более наглядно свои имена, остановились на прекрасной и беспримерной мысли представить в виде новой колокольни гигантскую модель Греческого Лексикона. Но, прежде чем эта мысль была приведена в исполнение, оба они были вынуждены отлучиться по делам на несколько дней в Лондон; во время их отсутствия всё было каким-то образом передано (эта часть истории так и осталась до конца не вполне ясной) в руки бродячего архитектора, который назвался Джиби. Так как прах этого бедного человека покоится ныне в Хэнвелле, не будем беспокоить его память и скажем только, что он утверждал, будто идея Колокольни озарила его в тот миг, когда от нечего делать смотрел он на один из тех ярко раскрашенных и разрисованных таинственными узорами ящичков, в которых хранятся высушенные листья с кустов крыжовника и боярышника, что идут под названием Подлинного Китайского Чая.
Не было ли в этом совпадении чего-то пророческого? <…>
VII. О благотворном воздействии на искусство Англии Новой Колокольни Крайст Чёрч.
Идея Колокольни широко распространилась по всей стране и быстро проникает во все отрасли промышленности. Предприимчивый делец, изготовляющий коробки для шляпок, уже рекламирует „модель à la Колокольня“, его примеру последовали два строителя, специализирующиеся на постройке купальных кабин в Рамсгите, одна из старинных лондонских фирм выпустила в продажу мыло, имеющее ту же удивительную симметричную форму, а из надежных источников нам сообщают, что „Мука Борвика“ и „Торлеевская Пища для Скота“ выпускаются ныне только в такой упаковке.
VIII. О чувствах, пробуждаемых Новой Колокольней в старых выпускниках Крайст Чёрч.
Горько, да! горько оплакивают старые выпускники Крайст Чёрч сие последнее и пагубное падение туземного вкуса. „Ученый совет советом, — говорят они, — но кто же принял этот совет и где была его голова?“ И Эхо (пользуясь правом естественного отбора с рассудительностью, которую бы одобрил сам Дарвин) отвечает: „Где?“
Было выдвинуто предложение, чтобы на ближайшем ежегодном обеде в честь старых выпускников Крайст Чёрч, на который съедется немало народа, каждому гостю в конце банкета вручили портативную модель Новой Колокольни, со вкусом выполненную в сыре».
Что и говорить, написано блестяще!
В 1872 году королева Виктория, весьма довольная образованием, полученным в Крайст Чёрч принцем Уэльским, решила отправить в тот же колледж своего четвертого, младшего сына принца Леопольда Джорджа Дункана Альберта. Принц Леопольд ничем не походил на старшего брата. Он любил литературу (особенно Шекспира и Вальтера Скотта), но более всего был склонен к изучению музыки и иностранных языков. Его занятиями руководили Артур Пенрин Стэнли и старый друг Доджсона Робинсон Дакворт, ставший в 1870 году ординарным капелланом королевы (через пять лет он будет назначен настоятелем Вестминстерского собора в Лондоне).
Принц Леопольд поступил в Крайст Чёрч в ноябре 1872 года и вместе со своим тьютором Коллинзом расположился в Уикхем-хаусе рядом с парком. В отличие от своего старшего брата он скромно надел мантию джентльмен-коммонера. Склонный к академическим занятиям, он слушал лекции по истории, политическим дисциплинам, поэзии, музыке и искусству. В Оксфордском музее принц изучал естественные науки, а в Институте Тейлора[118] — современные языки. В Оксфорде он пользовался всеобщим уважением и любовью.
Когда он познакомился с Алисой Лидделл, ей было 20 лет. Три дочери ректора Лидделла — Алиса и две ее младшие сестры Вайолет и Рода — унаследовали художественные способности отца. Алиса была прелестной девушкой, как пишет Кларк, «с тем налетом романтизма, который Кэрролл заметил, когда она была еще ребенком». О том, что она была очаровательна, пишет и Рёскин в своей книге воспоминаний. Принц часто посещал ректора и неизменно присутствовал на всех его приемах и вечерах. Вскоре по Оксфорду начали ходить стишки, в которых миссис Лидделл изображалась под именем «Зимородок» (Kingfisher). Это была едкая игра слов — намек на «охоту на королей». Речь явно шла о принце Леопольде. Впрочем, миссис Лидделл была здесь ни при чем. Леопольд и Алиса полюбили друг друга, хотя оба понимали, что у этих отношений нет будущего.
Королева твердо решила, что все ее сыновья должны жениться на принцессах. Отчасти это объяснялось заботой о судьбе престола: хотя Леопольд был четвертым сыном Виктории, болезни и смерть в то время столь часто посещали даже королевский дворец, что она не могла не принять этого во внимание, тем более что пережила безвременную кончину супруга. Принц Леопольд должен был взять в жены как минимум девушку из очень знатного рода. Как бы то ни было, он знал, что никогда не сможет жениться на Алисе. Миссис Лидделл также прекрасно понимала, что их семья по своему положению не может породниться с королевской фамилией. Они не могли допустить, чтобы королева, оказавшая им доверие, разочаровалась в этом. К тому же они, вероятно, знали, что принц страдает гемофилией.
Двадцать четвертого мая 1875 года Доджсон в письме тьютору принца Леопольда спросил, не разрешит ли его высочество сфотографировать его. Принц с готовностью согласился и пригласил Доджсона на ланч в Уикхем-хаус. За стол сели шестеро, и Доджсон как старший занял место рядом с Леопольдом, что было ему особенно приятно. В дневнике он отметил, что принц «чрезвычайно скромен и доброжелателен в обращении. Неудивительно, что он всеобщий любимец». После обеда, за кофе и сигарами в саду (Чарлз не курил) он показал принцу подборку своих фотографий.
Через неделю Леопольд нанес Доджсону визит и вместе со своим тьютором провел у него около полутора часов, рассматривая фотографии и позируя. Доджсон сделал два портрета, но был ими не совсем доволен, так как оба получились не очень четкими. Он преподнес принцу несколько выбранных им фотографий. Был ли среди них портрет Алисы Лидделл, Чарлз в дневнике не отмечает.
В 1876 году принц Леопольд получил почетную степень доктора литературы и покинул Оксфорд. Спустя четыре года Алиса вышла замуж за Реджиналда Джервиса Харгривса, выпускника Крайст Чёрч, унаследовавшего большое состояние (его родители владели фабриками на севере Англии), энергичного молодого человека и большого любителя спорта. Гольф и парусный спорт были его любимыми занятиями, он превосходно стрелял и выступал за Гэмпшир в крикете. Он был очень предан Алисе. По случаю свадьбы Алиса получила в подарок от принца Леопольда бриллиантовую подкову, украшенную рубинами.
После свадьбы чета Харгривс поселилась в семейном имении в Гэмпшире, известном своим великолепным парком со старыми деревьями, высотой превосходившими все деревья в графстве. Алиса стала рачительной и суровой хозяйкой и матерью: налет романтизма, вызывавший восхищение у знавших ее в юности, бесследно исчез. Миссис Харгривс родила трех сыновей — Алана Ниветона (1881), Леопольда Реджиналда (1883), названного в честь принца Леопольда, и Кэрила Лидделла (1887). Она неизменно отрицала, что ее третий сын получил имя в честь Льюиса Кэрролла.
После рождения второго сына Алиса послала Кэрроллу письмо, в котором спрашивала, не согласится ли он стать его крестным отцом. Кэрролл отказался (как мы помним, незадолго до этого он писал своей сестре Мэри, что у него уже столько крестников, что пора положить этому конец), однако что именно он ответил миссис Харгривс, неизвестно.
Принц Леопольд, получивший титул герцога Олбани, согласился на брак, на котором настаивала королева, спустя более года после свадьбы Алисы. В апреле 1882 года он женился на принцессе Елене Фредерике Августе, дочери принца Вальдек-Пирмонтского, а спустя два года, в 30 лет, умер от приступа (врачи считают его припадком эпилепсии), ставшего следствием падения с лошади. Он оставил после себя двух детей: принцессу Александру, которую в семье звали Алисой, и сына Чарлза Эдуарда Леопольда, родившегося через четыре месяца после смерти отца.
Тридцатого ноября 1871 года Макмиллан известил Кэрролла, что получил семь с половиной тысяч заказов на книгу, обещанную к Рождеству. Так как отпечатали всего девять тысяч экземпляров, было решено тут же заказать еще шесть тысяч. Кэрролл уже не боялся, что этот дополнительный завод не будет раскуплен. Еще совсем недавно в ответ на предложение Макмиллана выпустить дополнительно три тысячи экземпляров «Страны чудес» он скромно согласился всего на тысячу, но теперь он уже не сомневался, что новая книга будет расходиться так же быстро.
Тут, правда, возникли трудности с очередным заводом «Страны чудес», который также готовили к Рождеству. Тенниел пожаловался ему, что трехтысячный завод отпечатан недостаточно хорошо. Доджсон полагал, что дело было в том, что отпечатанные страницы перекладывали чистыми листами, чтобы они скорее сохли. Он был нездоров и не мог выехать в Лондон, но тут же написал Макмиллану:
«Я принял решение: каковы бы ни были коммерческие последствия, мы не должны более терпеть никаких художественных „фиаско“. Написать Вам об этом без промедления меня побуждает обеспокоившая меня фраза в Вашем письме, полученном сегодня утром: „Мы стараемся как можно скорее выпустить следующие 6000“. Мое решение таково: никакой спешки! А также: отпечатанные страницы не будут прокладывать чистыми листами. Я особенно хочу, чтобы их складывали стопками и чтобы они сохли естественным путем. Возможно, в результате 6000 не будут готовы к продаже в конце января или позже. Что ж, назовите новую дату в Вашем объявлении, напишите, что „вследствие задержки в связи с необходимостью довести иллюстрации до высокого художественного уровня новый тираж не выйдет до конца января“.
Вы посчитаете меня безумцем, отказывающимся от готовых денег, и, возможно, скажете мне, что я таким образом потеряю тысячи покупателей, которые не станут ждать так долго, а пойдут и купят другие книжки в подарок к Рождеству. Не знаю, как выразить словами, до какой степени подобные доводы не трогают меня. Сколько мы продадим экземпляров, мне совершенно всё равно; единственное, о чем я действительно забочусь, это о том, чтобы все экземпляры, предназначенные к продаже, были безупречны в художественном отношении».
Количество выделенных слов свидетельствует о том, насколько близко к сердцу принимал Кэрролл эту проблему. Своего решения он твердо держался все последующие годы. В 1865 году он пошел навстречу требованию Тенниела, согласившись на значительные убытки; сейчас ситуация повторилась и издателю пришлось примириться с этим.
Шестого декабря 1871 года Доджсон получил первый экземпляр отпечатанного тиража, а спустя два дня — еще три в сафьяновых переплетах и 100 в обычных. Поначалу он предполагал вставить в переплет экземпляра «Зазеркалья», предназначенного для Алисы Лидделл, зеркало, но от такого оформления, слишком сложного и непрактичного, пришлось отказаться. Ее экземпляр в сафьяновом переплете был отправлен курьером вместе с еще двумя — для Лорины и Эдит. Затем Кэрролл за один день надписал и отправил 96 книг друзьям и близким; два экземпляра в сафьяне были посланы Теннисону и актрисе Флоренс Терри, сестре знаменитой Эллен Терри. Остальной тираж тут же поступил в предрождественскую продажу 1871 года (на книге стояла дата «1872»).
Новую сказку Кэрролл назвал «Сквозь Зеркало и что там увидела Алиса» (Through the Looking Glass and What Alice Found There). С легкой руки В. А. Азова, первого переводчика сказки на русский язык, она приобрела у нас известность как «Алиса в Зазеркалье». Книга мгновенно разошлась. 27 января 1872 года, в день сорокалетия Кэрролла, он получил от издателя известие, что 15 тысяч тиража продано и поступило еще 500 заказов на книгу. По тем временам это был неслыханный успех! «Кому-то другому такой успех вскружил бы голову», — замечает по этому поводу Коллингвуд.
Но этим дело не ограничилось. Генри Кингсли, несколько лет назад рекомендовавший миссис Лидделл уговорить Доджсона опубликовать первую сказку, отправил Кэрроллу письмо (без даты) из Эдинбурга, где он в это время издавал «Ежедневное обозрение»: «С чистой головой и совестью могу сказать, что Ваша новая книга — лучшее, что у нас появилось со времен „Мартина Чезлвита“ (роман Диккенса, вышедший в 1843–1844 годах. — Н. Д.)… Сравнивая новую Алису с предыдущей, я могу лишь сказать, что „эта новая песня превосходит первую“. Она совершенно великолепна, но Вы, несомненно, слышали это уже от других. Я часто завтракаю с Макмилланом — на днях он очень досадовал, что выпустил недостаточное количество экземпляров».
Кингсли не только восхищался сказками Кэрролла, но и пытался в чем-то следовать ему. Клэр Имхольц полагает, что на фантастическую ноту в книге «Юноша в сером» (The Boy in Gray) Кингсли «частично вдохновила „Алиса“, на которую кое-где есть ссылки». Не менее интересен, считает она, саркастический отзыв о стихотворении «Морж и Плотник», прочитанном Алисе Траляля и Труляля, прозвучавший в 16-й главе романа «Валентин» (Valentin) из уст одного из персонажей — француза, говорящего на ломаном английском языке: «Вам, англичанам, доставляет удовольствие логика мсье Луи Кэрролла. Я полагаю, что его логика неверна от начала и до конца. Каким образом la petite мииз Алис читает благородное стихотворение „Джабберуоки“ (немце, к сожалению) в зеркальном отражении, когда она прошла сквозь Зеркало? Я говорю, что месье Луи Кэрролл совершенно не прав и что мииз Алис увидела эти стихи так, как они были напечатаны. <…> Месье Луи Кэрролл воображает, что его политические намеки могут остаться не замеченными острым взглядом француза, который подобен микроскопу. Но он ошибается. Баллада „Морж и Плотник“ имеет политический смысл. Морж — это император Германии (месье Тенниел — несомненный француз, чему доказательство его гений), Плотник — это принц Фредерик Чарлз, все они немцы (да будет на них проклятие небес!)…» Сарказм автора, разумеется, направлен не на Кэрролла, а на застарелую вражду между французами и жителями туманного острова.
Критика расхваливала книгу. Даже журнал «Атенеум», в свое время весьма критически отнесшийся к «Стране чудес», назвал «Зазеркалье» «источником радости для детей всех возрастов». Имел ли критик в виду, что эту книгу читают и дети, и взрослые? Как бы то ни было, но именно этот совершенно неожиданный и новый феномен стал всем очевиден. Впервые за всю историю литературы книга, написанная для детей, стала и книгой для взрослых, которые не только смеялись над шутками, пародиями и бессмыслицами Кэрролла, но и задумывались над их смыслом, скрытым от поверхностного взгляда. Парадокс? Да, безусловно, и в самом, надо признать, кэрролловском смысле! Пройдет всего несколько десятилетий, и Гилберт Кит Честертон, несравненный мастер парадокса, будет утверждать, что Кэрролла должны читать «не дети, а ученые».
Обычно публика относится с осторожностью к продолжениям книг, имевших большой успех, — и чаще всего бывает права. Однако тут читатели имели дело с особой книгой особого автора. «Страна чудес», как известно, возникла как импровизация, вдохновленная юными друзьями. Потом, когда автор работал над окончательным вариантом рукописи, а позже подготавливал ее к публикации, тот прилив вдохновения и творческой энергии, который заставил Кэрролла значительно расширить книгу, не только не исчез, но даже не ослабел. Вдохновением отмечена и вторая сказка об Алисе. Она ни в чем не уступает первой, хотя и построена совсем по-другому. Замечательно, что автор не повторяет себя, как это часто случается в продолжениях, но создает новое, совершенно оригинальное произведение.
В этих двух сказках есть некоторое чисто внешнее сходство: в каждой из них 12 глав (что за беда, что некоторые из них довольно длинны, а в других — всего несколько строк?), каждую открывает лирическое стихотворение, посвященное его любимице.
Две основные темы второй сказки об Алисе — зеркало и шахматы — Кэрролл использует свободно, совсем не навязчиво. Порой он просто «забывает» о них, избегая тем самым монотонных и скучных повторов, которые нередко встречаются у авторов, снова и снова возвращающихся к удачно найденному приему. А потом вдруг неожиданно прибегает, когда захочет, к избранному приему, и тогда он бывает особенно выразителен. Достаточно вспомнить эпизод с пирогом в главе «Лев и Единорог»:
«— Что это Чудище так долго режет пирог? — проворчал Лев.
Алиса сидела на берегу ручейка, поставив большое блюдо себе на колени, и прилежно водила ножом.
— Ничего не понимаю! — сказала она Льву (она уже почти привыкла к тому, что он ее зовет Чудищем). — Я уже отрезала несколько кусков, а они опять срастаются!
— Ты не умеешь обращаться с Зазеркальными пирогами, — заметил Лев. — Сначала раздай всем пирога, а потом разрежь его!
Конечно, это было бессмысленно, но Алиса послушно встала, обнесла всех пирогом, и он тут же разделился на три части.
— А теперь разрежь его, — сказал Лев, когда Алиса села на свое место с пустым блюдом в руках».
Здесь Кэрролл использует принцип Зеркала не только в приложении к пространству, но и к времени, что усиливает «бессмыслицу» в сказке.
Шахматы в новой книге определяют выбор героев, играющих эту необычную партию, в которой Алиса, начавшая игру в качестве пешки, становится в конце концов Королевой. В «Стране чудес» Алисой движет желание попасть в чудесный сад, а еще любознательность, о которой Кэрролл пишет как о важной ее черте; в «Зазеркалье» — желание стать Королевой, для чего надо быстро двигаться вперед, переходя с одной линии шахматной доски на другую. Английский исследователь Александр Тейлор в книге «Белый Рыцарь» (1952) справедливо отмечает, что в Зазеркалье автор не предлагает серьезной партии в шахматы, а использует ходы шахматных фигур для выстраивания сюжета, вспоминая, вероятно, о тех уроках игры в шахматы, которые в свое время давал девочкам Лидделл. Вот почему в сказке Король так беспомощен и слаб, в то время как всевластные Королевы, наделенные силой слона и ладьи, носятся из конца в конец поля. Пешка Алиса должна терпеливо пересекать ручеек за ручейком то пешком, то на поезде, чтобы, дойдя до последней линии, стать наконец Королевой, а Белый Рыцарь то и дело падает со своего Коня то вправо, то влево. Кэрролл выбрал из шахматной партии только то, что было нужно для его замысла, и построил на этом игру между семилетней девочкой, ставшей белой пешкой, и взрослым (то есть автором), который распоряжался остальными фигурами.
Все эти герои перечислены в списке действующих лиц в начале «Зазеркалья», где с ними соседствуют совсем не шахматные персонажи, которые тем не менее также участвуют в игре (цветы, устрицы, Морж и Плотник, Лягушонок, Овца и пр.). Среди них есть и такие, что проникли в Зазеркалье из Страны чудес, слегка изменив свои имена и роли (Зай Атс, Болванс Чик). Но, пожалуй, еще интереснее для нас персонажи, которые появились из детских песенок. Они есть и в Стране чудес: две последние главы, где идет безумный суд над Валетом Червей, основаны на народной песенке о том, как Валет украл крендели:
Дама Червей напекла кренделей В летний погожий денек. Валет Червей был всех умней И семь кренделей уволок[119].Известная песенка разворачивается в две блистательные главы, в которых действуют и другие персонажи сказки, а сам Валет играет весьма скромную роль.
В Зазеркалье этих героев, проникнувших сюда из фольклора, гораздо больше и им принадлежат центральные роли: это и Лев с Единорогом («Вел за корону смертный бой / Со Львом Единорог…»), и Траляля и Труляля («Раз Траляля и Труляля / Задумали сражаться…»). Коротенькие сюжеты народных песенок Кэрролл разворачивает в яркие панно с разработанными характерами, ситуациями и фоном, и скромные герои народных песенок становятся под его пером философами, воинами и шутниками. Старые сюжеты получают новое, неожиданное и глубокое звучание.
Особое место в сказке занимает еще один из фольклорных героев — Шалтай-Болтай:
Шалтай-Болтай сидел на стене, Шалтай-Болтай свалился во сне. Вся королевская конница, вся королевская рать Не может Шалтая, не может Болтая, Шалтая-Болтая, Болтая-Шалтая, Шалтая-Болтая собрать!Эта простая народная песенка-загадка[120] известна буквально всем, как в Англии, так и — благодаря переводу С. Я. Маршака — в России. Но под пером Кэрролла ее герой становится в «Зазеркалье» чуть ли не философом и лингвистом.
Вот он говорит Алисе: «Когда я беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше и не меньше». Алиса возражает: «Вопрос в том, подчинится ли оно вам». — «Вопрос в том, кто из нас здесь хозяин», — заявляет Шалтай-Болтай. В этом остроумном споре затронута, как отмечает Мартин Гарднер, важнейшая философская проблема, над которой бились философы начиная со Средневековья. Он пишет в комментариях к сказке: «Льюис Кэрролл полностью сознавал глубину диковинных рассуждений Шалтая-Болтая по вопросам семантики. Шалтай-Болтай становится на точку зрения, известную в Средние века как номинализм, согласно которой общие имена не относятся к объективным сущностям, а являются чисто словесными знаками. Эту точку зрения искусно защищал Уильям Оккам (XIV век). В настоящее время ее придерживаются почти все логические эмпирики».
Более развернутое толкование этого и других высказываний Шалтая-Болтая дает английский философ Питер Хит в книге «Алиса глазами философа» (The Philosopher’s Alice).
В статье «Подмостки сцены и дух пиетета» Кэрролл формулирует ту же мысль, раздвигая ее рамки: «…ни одно слово не имеет полностью закрепленного за ним значения; слово означает то, что подразумевает под ним говорящий, и то, что понимает под ним слушающий, и это всё». Подробнее Кэрролл пишет об этом в своей книге «Символическая логика», которая вышла в 1896 году, менее чем за два года до его смерти:
«Авторы и издатели учебников по логике, ступающие по проторенной колее, — я буду величать их титулом „логики“ (надеюсь, не оскорбительным), — испытывают в этом вопросе неуместную робость. Затаив дыхание, говорят они о Связке в Суждении, словно Связка — живое сознательное Существо, способное самостоятельно возвестить, какое желание оно хотело бы иметь, тогда как нам, беднякам, остается лишь узнать, в чем состоит монаршая воля, и подчиниться ей. Вопреки этому мнению, я утверждаю, что любой человек, пожелавший написать книгу, вправе придать любое значение любому слову или любой фразе, которыми он намерен пользоваться. Если в начале фразы автор говорит: „Под словом черное я буду всегда понимать белое, не оговариваясь специально каждый раз, а под белым — черное“, — то я с кротостью подчинюсь его решению, сколь бы безрассудным оно мне ни казалось».
Все те, кто изучает иностранный язык или задумывается над сложностью своего родного языка, не могут пропустить мимо ушей следующее замечание Шалтая-Болтая: «Некоторые слова очень вредные. Ни за что не поддаются! Особенно глаголы! Гонору в них слишком много. Прилагательные попроще — с ними делай, что хочешь. Но глаголы себе на уме! Впрочем, я с ними всеми справляюсь».
Вообще говоря, баллада «Бармаглот» (Jabberwocky), которую «расшифровывает» Алисе Шалтай-Болтай, вызвала особый интерес и восхищение читателей. Это один из шедевров кэрролловского нонсенса, привлекший особое внимание ученых мужей, современников Кэрролла; опыты его интерпретации продолжаются по сей день.
Попытки перевести эту загадочную балладу были предприняты сразу же после выхода «Зазеркалья» в свет. Первым переводчиком был доктор Роберт Скотт, соавтор ректора Лидделла по древнегреческому словарю (правда, перевел он балладу не на греческий, а на немецкий язык и опубликовал под псевдонимом). По мнению Энн Кларк, он сделал «превосходный тематический перевод этой баллады» и высказал предположение, что баллада, возможно, восходит к санскритскому источнику и что со временем будет открыта Jabrivokaveda; героем окажется бог Солнца в одной из своих аватар (воплощений), а дерево Там-там — великим ясенем Yagdrasil скандинавской мифологии. Ученые мужи в Оксфорде любили замысловатые шутки.
Вскоре появились и другие переводы — на латынь, французский и немецкий (1869), итальянский (1872), голландский (1874) и другие языки. Первый русский перевод вышел в 1879 году.
«Зазеркалье» и «Страну чудес» объединяет фигура Алисы, всё той же девочки, которой в этих сказках посвящено три чудесных стихотворения — два вступительных к каждой из сказок и стихотворное заключение второй сказки, написанное в форме акростиха — из него складывается полное имя Алисы Плэзнс Лидделл.
Ах, какой был яркий день! Лодка, солнце, блеск и тень, И везде цвела сирень. Сестры слушают рассказ, А река уносит нас. Плеск волны, сиянье глаз. Летний день, увы, далек. Эхо смолкло. Свет поблек. Зимний ветер так жесток. Но из глубины времен Светлый возникает сон, Легкий выплывает челн. И опять я сердцем с ней — Девочкой ушедших дней, Давней радостью моей. Если мир подлунный сам Лишь во сне явился нам. Люди, как не верить снам?[121]Спустя годы Кэрролл опубликовал статью, в которой рассказал о том, как создавались обе сказки об Алисе — «Страна чудес» и «Зазеркалье». С присущей ему точностью он описал творческий процесс. Начал он с рассказа о лодочных прогулках с девочками Лидделл:
«Как часто мы отправлялись в путь по этой тихой воде — как часто я рассказывал им сказки, которые придумывал на ходу, было ли это в те дни, когда автор был „в духе“ и образы сами собой, толпясь, возникали в его воображении, или тогда, когда усталую Музу понуждали идти и она послушно плелась вперед, ибо ей нужно было что-то сказать, а не потому, что у нее было что сказать. Ни одна из этого множества сказок не была записана: они появлялись и умирали, как летние мошки, каждая в свой солнечный полдень, пока не настал день, когда одна из моих маленьких слушательниц попросила, чтобы я записал для нее эту сказку. <…> И чтобы порадовать ребенка, которого я любил (другой причины не помню), я записал сказку от руки, сопроводив ее собственными рисунками — которые противоречили всем законам Анатомии и Искусства (я никогда не учился рисованию) — факсимиле этой книги я только что опубликовал[122]. Записывая сказку, я многое добавил к первоначальному тексту, казалось, мысли возникали сами собой, а когда спустя годы я готовил ее к публикации, в голову мне пришло еще кое-что. Однако (это может заинтересовать кого-то из читателей „Алисы“) каждая идея и чуть ли не каждое слово диалога возникали сами собой. Иногда это случалось ночью, когда мне приходилось вставать, чтобы засветить лампу и записать услышанное, иногда — во время одинокой зимней прогулки, когда приходилось останавливаться и черкать окоченевшими пальцами несколько слов, дабы не потерять возникшую идею — но когда бы и как бы она ни приходила, она приходила сама собой. Я не могу заставить воображение работать, заводя его по желанию, как часы, и я не верю, что оригинальный текст (а что иное стоит сохранять?) был когда-либо создан подобным образом»[123].
Кэрролл не одобряет авторов, которые пишут, потому что взяли за правило писать столько-то часов каждый день; созданные таким образом сочинения, по его мнению, «легче всего писать и труднее всего читать»; ими на две трети заполнены журналы. Его сказки были созданы по-другому:
«„Алиса в Стране чудес“ и „Зазеркалье“ составлены почти целиком из кусочков и обрывков, из отдельных мыслей, которые появлялись сами по себе. Возможно, они были не слишком хороши, но это, по меньшей мере, было лучшим из того, что я мог предложить, и я не желаю себе большей похвалы, чем слова Поэта, сказанные им о Поэте»:
Он дарил людям лучшее из того, чем владел, Худшее он оставлял себе, а лучшее дарил.Весной 1876 года Кэрролл присовокупил к очередному заводу «Зазеркалья» «Пасхальное поздравление всем детям, которые любят „Алису“». Приведем его целиком, ибо оно было очень важно для Кэрролла.
«Милое дитя, представь себе, если можешь, что это письмо от твоего настоящего друга, которого ты хорошо знаешь и который, как и я, от всего сердца поздравляет тебя со светлым праздником Пасхи.
Помнишь сладкую негу, когда, пробудившись летом поутру, слышишь щебет птиц, чувствуешь, как веет из открытого окошка свежий ветерок, и, словно в дреме, видишь сквозь полуприкрытые веки, как колышутся зеленые ветви и играют в золотистом солнечном луче водные струи? И слезы наворачиваются на глаза, словно слышишь дивную песнь или видишь прекрасную картину. И что это, неужто это рука Матери раздвигает занавески и нежный ее голос зовет тебя пробудиться ото сна? Пробудиться и при свете ясного дня забыть пугавшие тебя ночью сны — пробудиться и насладиться новым днем, преклонив сперва колена пред невидимым глазу Другом, подарившим тебе это дивное солнце?
Неужто это странное послание пишет тебе автор таких сказок, как „Алиса“? И не странно ли обнаружить это письмо в книжке, полной веселых бессмыслиц? Возможно, это и так. Возможно, одни будут бранить меня за то, что я мешаю серьезное с веселым; другие — усмехнутся, полагая, что такой разговор уместен лишь в храме в воскресенье, но я-то думаю — нет, я уверен! — что кое-кто из детей прочтет мое послание с тем же вниманием и любовью, с какими я его писал.
Всевышний, я думаю, не хотел бы, чтобы мы делили нашу жизнь на две половины: хранили торжественные мины по воскресеньям, а в будни считали неподобающим о Нем даже упоминать. Неужто ты думаешь, что ему приятны лишь те, кто с молитвой преклоняет колена, — и что он не радуется ягнятам, резвящимся в погожий день на лугу, и детворе, с веселым гомоном барахтающейся в сене? Их невинный смех, несомненно, ему не менее сладок, чем торжественные песнопения, гремящие в „религиозном сумраке“ величавых соборов.
Если я создал нечто, что войдет в детские книги невинных и здоровых развлечений, которые я так люблю, то я смогу надеяться на то, что без стыда и грусти оглянусь (а сколько мне всего надо будет вспомнить!) на пройденный путь в час, когда придет мой черед ступить в долину теней.
В эту Пасху солнце будет светить для тебя, дорогое дитя, и „каждой жилкой“ ты будешь чувствовать, что живешь и что готов выбежать из дома навстречу раннему утру, — и много пройдет Пасхальных дней, прежде чем, ослабший и седой, выйдешь ты погреться на солнце напоследок, — и всё же хорошо, что даже сейчас ты будешь иногда думать о том особом утре, когда „воссияет солнце Праведности, подымаясь на крыльях ввысь“.
Я уверен, радость твоя ничуть не потускнеет от мысли о том, что когда-нибудь ты проснешься в еще более яркий день и увидишь еще более прекрасное зрелище, чем трепещущая листва и струящиеся струи, — когда ангелы откинут полог, и голос, нежнее Материнского, пробудит тебя для новой сияющей жизни, — когда все печали и грехи, омрачающие жизнь на нашей маленькой земле, будут забыты, словно ночные сны.
Твой любящий друг Льюис Кэрролл».Современного читателя это письмо может поразить: говорить детям о смерти в светлый праздник Пасхи! Однако вспомним, что в XIX веке не существовало того табу на смерть, которым отмечено наше время. О ней всегда помнили, о ней говорили в церквах и в семьях, к ней готовились, размышляя о том, что ожидает в жизни вечной. В этом контексте письмо Кэрролла выглядит вполне естественно и уместно. Это как бы одна из тех проповедей, с которыми он обращался к детям, — только здесь она запечатлена на бумаге. К тому же важно иметь в виду, что он, конечно, думал и о тех детях в больницах и приютах, которым посылал свои сказки. Он знал, насколько высока была детская смертность, особенно от тифа и туберкулеза, даже в достаточно благополучных семьях (трое детей его друга Макдональда умерли от туберкулеза). Что уж говорить о детях бедняков и сиротах в благотворительных больницах?
По распоряжению автора это письмо было приложено и к первому изданию поэмы «Охота на Снарка», также вышедшему к Пасхе 1876 года.
Вторая книга об Алисе, как ни удивительно, оказалась и последней книгой, оформленной Джоном Тенниелом. «Странное дело, — писал он впоследствии, — после „Зазеркалья“ я совершенно утратил способность рисовать книжные иллюстрации. Несмотря на самые соблазнительные предложения, я ничего с тех пор не делал в книжном жанре». Осознавал ли сам художник, сколь велика была роль Кэрролла в его успехе? Ведь до встречи с ним вышло всего несколько книг с его иллюстрациями — «Книга британских баллад» (1842), «Ундина» (1845), «Сказки Эзопа» (1848). Они имели успех, но этот «весьма обычный успех» был чрезвычайно далек от того восторга, который вызвали и продолжают вызывать его иллюстрации к сказкам Кэрролла. В 1893 году Тенниел был удостоен рыцарского звания как ведущий карикатурист «Панча», самого известного сатирического журнала Британии, в котором он проработал полвека. Однако, думаю, не будет ошибкой сказать, что всемирную славу ему принесли не столько еженедельные карикатуры в «Панче», сколько иллюстрации к двум детским сказкам скромного математика из Оксфорда.
Новаторское значение книг Кэрролла было отмечено в первые десятилетия XX века. Видный исследователь истории английской детской литературы Ф. Дж. Харви Дартон в своем капитальном труде «Детские книги в Англии» писал, что две сказки Кэрролла об Алисе произвели настоящий «переворот» (revolution) в своей сфере, ибо с ними возникло то мощное и вечное, что было жизненно необходимо читателям: «свобода мысли в детских книгах». А упоминавшийся выше Джон Падни писал, что к концу XX столетия стало совершенно ясно, что этот писатель «открыл такие грани фантазии и поэзии, которые по-новому осветили природу нашего воображения и мышления, значительно раздвинув их возможности». Тут я готова от всего сердца согласиться с автором, которому не раз возражала по другим поводам.
С 29 марта по 21 июня 1879 года в журнале «Вэнити Фэр» («Ярмарка тщеславия») публиковалась новая игра «Дублеты, словесные загадки». Игра эта пользовалась успехом у детей и взрослых. Годы спустя он познакомил с ней свою юную приятельницу Элизабет Бьюри в письме от 8 марта 1896 года:
«Прилагаю несколько дублетов, чтобы ты могла заполнить свободные минуты (если они у тебя бывают). Чтобы решить дублет, необходимо изменить только одну букву в первом слове так, чтобы получилось другое невыдуманное слово, затем изменить только одну букву во втором слове и так далее до тех пор, пока не получишь второе слово. Промежуточные слова называются „звеньями“, а всё вместе — „цепью“. <…> Вот, например, цепочка, превращающая КОШКУ в СОБАКУ (CAT в DOG): CAT — СОТ- DOT- DOG. Использовать имена собственные запрещается».
В эту игру можно с удовольствием играть и по сей день.
Глава пятнадцатая «ОХОТА НА СНАРКА»[124]
Пять лет (1871–1876) отделяют выход в свет «Алисы в Зазеркалье» от публикации завершающей знаменитую трилогию нонсенса поэмы «Охота на Снарка». В эти годы преподобный Чарлз Латвидж Доджсон ведет размеренную, уединенную жизнь оксфордского преподавателя, почти всё свое время отдавая чтению лекций и изучению столь любимого им Евклида и лишь изредка, как можно предположить, посмеиваясь над литературными выходками Льюиса Кэрролла.
В течение этих пяти лет Кэрролл пишет и издает несколько математических работ: «Изложение Евклида. Книги I–VI» (Enunciations Euclid I–VI), «Алгебраическое обоснование Пятой книги Евклида» (Euclid Book V Proved Algebraically), «Введение в алгебру и Пятая книга Евклида» (Preliminary Algebra and Euclid Book V), «Арифметические примеры» (Examples in Arithmetic), «Первая и Вторая книги Евклида» (Euclid Books I and If).
Интересы Кэрролла в это время чрезвычайно обширны и не исчерпываются одной лишь математикой. Он издает несколько сочинений, посвященных университетской жизни, объединенных в сборник «Заметки питомца Оксфорда» (Notes by an Oxford Chiel, 1874). Некоторые из вошедших в книгу работ написаны ранее, другие — в самом начале 1870-х годов. Примечательно его «Видение трех Т: Погребальная песнь» (The Vision of the Three T’s: A Threnody, 1873), критикующее, подобно вышеупомянутому памфлету «Новая колокольня Крайст Чёрч в Оксфорде», изменение архитектурного облика Крайст Чёрч и пародирующее стиль «Умелого рыболова» (1653) Айзека Уолтона. Несколько статей Кэрролл посвящает системе выборов — еще одной теме, серьезно занимавшей его, при рассмотрении которой он использовал методы, предвосхитившие в определенной мере методы теории игр. Включенная в «Заметки питомца Оксфорда» написанная ранее статья «Точ(еч)ная динамика партийной болтовни» (The Dynamics of а Parti-cle, 1865) также посвящена выборной системе.
Статья выстроена, как математический трактат, и в точности воспроизводит структуру «Начал» Евклида. Кэрролл, следуя великому древнегреческому математику, вначале дает определения понятий, затем формулирует аксиомы, постулаты и предложения — теоремы и задачи. Почти все слова, используемые автором, имеют двойное значение — их можно приложить и к математике, и к политике, поскольку статья посвящена выборам в парламент представителя Оксфордского университета и соперничеству трех кандидатов: У. Гладстона, Г. Гаторн-Харди и У. Хиткоута. Вот, например, как Кэрролл формулирует постулаты:
«I. Предполагается, что оратор может отклоняться от какой-то одной позиции в направлении другой позиции.
II. Любая ограниченная во времени дискуссия (т. е. завершенная и забытая) может быть неограниченно продолжена в последующих дебатах.
III. Любая полемика может возникнуть по любому вопросу и на любом отдалении от этого вопроса»[125].
Но Кэрролл не ограничивается игрой слов. Дебаты в английском парламенте, например, вызывают у него любопытную аналогию с гиперболой, которая быстро и далеко отклоняется от первоначального направления. Статья во многих смыслах показательна для творчества Кэрролла: в ней проявляются его склонность к иронии, игре словами, его математическая эрудиция, его интерес и неравнодушие к проблемам современной жизни.
Поразительно, что статья, написанная более ста лет назад, не утратила своей злободневности и в наши дни, что позволило автору ее перевода Юрию Батурину приложить словесные находки Кэрролла к выборам в России в 2000 году. Таким образом, «Аксиоматическая теория выборов» Кэрролла доказала свою жизнеспособность.
К вопросам совершенствования выборной системы Кэрролл еще вернется и наиболее комплексно изложит свои взгляды в брошюре «Принципы парламентского представительства» (The Principles of Parliamentary Representation, 1884), которую Дункан Блэк, шотландский экономист и политолог, назовет «самым любопытным вкладом в политологию, который когда-либо был сделан».
В 1875 году Кэрролл принимает деятельное участие в не менее злободневной дискуссии о допустимости вивисекции в научных целях. Его племянник Стюарт Доджсон Коллингвуд вспоминает, что Кэрролл испытывал безотчетный ужас перед вивисекцией. Когда он собрался пожертвовать гинею на содержание питомника для бродячих собак, он предварительно поинтересовался, не отдают ли они своих подопечных для проведения опытов, и только получив отрицательный ответ, отправил деньги.
Полемика, развернувшаяся по этому вопросу в английском обществе, очень скоро приобрела весьма острый характер: была создана Королевская комиссия по расследованию практики вивисекции, заслушаны мнения как обывателей, так и экспертов, сама тема дискуссии существенно расширилась: фактически обсуждался вопрос о праве ученых проводить исследования, не контролируемые ни государством, ни обществом. Во многом такая острота обсуждения объяснялась увеличивающимся разрывом естественно-научного и гуманитарного знания, специализацией научных дисциплин, предмет которых оставался за пределами понимания общества, уходом в прошлое фигуры ученого-универсала, философа и властителя дум. Растущий авторитет теории эволюции Дарвина также внес свою лепту в дискуссию, а публикация в 1871 году его книги «Происхождение человека и половой отбор» предоставила возможность сторонникам вивисекции внести в полемику дополнительные смысловые оттенки, подчеркивавшие насущную необходимость проверки эволюционной теории на практике.
Кэрролл, конечно, не мог остаться в стороне. Он публикует две статьи — «Вивисекция как символ новых времен» (Vivisection as a Sign of the Times // Pall Mall Gazette. 1875. 12 February) и «Некоторые распространенные заблуждения в отношении вивисекции» (Some Popular Fallacies about Vivisection // Fortnightly Review. 1875. 1 June), — направленные против такого метода научного познания. Оставаясь верен своим полемическим приемам, он пытается с точки зрения формальной логики опровергнуть доводы оппонентов, доказывавших, что опыты на животных направлены исключительно на благо человечества.
Однако одними формально-логическими приемами риторика Кэрролла не ограничивается. В «Вивисекции как символе новых времен» он подвергает сомнению эволюционное превосходство вивисектора по отношению к подопытному животному:
«…анатом, который способен наблюдать непрекращающуюся агонию, которую он сам же вызвал, не имея никакой более высокой цели, кроме удовлетворения собственного научного любопытства или желания проиллюстрировать некую истину, этот анатом — существо более или менее развитое в масштабе человечества, чем какой-нибудь неуч, чья душа содрогнулась бы от отвращения при виде подобного зрелища?»
Во втором эссе автор бросает вызов риторической двуличности защитников вивисекции, утверждавших, «что человек настолько более важен, чем ниже его стоящие существа, что причинение значительного страдания животным вполне допустимо, если это предотвращает пусть даже самое небольшое человеческое страдание». «Странное утверждение, — восклицает Кэрролл, — из уст людей, которые говорят нам, что человек — брат-близнец обезьяны!» Он задается вопросом: «Если наука присваивает право на мучение чувствующего создания вплоть до человека исключительно ради собственного удовольствия, где та непостижимая граница, за которую она никогда не рискнет перейти?» Эрозия сострадания к животным влечет за собой эрозию сострадания к другим людям. Кэрролл пророчит:
«Наступит день, когда анатомия узаконит в качестве объектов для эксперимента, во-первых, наших осужденных преступников, затем, возможно, обитателей наших убежищ для неизлечимо больных, сумасшедших, пациентов больниц для бедных и всех тех, кому неоткуда ждать помощи… И когда этот день наступит, о мой собрат-человек, ты, кто настаивает на нашей столь гордой родословной — от человекообразной обезьяны и далее в глубь времен до первобытного зоофита, какое действенное заклинание есть у тебя наготове, чтобы избежать всеобщей гибели? Какие неотъемлемые права человека сможешь ты предъявить тому мрачному злорадствующему призраку со скальпелем в руке?»
В статьях неоднократно встречается слово «агония», а это, напомним, год, когда Кэрролл пишет «Охоту на Снарка» — «агонию в восьми воплях».
Кэрролл не был одинок в своем протесте — за гуманное отношение к животным выступали такие видные писатели, как Теннисон, Голсуорси, Бернард Шоу. Во Франции Виктор Гюго стал первым президентом Общества противников вивисекции. Чарлз Дарвин не был столь категоричен; одному из своих корреспондентов он писал: «Вы спрашиваете, как я отношусь к вивисекции. Я вполне согласен с тем, что она вполне оправданна, если применяется для физиологических исследований, но она отвратительна и заслуживает осуждения, если используется для простого любопытства»[126]. Борьба за принятие закона, запрещающего жестокие эксперименты на животных, связана с именем ирландской писательницы, теоретика феминизма Франсис Кобб (1822–1904). Впервые в мире в такой закон, регламентирующий опыты над животными и предписывающий использовать обезболивающие препараты, был в 1878 году принят в Великобритании.
В эти же годы Кэрролл частенько гостил в доме маркиза Солсбери[127], в то время канцлера Оксфордского университета. Лорда Солсбери связывала с ним общность интересов. В свободное от политики время маркиз занимался математикой и теологией и много писал для «Квотерли-ревю».
Рождество 1874 года Кэрролл проводит в Хэтфилд-хаусе — поместье лорда Солсбери, где развлекает его детей историей про принца Уггуга, которая впоследствии войдет в его роман «Сильвия и Бруно». Многие из глав этой книги печатались в «Журнале тетушки Джуди» и других периодических изданиях, но, будучи опубликованными, они оказывались значительно менее забавны, чем в живом и непосредственном исполнении Кэрролла, окрашенном его обаянием и удивительным талантом общения с детьми.
Однако не только радостными событиями в жизни Кэрролла отмечено это десятилетие. После смерти отца и переезда семьи в поместье «Каштаны» Чарлз принял на себя роль главы семьи. Он часто приезжал в Гилфорд, чтобы оказать необходимую поддержку тете Люси и сестре Фанни, которые взяли на себя управление домашним хозяйством.
В 1873 году происходит событие, глубоко потрясшее Кэрролла: при нелепых обстоятельствах погибает его дядя по материнской линии Роберт Уилфред Скеффингтон Латвидж, в честь которого Чарлз получил свое второе имя, событие, по мнению современных исследователей, возможно, существенным образом повлиявшее на содержание поэмы «Охота на Снарка».
С «дядей Скеффингтоном», как называл его Кэрролл, они были чрезвычайно близки, несмотря на тридцатилетнюю разницу в возрасте. Именно Скеффингтон Латвидж, будучи пионером фотографического дела, приобщил Чарлза к занятию фотографией. Он, как и племянник, был глубоко верующим человеком и входил в число членов Национального общества содействия христианскому образованию. Дневники Кэрролла изобилуют заметками о совместных обедах с «дядюшкой», о посещениях концертов и театров. В 1871 году они вместе провели отпуск в Шотландии.
Скеффингтон Латвидж был адвокатом и с 1845 года входил в состав Комиссии по делам душевнобольных, созданной в соответствии с Законом о душевнобольных.
Тема безумия, столь отчетливо прозвучавшая в дилогии об Алисе и отмеченная многими комментаторами, несомненно, присутствовала в беседах Кэрролла с дядей. Как минимум однажды, в 1856 году, Чарлз сопровождал его в Суррее при посещении одного из приютов для душевнобольных, где они общались с врачом и секретарем Лондонского фотографического общества Хью Даймондом.
Двадцать первого мая 1873 года, осматривая лечебницу в Солсбери, Скеффингтон Латвидж подвергся нападению пациента. Как сообщала «Таймс», тот «внезапно набросился на него и сильно ранил в висок большим ржавым гвоздем, острие которого было недавно заточено». Льюис Кэрролл в сопровождении сэра Джеймса Педжета, видного лондонского хирурга, немедленно отправился в Солсбери, где застал дядю, казалось бы, выздоравливающим. Но шесть дней спустя его состояние ухудшилось. Чарлз спешно вернулся в Солсбери, но буквально за несколько минут до его приезда Скеффингтон Латвидж скончался.
В 1874 году еще одно трагическое обстоятельство приводит Кэрролла в Гилфорд: он принимает на себя заботы по уходу за умирающим от чахотки 22-летним крестником и племянником Чарлзом Уилкоксом.
Именно этот год отмечен в жизни Кэрролла датой не менее значительной, чем 4 июля 1862 года. В такой же июльский день 18-го числа он, утомленный бессонной ночью, проведенной у постели крестника, отправился на прогулку. Позднее в своей статье «Алиса на сцене» Кэрролл сделал запись об этой знаменательной прогулке: «Я бродил по холмам в одиночестве ярким солнечным днем, как вдруг внезапно в голову мне пришла строчка, одна-единственная строчка, „Что Снарк был Буджумом, поймете“. Я не знал тогда, что она означает, как не знаю этого и теперь, но я записал ее, а в какой-то момент позже сложилось и всё четверостишие, в котором та строчка стала последней. И так постепенно в течение года или двух по кусочкам сложилась вся поэма, в которой первоначальная строфа оказалась последней»[128].
Джон Падни в книге «Льюис Кэрролл и его мир» пишет: «С тех пор по его предполагаемому маршруту совершаются паломничества. Он превратил в литературную легенду один из тех моментов вдохновения, что у каждого поэта предшествуют рождению нового стихотворения — но не каждый столь подробно в них отчитывается». Вряд ли Кэрролл умышленно создавал легенду, и его «отчет» не столь уж подробен, в отличие, скажем, от «Философии творчества» Эдгара По, в которой тот чрезвычайно скрупулезно воспроизводит весь процесс написания «Ворона», обобщив в завершение сам прием сочинения «с конца»: «И можно сказать, что тут началось стихотворение — с конца, где и должны начинаться все произведения искусства…»[129] Нет никаких оснований полагать, что Кэрролл следовал заветам Эдгара Аллана По; тем не менее Генри Холидей, будущий иллюстратор поэмы, находит еще одного приверженца того же метода: «Я слышал, что Вагнер начал сочинять „Кольцо Нибелунгов“, написав „Похоронный марш“ Зигфрида, который содержит наиболее важные мотивы всего произведения, и что все части трилогии или тетралогии получили развитие из него. Хотя эта величайшая работа была закончена после публикации „Охоты на Снарка“, начал ее Вагнер, безусловно, до нее, что чуть ли не убедило меня в том, что великий немецкий композитор воспользовался методом создателя Снарка».
Первое упоминание о поэме появляется в дневнике Кэрролла 23 ноября 1874 года. В этот день он показал Рёскину несколько рисунков, сделанных Холидеем, которые должны были стать иллюстрациями к книге. Рёскину наброски не понравились, и он пытался убедить Кэрролла, что этот художник не сможет должным образом проиллюстрировать поэму. Такой отзыв поверг автора в уныние.
Кэрролл познакомился с Холидеем в 1869 году. Вот как сам художник описывает в автобиографии (1914) их первую встречу: «Это было приятной неожиданностью, когда утром Льюис Кэрролл (преподобный Ч. Л. Доджсон) зашел, чтобы встретиться со мной и взглянуть на мои работы в компании одного нашего общего друга. Мы сразу же стали друзьями и оставались таковыми до самой его смерти. Он был близким другом доктора Китчина и его семьи и разделял мое восхищение их прелестной маленькой дочкой. Он часто ее фотографировал, пока она не стала взрослой. <…> Девочку звали Александра, в честь ее крестной королевы Александры, но так как имя было слишком длинным, в семье ее звали Экси. Она замечательно позировала, и когда Доджсон спросил меня, в чем ключ к совершенной фотографии, я не знал, что ответить. „Экси — вот ключ. Посадите Экси перед линзами — и фотография получится совершенно эксиклюзивной!“ Таков был ответ Кэрролла. У меня есть собрание ее портретов, все они замечательны».
Экси Китчин, дочь преподобного Джорджа Уильяма Китчина, коллеги Доджсона по Оксфорду, стала любимой моделью Кэрролла. За 12 лет он сделал около пятидесяти ее фотографий. И можно, пожалуй, утверждать, что эти снимки лучшие у Кэрролла. Глядя на фотопортреты Экси, понимаешь, что они действительно совершенны.
В описываемое пятилетие Кэрролл, видимо, несмотря на все печальные и трагические события, испытал какой-то особый творческий подъем. Возможно, это связано с тем, что в 1874 году ему исполнилось 42 года. Несомненно, число 42 имело для него какое-то особое, может быть, мистическое значение.
В поэме «Фантасмагория», написанной, когда Кэрролл был значительно моложе, лирический герой сообщает своему визави — юному привидению, а заодно и читателю, что ему 42 года. «Правило 42» появляется в предисловии к «Снарку» и в устах Короля в «Алисе»:
«В эту минуту Король, который что-то быстро писал у себя в записной книжке, крикнул:
— Тихо!
Посмотрел в книжку и прочитал:
— „Правило 42. Всем, в ком больше мили росту, следует немедленно покинуть зал“».
Мартин Гарднер в «Аннотированном Снарке» приводит немало иных наблюдений своих корреспондентов, правда, несколько спекулятивного свойства, призванных подчеркнуть мистический смысл числа 42. Так, Д. А. Линдон заметил, что если записать столь памятную для Кэрролла дату 4 июля 1862 года как 4/7/62, получится число 76 в середине (год публикации «Снарка») и две цифры числа 42 по краям. Р. Б. Шейберман и Д. Кратч обратили внимание на то, что первая книга «Алисы» имела 42 иллюстрации и такое же их количество могло быть и во второй книге, если бы в последний момент издание не претерпело изменения. Линдон вспоминает также, что общее количество лошадей и всадников, посланных «Шалтая-Болтая собрать», равно 4207. Возраст Алисы во второй книге — семь лет и шесть месяцев, а шестью семь, подчеркивает Линдон, равно 42. Несомненно, что число 42 вызывает в памяти поговорку all sixes and sevens («кто в лес, кто по дрова»), где фигурируют шестерки и семерки, как несомненно и то, что такое жонглирование цифрами можно продолжать еще на многих страницах, заключает Гарднер.
Но подобное жонглирование не позволяет ответить на вопрос, почему Кэрролл испытывал столь странную привязанность к этому числу. Наиболее правдоподобно выглядит объяснение, что Кэрролл мучительно пытался остановить время, проведенное в обществе своих юных друзей, и, кажется, на те 42 секунды, которые требовались на экспозицию фотопластины, ему это удавалось. В его распоряжении оказывались 42 секунды на то, чтобы уловить самую суть детства да и в конечном счете самой жизни. Если эта версия может все-таки показаться не слишком убедительной, то она по крайней мере весьма поэтична, чтобы не сказать сентиментальна. Хотя почему бы ей не быть истинной, ведь фотография в то время действительно требовала очень продолжительной выдержки, и почему бы Кэрроллу не избрать для себя именно такую продолжительность экспозиции? Во всяком случае мы должны положиться на мнение Сади Ренсон-Полиццотти, которая даже выносит это число в название статьи «42 секунды под землей» (42 seconds underground), не только отсылая тем самым читателя к «Приключениям Алисы», но и подразумевая в слове underground оттенок чего-то потаенного, сокрытого от внешнего мира.
Помимо работы над Снарком продолжались и совместные артистические штудии Кэрролла и Холидея.
«Мы, — пишет художник, — неоднократно встречались с мистером Доджсоном в это время. Он часто бывал у нас в 1875 году, когда большую часть своего времени отдавал занятиям фотографией. Как-то он провел целую неделю у нас на Мальборо-роуд, посвятив ее своему любимому делу. По этому случаю нас посетили юные Сесилы, дети маркиза Солсбери: леди Гвендолен и двое его сыновей, я думаю, нынешние маркиз и лорд Роберт Сесил.
За время, проведенное в Оак-Три-хаусе, Доджсон приобрел многих друзей и подарил мне полный набор оттисков своих фотографий, переплетенный в изящную книгу с посвящением: „В память о замечательно проведенной неделе“. Среди прочих он фотографировал мисс Мэрион Терри в кольчуге[130], а я рисовал ее возлежащей на лужайке».
Холидей, известный лондонский художник и скульптор, ставший впоследствии выдающимся мастером витражного рисунка, испытал влияние прерафаэлитов, и наиболее значительной его работой принято считать «Данте и Беатриче» (1884). Кэрролл думал о нем как о возможном иллюстраторе своих книг еще со времени их знакомства, делая оговорку: «…если только он способен изобразить гротеск».
«Снарк» — единственное кэрролловское произведение, которое иллюстрировал Холидей. Гарднер в «Аннотированном Снарке» задается вопросом, насколько хорошо тот, будучи приверженцем классических традиций, справился с «гротескными» иллюстрациями, и, отвечая на него, охотно соглашается с Рёскином, считавшим, что Холидей уступает Тенниелу: «…рисунки Холидея абсолютно реалистичны, если не считать непропорционально увеличенных голов и слегка сюрреалистических черт, которые навеяны в меньшей степени воображением художника, чем сюрреалистическим содержанием самой поэмы». О «реализме» Холидея можно спорить, но в гротесковости он вряд ли уступает будущим иллюстраторам «Снарка» Питеру Ньюэллу, прославленному Мервину Пику, знаменитой создательнице Муми-троллей Туве Янссон. Их рисунки, может быть, чуть более «детские», но назвать их «более сюрреалистическими» нельзя никак! Превзойти Холидея по части сюрреализма смогли, что, заметим, совсем неудивительно, только сюрреалисты, для которых «Снарк» явился одним из манифестов их движения. Французское издание «Снарка» 1946 года вышло с иллюстрациями юной Жизель Прассинос, привлеченной в кружок сюрреалистов Андре Бретоном; к изданию 1950 года удивительные гравюры создал выдающийся представитель сюрреализма Макс Эрнст.
Гротеск Холидея не столь сюрреалистичен и заключен в его внимательном отношении к деталям, ведь абсурдны оказываются именно детали на фоне внешне абсолютно реалистического повествования, а непропорционально увеличенные головы, можно предположить, призваны подчеркнуть рассудочный характер кэрролловского нонсенса, который рождается исключительно в головах автора, персонажей и читателей. В любом случае иллюстрации Холидея настолько «приросли» к тексту поэмы, что сейчас представляются неотъемлемой ее частью, что неудивительно, если вспомнить, с какой тщательностью Кэрролл работал с иллюстраторами.
В статье «О Снарке» Холидей рассказывает, как он иллюстрировал поэму. После того как Кэрролл закончил три главы поэмы, он попросил сделать три иллюстрации к ним; прежде чем они были закончены, он прислал четвертую главу — для следующего рисунка, и так продолжалось, глава за главой, пока все девять иллюстраций не были готовы. Один из набросков Холидея так и не был использован в поэме. Вот как он сам это объясняет: «Первую иллюстрацию я сделал к сцене исчезновения Булочника, затем я придумал Буджума, что было не так уж неестественно. Мистер Доджсон написал, что получилось совершенно восхитительное чудовище, но что это совершенно неприемлемо. Ибо Буджум абсолютно невообразим и таковым он и должен остаться. Я вынужден был согласиться, хотя до сих пор убежден, что изображение было вполне достоверным. Я надеюсь, что какой-нибудь будущий Дарвин на своем новом „Бигле“[131] найдет подобное создание или его останки и, если такое случится, он одобрит мои рисунки». Подобное создание, к сожалению или к счастью, так и не нашлось, но рисунок с изображением Буджума был использован во всех поздних изданиях поэмы.
Очень внимательно и скрупулезно обсуждал Кэрролл каждый рисунок с Холидеем, однако отнюдь не всегда стремился настоять на своем. Он вполне мог изменить свою точку зрения, если доводы художника оказывались заслуживающими внимания. Холидей вспоминает:
«Доджсон критиковал меня за то, что я ввел фигуры Надежды и Заботы в сцену охоты, что они отвлекают от использованного в следующих двух строках предлога „с“ в двух значениях:
Ловили с опаской, ловили с копьем С надеждою, с вилкой и блеском…как указание на средство и на сопутствующую эмоцию или состояние. Он рассчитывал, что я откажусь от персонификации Надежды и Заботы. Я возразил, что я как никто другой вижу это чередование значений и стараюсь добавить к нему еще одно значение „с“, а именно — „вместе с“. Доджсон с радостью принял мою точку зрения, и таким образом этим дамам было позволено принять участие в охоте».
Кэрролл отдавал себе отчет в том, как непросто было работать с ним иллюстраторам, и воздавал должное их терпению. Посвящение на подаренном Холидею экземпляре «Снарка» в кожаном переплете гласило: «Генри Холидею, самому терпеливому из художников от самого придирчивого, но не самого неблагодарного автора. 29 марта 1876 г.».
Свидетельством кропотливой работы над иллюстрациями являются наброски Холидея, так и не вошедшие в окончательный вариант издания. История создания иллюстраций очень подробно рассказывается Чарлзом Митчеллом в юбилейном издании «Снарка» 1982 года. Митчелл обращает внимание на многие различия между первоначальными набросками и теми рисунками, которые были выгравированы Джозефом Суэйном и воспроизведены в первом издании поэмы. Эскизы Холидея, включая очаровательный набросок Надежды в виде обнаженной женщины, хранятся в библиотеке Принстонского университета.
Двадцать четвертого октября 1875 года Кэрролл пишет в дневнике, что у него возникла неожиданная мысль опубликовать «Снарка» как рождественскую поэму. По прошествии пяти дней выяснилось, что этому намерению не суждено сбыться: издатель Макмиллан сообщил, что на изготовление гравюр уйдет по меньшей мере три месяца. 5 ноября Кэрролл посылает Макмиллану три главы поэмы, а на следующий день пишет еще четыре «последние» строфы. 7 ноября Макмиллану был послан «окончательный» вариант поэмы, но в январе следующего Кэрролл всё еще продолжает работать над новыми главами.
Любопытно, что в процессе работы над изданием книги Кэрролл изобрел суперобложку. В то время книги выходили из типографии обернутыми в простую бумагу. Кэрролл предложил издателям напечатать на корешке и лицевой стороне обертки название книги и имя автора.
Поэма вышла в свет 29 марта 1876 года, незадолго до Пасхи. Кэрролл воспользовался этим обстоятельством и сопроводил книжку небольшим вкладышем, озаглавленным «Пасхальное послание». Так поэма вместо рождественской стала пасхальной. Кэрролл, вероятно, ощущал мотив безысходности, отчетливо прозвучавший в «Снарке», и надеялся уравновесить его посланием, несущим юным читателям христианскую надежду на то, что, покидая грешную землю, мы не лишаемся милосердия Господа. Отклики на это послание оказались крайне разноречивы. 75-летний кардинал Ньюмен, например, нашел его трогательным, но ориентированным совсем не на юных читателей: «„Пасхальное послание“ в большей степени трогает сердца стариков, а не тех, кому оно адресовано. Я отлично помню мои собственные мысли и чувства, в точности совпадающие с описанными автором: я помню, как лежал в детской кровати, чувствовал запахи, доносившиеся из-за двери, звуки и образы, пробуждавшие меня от сна, в особенности — наполнявший меня радостью звук косы в руках косаря на лужайке…»
В день выхода книги Кэрролл записал в дневнике, что провел шесть часов у Макмиллана, надписывая 80 подарочных экземпляров книги. Многие из этих надписей представляют собой акростихи с именами девочек, которым книги предназначались. Следующее посвящение, адресованное Аделаиде Пэйн, воспроизводится наиболее часто, вероятно, потому что являет собой довольно искусную автопародию:
А скажи, папа Вильям, — промолвил малыш, — Да ты спишь и не слышишь ни слова! Если так, просыпайся! Ну что ты молчишь, Лишь трясешь головой, как корова? Адресат мой — одна очень юная мисс Из Уоллингтона. По секрету Должен «Снарка» отправить ей… Ну же, очнись! Ей понравится книжица эта? «Прочь сомненья! — старик, встрепенувшись, изрек. — Экземпляр упакуй терпеливо, И еще напиши ей пасхальный стишок Но укрась его ветвью оливы».Еще один любопытный акростих Кэрролла, впервые опубликованный в 1974 году, обращен к Алисе Кромптон. В нем Кэрролл использует мотивы и размер «Снарка»:
Алиса, а что, если Снарка вдвоем Ловить мы отправимся смело? И если мы Снарка до ночи найдем, Свершим мы великое дело! Алиса, внимательнее погляди, Как бедный Бобер, чуть не плача, Решает задачку, попробуй, найди Ответ его трудной задачи. Могу подсказать тебе верный прием, Прием самый лучший на свете! Ты так хороша, что и ночью, и днем Одною улыбкой ты Снарка живьем Навек завлечешь в свои сети.Но гораздо более нежный и проникновенный акростих-посвящение открывает саму «Охоту на Снарка».
Порой бежит вдоль берега морского, Оставив череду своих проказ, Садится рядом, выслушать готова Волшебный мой рассказ. Я знаю, что к желаньям детским чутки, Щедры не все — немеют их уста, А в душах их, в холодном их рассудке Ютится пустота. Глубокомысленность развей беседой, Ее ведя задорно и шутя! Резвись! О, счастлив тот лишь, кто изведал Твою любовь, дитя! Работа, будней тягостная проза Уносят прочь мгновенья волшебства, Дни те ушли, а солнечная греза Еще в душе жива.В оригинале акростих двойной: не только начальные буквы, но и начальные слова каждой строфы образуют имя адресата.
Акростих и поэма посвящены Гертруде Четуэй. Гертруда стала второй, после Алисы Лидделл, музой Кэрролла. Они познакомились в 1875 году в небольшом курортном городке, где она отдыхала с родителями и тремя сестрами. Гертруде почти исполнилось к тому времени восемь. Вот как она позднее вспоминала об этой встрече:
«Первый раз я встретила мистера Кэрролла летом 1875 года на морском побережье в Сандауне на острове Уайт, когда я была совсем ребенком.
Мы отправились туда, чтобы сменить климат. Соседнее помещение занимал старый джентльмен, — во всяком случае, он мне таковым показался, — который заинтересовал меня чрезвычайно. Он имел обыкновение выходить на балкон, который соединялся с нашим, дышал морским воздухом, запрокидывая голову назад, или направлялся к берегу, упиваясь свежим бризом так, как будто не может им насытиться. Я не помню, что вызвало такое острое любопытство с моей стороны, но я отчетливо припоминаю, что каждый раз, когда я слышала его шаги, я вылетала взглянуть на него. Когда же он однажды обратился ко мне, моей радости не было предела.
Так мы стали друзьями, а спустя совсем немного времени я чувствовала себя в его комнатах, как дома.
Как и все дети, я любила волшебные истории и всякие удивительные рассказы, а его потрясающий талант рассказчика не мог не пленить меня. Мы обычно часами сидели на деревянных ступеньках лестницы, ведущей от нашего сада к берегу, пока он рассказывал самые восхитительные истории, какие только можно себе вообразить, часто иллюстрируя захватывающие сюжеты карандашом по ходу повествования. Одна особенность делала его рассказы еще более увлекательными для ребенка. Заключалась она в том, что он умел так вести диалог со своими слушателями, что каждый их вопрос или замечание могли придать совершенно новое направление его рассказу, и у слушателя создавалось впечатление, что он тоже принимает участие в сочинении рассказываемой истории. Наиболее восхитительным образом такая его манера проявлялась, когда он рассказывал свои небылицы, и я, разумеется, получала от этого огромное удовольствие. Его живое воображение могло перелетать от одного сюжета к другому и никогда не связывало себя требованием какой бы то ни было правдоподобности. По мне, всё это было замечательно, но удивительно, что он так же, как и я, никогда не терял интереса и никогда не желал, казалось, другого общества. Когда я выросла, я как-то сказала ему об этом. Он ответил, что долгие беседы с ребенком доставляют ему величайшее наслаждение и позволяют постичь всю глубину детского ума. Он стал писать мне, а я — ему, и дружба, начавшаяся тем летом, продолжилась. Его письма были одним из величайших источников радости в моем детстве. Мне кажется, что он не всегда отчетливо осознавал, что все, кого он знал детьми, не могут остаться такими навсегда. Я нанесла ему визит только некоторое время спустя. Это было в Истборне, и я снова на какое-то время почувствовала себя ребенком. Он так и не позволил признаться себе, что я выросла. И только однажды, когда я сама сказала ему об этом, он произнес: „Это неважно. Ты для меня навсегда останешься ребенком, даже когда твои волосы поседеют“».
Оттенок грусти и ностальгии по уходящим в прошлое дням звучит, нарастая, почти во всех письмах Кэрролла Гертруде. 9 декабря 1875 года он так заканчивает свое послание:
«Иногда мне очень хочется снова очутиться на берегу моря в Сандауне, а тебе?
Любящий тебя друг
Льюис Кэрролл.
Знаешь, почему поросенок, который пытается разглядеть свой хвостик, напоминает маленькую девочку на берегу моря, которая слушает сказку? Потому, что поросенок тоже говорит:
— Интересно, что там дальше?»
Двадцать первого июля следующего года Кэрролл пишет своей корреспондентке шутливое, но очень трогательное послание:
«Дорогая Гертруда!
Объясни, что мне делать без тебя в Сандауне. Как я могу в одиночестве разгуливать по берегу? Как я могу один сидеть на тех деревянных ступенях? Видишь, без тебя ничего у меня не выйдет, поэтому приезжай! <…> Если я выберусь в Сандаун, то не смогу вернуться в тот же день и тебе придется позаботиться о моем ночлеге где-нибудь в Суонэйдже. Если тебе не удастся раздобыть для меня ничего подходящего, то, думаю, ты уступишь мне свою комнату, а сама переночуешь на берегу моря. Ясное дело, что в первую очередь следует заботиться о гостях и лишь потом о детях. Не сомневаюсь, что в эти теплые ночи ночлег на берегу очень тебе понравится. А если тебе станет прохладно, ты сможешь спрятаться в купальной кабинке: всем известно, что спать в них очень удобно. Как ты знаешь, пол в купальных кабинах именно для этого делают из самого мягкого дерева. Посылаю тебе 7 поцелуев (чтобы хватило на целую неделю) и остаюсь твоим любящим другом.
Льюис Кэрролл».Похоже, чувства, испытываемые Кэрроллом к купальным кабинкам, не уступают тем, которыми он наделил Снарка:
… нежнейшими узами он К купальным кабинкам привязан. Он верит, что облик их непревзойден И всякому радует глаз он.Двадцать шестого октября 1876 года Кэрролл фотографировал Гертруду в своей студии в Крайст Чёрч. Съемка, видимо, оказалась утомительной, что неудивительно, если вспомнить, что для каждой фотографии требовалась как минимум 42-секундная выдержка. Два дня спустя Кэрролл пишет своей модели: «Надеюсь, что ты отдохнула после тех восьми снимков, на которых я запечатлел тебя». Помимо этих снимков Гертруды, Кэрролл в этот же день сделал и фотографию ее матери.
Через несколько лет, 23 мая 1880 года, Кэрролл выражает свои обычные опасения, что его юная подруга подросла:
«Когда мы в следующий раз встретимся с тобой, я, наверное, буду смущаться в твоем присутствии: ведь ты выросла за это время из маленькой девочки в гигантскую юную деву. Разумеется, после того, как я тебя увижу, мне придется подписывать письма к тебе: „С уважением…“, но до тех пор я не обязан знать, какого ты роста, поэтому пока я подписываюсь просто: Любящий тебя друг
Ч. Л. Доджсон»[132].В конце 1892 года Кэрролл пишет, не желая признать, что Гертруда уже повзрослела:
«Мой дорогой старый друг! (Стара дружба, но не стареет дитя.) Желаю счастливого Нового года и много-много счастья в будущем тебе и твоим близким. Однако прежде всего — тебе: тебя я знаю лучше и больше люблю. Я молюсь о твоем счастье, милое дитя, в этот радостный Новый год и на многие грядущие годы»[133].
Раньше дружба Кэрролла с девочками обычно заканчивалась, когда они выходили из детского возраста. Гертруде было уже 25 лет, когда он написал ей нежное письмо, вызывая в памяти, как из многолетнего сна, «босоногую девчонку в моряцком свитере, которая имела обыкновение забегать в мое жилище у берега моря».
Когда Кэрролл завершил свой акростих-посвящение Гертруде спустя примерно месяц после первой встречи с ней, он отправил копию миссис Четуэй с просьбой разрешить когда-нибудь напечатать его. Она явно не обратила внимания на зашифрованное в стихотворении имя, поскольку, получив ее ответ, Кэрролл написал ей вторично. Соблюдая крайнюю щепетильность, он вновь привлекает ее внимание к акростиху и спрашивает, не изменилось ли ее решение. Разрешение миссис Четуэй было получено. В ответ Кэрролл еще раз предупреждает мать Гертруды: «Если я его напечатаю, я не буду сообщать кому бы то ни было о том, что это акростих, но кто-нибудь всё равно обнаружит».
Десятью днями позднее он пишет снова, чтобы сообщить матери Гертруды о своем намерении использовать акростих в качестве посвящения к будущей поэме «Охота на Снарка»: «Действие происходит на острове, где часто бывали Джабджаб и Брандашмыг, и, без сомнения, это тот самый остров, где был убит Бармаглот». Итак, самим автором определено место действия поэмы и обозначена ее преемственность с «Алисой», что позволяет счесть «Снарка» путешествием в Страну чудес без Алисы. Можно было бы даже представить себе поэму, будь она несколько меньшего размера, вставным эпизодом в сказках об Алисе наряду с балладой о Бармаглоте.
Хотя сравнить степень «абсурдности» двух каких-либо произведений сложно, рискнем всё же предположить, что «Охота на Снарка», по крайней мере на первый взгляд, гораздо менее абсурдна, чем «Бармаглот»: в ней почти отсутствуют неологизмы, а те, которые всё же встречаются, позаимствованы автором из «Бармаглота». Американский философ Питер Хит вообще считает, что творчество Кэрролла, за исключением разве что «Бармаглота», к нонсенсу никакого отношения не имеет.
Содержание поэмы совсем нетрудно пересказать, и в таком пересказе оно вовсе не кажется абсурдным. Десять охотников отправляются на корабле на некий остров, где, как они предполагают, обитает Снарк. Высадка на берег происходит не совсем обычным образом.
«Здесь логово Снарка!» — Билл Склянки вскричал, И властно команду увлек он На берег к извилистой линии скал, Вплетя палец каждому в локон.Руководит высадкой на остров и всей экспедицией капитан Билл Склянки. Как и положено предводителю, он действует решительно и последовательно, однако в последовательность выстраиваются его действия, которые кажутся по меньшей мере странными, чтобы не сказать нелепыми. Он называет охотникам «пять подлинных признаков Снарка», совершенно абсурдных; демонстрирует замечательную, абсолютно пустую карту; управляет судном, путая галсы и корму с бушпритом; произносит зажигательную речь:
Внемлите, собратья, сограждане, Рим![134] (Цитата всех очаровала — Команда вождем восхищалась своим, И каждый алкал из бокала.)Участники экспедиции, вдохновленные столь яркой речью капитана, постоянно говорят и думают о Снарке. Один из охотников, которому предстоит сыграть в повествовании ключевую роль, — Булочник, не только забывший при посадке на корабль свои вещи, но и запамятовавший собственное имя, рассказывает команде совершенно диковинный способ поимки Снарка, вызывающий полное одобрение капитана:
Ловить его можешь с улыбкой с копьем, С надеждою, с вилкой и блеском, Грозить можешь мылом и ночью и днем И акций падением резким. («Прием очень верный! — сказал капитан, Но в скобки поставил ремарку. — Я точно такой же вынашивал план Успешной охоты на Снарка».)Чуть позже Булочник объявляет, что Снарк имеет две разновидности: одна вполне безобидна, вторая же грозит встретившему ее внезапным исчезновением:
«Коль Снарк твой — Буджум, приготовься: Ты канешь внезапно навек без следа».Происходит масса удивительных событий: Беконщик дает урок Бобру, Барристер видит сон, в котором судят свинью, Банкир встречается с Брандашмыгом — небезызвестным персонажем баллады «Бармаглот» — и теряет рассудок.
Завершается поэма трагически — случается то, чего Булочник опасался:
Сперва «Это Снарк!» донеслось, а затем — То хохот, то звуки затрещин И вопль: «Это Бу-!», показавшийся всем Невообразимо зловещим.Несчастный Булочник в момент, казалось бы, наивысшего торжества, когда он добрался наконец до цели всего предприятия, исчезает:
Он канул внезапно навек без следа На самой возвышенной ноте И на полуслове, и вы без труда, Что Снарк был Буджумом, поймете.Однако исчерпывается ли этим содержание поэмы, в которой, по словам Сидни Уильямса и Фальконера Мэдана, описано «с неиссякаемым юмором невероятное путешествие немыслимой команды за невообразимым существом»?
Команда, которой руководит Билл Склянки, действительно совершенно немыслима. Имена всех ее членов начинаются исключительно на букву «Б»: Билл Склянки, Бутс, Бутафор, Барристер, Барышник, Бильярдный маркер, Банкир, Бобр, Булочник и Беконщик. Почему?
Почему среди антропоморфных персонажей оказывается Бобр, который принимает деятельное участие в охоте на совершенно «невообразимое существо»? Кто такой Снарк? И кто такой Буджум? В чем, наконец, состоит смысл «охоты на Снарка»?
Большинство комментаторов сошлись на том, что Снарк (Snark) — это «слово-бумажник», получающееся «склейкой» двух других: snail (улитка) и shark (акула) или snake (змея) и shark. Здесь комментаторы следуют за Беатрис Хэтч (Beatrice), которая в статье «Льюис Кэрролл»[135] утверждает, что такое толкование предложил ей сам автор. Другая пара слов, которая может составить этот бумажник, — snarl (рычание) и bark (лай). Кэрролл, конечно, любил составлять слова-бумажники, но в случае со Снарком такое толкование кажется маловероятным, поскольку, если верить автору, фраза «Что Снарк был Буджумом, поймете» придумалась внезапно, а такой «бумажник» вряд ли был составлен столь же внезапно. Поэтому лучше поискать его происхождение в возможном активном словаре Кэрролла. Можно предположить, что Кэрролл знал древнегерманское слово Snark, обозначающее способ поимки животного, и именно оно внезапно пришло ему в голову тем июльским днем.
Любой читатель поэмы «Охота на Снарка» задается вопросами о ее смысле, и очень многие приложили немалые усилия, чтобы попытаться ответить на них. Современники Кэрролла, конечно, находились в лучшем положении, чем их потомки, поскольку могли адресовать свои вопросы непосредственно автору. «Исчерпывающий» ответ на него Кэрролл дал в статье «Алиса на сцене»: «Время от времени я получаю любезные письма от незнакомых мне людей, которые хотели бы знать, что же такое „Охота на Снарка“ — аллегория или политическая сатира, и не кроется ли в ней какая-то мораль. На все эти вопросы я могу лишь ответить: „Не знаю!“»[136] Однако, если вспомнить «сильное высоконравственное назначение поэмы», о котором Кэрролл упомянул в предисловии к ней, такой ответ покажется не слишком искренним. Тем не менее, согласно всем сохранившимся свидетельствам, Кэрролл настаивал на нем.
Шестого апреля 1876 года (через неделю после выхода книги) автор пишет одной из своих сандаунских приятельниц Флоренс Бальфур: «Надеюсь, что, когда ты прочитаешь „Снарка“, ты напишешь мне несколько слов о том, как он тебе понравился и поняла ли ты его до конца. Некоторых детей он поставил в тупик. Ты, конечно, знаешь, что такое Снарк? Если да, то прошу тебя, напиши мне, ибо я не имею малейшего понятия о том, что это такое. И еще сообщи мне, какая из картинок понравилась тебе больше других»[137]. Это письмо свидетельствует скорее об обратном — Кэрролл выступает здесь в роли экзаменатора, задающего ребенку задачку (сродни той, что он задавал в письме Гертруде про поросячий хвостик), на которую знает правильный и совершенно точный ответ, более того, предполагает, получив ответ внимательной ученицы, дать ему надлежащую оценку.
Через 20 лет он всё еще отвечает на подобные вопросы:
«Боюсь, что я не имел в виду ничего, кроме нонсенса! Всё же слова, как вы знаете, значат больше того, что мы хотим сказать, и книга в целом должна значить больше того, что мы имели в виду. А потому я готов согласиться с любым добрым смыслом, который вы обнаружили в этой книге. Больше всего мне понравилось мнение одной дамы (она выразила его в письме, отправленном в газету), которая считает эту поэму аллегорией поисков счастья. Мне эта мысль показалась прекрасной, особенно в той ее части, которая касается кабинок для купания: когда люди устают от жизни и отчаиваются найти счастье в городах или в книгах, они устремляются к морю, чтобы выяснить, не помогут ли им кабинки для купания»[138].
Последний комментарий Кэрролла к «Снарку» содержится в письме, написанном в 1897 году, за год до его смерти:
«В ответ на вопрос, что я всё-таки имел в виду под Снарком, Вы можете сказать Вашей подруге, что я имел в виду, что Снарк и есть Буджум. Теперь я уверен, что и Вы, и она совершенно удовлетворены и счастливы. Я прекрасно помню, что не имел в виду ничего иного, когда я писал поэму, но все с тех самых пор пытаются ее как-то истолковать. Мне больше всего нравится (и такое толкование до определенной степени совпадает с моим собственным), когда книжку считают аллегорией поисков счастья. Такой верный признак Снарка, как амбиции, в точности соответствует этой теории. А его привязанность к купальным кабинкам показывает (если принять эту теорию), что поиски счастья, когда отчаялся найти его где-нибудь в другом месте, приводят порой как к последнему и безнадежному средству в скучное и тягостное общество дочерей наставницы закрытой школы для девочек на таком никудышном морском курорте, как Истборн».
Вряд ли Кэрролл пытался уклониться от ответа, отрицая, что подразумевал в поэме какие бы то ни было скрытые смыслы, но, безусловно, он хотел поддержать затеянную им игру с читателями. Вполне вероятно, он совершенно искренне хотел узнать, какие смыслы будут найдены в его поэме, поскольку, как он сам заметил в одном из приведенных писем, слова могут значить гораздо больше того, что имел в виду автор: приобретать значения совершенно произвольные и выявлять значения, глубоко скрытые в сознании писателя и не осознаваемые им. Язык нонсенса в гораздо большей степени, чем иные тексты, способен выявлять такие «неподразумеваемые» значения.
«Я могу вспомнить одного сообразительного студента из Оксфорда, — пишет Холидей, — который знал „Снарка“ наизусть, и он говорил мне, что на все случаи жизни у него есть подходящая строка из поэмы. Многие отмечают эту особенность текстов Кэрролла». А по словам Д. Падни, достоинства поэмы столь велики, «что никакой анализ не в силах ей повредить — она не утрачивает ни увлекательности, ни очарования цельности и толкует решительно обо всём на свете».
Нет ничего удивительного в том, что сразу же после выхода «Охоты на Снарка» нашлось великое множество желающих выявить те скрытые смыслы, заключенные в его «бессмысленных» фразах, которые, как говаривала Алиса, «наводят на всякие мысли — хоть я и не знаю на какие». Интерпретаторы «Охоты на Снарка», в отличие от Алисы, точно знают, на какие мысли наводит их поэма, и изложили их в множестве работ.
Один из комментаторов утверждал, что поэма является сатирой на стремление подняться вверх по социальной лестнице человека, трагически не способного его осуществить. Другой выдвинул предположение, что Снарк олицетворяет собой богатство, и неподдельно удивлялся, что можно предполагать что-либо иное: «Да упоминания одних только железнодорожных акций и мыла (при помощи которых и надо ловить Снарка) достаточно, чтобы выдвинуть такой тезис!»
В начале XX века упоминаний о мыле и акциях окажется уже недостаточно — возникнет теория, трактующая поэму как сатиру на рискованные коммерческие предприятия. Корабль — некое коммерческое предприятие, которое держится «на плаву», пока Снарк, спекулируя недвижимостью, не приводит его к краху, поскольку команда — совет директоров — излишне оптимистично относится к котировкам акций. Позднее такое «экономическое» толкование было усовершенствовано, и в разгар Великой депрессии в США «Охоту на Снарка» стали считать сатирой на бизнес в целом, Буджума — символом экономического краха, а всю поэму — описанием глубокого трагизма экономического развития общества. Аллегорическое толкование поэмы было разработано с известной долей изобретательности: Бутс стал символизировать неквалифицированную рабочую силу, Бобр — текстильных рабочих, Булочник — производителей предметов роскоши, Бильярдный маркер — биржевых спекулянтов, гиены — биржевых брокеров, медведь — трейдеров на фондовой бирже, играющих на понижение. Джабджаб — это Дизраэли; Брандашмыг, схвативший Банкира, — это Банк Англии, в своем неуемном оптимизме неоднократно повышавший процентные ставки, что положило начало панике 1875 года. Причем автор этой теории был уверен, что «нет ни одного четверостишия, которое противоречило бы такой интерпретации».
Еще два варианта толкования «Охоты на Снарка» основаны на реальных событиях, случившихся во время написания поэмы. Одно из них — арктическая экспедиция на кораблях «Алерт» и «Дискавери», отправившаяся из Портсмута в 1875 году и возвратившаяся осенью 1876 года. Экспедиция широко освещалась в печати и до, и после публикации «Снарка», и многие читатели не могли не предположить, что поэма является сатирой на арктический вояж. Снарк в этом случае должен был символизировать собой Северный полюс.
Второе событие — знаменитый суд по делу Тичборна, ставший одним из самых длинных и забавных процессов в английском судопроизводстве. Сэр Роджер Чарлз Тичборн, богатый молодой англичанин, пропал в море в 1854 году, когда корабль, на котором он плыл, затонул со всей командой. Его эксцентричная мать отказывалась верить в его гибель и упорно помещала объявления в надежде получить какие-либо сведения о сыне. В 1865 году сэр Роджер наконец-то откликнулся из Австралии. Несмотря на то, что пропавший много лет назад аристократ был худым, с прямыми черными волосами, а новоявленный Тичборн оказался чрезвычайно толстым и волосы у него были светлые и вились, встреча матери с вновь обретенным сыном в Париже получилась очень трогательной. Но опекуны имения сэра Роджера не поверили в его внезапное воскрешение и в 1871 году начали против него тяжбу. Более ста человек «узнали» в обвиняемом сэра Роджера, оказавшегося на деле безграмотным мясником. Кэрролл с интересом следил за судебными слушаниями. 28 февраля 1874 года он отметил в дневнике, что самозванцу вынесен обвинительный приговор и он приговорен к четырнадцати годам лишения свободы за лжесвидетельство.
Вполне возможно, что суд над лже-Тичборном каким-то образом повлиял на Кэрролла и сон Барристера действительно инспирирован некоторыми эпизодами этого дела. Также весьма правдоподобным выглядит предположение, что нарисованный Холидеем Барристер — карикатура на Кинели, адвоката самозванца. Книга о деле Тичборна была в библиотеке Кэрролла, и он однажды сделал анаграмму на полное имя Кинели — Edward Vaughan Kenealy: Ah! We dread an ugly knave (Ax! Мы преклоняемся перед мерзким плутишкой).
Но даже несмотря на то, что в команде охотников появляется мясник (Беконщик) и тема самозванства в какой-то мере присутствует в «чудесном превращении» Снарка в Буджума, нет серьезных причин для интерпретации поэмы в целом как сатиры на дело Тичборна. Гораздо более изобретательной и, кажется, не претендующей на достоверность выглядит теория о Снарке философа Фердинанда Каннинга Скотта Шиллера. Достоинства ее в другом — в иронии, даже самоиронии, пародийности, склонности автора к логическим парадоксам, мистификациям и игре слов вполне в духе самой поэмы.
Шиллер в начале XX века был общепризнанным лидером философии прагматизма наряду с Уильямом Джеймсом и Джоном Дьюи. В 1901 году, когда он преподавал философию в Оксфорде, ему удалось уговорить издателей философского журнала «Майнд» (Mind), в котором несколькими годами ранее были опубликованы «Ахиллес и черепаха» и «Логический парадокс» Кэрролла, выпустить пародийный номер журнала. Главное место в этом номере занимали «Комментарии к Снарку» самого Шиллера под псевдонимом Снаркофилус Сноббс (Snarkophilus Snobbs). Они интерпретировали кэрролловскую поэму как сатиру на поиски философами-гегельянцами идеи Абсолюта. Комментарий выглядит как пародия не только на философские изыскания, но и на любые попытки истолковать «Снарка», как прошлые, так и будущие.
Исходя из посылки, что «большинство кэрролловских нематематических текстов таково, что даже самый глупый взрослый читатель может обнаружить в них некий смысл», Сноббс предостерегает: «…любыми предваряющими объяснениями автора публика справедливо пренебрегает, и надо признать, что в случае с Льюисом Кэрроллом читатели вряд ли приблизятся к разгадке тайны „Снарка“, которая, если подсчитать, несет ответственность за 49 ½ процента случаев помешательств и нервных расстройств, которые случились за последнее десятилетие».
Тем не менее сам Сноббс (не Шиллер!) приступает к собственному толкованию, решительно заявляя: «…Снарк — это Абсолют, который столь дорог сердцу каждого философа, и… „Охота на Снарка“ описывает поиски этого Абсолюта. Даже столь кратко сформулированная теория почти мгновенно убеждает в своей правоте. Такая трактовка гораздо более убедительна, чем предположения, что „Снарк“ — это предвыборная кампания, или социальный трактат, или поэтическое повествование об открытии Америки». Сноббс убежден, что «Льюис Кэрролл как человек здравомыслящий не верит в Абсолют» и, следовательно, «Охота на Снарка» предназначена для изображения человечества в поисках Абсолюта и тщетности этих поисков. Никто не добрался до Абсолюта, кроме Булочника, жалкого безумца, потерявшего рассудок… И когда он находит Снарка, тот оказывается Буджумом, и ему не остается ничего другого, как «кануть внезапно навек без следа». Таков этот Абсолют, до которого можно добраться только ценой утраты индивидуальности, которая поглощается Буджумом. Буджум — Абсолют и та угроза «высоконравственному назначению поэмы», о котором Кэрролл говорит в предисловии.
Затем автор детально рассматривает многие строфы поэмы с точки зрения выдвинутой теории, привлекая в оппоненты некоего профессора Грубвитца. Покажем лишь некоторые образцы блестящих умозаключений Снаркофилуса Сноббса. К примеру, он приводит строфу Кэрролла: «Ловить его можешь с улыбкой с копьем / С надеждою, с вилкой и блеском» — и снабжает ее комментарием: «„С блеском“ — этот пассаж повторяется в поэме неоднократно. Билл Склянки позже посоветует принарядиться для битвы, что объясняет назначение „блеска“. Кэрролл в данном случае, несомненно, подразумевает, что поиски Абсолюта требуют блеска интеллектуального».
Интеллектуальный блеск самого Снобса не угасает. На четверостишие Кэрролла:
По-шведски, немецки, сказал я в тот раз, По-гречески, но, к сожаленью, Совсем упустил, что английский для вас Является средством общенья, —следует саркастическое замечание Снаркофилуса: «Высказывать суждения об Абсолюте по-немецки и по-гречески вполне естественно; так же как утрата способности говорить и писать по-английски, это общий симптом всех тех, кто пытается добраться до Абсолюта». Строфа поэмы:
Он видит во сне: в парике и пенсне Снарк в центре судебного зала Защиту ведет уже час напролет Свиньи, что из хлева сбежала, —вызывает у Сноббса эпикурейские ассоциации: «Свинья — вероятно, поросенок эпикурова стада (Гораций, „Послания“), и обвинение в побеге из хлева есть обвинение в само- или свиноубийстве. Ибо, как божественный Платон прекрасно сказал в „Федоне“, совершить самоубийство — всё равно что покинуть свой пост».
Мартин Гарднер в «Аннотированном Снарке», разделяя точку зрения Снаркофилуса Сноббса в той части, что Буджум — это полная и неотвратимая утрата индивидуальности, гораздо более серьезен и склонен считать «Охоту на Снарка» поэмой об экзистенциальном страхе небытия, считая ключевым эпизод, когда дядюшка Булочника, возможно, на смертном одре, наставляет племянника: если Снарк окажется Буджумом, то он «канет внезапно навек без следа и впредь им не встретиться вовсе». В следующих четырех строфах Булочник описывает свою эмоциональную реакцию на это серьезное предупреждение:
Всё это, всё это источник тревог, Наполнивший сердце, как чашу, В которой дрожат они, словно творог, Точнее же, как простокваша.Гарднер видит в поэме отражение неприятия Кэрроллом доктрины о вечном проклятии и, следовательно, его несогласия с протестантской ортодоксией. В пламени, высекаемом посредством «Снарка», Гарднер находит родство с пламенем веры — центральным понятием философии Мигеля Унамуно, величайшего испанского философа-экзистенциалиста.
«Такова эта агония, — завершает Гарднер анализ „Охоты на Снарка“, — агония предчувствия утраты бытия, что проступает из самого нутра кэрролловской поэмы. Отдавал ли себе Кэрролл отчет в том, что „Б“, доминирующая буква его баллады, — это символ бытия? Я порой думаю, что отдавал. Буква „Б“ звучит в поэме непрекращающейся барабанной дробью, начиная с первого знакомства с Биллом Склянки, Бутсом и другими персонажами поэмы, затем нарастает всё настойчивее и настойчивее вплоть до финального громового раската — явления Буджума. „Снарк“ — это поэма о бытии и небытии, экзистенциальная поэма, поэма об экзистенциальной агонии. <…> В буквальном смысле Буджум Кэрролла — совершенное Ничто, пустота, абсолютный вакуум, вакуум, из которого мы чудесным образом появляемся, в который мы погружаемся навсегда, вакуум, сквозь который нелепые галактики несутся в своем бесконечном, бессмысленном путешествии из никуда в никуда».
Чтобы не заканчивать обзор интерпретаций «Снарка» на столь трагической ноте, уместно упомянуть статью Ларри Шоу «Дело об убийстве Булочника»[139], в которой он доказывает, что Булочник на самом деле встретил не Буджума, а Бутса. Именно на него хотел указать несчастный своим возгласом «Это Бу-!». Бутс, действительно, самый таинственный член команды, он появляется только в четвертой главе, и только его нет на иллюстрациях Холидея. (Кстати, Д. Линдон отвел Бутсу более значительную роль в своей пародии-интермедии на «Охоту на Снарка», на взгляд Гарднера, единственной удачной пародии на Кэрролла.)
И всё же любые монотолкования поэмы, представляющие ее как аллегорическое изображение какого-нибудь одного события, одной теории, одного вполне определенного замысла автора, будут неверны. Вспомним признание автора, что вся поэма сложилась по кусочкам. Поэтому мы можем лишь утверждать, что с той или иной степенью вероятности те или иные странные события, идеи, отрывки разговоров нашли в ней отражение. Предполагал ли Кэрролл какое-либо «экономическое» содержание поэмы? Вряд ли. Нашла ли в поэме отражение полярная экспедиция? Может быть. Повлияло ли дело Тичборна на сцену суда во сне Барристера? Очень вероятно. Всё, что нам остается, — вслед за многочисленными интерпретаторами текста поэмы вступить в завещанную автором увлекательную игру.
Какими «источниками случайных вспышек интеллекта» мы располагаем? Следствием без каких причин явился «Снарк»? Какие «источники» наиболее вероятны?
В эссе «Снарк пойман» (The Capture of the Snark) Торри и Миллер полагают, что «„Охота на Снарка“ — почти наверняка стихотворение о Комиссии по делам душевнобольных и смерти дяди Кэрролла Скеффингтона Латвиджа». То, что смерть дяди произвела на Кэрролла очень сильное и тяжелое впечатление, не вызывает сомнения, и, безусловно, весьма правдоподобным выглядит предположение, что она значительно повлияла и на замысел поэмы. Когда Кэрролл вкладывает в уста Булочника слова: «Мой дядя заметил, прощаясь со мной, / (В честь дяди я назван)…», мы почти наверняка знаем, о ком идет речь. Но чрезвычайно трудно поверить утверждениям авторов эссе, что в десяти охотниках на Снарка Кэрролл хотел представить десять членов Комиссии по делам душевнобольных, а «признаки Снарка» — это симптомы безумия. И уж совсем натянутым выглядит предположение, что железнодорожные акции упомянуты лишь потому, что инспекторы комиссии передвигались, как правило, поездом.
Поэма, безусловно, несет на себе налет безумия. Даже ее главы Кэрролл обозначил как Fits, что может быть переведено и как «песнь», и как «приступ» (приступ гнева безумца, напавшего на дядюшку Скеффингтона, полагают авторы статьи). Банкир после встречи с Брандашмыгом совершенно потерял рассудок:
За фразой скандировал фразу, Бессмысленность фраз говорила: угас В бедняге немеркнущий разум.Сразу после выхода поэма была названа еженедельником «Сатердей ревю» «историей, описывающей экспедицию безумцев, ведомых сумасшедшим капитаном к недосягаемой цели».
Гораздо убедительнее выглядит заключение статьи, где авторы находят более глубокие, психологические мотивы, повлиявшие на мрачное содержание поэмы:
«Льюиса Кэрролла занимала проблема зла и то, как его существование соотносится с существованием милосердного Бога. Существования безумия (то есть Снарка) было достаточно, чтобы бросить вызов его вере, но, что еще страшней, некоторые Снарки оказывались Буджумами. Смерть его дяди, „доброжелательное и щедрое расположение которого вызывало любовь к нему всех его коллег“, бросила вере Кэрролла намного более сильный вызов. Как Бог мог позволить закончить жизнь такого человека случайным, иррациональным, бессмысленным и очевидным актом зла? Как случилось, что Бог забрал жизнь племянника и крестника Кэрролла, за которым он ухаживал в то время, когда начинал писать „Охоту на Снарка“?
Льюис Кэрролл не мог совместить смерть своего дяди с христианской верой. Поэтому, когда его просили объяснить значение его поэмы, Кэрролл был абсолютно честен, вопрошая: „Можете ли вы объяснить вещи, которых вы сами не понимаете?“; по той же причине Кэрролл не позволил Генри Холидею… изобразить Буджума, поскольку такое невозможно даже вообразить».
Среди прочих, по мнению авторов статьи, несостоятельных теорий о Снарке они называют и предположение, что «Охота на Снарка» — «антививисекционистская» поэма. Между тем нельзя сбрасывать со счетов, что Кэрролл писал свои работы, направленные против применения вивисекции, в 1875 году, тогда же, когда создавалась и «Охота на Снарка». Логично было бы предположить, что в поэме нашли отражение жаркие дебаты в английском обществе, в которых Кэрролл занял активную и непримиримую позицию.
Все перипетии развернувшейся борьбы и ее возможное влияние на кэрролловскую поэму прекрасно описаны в недавней статье Джеда Майера «Вивисекция Снарка»[140].
По словам Майера, «анатомируя логику, которая оправдывала накопление научных знаний любой ценой, Кэрролл внес существенный вклад в развивающуюся литературу прав животных». Полемика Кэрролла достигает своей высшей точки в апокалипсическом видении мира, подчиненного логике физиологической лаборатории. Он связывает подчиненное положение животных с подчиненным положением женщин и трудящихся классов: «Порабощение своих более слабых братьев, использование „труда тех, кто не наслаждается, ради удовольствия тех, кто не трудится“, унижение женщины, пытки животных — вот ступени лестницы, по которой человек поднимается к вершинам цивилизации», — завершая свою мысль мрачным пророчеством о наступлении времени, «когда человек науки должен будет ликовать при мысли, что он сделал из этой благословенной цветущей земли если не рай для человека, то, по крайней мере, ад для животных». Джед Майер видит в Беконщике (мяснике) как раз такого представителя науки — самозваного естествоиспытателя, хорошо известного своими выдающимися способностями к письму и чтению лекций, а также хирургическими навыками. Являясь защитником вивисекции, Беконщик имеет большой опыт по части представления своих специальных знаний на доступном языке и умеет манипулировать собеседником, хотя его система доказательств порочна. Его собеседником, его учеником, выступает, заметим, Бобр, представитель животного мира.
С выходом в свет дарвиновского «Происхождения человека» новые доказательства родства между человеком и животными стали доступными как защитникам, так и противникам вивисекции. Джед Майер полагает, что трудности классификации человеческих существ и животных нашли явное отражение в «Снарке» и «дарвинистская игра становится смертельно серьезной в этой абсурдной поэме». Чтобы помочь команде идентифицировать их неуловимую возможную добычу, капитан Билл Склянки очень академично называет пять признаков Снарка, которые по мере их перечисления становятся всё более человеческими — от невыраженного вкуса до амбиций и неспособности оценить шутку. Снарк становится всё более похож, скажем, на Банкира или Барристера, преследующих его в своем неуемном честолюбии. Таким образом, Снарк, полагает автор статьи, — некий гибрид честолюбивого исследователя и подопытного существа. И когда Булочник наконец находит Снарка, он внезапно исчезает, едва попытавшись классифицировать добычу, ибо Снарк оказался Буджумом, поскольку, убеждает нас Джед Майер, «непостижимая межвидовая граница» пересечена и само определение человека оказывается размыто.
Еще одно важное замечание Джеда Майера касается той роли, которую играет язык нонсенса в полемической риторике Кэрролла. Нонсенс противостоит той интеллектуальной языковой деспотии, которую демонстрируют Беконщик, читающий свои лекции «из области естествознания», Билл Склянки, Шалтай-Болтай, безапелляционно заявляющий: «Когда я беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше и не меньше». — «Вопрос в том, подчинится ли оно вам», — возражает последнему Алиса и вместе с ней Льюис Кэрролл, в каждой своей работе, по словам Майера, последовательно и неуклонно подрывающий многозначностью и разноголосием (гетероглоссией) языка нонсенса любые покушения на лингвистическое превосходство.
С автором «Вивисекции Снарка» можно согласиться не во всём, но то, что «дарвинистская игра» и «антививисекционистские» мотивы присутствует в поэме, кажется вполне правдоподобным.
Сама поэма столь часто оказывалась «на столе вивисектора» и препарировалась столь многими исследователями, что впору развернуть кампанию против применения такой практики, если она болезненна. Безболезненным же следует признать лишь толкование, не претендующее на то, чтобы быть единственно правильным, несомненным и не утверждающее, что именно оно не противоречит ни одной строфе поэмы. Болезненно — копание в деталях, когда «скальпель» исследователя достигает каждой строфы, строчки, слова, запятой… Впрочем, подобное утверждение применимо исключительно к «Снарку», поскольку он занимает совершенно особое положение в истории английской, да и мировой литературы. Ни одно другое стихотворное произведение не вызвало такого обилия толкований, интерпретаций и исследований, которое вполне заслуживает того, чтобы считаться отдельной наукой — «снаркологией» — со своими мэтрами и неофитами… или лженаукой: эдакой алхимией, ищущей философский камень; астрологией, тщащейся отыскать скрытые причинно-следственные связи, или некой религиозной практикой, для которой «Снарк» — священная книга, а комментаторы — служители культа, герменевтики, искатели сакральных смыслов.
Но если бы мы всё же рискнули сконструировать «философию творчества» Льюиса Кэрролла на примере создания им «Охоты на Снарка», у нас не получилось бы стройной логической картины, где следствия неизбежно влекомы намерением, как у Эдгара По. Нам лишь удалось бы обнаружить «книгу, читавшуюся в то время», например «Нашего общего друга» Диккенса, из которой Кэрролл извлек директора банка (читай — Банкира), Бруэра с Бутсом и остальных двух Буферов, а также прочих персонажей, имена которых начинаются на букву «Б»[141]. Мы могли бы также выяснить, что способность Булочника откликаться на любой громкий крик навеяна Кэрроллу нравом одной из собак Габриэля Оука из романа Томаса Харди «Вдали от обезумевшей толпы»: «Это был такой старательный и бестолковый пес (у него еще не было собственного имени, и он с одинаковой готовностью откликался на любой приветливый оклик)…» Мы выявили бы и влияние Томаса Гуда, «Баллад Бэба» Уильяма Швенка Гилберта и, может быть, морских баллад Оливера Уэндела Холмса. Мы нашли бы «неожиданный поворот мысли», вызванный тяжкими раздумьями Кэрролла о безвременных кончинах его дядюшки и племянника, или занимавшими его проблемами вивисекции и выборной системы. А может, предположили бы мы, сделанная Кэрроллом фотография Экси в образе китайского торговца с множеством коробок навела его на мысль о багаже Булочника. Мы могли бы допустить, что «Снарк» — это некая евклидова теорема, доказывающая, что Снарк и Буджум тождественны. И, как знать, в итоге мы, возможно, остановились бы на том, что «Снарк» — алгебраическое выражение, допускающее любую подстановку смыслов. И останется единственный вопрос: можем ли мы уверенно снять всю эту сослагательность и действительно ли Кэрролл вкладывал в поэму именно такой смысл, требующий от нас подобных подстановок?
Но вовсе не изобилие возможных смыслов, которые могут быть вложены в поэму, позволяет назвать ее шедевром, а то действительно уникальное обстоятельство, что она ни в каких смыслах не нуждается, поскольку, говоря словами Честертона, ее «образы и рассуждения могут существовать в пустоте в силу собственной безудержной дерзости»[142].
«Охота на Снарка» написана, как стараются подчеркнуть энциклопедии, главным образом четырех- и трехстопным анапестом — традиционным для английской юмористической поэзии размером, который использовался, к примеру, в лимериках. Внутренняя рифма, которой Кэрролл виртуозно пользуется, разбивая порой четырехстопные строки, придает строфам поэмы еще большее сходство с лимериками. Но одновременно Кэрроллу удается достичь того, что вся поэма в целом оставляет у читателя довольно мрачное, тревожное, неуклонно нарастающее к финалу ощущение. При этом написана она с особым, присущим только Кэрроллу юмором, и контраст нарастающей тревоги и виртуозной словесной игры передан столь выразительным языком, что при чтении поэмы не задумываешься о каком-либо смысле, что, собственно, и говорит об удивительном мастерстве Кэрролла-версификатора.
Вот замечательное четверостишие из первой главы, характеризующее Булочника:
Умел он гиен дерзкой шуткой смущать И как-то с медведем, по слухам, Прошелся под лапу, мол, чтоб поддержать Медведя, упавшего духом!А уже в седьмой главе строфы, посвященные Банкиру, пожалуй, столь же смешны, но юмор становится всё более мрачным, вызывая подспудно ощущение беспокойства и трагического финала:
Теперь бы едва ли беднягу узнали — Стал черен Банкир невезучий! И даже жилет стал от ужаса сед — Достойный внимания случай! ……………………………… Сев в кресло, в дальнейшем он наимюмзейше За фразой скандировал фразу. Бессмысленность фраз говорила: угас В бедняге немеркнущий разум.Мартин Гарднер, рассуждая об опытах сочинения подобного нонсенса, замечает: «…я знаю множество любителей Кэрролла, которые обнаружили, что помнят Jabberwocky слово в слово, хотя никогда не делали сознательной попытки выучить его наизусть». Можно смело утверждать, что то же самое в полной мере относится и к «Снарку», и как тут не вспомнить сообразительного студента, у которого на все случаи жизни была подходящая цитата из «Снарка». Безусловно, достоинство поэмы в том и состоит, что читатель вдруг обнаруживает, что помнит, обнаруживает, что чтение завораживает, и не важно, что смысл неясен, — стих Кэрролла всё равно волнует, будоражит, притягивает независимо от воли самого читателя.
С неменьшим мастерством Кэрролл выстраивает композицию — так и хочется сказать «экспозицию», помня его увлечение фотографией. Место и время действия «Охоты» строго ограничены, они сценичны. Каждая глава — акт пьесы, разыгрываемой на условной сцене:
Взял карту морскую он в дальний вояж Без признаков суши. Приятно Был картой такой поражен экипаж И тем, что она им понятна. …………………………… «…Другие же карты на мили и ярды Изрезаны сушей, а наша Настолько чиста и настолько пуста, Что карты не может быть краше!»Пустая и девственно чистая карта — вот сцена, на которой разворачивается действие поэмы. Акт первый — представление персонажей, затем состоятся «сольные выходы» двух главных действующих лиц — капитана и Булочника, за ними — массовая сцена, предваряющая дуэт Бобра и Беконщика, потом на сцене появляются Барристер и Банкир; наконец, следует трагический финал. Казалось бы, Кэрролла можно упрекнуть в том, что не всем персонажам он доверил «сольные партии»; но если вставить в поэму главу «седьмую-с-половиной», написанную Д. А. Линдоном, в которой он безусловно талантливо старается восполнить этот пробел, станет очевидно, что такая операция разрушит гениально выверенную композицию кэрролловского шедевра.
При этом сами персонажи предельно обобщены, они — почти трафареты, на которые читатель волен положить любые цвета. Представление Булочника — одно из самых ярких, на наш взгляд, мест поэмы:
Был массой вещей знаменит персонаж, Который при спешной посадке Забыл весь из них состоящий багаж: И зонт, и часы, и перчатки. Багаж был немал: сорок два сундука И имя на каждом предмете, Сей факт он забыл, растерявшись слегка, А с ним и все вещи на свете.Очертания всех прочих персонажей менее подробны, но столь же размыты; их можно было бы счесть карикатурными, если бы они не были столь завораживающе, абстрактно и абсолютно смешны.
А вот два из пяти признаков Снарка: Во-первых, у Снарка не выражен вкус, (Хрустит, словно в тесном пальто вы), Но с привкусом легким, сказать не берусь, Чего, но чего-то такого. Он поздно встает. Я точнее бы мог Про склонность такую поведать: Он завтракать любит, когда файв-о-клок, И только назавтра обедать.«Легкий привкус» неизвестно чего, но, несомненно, «чего-то такого» наилучшим образом характеризует притягательность не только Снарка, но и всей поэмы.
И вот персонажи поэмы ведут нас за собой в тщетной погоне за Снарком, и неявно обозначенная цель оказывается вовсе не той, к которой мы стремились. Кэрроллу удается достичь поразительного эффекта — перед читателем в конечном счете предстает некий универсальный проект поэмы или, что правильнее, любая поэма.
Появившись в продаже, «Охота на Снарка» конечно же заинтриговала читателей и продавалась неплохо, но между тем отзывы обозревателей и рецензентов оказались немногочисленными и недоброжелательными.
В апреле 1876 года в «Академии» появился отзыв Лэнга, раскритиковавшего как саму поэму, так и иллюстрации Холидея. Процитировав строфу о нечуткости Снарка к юмору, Лэнг заключает, что эта его способность передается и рецензенту, который оказывается неспособен оценить юмор Кэрролла. «В поэме нет ни ума, ни остроумия, нонсенс Кэрролла не в состоянии ни удивить, ни развлечь», — вторит ему обозреватель из «Сатердей ревю». «Кэрролл движется в направлении от хорошего к плохому, от плохого — к худшему. Его книгу нельзя назвать ничем иным, кроме как чепухой», — заключает «Вэнити Фэр». «Полный провал… ни капли юмора», — констатирует «Спектейтор».
Досталось и Холидею: «Сатердей ревю» счел его иллюстрации ни в малой степени не забавными, а «Курьер» заявил, что в сравнении с иллюстрациями к «Алисе» они выглядят куда более убогими и курьезными.
Сегодня эти строки нельзя читать без «снаркастического» удовлетворения.
Издания и переиздания «Охоты на Снарка» следовали с завидной регулярностью. В 1883 году Кэрролл включил поэму в сборник «Стихи? И смысл?» (Rhyme? and Reason?) с тем же самым посвящением Гертруде Четуэй. Макмиллан на протяжении десятков лет допечатывал тираж. В 1876 году в Бостоне появилось первое американское издание «Снарка», по-видимому пиратское, изготовленное фотографическим способом, а в 1890-м в Нью-Йорке его выпустил Макмиллан. В течение шести лет книга разошлась восемнадцатью тысячами экземпляров, а к 1908 году выдержала 17 изданий.
«Снарк» переведен на многие языки, в том числе на латынь и фарерский. Первый перевод на французский язык выполнил Луи Арагон, и поэма стала знаменем французского символизма и сюрреализма.
История переводов «Охоты на Снарка» на русский язык уже довольно продолжительна. Знакомство с поэмой русского читателя началось в 1960-х годах с переводов эпиграфов к главам таких разных книг, как «РСТ, спин и статистика и всё такое» Р. Стритера и А. Вайтмана и «Путь кенгуренка» Джеральда Даррелла[143], и не закончилось до настоящего времени, когда переводы поэмы множатся, заполняя собой пространство Всемирной паутины, а их общее число перевалило за два десятка.
Поэма Кэрролла привлекает и вдохновляет иллюстраторов, комментаторов, ученых и дилетантов, и интерес к ней не иссяк до наших дней. Образцовый комментарий, выпущенный в 1962 году Мартином Гарднером и названный «Аннотированный Снарк», стал «священной книгой» «снарковедения».
По мотивам «Охоты на Снарка» осуществляются театральные и радиопостановки, она положена на музыку. Поэма вызвала к жизни Снарк-клубы и различные общества ее почитателей. В 1879 году, уже через три года после опубликования поэмы, был основан Снарк-клуб в Оксфорде. Кембриджский Снарк-клуб, организованный несколько позже, членом которого был в свое время юный Джон Голсуорси, существует и по сей день.
На лето Кэрролл снимает новый летний домик в Истборне по адресу Лашингтон-роуд, дом 7, в котором будет квартировать в течение девятнадцати последующих лет. В Истборне он познакомится с семейством Халлов и девятилетняя Агнесс станет его любимицей.
Вернувшись к математическим трудам и каждодневным заботам, Кэрролл готовит к печати свою монографию «Евклид и его современные соперники», направленную против неевклидовой геометрии.
Работа вышла в свет в марте 1879 года. В том же году Макмиллан издал игру «Дублеты» отдельной книжкой.
Племяннице Генри Холидея, Мэри, Кэрролл посвятил «Логическую игру», изданную им в 1887 году.
Глава шестнадцатая «СИЛЬВИЯ И БРУНО»
Первый том романа Льюиса Кэрролла «Сильвия и Бруно» вышел в свет в 1889 году, спустя четыре года за ним последовал второй том «Сильвия и Бруно. Заключение». Над этой книгой Кэрролл работал более двадцати лет, считая ее «книгой своей жизни».
Всё началось с небольшого сюжета «Месть Бруно», который был рассказан Мод и Гвендолен Сесил, дочерям маркиза Солсбери, и в 1867 году напечатан в «Журнале тетушки Джуди». В 1870–1880-х годах Кэрролл регулярно, хотя и с большими перерывами, записывал то большие, то маленькие отрывки на отдельных листах и складывал их. Там было немало прозаических эпизодов, посвященных Сильвии и Бруно, которые появлялись то как эльфы, то в качестве обычных детей. Некоторые из сюжетов Кэрролл сначала рассказывал своим юным друзьям. Были там и стихи, но их он никому не читал, пока они не были окончательно завершены и отшлифованы. Круг персонажей этой книги всё расширялся: стали появляться самые разнообразные и удивительные личности. Таких отрывков со временем набралось множество. Вот как сам Кэрролл писал об этом в предисловии к книге:
«Мысль о том, чтобы собрать из всего этого большой роман, возникла у меня в 1874 году. Шли годы, и я записывал и записывал странные события, всевозможные странные идеи и обрывки бесед и разговоров, появлявшихся — бог весть почему — всегда неожиданно, почти не оставляя мне выбора: либо тотчас же записывать, либо предать забвению. Иногда можно проследить источник этих случайных вспышек интеллекта: это может быть книга, читаемая в то время, или неожиданный поворот мысли, возникший в ответ на какое-то замечание друга; но часто они приходят своим собственным путем, возникая, а propos[144] как беспримерные примеры, по всей видимости, логически не объяснимого случая, своего рода „следствие без причины“. Такова, например, концовка „Охоты на Снарка“, которая пришла мне в голову… совершенно неожиданно, во время уединенной прогулки; таковы, опять-таки, пассажи, явившиеся мне в снах, причина появления которых осталась неясной для меня самого. <…> В конце концов я обнаружил, что являюсь обладателем необъятной массы всевозможной литературы, которую — если благосклонный читатель позволит заметить это — нужно всего лишь сшить прочной ниткой сквозного сюжета, чтобы получилась книга, которую я собирался написать. Всего лишь! Легко сказать»[145][146].
Действительно, прежде чем Кэрролл приступил к «сшиванию» сквозного сюжета, прошло семь лет. Немудрено: уж очень сложна и разнообразна была задуманная им книга со всеми ее героями, темами и событиями!
Со временем жизнь Кэрролла в Крайст Чёрч стала меняться. Он решил постепенно отказаться от чтения лекций — сначала предложил сократить свое содержание на 100 фунтов и передал часть лекционных часов коллеге, а в октябре 1881 года послал ректору письмо, в котором уведомлял, что намерен вовсе прекратить чтение лекций, отказываясь при этом от половины своего первоначального содержания в 500 фунтов. В январе следующего года ему должно было исполниться 50 лет — он занимал лекторский пост в течение двадцати шести лет. В ответном письме Лидделл выразил сожаление относительно такого решения, но согласился, что он заслуживает отдыха.
Кэрролла преследовала мысль о том, успеет ли он выполнить всё, что задумал: его возраст считался в те времена весьма почтенным, а то и просто старостью. Он начал говорить о себе как о старике, хотя был здоров и полон сил. Он радовался своему освобождению от лекций:
«Теперь я смогу распоряжаться всем своим временем, и если Господь сохранит мне прежние здоровье и силы, могу надеяться, что прежде чем силы мои ослабеют, я напишу что-то достойное — отчасти в сфере Математического Образования, отчасти в невинном развлечении детей и отчасти, надеюсь (хотя я вовсе не достоин того, чтобы мне был позволен такой труд), в области религиозной мысли».
Он составил подробный план действий и трудов, которыми собирался заняться; там были все перечисленные им сферы: и математика, и религия, и книги для детей. Прибавьте к этому обширную переписку с родными, друзьями, детьми, издателем, художниками, граверами и т. д., и станет ясно, какую огромную ношу он брал на себя. Чтобы держаться в хорошей форме, он купил себе велосиман[147], весьма неуклюжее подобие трехколесного велосипеда (как мы помним, он всегда любил технические новинки). Теперь он не только совершал далекие пешеходные прогулки, но и разъезжал на велосимане по окрестностям Оксфорда. Правда, при приведении в движение этого транспортного средства основная нагрузка приходилась на руки, и Кэрролл, которого это не устраивало, вскоре подарил его кому-то из родственников и снова вернулся к пешеходным прогулкам. При всём том он напряженно работал и часто засиживался за письменным столом далеко за полночь.
Но ничто не могло заставить его забыть о театре. В конце 1870-х годов он возобновил знакомство с замечательной актрисой Эллен Терри, прославившейся исполнением ролей шекспировских героинь. Она принадлежала к известной актерской семье: на сцене выступали ее родители и старшая сестра Кейт. Эллен с детства славилась удивительной дикцией — еще ребенком она прошла суровую школу: с ней занимался отец, большой мастер этого искусства, который подчас шлепал ее домашней туфлей, если текст произносился нечетко.
Впервые Кэрролл увидел Терри на сцене в 1856 году, когда ребенком она дебютировала в роли Мамилиуса в «Зимней сказке» Шекспира, которую давали в «Театре Принцессы». «Я особенно восхитился игрой Эллен Терри, — записал Чарлз в дневнике 16 июня. — Это прелестное юное создание играло с удивительной легкостью и воодушевлением». В Лондонском театральном музее сохранилась сделанная двумя днями ранее фотография, на которой девятилетняя Эллен стоит рядом со знаменитым Чарлзом Кином, игравшим Леонта.
По прошествии трех лет она заслужила репутацию одаренной юной актрисы, сыграв Пака в «Зимней сказке» и принца Артура в «Короле Джоне». В 1862 году, выступая в Бристоле, она познакомилась с Эдвардом Уильямом Годвином, театральным художником и архитектором (мы бы назвали его сценографом), создавшим эскизы костюмов и декораций для ряда шекспировских постановок. Его театральная эстетика заинтересовала молодую актрису, и она использовала ее в своей игре. Критики недаром особенно отмечали пластичность создаваемых Эллен образов. «Ее очарование пленяло всех, — писал Грэхем Робинсон в мемуарах, — но, думаю, в особенности тех, кто любил картины». А Бернард Шоу, с которым позже она подружилась (их переписка сохранилась и была опубликована), отмечал: «Она так успешно добавила к тому, чем она уже владела на сцене, те знания, которые получила в студии художника, что, когда я впервые увидел ее в „Гамлете“, мне показалось, что чудесное изображение Офелии вдруг заговорило и запело».
Кэрролл мечтал познакомиться с Эллен и, конечно, запечатлеть ее на фотопленке. В 1863 году он нанес визит семейству Терри, заручившись рекомендательным письмом их друга Тома Тейлора. Эллен он не застал, но представился ее родителям и старшей сестре Кейт. Вскоре Кэрролл подружился со всей семьей, однако с самой Эллен, с которой, по его собственным словам, он более всего хотел увидеться, так и не встретился. В январе 1864 года шестнадцатилетняя Эллен вышла замуж за художника и скульптора Джорджа Фредерика Уоттса, который был старше ее на 30 лет. Кэрролл восхищался портретом юной Эллен, выполненным Уоттсом, и его картиной «Сестры», которая позже была выставлена в Королевской академии художеств. Он договорился с художником, что нанесет ему визит, сфотографирует его с друзьями и, конечно, Эллен, но из этой затеи ничего не вышло. Вскоре супруги расстались и Эллен вернулась к родителям.
Наконец, 21 декабря в доме 92 по Стэнтон-стрит, где жила вся семья Терри, состоялась встреча, о которой Кэрролл так долго мечтал. Он записал в дневнике: «Оживленная и милая, она была почти ребячлива в своей веселости, однако совершенная леди». Эллен не была красива в обычном смысле слова, но обладала необычайным обаянием и пластичностью. Один из ее современников писал: «Эллен Терри — загадка. Глаза у нее не яркие, нос длинноват, рот — ничего особенного; лицо — будто слегка тронуто кирпичной пылью, волосы — словно пакля. И всё же она почему-то красива. Выразительность ее лица убивает любое хорошенькое личико, которое видишь рядом с ней».
Уоттс долго не давал Эллен развода. Меж тем в 1868 году Эллен соединила свою жизнь с Эдвардом Годвином, оставила сцену и уехала в деревню. У нее родились двое внебрачных детей — Эдит и Гордон (позже он прославится как режиссер-новатор и теоретик театра под именем Гордон Крэг). Кэрролл сохранил дружбу с семейством Терри, однако, несмотря на восхищение талантом Эллен, чувствовал, что, будучи священнослужителем, не должен с ней видеться. Спустя годы он вспоминал: «Она до такой степени пожертвовала своим общественным положением, что я был вынужден отказаться от знакомства с ней». Правда, в глубине души он испытывал к Эллен сочувствие и даже жалость. «Я готов признать, — писал он впоследствии, — что, поступив так, она проявила упорство и своеволие, в то время как на самом деле долг ее состоял в том, чтобы принять крушение своего счастья и жить (или, если это неизбежно, умереть) без любви мужчины. Но я не согласен, что ее случай хоть чем-то напоминает тех бедных женщин, которые, без всякой претензии на любовь, продаются первому встречному. Он больше напоминает о тех многочисленных женщинах, которые живут как законные жены, так же верно и преданно, хотя над ними не был исполнен никакой обряд, и которые, как я верю, в глазах Господа, хотя и не в людских глазах, соединены браком».
В течение шести лет Терри не появлялась на сцене. В ноябре 1875 года Годвин оставил ее и через три месяца женился на своей двадцатилетней студентке. Два года спустя Уоттс наконец дал Эллен развод — скорее всего, полагают биографы, из жалости к ней, потому что сам он вступил в новый брак лишь спустя девять лет. В марте 1878 года Эллен вышла замуж за Чарлза Уорделла, актера, который выступал под именем Чарлз Келли (он умер в 1885 году).
Последующие годы Эллен Терри выступала в театре «Лицеум» (Lyceum Theatre), режиссером и главным актером которого был знаменитый Генри Ирвинг. Она исполнила множество самых разнообразных ролей и заслужила славу великой актрисы.
В 1879 году Кэрролл обратился к миссис Терри с вопросом, не согласится ли Эллен восстановить их отношения, и, получив согласие, возобновил дружбу с ней. К тому времени она была уже широко известна исполнением ролей шекспировских героинь — Офелии в «Гамлете», Порции в «Венецианском купце» (1879), Джульетты в «Ромео и Джульетте» (1882), Виолы в «Двенадцатой ночи» (1884) и всех других, за исключением Клеопатры и Розалинды (о последней она очень жалела). Ее партнером был прославленный Генри Ирвинг, первый актер, удостоенный звания «сэр».
Эллен Терри и Кэрролл оставались близкими друзьями до конца его дней. Впоследствии в книге «История моей жизни» Эллен вспоминала:
«Я была очень давно знакома с милым мистером Доджсоном. Я бы сказала, что он относился ко мне с нежностью, если бы можно было допустить, что он способен питать нежность к человеку старше десяти лет. <…> Мистер Доджсон был самым первым моим другом среди литераторов. Не могу представить себе времени, когда я его не знала. Он наблюдал, как Кэт и я, еще детьми, выступали в театре, и подарил нам тогда свою „Алису в Стране чудес“. Стоило ему познакомиться с кем-нибудь из детей, как он сразу вручал им „Алису“… Через этот ритуал прошли все мои братья и сестры, а затем их дети.
Мистер Доджсон был страстным театралом. Он проявлял живейший интерес ко всем спектаклям, шедшим в „Лицеуме“, и часто в письмах ко мне указывал на логические промахи драматургов, никем другим не замеченные.
Не пощадил он и Шекспира. Мне думается, что эти письма служили для него таким же развлечением, как составление загадок и анаграмм.
„А теперь я собираюсь, — писал он, — загадать Вам мою ‘Героическую’ загадку, но помните, пожалуйста, что я не жду от Вас ее разрешения, ибо Вы, конечно, вообразите, что я просто шучу, заявляя, что не понимаю чего-то у Шекспира. Однако если Вы сами не захотите подумать над ней, может быть, Вы улучите момент и спросите объяснения у мистера Ирвинга? Я не могу понять вот чего: почему Геро (или Беатриче от ее имени) в ответ на предъявленные ей обвинения не воспользовалась алиби? Ведь, судя по всему, Геро в ту ночь не спала в своей спальне, иначе как же Маргарита могла открыть окно и переговариваться с Борачио? Не в присутствии же своей спящей госпожи она это делала? Она бы ее разбудила“»[148].
Кэрролл подробно разбирает эту сцену, недоумевая:
«И если они договорились, что Геро, с которой Беатриче двенадцать месяцев спала в одной комнате, на эту ночь исчезнет, то неужели Беатриче не знала куда? Почему она не заявила следующее:
Ведь Геро, добрый сэр, спала не там: В ту ночь она была в другом покое; Сомненья нет — какой-то негодяй Ее изобразил, подделав голос, Манеры, стан — и в заблужденье ввел И дона Педро, и других с ним вместе[149].Просто непостижимо, почему никто из них не воспользовался тем великолепным алиби, которое было у них в руках. Жаль, что среди них не оказалось адвоката, он бы устроил Беатриче перекрестный допрос:
— Пожалуйте сюда, сударыня, попрошу вас быть внимательной и отвечать так, чтобы присяжные вас слышали. Где вы провели прошлую ночь? Где провела ночь Геро? Можете ли вы поклясться, что не знаете, где она спала?»
Он заканчивает письмо цитатой из «Пиквикского клуба»:
«Мне так и хочется процитировать старика Уэллера и в конце концов крикнуть Беатриче (если б только не считалось неприличным обращаться к артистам прямо из зрительного зала):
— Ах, Сэмми, Сэмми, почему не было алиби?»
Как видим, Кэрролл, хотя и любил жаловаться на память, своего Диккенса знал не хуже, чем своего Шекспира, и не смущался диковинным сравнением суда над мистером Пиквиком, обвиняемым в нарушении брачного обязательства, с шекспировской сценой из комедии «Как вам это понравится».
Эллен Терри пишет об отношении Кэрролла к его юным друзьям: «Мистер Доджсон был удивительно предан детям. Он по-настоящему любил их и ради них был готов на всё. Меня он обычно знакомил с теми детьми, которые мечтали попасть на сцену; при этом он пускался на всевозможные трогательные ухищрения, чтобы продвинуть их». Великая актриса никогда не отказывала в помощи — если, конечно, у юных соискателей были какие-то способности — и с удовольствием отмечала их успехи: «Н. с тех пор завоевала ведущее положение в пантомиме и мюзик-холле, Д. играет в театре главные роли».
Кэрролл сделал множество фотографий членов семьи Терри: семейный портрет Эллен с отцом и матерью, портреты ее старшей сестры Кейт (она рано вышла замуж и оставила сцену), младших сестер Марион и Флоренс (домашние называли ее Флосс) и брата Фреда, который так походил на Эллен, что все сразу узнавали его. Все они были прекрасными актерами. И, конечно, он фотографировал Эллен. Особенно запоминается портрет Эллен в образе Офелии — одной из ее коронных шекспировских ролей.
Шекспировские роли Эллен Терри вошли в историю театра и литературы. Известные поэты посвящали ей стихи. Оскар Уайльд после просмотра «Венецианского купца», в котором Эллен играла Порцию, написал сонет:
Не диво, что Бассанио, в котором Проснулась страсть, рискнул избрать свинец, Что принц Марокко прибыл во дворец, Откуда Арагон ушел с позором: Когда пред нашим изумленным взором Предстали Вы в наряде золотом, — Сам Веронезе стал бы клясться в том, Что далеко до Вас его синьорам. Но мудрость в единенье с красотой — Какому их я уподоблю чуду? Вы в суд явились в мантии простой Спасти Антоньо, Шейлок был жесток… О Порция! Вот сердце — мой залог; Я долг опротестовывать не буду.Второй сонет был написан после выступления Эллен в роли «грустной героини» королевы Генриетты Марии в драме Уильяма Гормана Уилса «Карл I». Уайльд вспоминает сцену в военном лагере из третьего акта:
Предвестница побед на поле брани, Она стоит одна перед шатром, Как лилия, омытая дождем; В ее глазах туманится страданье; Кровавый небосвод, мечей бряцанье, Дымящаяся гибелью земля Не страшны ей; дождаться короля Быть рядом с ним — одно ее желанье. Златые кудри, алые уста! Их вдохновенно создала природа! Всё в отблеске волшебного лица Забудется: унылых дней тщета, И путь мой без любви и без конца, И жизнь, и убежденья, и свобода[150].Эллен Терри и Кэрролла сближала глубокая любовь к театру, а также готовность принять участие в людях, зачастую совсем незнакомых. Оба высоко ценили талант и великодушие друг друга. Они часто беседовали о Шекспире, перед которым преклонялись. Чарлз поделился с Эллен своим планом (он так и не был осуществлен) подготовить сокращенное издание Шекспира для девочек от десяти до семнадцати лет.
Кэрролл восхищался игрой Эллен и водил на ее спектакли своих многочисленных родственников и юных друзей, а нередко и знакомил их с актрисой. С годами его юные приятельницы становились всё старше: теперь это часто бывали уже не маленькие девочки, а подростки и девушки восемнадцати, двадцати, двадцати пяти лет, которых он, ссылаясь на собственный возраст, продолжал называть своими child-friends. Эллен подтрунивала над его дружбой с великовозрастными «детьми», но он ничуть не обижался: они привыкли обмениваться шутками.
Следуя своим непреложным правилам, Кэрролл ставил матерей своих подопечных в известность о прошлом Эллен и, лишь получив их разрешение, представлял актрисе своих
«Хочу от всей души, насколько могу выразить свои чувства словами, поблагодарить Вас за Вашу доброту и разрешение привести к Вам за кулисы Долли. Мне не нужно говорить Вам, какое огромное удовольствие Вы доставили этим добросердечной девушке и какую любовь (думается, Вы цените ее выше, чем просто восхищение) она испытывает к Вам. Ее безумное желание попробовать свои силы на сцене, скорее всего, не выдержит холодного света дня, когда ей удастся его осуществить: она поймет, до чего тяжел этот труд, связанный с бесконечным ожиданием и несбывшимися надеждами».
К счастью, судьба была милостива к Долли: в конце концов она стала профессиональной, а потом и ведущей актрисой и вышла замуж за Гарри Ирвинга, сына прославленного сэра Генри Ирвинга.
Биографы Кэрролла не раз задавались вопросом о том, не был ли он в молодые (или зрелые) годы влюблен в Эллен Терри. Сама актриса однажды со смехом отвергла это предположение. Однако сестры Доджсон такой возможности не исключали. Впрочем, даже будь это так, обстоятельства явно не благоприятствовали Чарлзу. Он познакомился с Эллен, когда она была замужем за Уоттсом, и возобновил знакомство с ней после долгого перерыва, когда она состояла во втором браке.
Летом 1880 года Кэрролл принял внезапное решение оставить занятия фотографией. Что именно побудило его к такому шагу, мы точно не знаем. Возможно, причиной было быстрое распространение «сухого» метода фотографии, к тому времени почти вытеснившего сложный и непредсказуемый коллодионный, которым на протяжении стольких лет пользовался Кэрролл. Он считал, что фотографии, выполненные новым методом, уступают качеством «коллодию», хотя и имеют безусловные преимущества. 8 декабря 1881 года он писал миссис Хант:
«Последнюю фотографию я сделал в августе 1880 года. В этом году я не сделал ни одной, ибо ничто не вдохновило меня настолько, чтобы заставить вновь привести студию в рабочее состояние. Фотография — весьма утомительное развлечение, и если теперь в профессиональной студии можно за несколько шиллингов выполнить снимки столь же хорошо или даже лучше, я предпочту обратиться туда, а не трудиться самому. Не думайте, что я стал ленив! Вспомните, что я занимался этим делом 22 года и сделал тысячи негативов».
Как бы то ни было, Кэрролл твердо знал, что не станет осваивать новый метод. Старый же с его сложной и трудоемкой технологией требовал слишком много времени, что могло серьезно помешать осуществлению его творческих планов. Он думал о том, сколько еще он хочет написать: математика, роман, богословие, парламентское представительство, защита детей… 31 марта 1890 года он признался в письме: «Моя жизнь кажется мне раздерганной на мелкие кусочки — так много всего я хочу сделать. С чего начать — решить нелегко». Скорее всего, именно эти планы заставили его оставить фотографию.
В начале 1870-х годов Кэрролл задумался о необходимости оформить авторские права на пьесу по сказкам «Страна чудес» и «Зазеркалье»: «пиратство» и в те годы было весьма распространено. В ноябре 1872 года он попросил Макмиллана нанять двух писцов, чтобы переписать тексты обеих сказок в драматической форме. Туда вошли все диалоги и действующие лица и были добавлены ремарки. В 1876 году он дал первое разрешение на постановку «Алисы в Стране чудес», а в 1882-м разрешил К. Фрейлиграт-Крёкер опубликовать обе сказки в виде пьес. Одно время он подумывал о том, чтобы поставить по сказкам оперетту, и даже обратился к известному композитору сэру Артуру Салливану с просьбой написать музыку. Салливану эта идея понравилась, однако в конце концов он вынужден был отказаться, признавшись, что не может справиться со стихотворным размером. Спустя какое-то время Кэрролл дал знаменитому режиссеру Генри Сэвилу Кларку разрешение на постановку собственного варианта, в котором использовались эпизоды из «Страны чудес» и «Зазеркалья». Кларку пришлось немало потрудиться, ибо автор внимательно следил за текстом. В ходе работы над спектаклем Кэрролл написал режиссеру 97 писем — благо они доходили из Оксфорда в Лондон на следующий день.
Кэрролл не был 23 декабря 1886 года на премьере, состоявшейся в «Театре принца Уэльского», но пришел на спектакль через неделю. Постановка ему в целом понравилась, особенно хороша была юная Фиби Карло, игравшая Алису: запомнились ее песня и танец с Чеширским Котом.
В ноябре 1882 года Кэрролл неожиданно решил стать куратором клуба Крайст Чёрч. Энн Кларк называет его «своего рода эксклюзивным клубом для выпускников Крайст Чёрч». Сам Кэрролл как-то отозвался о нем как о «большом и богатом клубе». Старый друг Кэрролла Томас Вир Бейн, занимавший этот пост в течение двадцати одного года, подал в отставку, и члены клуба опасались, что за неимением других желающих куратором станет некий Томпсон, который не преподавал и не жил в Крайст Чёрч, хотя и являлся его выпускником. Он был известен отвратительным характером и придирчивостью и, по общему мнению, был «совершенно невозможен». На собрании членов клуба Томпсон всячески нападал на Бейна. Кэрролл горячо вступился за старого друга — и в результате, как нередко бывает в таких случаях, был выбран куратором. Он принял этот пост, хотя прекрасно понимал, что он потребует немало времени и сил. Причина такого неожиданного шага была в том, что, оставив преподавание и фотографию, Кэрролл слишком замкнулся в себе. «Этот пост, — записал он в дневнике, — заставит меня вылезти из своей скорлупы, а это только к лучшему. Не то я начинаю жить, как затворник, занятый только самим собой».
Куратор клуба на деле был его управляющим (Steward): он заведовал всем хозяйством, и работы у него было более чем достаточно. На его плечи легли заботы о закупке продовольствия, пополнении винного погреба, кухне, дровах, слугах, замене мебели и портьер, вентиляции, освещении и многом другом. Кэрролл начал с ознакомления с положением дел и быстро обнаружил, что необходимы изменения в отчетности и бухгалтерии. Он изучил счета поставщиков. Особого внимания потребовало состояние внушительного винного погреба, к которому с особым вниманием относились члены клуба и на которое жаловался тот же Томпсон. В феврале 1883 года Кэрролл создал карту погреба, чтобы в любой момент иметь точное представление о наличии того или иного вина. В декабре 1886 года он составил реестр содержимого винного погреба, выяснив, что всего там хранилось 28 210 бутылок, и подсчитал, какие сорта и в каком количестве потреблялись членами клуба за прошедшие четыре года. В результате оказалось, что 420 бутылок лучшего кларета хватит еще на 15 лет, 550 бутылок лучшего шерри — на 90, а 5420 бутылок темного шерри — на 35 лет. Чувство юмора не покидало Кэрролла даже на этом посту. В первом годовом отчете — «Двенадцать месяцев на посту куратора» — он отмечает, что потребление мадеры сорта «Б» (то есть второго сорта) за прошедший год равнялось нулю. «После тщательных расчетов, — продолжает он, — я пришел к выводу, что, если этот уровень потребления сохранится без изменения, наличие мадеры второго сорта будет нам обеспечено на бесконечное количество лет. И хотя не исключено, что перспектива утоления жажды мадерой в течение столь долгого срока может показаться утомительной и монотонной, мы можем утешать себя мыслью о том, как экономно ее осуществление».
Чарлз относился серьезно ко всем деталям своих новых обязанностей, посвящая клубу восемь часов в сутки: ввел письменную отчетность по всем статьям; подробно отвечал на бесконечные письма с жалобами всё того же Томпсона, отмечая в дневнике, что, к счастью, подобных ему членов в клубе больше нет; добился для слуг оплаты дополнительного рабочего времени, хотя это стоило большого труда; тщательно следил за поставщиками продовольствия и за кухней. Он записывал в дневнике:
«Цветную капусту присылают всякий раз недоваренной, только вершки достаточно мягки. Повар, однако, как будто уверен, что никто не ест капусту целиком, и объясняет: если варить капусту до тех пор, пока она вся не станет мягкой, то вершки совсем разварятся. Я знаю одно: везде, кроме нашего заведения, эти прекрасные овощи подаются в таком виде, что они полностью съедобны, здесь же в них съедобны только 5 процентов, и те совершенно безвкусны».
Он настаивал на том, чтобы все переговоры велись в письменном виде, и, обнаружив в счетах малейшую ошибку, тут же платил сам. Когда господа Сноу, местные поставщики вина, очевидно, надеясь на «дружбу с куратором», прислали ему в дар ящик редких португальских фруктов, он тут же отправил подарок назад, сопроводив его вежливым, но недвусмысленным и строго официальным письмом, в котором говорилось: поскольку обязанность куратора заключается в том, чтобы обеспечить клуб всем необходимым наилучшего качества, он не может принимать подарков от поставщиков. В заключение он предупредил господ Сноу: «…если подобное повторится, это может серьезно повлиять на их положение поставщиков вина для клуба».
Коллеги по клубу высоко ценили его необычайную работоспособность, ответственность и личные качества. Один из коллег, профессор Йорк Пауэлл, вспоминал: «Отзывчивость, строгость жизни, самоотверженная любовь к малышкам, чью волю он всегда послушно выполнял, ответственное отношение к любой обязанности, возложенной на него, снисходительность к младшим коллегам, не знавшим либо не желавшим знать правил клуба, редкая скромность и природная доброта, уберегавшая его от малейшего налета высокомерия и делавшая его необычайно обходительным со всеми, с кем его сводила размеренная университетская жизнь, независимо от их положения… С этой стороны его мало знали, и таким его помнят только коллеги и товарищи. Доджсон и Лиддон превратили клуб в приют, где усталые труженики науки находили безобидное веселье и острую, но добрую шутку».
Некоторые исследователи полагают, что кураторство в течение девяти лет мешало Кэрроллу сосредоточиться на научной и литературной деятельности. Однако документы показывают, что это не так. В дневниковой записи от 29 марта 1885 года он перечисляет свои текущие труды: приложение к «Евклиду и его современным соперникам»; новое издание «Евклида и его современных соперников»; книга математических курьезов, которую он думал назвать «Полуночные задачи и другие математические пустяки», включив в нее «Задачи, решенные в темноте», «Логарифмы без таблиц» и прочее; «Евклид V» (пятая книга «Начал» Евклида); «Символическая логика» с использованием его алгебраического метода; «История с узелками» (A Tangled Tale) — сборник придуманных им игр и загадок (с рисунками Гертруды Томсон), куда, возможно, войдут Memoria Technicka, система шифров для регистрации писем и т. д.; «Алиса для малышей»; серьезные стихи для «Фантасмагории»; «Приключения Алисы под землей»; «Шекспир для девочек» (он уже начал с «Бури»); новое издание «Парламентского представительства»; новая книга для детей — возможно, она будет называться «Сильвия и Бруно».
Практически все пункты, упомянутые в этом списке, были выполнены, полностью или частично; а кое-что уже успело выйти в свет. Только «Шекспир для девочек» является исключением. Как ни лелеял Кэрролл эту идею (о ней он писал, в частности, в предисловии к роману «Сильвия и Бруно»), осуществить ее он так и не смог.
В декабре 1883 года он уже выпустил стихотворный сборник «Стихи? И смысл?», расширенное издание сборника «Фантасмагория и другие стихотворения». В полном объеме в него была включена поэма «Охота на Снарка», а также стихи, вошедшие в первый сборник, которые он подверг серьезной правке, заменив или исправив не только отдельные строки, но и целые строфы. По этому поводу Август А. Имхольц заметил, что в правке чувствуется опытная рука автора «Охоты на Снарка». В сборник вошли также два стихотворения, публиковавшиеся ранее в частных изданиях: «Грошовая труба славы» (Fame’s Penny Trumpet) и «Тема с вариациями» (Tema con Variazione), известное также под названием «Милая газель» (Dear Gazelle).
Судя по всему, в 1885 году, когда была сделана запись о дальнейших планах, Кэрролл подумывал о новом, расширенном издании этого сборника, куда вошли бы и «серьезные стихи», написанные в юности. Однако эти планы не были осуществлены — «серьезные стихи» 1850-х годов при жизни Кэрролла опубликованы не были.
Отметим, что сборник 1883 года был прекрасно составлен и иллюстрирован. На поиск иллюстратора Кэрролл потратил немало времени: совещался с Рёскином, внимательно изучал работы рекомендованных ему художников, но долго не мог найти никого, кто полностью бы его удовлетворял. В конце концов он остановил выбор на американском художнике Артуре Фросте, который выполнил по его заказу 65 иллюстраций к сборнику — оригинальных, легких и выразительных. Исследователь творчества Кэрролла Брайан Сибли справедливо замечает, что Фрост «необычайно искусно находил возможности иллюстрировать стихи, которые, как кажется, не поддаются иллюстрации», и в качестве примера приводит изображения гротескных фантомов из поэмы «Фантасмагория». Нарисовать фантомы, притом сделать их весьма отличными друг от друга — нелегкая задача для художника, особенно если при этом нужно еще и сохранить чувство юмора!
В это же время Кэрролл много думал об оптимизации парламентских выборов. Опубликованные в 1884 году две его статьи — «Парламентские выборы» и «Принципы парламентского представительства», в которых для подтверждения взглядов автора использовались статистика, алгебра и логика, — не были должным образом оценены; однако современные исследователи находят их весьма интересными.
Интерес представляет и памфлет «Теннисные соревнования», где Кэрролл, используя статистические приемы, предлагает свою методику для расчета рейтинга игроков. Эта методика слишком сложна, пишет Энн Кларк, однако ее всё же принимают во внимание в наши дни на Уимблдоне и других соревнованиях.
Всё это время мысли о «Сильвии и Бруно» не покидали Кэрролла. Несмотря на крайнюю занятость, еще к 1882 году ему удалось навести какой-то порядок в огромном материале, весьма разнообразном по стилю и содержанию, и приступить к его «сшиванию прочной ниткой сквозного действия». Он начал задумываться и об иллюстрациях — для него это всегда был чрезвычайно важный вопрос. Над окончательным текстом он хотел работать параллельно с художником. В 1885 году после долгих раздумий он решил обратиться к Гарри Фёрнессу, работавшему, как и Тенниел, в «Панче». Фёрнесс был штатным «парламентским карикатуристом»; в конце своей карьеры он с гордостью говорил, что выполнил для «Панча» более 2500 карикатур.
Тринадцатого апреля Кэрролл предложил ему сделать «на пробу» иллюстрации к «длинному стихотворению „Питер и Поль“», написанному по поводу первоапрельского Дня дураков, которое он решил включить в роман. Уже спустя неделю он получил по почте иллюстрации, которые ему понравились, и он тут же предложил Фёрнессу взять на себя рисунки к роману. Художник вспоминал: «Когда я сказал Тенниелу, что Доджсон предложил мне иллюстрировать его книгу, он сказал: „Даю тебе неделю, дружище; дольше ты не продержишься“. — „Увидишь, — сказал я. — Если книга мне понравится, с автором я полажу“. — „Это тебе так кажется. С ним невозможно иметь дело“. — „Увидишь, что я не ошибся в своем пророчестве“. Я, можно сказать, принял вызов».
Фёрнесс понимал, что работать с Кэрроллом будет нелегко: Тенниел предупредил его, что знаменитый автор подвергает представляемые ему иллюстрации скрупулезному изучению, что он чрезвычайно строг и придирчив к деталям. И художник заранее подготовился к этому. Для начала он сказал Кэрроллу, что роман его «горько разочаровал», что он «никогда не хотел иллюстрировать книгу с моралью» и что ему мила лишь мораль «Алисы», которая заключается в том, чтобы «развлекать и радовать». Однако он вовсе не помышлял об отказе от сотрудничества со столь известным автором: «Кэрролл и я работали вместе семь лет — за всю свою жизнь я не видел человека добрее. Он щедро расплачивался за работу, а его благодарность не могла сравниться с моими трудами».
При этом Кэрролл был, как всегда, крайне требователен (Тенниел называл это «придирчивостью»). Он рассматривал рисунки с лупой в руках, применяя метод математической статистики, что крайне раздражало Фёрнесса. Он писал художнику: «Позволю себе сказать, что, по-моему, лицо Сильвии слишком мало для ее головы и фигуры. Согласно математической статистике (вы думаете, что она здесь неуместна, а я уверен, что вы убедитесь: все великие художники тщательно соблюдают эти пропорции) глаза должны находиться точно посередине между верхушкой головы и самой низкой точкой подбородка».
Мельчайшие детали подробно обсуждались. Некоторые трудности возникли с вопросом, как одеть Сильвию и Бруно, которые выступают в романе то как эльфы, то как обычные дети. По этому поводу Кэрролл писал художнику: «У них не должно быть крыльев — это ясно. Но их одеяния не должны походить на обычные одежды лондонских жителей. Пусть они будут настолько фантастичными, насколько возможно, чтобы общество могло их принять. Пусть их друзья скажут: „Какой необычный наряд!“ Но нельзя допустить, чтобы они сказали: „Это не люди, а эльфы!“». Кэрролл решительно возражал против кринолинов, высоких каблуков, модных платьев: «Не могли бы вы снять буфы с рукавов леди Мюриэл? Зачем нам обращать внимание на современную моду, которая через год устареет? По-моему, в наше время для дам не изобрели ничего хуже этих рукавов с буфами; их можно сравнить лишь с невероятным безобразием кринолинов».
Фёрнесс, прекрасный рассказчик, не лишенный склонности к преувеличению и анекдоту, оставил воспоминания о работе над иллюстрациями к книге «Сильвия и Бруно», сдобрив их изрядной дозой фантазии и шутки. В «Признаниях карикатуриста», вышедших вскоре после смерти Кэрролла (1901), он рассказывает о выработанной им стратегии. Будучи, по его собственным словам, художником «в высшей степени трезвым и деловым», для Кэрролла он представлялся «чем-то совсем иным, будто во мне, как и в нем, уживались два человека. Я капризничал, срывался и доходил чуть ли не до безумия. И мы превосходно сработались». Сработались они потому, что каждый был готов идти навстречу другому.
К двум томам романа «Сильвия и Бруно» Фёрнесс сделал по 46 иллюстраций. Кэрролл оправдал свою репутацию: он скрупулезно изучал каждую, даже самую маленькую иллюстрацию, подробно обсуждал ее с художником и предлагал многочисленные поправки. В «Воспоминаниях» Фёрнесс жаловался, что на всё это уходило много времени. Оно и понятно, поскольку в большинстве случаев обсуждение шло по почте: Кэрролл проводил большую часть времени в Оксфорде, а Фёрнесс жил в Лондоне и должен был еженедельно предоставлять в журнал новую карикатуру. Немудрено, что художник затягивал сроки. В своей книге Фёрнесс вспоминает, как однажды не сделал рисунки к сроку:
«Льюис Кэрролл пришел к обеду, чтобы потом посмотреть часть работы. Он мало ел, мало пил, хотя с удовольствием отведал своего любимого хереса. „Теперь, — воскликнул он, — в мастерскую!“ Я встал и пошел впереди него. Моя жена сидела оцепенев: она знала, что показать мне нечего. Мы проследовали через гостиную, спустились по лестнице в оранжерею и подошли к мастерской. Берусь за ручку двери. От волнения Льюис Кэрролл заикается сильнее обычного. Еще бы! — увидеть картинки к своей великой книге! Помедлив, я поворачиваюсь спиной к двери и говорю озадаченному дону: „Мистер Доджсон, я человек со странностями и не всегда владею собой. Должен предупредить, эти странности иногда проявляются в необузданной форме. Если, показывая вам работу, я увижу на вашем лице хоть малейший признак того, что вы не полностью удовлетворены чем бы то ни было в моей незаконченной работе, то она вся отправится в огонь! Пойдете вы на такой риск или дождетесь, когда я полностью закончу рисунки и вышлю их вам в Оксфорд?“
„Я-я-я п-п-онимаю ваши чувства, я-я-я бы на вашем месте чувствовал то же самое. Еду в Оксфорд!“
И ушел!»[151]
В своих рассказах о работе с Кэрроллом Фёрнесс нередко дает волю воображению. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что он не только подсмеивается над писателем, но не жалеет и себя. В карикатуре, сопровождающей этот эпизод, он нарисовал себя усатым толстяком-коротышкой с основательным брюшком, заслоняющим своим пухлым телом дверь в мастерскую от стоящего в растерянности худощавого озадаченного дона. Мягкое, чудаковатое, слегка смущенное лицо Кэрролла легко узнаваемо — таким же Фёрнесс изобразил его и в знаменитом шарже, где писатель стоит с книжкой в руках. Нам известны семь карикатур Кэрролла, выполненных Фёрнессом, весьма мягких: он представлен добродушным чудаком, погруженным в свои мысли. Некоторые из этих дружеских шаржей были воспроизведены в автографических изданиях художника, другие уже в наше время были найдены в его записных книжках и альбомах. У нас эти рисунки подчас принимают за реалистические портреты.
Фёрнесс прекрасно понимал, с кем он имеет дело. Ему принадлежит формула, описывающая Кэрролла: «остроумец, джентльмен, зануда и гений».
Самому Кэрроллу в целом нравились рисунки Фёрнесса, хотя работа с художником проходила обычно достаточно напряженно: в своем стремлении к совершенству он не пропускал ни одной иллюстрации, если что-то в ней вызывало хоть малейшее сомнение. Он писал художнику подробные письма по поводу присылаемых рисунков:
«Что касается Сильвии, то я в восторге от Вашей идеи одеть ее в белое; это полностью совпадает с моим представлением о ней; я хочу, чтобы она была неким воплощением Чистоты. В обществе, по-моему, она должна появляться вся в белом — в белом платье („облегающем“, конечно, я ненавижу кринолины). А в сказочных сиенах платье можно сделать прозрачным.
Как Вы думаете, можем мы бросить такой вызов миссис Гранди?[152] Думаю, она вполне удовлетворится тем, что героиня одета, и не станет придираться к материалу — шелк это, муслин или даже кисея. И еще: не надо Сильвии никаких каблуков, умоляю! Они вызывают у меня отвращение».
Шарж Гарри Фёрнесса
В работе над иллюстрациями к книге Кэрролла Фёрнессу, в отличие от Тенниела, в целом всё же не удалось задавить в себе карикатуриста. Несмотря на всю бравурность тона, он не был идеальным иллюстратором. Справедливости ради отметим, что отрицательные персонажи у него весьма выразительны, хотя зачастую и слишком карикатурны. Когда нужно было создать шарж, Фёрнесс легко справлялся с задачей. Неплохо выходили у него и всяческие нонсенсы и гротески — скажем, крокодил, ползущий по собственному хвосту. Однако положительные персонажи ему решительно не давались: взрослые герои пресны, а дети, Сильвия и Бруно, на удивление неуклюжи — художник никак не справлялся с пропорциями. Впрочем, как ни странно, публика встретила иллюстрации Фёрнесса весьма одобрительно. Очевидно, они были созвучны тому времени, и то, что заметно глазу нашего современника, в те годы не виделось вовсе или не принималось во внимание.
Наконец первый том «Сильвии и Бруно» был закончен, и в декабре 1889 года Макмиллан выпустил его в свет. В предисловии Кэрролл так представляет замысел новой книги:
«В „Сильвии и Бруно“ я стремился — не берусь судить, насколько удачно — проложить еще одну тропу. Хорошо это или плохо, но это лучшее, что было в моих силах. Эта книга написана не ради денег, не для славы, а только из желания предложить детям, которых я любил, некоторые размышления, которые окажутся нелишними в часы невинных развлечений, составляющих суть Детства; а также в надежде предоставить им, да и другим тоже, некоторые мысли, которые, смею надеяться, не совсем гармонируют с размеренными ритмами Жизни».
Выразив надежду, что он не совсем истощил терпение читателей, Кэрролл пользуется возможностью рассказать о других своих планах. «Быть может, мне в последний раз удается обратиться к такому множеству друзей, — замечает он. — И если мне не удастся закончить начатое (ибо годы мелькают слишком быстро), другие смогут продолжить мой труд!» Он подробно описывает свои замыслы:
«Прежде всего, детская Библия. Это должны быть только подлинные события и тщательно подобранные выдержки для детского чтения и соответствующие иллюстрации. Главный принцип отбора, который я признаю, заключается в том, что религия должна предстать перед ребенком как откровение любви. Не стоит томить и мучить детский ум историями преступлений и наказаний (кстати, исходя из этого принципа, я опускаю предание о потопе). Подбор иллюстраций не вызовет особых затруднений; новые просто не потребуются, ибо существуют сотни превосходных иллюстраций, срок авторского права на которые давно истек, и для их качественного воспроизведения можно воспользоваться фотоцинкографией или каким-либо аналогичным процессом. Книга должна иметь удобный формат и, разумеется, привлекательный переплет — красочный, сочный, четкий, броский — и, главное, картинки, как можно больше картинок!»
Здесь слышится голос не только священнослужителя, но и писателя, искушенного в издательском деле.
Он размышляет также о «Шекспире для девочек» — издании, в котором «всё, что не совсем подходит для воспитания девочек и девушек в возрасте, скажем, от 10 до 17 лет», должно быть удалено:
«Помимо неукоснительного изъятия того, что неприемлемо с точки зрения морали и благопристойности, я склонен исключать и всё, что трудно для понимания или просто неинтересно юным читателям. Книга, получившаяся в итоге всего этого, может показаться несколько фрагментарной, но зато это будет подлинное сокровище для всех британских барышень, обладающих поэтическим вкусом».
Ни одно из существующих изданий «Шекспира для будуара», адаптированных Баудлером и Чемберсом, Брэндемом и Канделлом, не кажется ему достаточно «вычищенным». В особенности его возмущает издание Томаса Баудлера, составителя «Семейного Шекспира» (1818). Баудлер вошел в историю английской литературы своими одиозными трудами (помимо Шекспира, он подверг той же операции Гиббона). В английском языке по сей день существует производный от его имени глагол to bowdlerize — выхолащивать, выбрасывая или заменяя в тексте нежелательные места. Он сделал чудовищные сокращения в шекспировских текстах, вырезая из них всё, что, по его словам, «джентльмен не может читать вслух в присутствии дам». Однако Кэрролл признавался: «Пролистывая его книгу, я испытываю чувство глубокого изумления, сравнивая то, что он оставил, с тем, что вырезал!» В начале XIX столетия требования к тому, что джентльмену можно читать в присутствии дам, были значительно менее строги, чем в конце века; вероятно, этим объясняется удивление Кэрролла.
В параллель с замыслом «Шекспира для девушек» Кэрролл предполагал издать для заучивания наизусть книгу выбранных мест из Библии и отдельно — из светской литературы. Эти выдержки, считал он, можно будет повторять про себя и в молодости, когда почему-либо «прочесть их по книге затруднительно или даже невозможно», и в старости, когда «зрение слабеет и человек слепнет, а самое главное — когда болезнь не позволяет нам читать или заниматься какими-нибудь другими делами». Писатель не оставлял этих замыслов до конца своих дней, но осуществить их ему так и не удалось.
Кэрролл продолжает напряженно трудиться над вторым томом «Сильвии и Бруно», надеясь закончить его к концу 1891 года, о чем сообщает одной из своих юных корреспонденток в письме от 31 марта 1890-го:
«…Тебе повезло — у тебя есть время, чтобы читать Данте, и я готов тебе от души позавидовать: я его никогда не читал, всё же я уверен, что Divina Commedia[153] — одна из величайших книг в мире, хоть я и не уверен в том, что чтение ее действует возвышающе и облагораживает нашу жизнь или что оно доставляет величайшее поэтическое наслаждение. На этот вопрос ты вскоре сможешь ответить сама; не думаю, что у меня (по крайней мере, в этой жизни) будет возможность ее прочитать: моя жизнь кажется мне раздерганной на мелкие кусочки — так много всего я хочу сделать. С чего начать — решить нелегко. Одну работу, во всяком случае, нужно закончить в этом году. Это мне ясно, а она потребует месяцы напряженного труда: это второй том „Сильвии и Бруно“. Я твердо решил, если буду жив и здоров, выпустить ее к следующему Рождеству. Когда дело идет к шестидесяти, было бы легкомысленно рассчитывать, что у тебя впереди годы и годы труда…»
Второй том — «Сильвия и Бруно. Завершение» — вышел лишь в 1893 году. По желанию автора роман еще в первом томе был представлен публике как «книга для детей», однако оба тома разительно отличались от сказок об Алисе. И хотя Сильвия и Бруно играют в книге немалую роль, занимая добрую половину текста, для автора не менее важны были и другие главы, в которых действуют взрослые. Обе части объединяет пожилой рассказчик, знакомый нам по сказке, опубликованной в 1867 году. Порой он впадает в странное состояние, которое Кэрролл называет eerie. Обычно это слово связывают с чувством неопределенного страха или даже ужаса перед чем-то неведомым, сверхъестественным, с предчувствием беды; но Кэрролл, как явствует из текста романа, толкует его по-иному — для него это скорее не связанное со страхом ощущение другого, неведомого мира, находящегося где-то рядом.
Приведем одну из записей Кэрролла с размышлениями над состояниями человеческого сознания:
«Я предположил наличие у человека способности к разному физическому состоянию в зависимости от степени сознания, а именно:
а) обычное состояние, когда присутствие фей не осознается;
б) состояние „жути“, когда, осознавая всё происходящее, человек одновременно осознаёт присутствие фей;
в) состояние своего рода транса, когда человек, вернее его нематериальная сущность, не осознавая окружающего и будучи погруженной в сон, перемещается в действительном мире или в Волшебной стране и осознает присутствие фей».
Вряд ли в данном случае Кэрролл имел в виду «настоящих» фей, то есть сверхъестественных существ; скорее так он обозначает встречи с чем-то необычным, необъяснимым и связанное с ними особое состояние, которое не раз испытывал сам. Вспомним его настойчивый ответ на все вопросы о смысле услышанной им последней строки «Охоты на Снарка»: «Я не знаю». Конечно, вряд ли следует прямо прилагать эти наблюдения Кэрролла к его роману. «В „Сильвии и Бруно“ эта теория ничего не объяснит, — замечает Джон Падни, — но как истолкование духовного мира поэта (и не в последнюю очередь его собственного) она относится к числу наиболее проницательных наблюдений Кэрролла»[154]. Что до рассказчика, в котором читатель угадывает черты самого автора, то на всём протяжении романа он часто перемещается между состояниями, описанными Кэрроллом, однако полностью свободен от ощущения страха. К тому же заметим, что персонажи иного мира, который видит рассказчик в состоянии транса или «дремы», за исключением Сильвии и Бруно, совсем не похожи на фей.
Было в книге и второе предисловие, в котором Кэрролл счел нужным, руководствуясь логикой, править орфографию. Так, например, он объясняет собственное употребление апострофов, которое считал единственно правильным, невзирая на то, что оно отличалось от общепринятого. «Критики возражали против некоторых усовершенствований орфографии, как например ca’n’t и wo’n’t. В ответ я могу только выразить свое твердое убеждение, что их обычное употребление неправильно. Что касается ca’n’t, никто не станет спорить, что во всех словах, оканчивающихся на n’t, эти буквы служат сокращением от not, и, конечно, было бы нелепо предполагать, что в этом единственном случае not представлено одной лишь буквой t! По сути can’t является правильным сокращением от can it, подобно is’t от is it. В слове же wo’n’t первый апостроф необходим, так как слово would сокращено здесь до wo».
Здесь Кэрролл предстает перед нами в роли логика и педанта, настойчиво защищающего свою точку зрения. Заметим, что его доводы вполне оправданны и убедительны, хотя и ведут к излишней громоздкости орфографических форм. Такие ситуации были для него не внове.
Роман начинается с того, что рассказчик, пожилой человек со слабым сердцем, едет в небольшой городок Эльфстаун (многозначительное название), где живет его молодой друг, врач Артур Форестер, чтобы отдохнуть и укрепить здоровье. В поезде он незаметно для себя засыпает, а вернее, впадает в дрему, которую называет «странной» (eerie), и снова встречается с братом и сестрой из Страны эльфов, описанной им в сказке «Месть Бруно». Он попадает в их королевство Чужестранию (Outland). Это происходит в весьма драматичный момент, когда, воспользовавшись отсутствием доброго Короля, отца Сильвии и Бруно, его коварный брат захватывает власть в свои руки. Затем следует подробное описание всяческих событий и приключений, происходящих в сказочной стране, которые описывает рассказчик, втайне от злодея-узурпатора проникающий туда и продолжающий видеться со своими маленькими друзьями. Впрочем, вскоре выясняется, что и они зачастую пробираются в Эльфстаун — то как крошечные эльфы, которых видит только рассказчик, то как обыкновенные дети.
Артур Форестер знакомит рассказчика с леди Мюриэл, ее отцом графом Ормом и кузеном, молодым офицером Эриком Линдоном, с которым она была помолвлена еще в детстве. Вскоре Артур и леди Мюриэл становятся друзьями, а позже их дружба переходит в более глубокое чувство, однако на их пути встают неожиданные и очень серьезные препятствия. Так в книге Кэрролла сказка соседствует с викторианским романом, где есть и любовь, и невольное заблуждение, и самопожертвование, и счастливая развязка.
В книге находится место и нонсенсу, и смешным сценам, и необычайным выдумкам и изобретениям, и, конечно, стихам, длинным и коротким. Ее населяют удивительные персонажи: профессор, который наставляет детей, и некий Господин (der Herr), всех поражающий своими теориями, и еще Безумный Садовник, распевающий на протяжении книги свою бесконечную песню. Приведем ее первые строфы:
Ему казалось — на трубе Увидел он Слона. Он посмотрел — то был Чепец, Что вышила жена. И он сказал: «Я в первый раз Узнал, как жизнь сложна». Ему казалось — на шкафу Красуется Павлин. Он присмотрелся — это был Сестры Невестки Сын. И он сказал: «Как хорошо, Что я здесь не один». Ему казалось — о стихах С ним говорил Олень. Он присмотрелся — это был Позавчерашний день. И он сказал: «Мне очень жаль, Что он молчит, как Пень».Эти стихи были переведены талантливой переводчицей Диной Орловской задолго до того, как появился первый русский перевод романа «Сильвия и Бруно». Отсутствие русского текста романа давало ей известную свободу в подборе несуразностей, которые одну за другой нагромождает Садовник в своей песне. Годы спустя роман был переведен Андреем Головым, давшим этим строфам свое прочтение. Интересно, что «Песню Безумного Садовника» в наши дни многие считают сюрреалистической. Как бы то ни было, это единственное стихотворение из романа о Сильвии и Бруно, которое по сей день входит во многие антологии. Оно возникло задолго до того, как был написан сам роман. Кэрролл сочинял его во время прогулок с Инид Стивенс, умной и одаренной девочкой, к которой был очень привязан. После очередной прогулки он спешил домой, чтобы записать удачную строфу (невольно вспоминается, что «Алиса в Стране чудес» своим успехом также во многом обязана свободной импровизации перед юными слушателями).
Наряду с песней Безумного Садовника, представляющей весьма своеобразный комментарий к происшествиям в сказочной стране, наряду с дискурсом о силлогизме (который под пером Кэрролла превращается из Syllogism в Sillygism, то есть просто-напросто в «глупость»), наряду с Господином, который носит зонтики на сапогах, дабы защитить их от «горизонтального дождя», и прочим нонсенсом есть в книге и совсем иные страницы, обращающие на себя внимание читателей, — серьезные размышления рассказчика и его друга, доктора Форестера, в которых ясно слышится голос самого автора. В этих эпизодах Кэрролл высказывает свои мысли на самые различные темы — от политики до науки, философии, церкви и религии. Это очень личные рассуждения, глубоко пережитые автором. В качестве примера приведем отрывок о Высокой церкви, приверженцем которой был отец Кэрролла. После его смерти писатель отходит от Высокой церкви всё дальше и дальше.
Вот рассказчик утром в воскресенье входит вместе с Артуром Форестером в деревенскую церковь — «маленькую уютную церковь, в которую широкой рекой вливались верующие, по большей части рыбаки и члены их семейств». Описание богослужения весьма точно передает мысли не только рассказчика, но и самого Кэрролла:
«Служба наверняка показалась бы современному эстету — и тем более утонченному религиозному эстету — грубой и холодной; но на меня, мало знакомого с новейшими „достижениями“ Лондонской церкви… она подействовала как нельзя более умиротворяюще.
Правда, в ней не было пышных театральных процессий или смазливых юных хористов, изо всех сил старающихся не уронить себя перед строгими очами всей конгрегации. Молящиеся сами принимали участие в общей молитве и горячо подпевали без всякой помощи искусства, если не считать нескольких красивых голосов, выделявшихся в их нестройном пении, не давая пастве совсем сбиться с тона.
Зато здесь не было и в помине того холодного убийства благородной мелодики, заключенной в Библии и Литургии, путем мертвящего монотонного проговаривания текста без малейшего следа чувства, словно его читает механическая говорящая кукла.
Нет, молящиеся здесь именно молились, тексты — читались, а проповедь, венчавшая службу, именно произносилась. И когда мы выходили из церкви, я поймал себя на том, что невольно произносил слова Иакова, когда он „пробудился от сна своего“: „Истинно Господь присутствует при месте сем; а я и не знал!“[155]».
Доктор Форестер соглашается с рассказчиком:
«Все эти пышные службы Высокой церкви быстро превращаются в чистой воды формализм. Всё больше и больше верующих начинают воспринимать их как некий спектакль, на котором они всего лишь присутствуют как зрители. А уж для маленьких мальчиков-алтарников они просто пагубны! Они ведут себя на них, как эльфы из балаганной пантомимы. Разряженные в пух и прах, они совершают бесконечные входы и выходы из алтаря, и неудивительно, что они, снедаемые тщеславием, держатся как надменные маленькие денди!»
Все эти темы — детская сказка, викторианский роман, серьезные размышления о науке, политике и религии — составили необычное произведение, которого никак не ожидали ни публика, ни пресса. Критики живо откликнулись на появление долгожданной книги. Кэрролл не очень высоко ставил мнение газетных и журнальных критиков и сам не следил за отзывами прессы, однако из его переписки с Макмилланом известно, что издатель отправил гинею в агентство, занимавшееся подбором газетных вырезок, распорядившись отсылать рецензии на «Сильвию и Бруно» по адресу: Мисс Доджсон, «Каштаны», Гилфорд. Судя по всему, это было сделано по указанию автора.
Рецензии на книгу, опубликованные в разных газетах, дают представление о разбросе мнений. 13 декабря 1889 года «Дейли ньюс» восхищается новым произведением Кэрролла и отмечает, что автор не повторяется, а ищет новые пути. «Да и зачем ему повторять себя, когда это то и дело пытаются делать другие?» Рецензент с улыбкой перечисляет удивительных персонажей, появляющихся в сказочных главах, особо отмечая Профессора, ученого врача, который «изобрел три новые болезни, а также новый перелом ключицы»; цитирует авторское предисловие, где Кэрролл пишет, что в этой книге «наряду с приемлемым детским нонсенсом» читатель найдет «кое-какие из более серьезных мыслей о человеческой жизни». Он с полным на то правом вопрошает: «Разве в Алисе не было также таких мыслей — во всяком случае, подразумеваемых с совершенной ясностью? Как бы то ни было, от произведений такого рода мы не должны требовать большего».
Шестью днями позже «Глазго геральд» высказывает уверенность, что ни одно издание этого сезона не будет встречено с большим восторгом, чем «новая фантазия мистера Льюиса Кэрролла, которая представляет собой нечто большее, чем волшебную сказку». Автор статьи отмечает, что в этой книге «реализм и сказочные феи соседствуют друг с другом», и хвалит удивительных героев и сцены, оговариваясь, правда, что, как ни забавны сцены в Чужестрании, их не сравнишь с «Алисой». «Бирмингем дейли пост» 27 декабря вопрошает, для кого предназначена книга, ибо та ее часть, в которой действуют реальные люди, рассуждающие о важных жизненных проблемах, «вряд ли заинтересует детей», в то время как «серьезные читатели могут посчитать восхитительный нонсенс Чужестрании и Страны эльфов слишком детским для них». К тому же, замечает рецензент, в реалистическом повествовании «многое утомит детей, многое будет им непонятно, а многое вообще не следовало бы им предлагать».
В ряде статей, появившихся в связи с выходом в свет «Сильвии и Бруно», всё громче звучат критические ноты, как ни стараются рецензенты смягчить приговор, как ни раскланиваются перед автором сказок об Алисе, которым они готовы всячески восхищаться. «Общее впечатление от книги запутанно, — пишет в феврале 1890 года „Мёрруйс мэгэзин“, — а шутки весьма натянуты», — и тут же спешит сказать автору нечто приятное: «Возможно, никто, кроме мистера Кэрролла, не придумал бы часы, обладающие особым свойством: это не они показывают время, а время показывает их». Журнал «График», который по выходе новой книги Кэрролла в свет весьма хвалебно о ней отозвался, через несколько месяцев снова возвращается к ней, чтобы устами «Читателя» заявить, что она «разочаровывает»: «Весьма сожалею, что приходится это сказать, но мы уверены, что таково мнение всех читателей. В „Алисе в Стране чудес“ мистер Кэрролл достиг вершин, но ничто из написанного им позже не может сравниться с этим бессмертным нонсенсом. Будь „Сильвия и Бруно“ его первым творением, его бы приветствовали как нечто редкостное и новое. Однако мистер Кэрролл сам установил для себя столь высокую мерку, что теперь мы, к сожалению, заявляем, что книга недотягивает до нее. Конечно, в „Сильвии и Бруно“ немало прекрасного и смешного. Двое детей сами по себе прелестны; Лорд-канцлер, Профессор и Брат Короля, появляющиеся в первых главах, так же удивительны, как некоторые персонажи „Страны чудес“, а Садовник почти достоин сравнения с Болванщиком. Однако в целом в книге чувствуется какое-то напряжение, сознательное стремление рассмешить, обнажить пружины действия. Даже песне Садовника с ее непоследовательностью и диковинностью не хватает непосредственности и безоглядного юмора стишков в „Алисе“». Впрочем, «Читатель» заключает свой отзыв следующими словами: «Дети, безусловно, будут очарованы удивительными приключениями Сильвии и Бруно в Стране фей. Есть в книге и серьезные размышления и пассажи, в которых Льюис Кэрролл касается высоких религиозных тем».
Клэр Имхольц, подготовившая подборку отзывов о романе, суммирует: «Если Доджсон знал о рецензиях, воспроизводимых ниже, мы можем лишь догадываться о том, сколь горько, верно, ему было снова и снова читать, что „Сильвия и Бруно“ — книга, которую он считал своим самым значительным произведением, — не выдерживает сравнения с двумя „Алисами“. Хотя рецензии, собранные здесь, в большинстве своем положительны и написаны с большим уважением к Льюису Кэрроллу как автору сказок об Алисе, даже самые лучшие из них не могут заставить себя от всей души восхищаться „Сильвией и Бруно“. Морализаторские аспекты новой книги воспринимаются с некоторым недоумением и сожалением. Вероятно, современные читатели будут удивлены, узнав, что кое-кто из рецензентов был прямо-таки очарован детьми — Сильвией и Бруно». Остается лишь повторить, что, к нашему удивлению, иллюстрации Фёрнесса неизменно оценивались весьма высоко как критиками, так и читателями.
Несмотря на столь неоднозначные отзывы прессы, история сказочных детей в течение какого-то времени вызывала интерес читателей — недаром имя автора «Алисы» пользовалось всеобщей любовью на протяжении четверти века. Новую книгу покупали, и несколько ее заводов разошлись.
Но Кэрролла не интересовали рецензии на его роман. «Я убежден, — говорил он, — что писателю лучше вообще не читать отзывы на свои книги: неблагоприятные, скорее всего, рассердят его, а благоприятные — только увеличат самомнение». Его сестры, следившие за отзывами, вероятно, ничего не говорили ему, не желая огорчать. Прошло время, прежде чем Кэрролл узнал от Макмиллана, что книга не продается. В 1894 году он написал издателю: «Не надо больше никакой рекламы, это выброшенные деньги. Я не знал, что рецензии неблагоприятны».
В годы, последовавшие за публикацией двух томов «Сильвии и Бруно», Кэрролл почти ничего не писал. В 1890-м он опубликовал книжечку, в которой излагал правила придуманной им игры «Круглый бильярд» (Circular Billiards), в которую играли на круглом столе с подушечками вместо луз. Круглый стол был сделан по заказу Кэрролла, однако игра не привилась и вскоре была забыта.
За свою жизнь Кэрролл написал огромное количество писем (вспомним, что тогда не было телефона): родным и друзьям, коллегам, издателям, граверам, типографам, иллюстраторам и, конечно, своим юным друзьям и их родителям. Ему писали читатели.
Его раздражали письма охотников за автографами, присылаемые ему в Крайст Чёрч на имя Ч. Л. Доджсона, где ему задавали вопросы о книгах Льюиса Кэрролла. В 1890 году он опубликовал обращение:
«Мистер Доджсон столь часто получает письма от незнакомых людей, которые совершенно безосновательно полагают, что он претендует или, по крайней мере, признаёт авторство книг, изданных не под его именем, что он нашел нужным напечатать сей документ, чтобы раз и навсегда ответить на эти обращения. Он не претендует и не признает связи с каким бы то ни было псевдонимом или с любой книгой, опубликованной не под его собственным именем. Не желая ни сохранять, ни читать присланное письмо, он возвращает его автору, который неправильно его адресовал».
Конечно, с годами всё больше людей узнавали, кто скрывается за именем Льюиса Кэрролла, но он продолжал держаться за свой секрет Полишинеля, когда дело касалось незнакомых ему людей. Впрочем, с характерной для него непоследовательностью он посылал своим юным друзьям собственные книги, а нередко и подписывался в письмах к ним собственным псевдонимом.
В апреле 1887 года Кэрролл публикует в журнале «Театр» статью «Алиса на сцене», в которой, в частности, рассказывает о том, как возникла «Алиса в Стране чудес». Особый интерес представляют строки, посвященные характеристике самой Алисы и некоторых других персонажей обеих сказок. Спустя 22 года после выхода в свет «Страны чудес» Кэрролл говорит о своей героине:
«Какой же ты была, Алиса, в глазах твоего приемного отца? Как ему описать тебя? Прежде всего любящей; любящей и нежной — любящей, как собака (прости за прозаичное сравнение, но я не знаю иной любви, которая была бы столь же чиста и прекрасна), и нежной, словно лань; а затем учтивой — учтивой по отношению ко всем, высокого ли, низкого ли рода, величественным или смешным, Королю или Гусенице, словно сама она была королевской дочерью, а платье на ней — чистого золота; и еще доверчивой, готовой принять всё самое невероятное с той убежденностью, которая знакома лишь мечтателям; и, наконец, любознательной — любознательной до крайности, с тем вкусом к Жизни, который доступен только счастливому детству, когда всё ново и хорошо, а Грех и Печаль — всего лишь слова, пустые слова, которые ничего не значат».
Не менее интересно авторское описание Белого Кролика:
«А Белый Кролик? Похож ли он на Алису — или создан для контраста? Конечно, для контраста. Там, где, создавая Алису, я имел в виду „юность“, „целенаправленность“, здесь появляются „преклонный возраст“, „боязливость“, „слабоумие“ и „нервная суетливость“. Представьте себе всё это, и вы получите какое-то представление о том, что я имел в виду. Мне кажется, что Белый Кролик должен носить очки, и я знаю, что голос у него должен быть неуверенный, колени дрожать, а весь облик — бесконечно робкий».
Королева представляется Кэрроллу «воплощением безудержной страсти — нелепой и бессмысленной ярости».
Какими видятся ему две Королевы из шахматного мира «Зазеркалья»? «Черную Королеву я представлял себе также как фурию, но совсем иного рода: ее страсть должна быть холодной и сдержанной; сама же она — чопорной и строгой, впрочем, не вовсе лишенной приветливости; педантичная до чрезвычайности, это квинтэссенция всех гувернанток!» Его Белая Королева совсем не похожа на Черную: «Белая Королева представлялась моему воображению доброй, глупой, толстой и бледной; беспомощной, как дитя; ее медлительность и растерянность наводят на мысль о слабоумии, но никогда не переходят в него; это, по-моему, уничтожило бы комическое впечатление, которое она должна производить». Правда, несходство Королев отнюдь не мешает им объединенными усилиями строго «экзаменовать» Алису в конце сказки.
Тут невольно приходит в голову мысль: не была ли эта статья задумана автором в качестве подспорья для постановщиков пьесы, разительно отличавшейся от всего того, что давалось тогда на сцене? Не думал ли Кэрролл, что не только постановщики, но и актеры — как дети, так и опытные взрослые — нуждаются в авторских подсказках? Скорее всего, статья не случайно была опубликована в журнале «Театр» как раз в то время, когда «Алиса» появилась на сцене. Кэрролл имел все основания думать, что постановка Генри Сэвила Кларка — всего лишь начало театральной жизни сказки.
В эти годы Кэрролл по-прежнему был окружен детьми. Особое место среди них занимали «дети сцены», в основном из театральных и малообеспеченных семей. Он старался всячески облегчить и украсить их жизнь: водил на прогулки и в зоопарк, кормил обедами, угощал вкусностями, платил за уроки танцев и французского языка, за лечение зубов, дарил игрушки, книжки и одежду, приглашал к себе и развлекал сказками и рассказами. Он восхищался их энергией и трудолюбием, прекрасно понимая, что их заработок составляет важную часть скудного семейного бюджета. 19 июня 1887 года он опубликовал в «Сент-Джеймс газетт» небольшую заметку «Дети и театр», в которой рассказал о дне, проведенном вместе с тремя маленькими актрисами — двенадцати, десяти и семи лет — в Брайтоне, где они выступали в «Алисе»:
«Мы нанесли три визита в дома друзей; долго гуляли по пирсу, где изо всех сил рукоплескали мисс Луи Уэбб и ее чудесному подводному представлению; бросали пенни в каждый автомат, привлекавший вложения, обещая взамен что-то стоящее для ума или тела; мы даже совершили смелый набег на штаб-квартиру компании и, словно Шейлок в сопровождении не одной, а трех Порций, потребовали „фунт плоти“ в виде коробки шоколадных драже».
Кэрролла восхищают «энергия жизни этих трех детей и глубина ощущений, с которой они наслаждались всем, большим или малым, что попадалось им на пути»:
«Эти дети — маленькие актрисы, старшая играет уже не менее пяти лет, и даже семилетняя крошка уже появлялась в четырех постановках. Эта троица играет в пьесе по „Алисе в Стране чудес“, написанной Сэвилом Кларком. В Брайтоне ее дают с Рождества только с месячным перерывом. Самая младшая из них играет Соню и еще трех других персонажей, у средней — роль без слов, а старшая играет Алису, пожалуй, самую трудную роль во всей пьесе и, думаю, самую трудную роль из всех, что когда-либо исполнял ребенок: у нее не менее 215 реплик!»
Особое внимание обращает на себя небольшая статья, напечатанная Кэрроллом 4 августа 1889 года в «Санди таймс» под названием «Дети сцены» (2 сентября того же года она вышла в журнале «Театр»), в которой писатель ратует за принятие закона, защищающего этих детей:
«Каждый ребенок младше шестнадцати лет (десять — слишком низкий предел), работающий в театре, должен иметь ежегодно возобновляемую лицензию.
Лицензия должна выдаваться только тогда, когда ребенок сдаст экзамен, определяющий, насколько его уровень знаний соответствует его возрасту.
Следует установить ограничения на количество рабочих недель в году, в течение которых ребенок может быть занят, и на количество часов в день, которое он или она могут проводить в театре. (Это требование ослабляется на время репетиций.)».
В законе, отмечает Кэрролл, должно быть прописано посещение ребенком школы в дневное время и определено количество учебных часов. «Необходима гарантия того, что девочки до шестнадцати лет будут иметь сопровождающих по дороге в театр и из театра», — пишет он.
Закон не должен запрещать детям до десяти лет играть в театре: «Это была бы жестокая несправедливость в отношении многих бедных семей, пытающихся свести концы с концами, для которых деньги, заработанные ребенком на сцене, — это дар Божий. К тому же тем самым он делал бы многих бедных детей несчастными, запрещая им здоровое и невинное занятие, которое они любят».
Здесь, как и в ряде других случаев, Кэрролл во многом предвосхитил будущее, выступив защитником прав детей и четко сформулировав ряд важнейших положений, касающихся этого животрепещущего вопроса.
Глава семнадцатая И СНОВА «АЛИСА»
Меж тем жизнь шла своим чередом. Кэрролл, как всегда, был очень занят и всё больше уходил в свое творчество. Хотя он по-прежнему внимательно следил за жизнью сестер и братьев, а также поддерживал связь с другими родственниками, в колледже он всё чаще отказывался от приглашений, жалея попусту терять время. По его просьбе матери семейств стали слать ему не «приглашения» на обед, а «информацию», что давало ему свободу действий. Он мог зайти, а мог и вовсе не появляться. Он всё больше замыкался в себе. Лето он обычно проводил в Истборне, куда охотно приглашал родных и своих юных друзей, давая им возможность отдохнуть (при этом он неизменно брал все расходы на себя). Остальное время он проводил в Оксфорде, откуда ездил в Лондон и Гилфорд, к сестрам. Посещал он и семью старшей сестры Мэри, в замужестве Коллингвуд, и кузин, и кузенов, и племянников. Со всеми родными он был дружен и всячески помогал им.
Кэрролл не забывал и Алису Лидделл. Последний раз он фотографировал ее в 1870 году — ей тогда было 18 лет. После этого они виделись лишь мельком. Кэрролл регулярно встречался с ректором по делам колледжа, а порой видел членов семейства Лидделл на улице или еще где-то.
В июне 1876 года семейство Лидделл постигло неожиданное горе: умерла Эдит, одна из сестер Лидделл, которых Кэрролл называл «своими любимицами». Ничто не предвещало такого удара: семейство готовилось к ее свадьбе. Но незадолго до бракосочетания Эдит скончалась от перитонита, последовавшего за корью; ей было всего 22 года. Кэрролл был потрясен. Он пишет матери Гертруды Четуэй: «Я нахожусь в глубоком горе с тех пор, как получил известие о внезапной смерти третьей дочери ректора Крайст Чёрч (одной из трех моих самых близких подруг, — думаю, я Вам о них рассказывал, — которые мне когда-либо встречались в жизни). Она скончалась буквально спустя неделю после своей помолвки, когда жизнь, казалось бы, открывалась ей в самом ярком своем проявлении. Но мир, даже в самом ярком своем проявлении, не может сравниться с тем великолепием, которое нам еще предстоит узнать».
Спустя полгода миссис Лидделл нанесла ему визит. Это была печальная встреча; Чарлз достал фотографии Эдит, сделанные в пору их дружбы, и она указала на те, которые ей хотелось бы иметь. Отпечатанные копии были посланы Лидделлам. В ответ миссис Лидделл отправила Кэрроллу две фотографии Эдит, сделанные незадолго до смерти.
В 1881 году Кэрролл, навещая одного из своих друзей, познакомился с мужем Алисы, Реджиналдом Харгривсом. После этой короткой встречи он записал в дневнике: «Мне нелегко было связать в уме это новое лицо с тем, которое я помню издавна, — этого незнакомца с той „Алисой“, которую я так хорошо знал и любил и которую я всегда буду помнить как бесконечно очаровательную семилетнюю девочку».
А 1 марта 1885 года Кэрролл отметил в дневнике, что послал письмо миссис Харгривс, прося ее разрешения опубликовать рукопись «Приключений Алисы под землей». Вот это письмо:
«Дорогая миссис Харгривс,
Воображаю, что после стольких лет молчания это письмо прозвучит, словно глас с того света, однако эти годы никак не повлияли на живость моих воспоминаний о тех днях, когда мы писали друг другу. Я начинаю чувствовать, как слабеет память старого человека относительно недавних событий и новых друзей (к примеру, всего несколько недель назад я познакомился с очень милой девочкой лет двенадцати; мы совершили вместе прогулку — а теперь я не могу вспомнить ни ее имени, ни фамилии!), однако образ той, которая все эти годы оставалась для меня идеалом ребенка и друга (в оригинале: ideal child-friend. — Н. Д.), по-прежнему живет в моем воображении. После того времени у меня было множество маленьких друзей, но всё это было совсем другое.
Впрочем, я пишу не для того, чтобы сказать Вам всё это. Я хочу спросить Вас, не разрешите ли Вы мне опубликовать факсимиле рукописи „Алисы под землей“ (я полагаю, Вы ее сохранили?). Мысль о публикации пришла мне в голову лишь на днях. Если, поразмыслив, Вы придете к заключению, что Вам этого не хотелось бы, на том и остановимся. Однако, отнесись Вы к этому положительно, я буду Вам весьма признателен, если Вы на время предоставите мне рукопись (пошлите ее заказной бандеролью — так надежнее), чтобы я мог поразмыслить о дальнейших шагах. Я не видел ее около двадцати лет и совсем не уверен в том, что иллюстрации не окажутся до того безнадежными, что воспроизводить их будет совершенно бессмысленно.
Не сомневаюсь, что, если я опубликую рукопись, меня обвинят в чудовищном себялюбии. Но меня это совершенно не трогает, ибо я знаю, что к этой публикации меня побудили иные мотивы; просто я думаю, что, принимая во внимание необычайную популярность двух сказок об Алисе (они разошлись в количестве 120 000 экземпляров), найдется немало желающих познакомиться с рукописным оригиналом.
Ваш неизменный друг Ч. Л. Доджсон».Миссис Харгривс не торопилась с ответом: сначала она сообщила о предложении Кэрролла отцу и попросила его совета. Ее письмо не сохранилось, но в нашем распоряжении есть ответ ректора Лидделла, посланный в марте 1885 года, по которому можно отчасти понять, что писала ему дочь: «Дорогая Алиса, я думаю, что ты не можешь отказать мистеру Доджсону, хотя он и продал 120 000 экземпляров книги. Если ты попросишь его вернуть клише, когда работа будет закончена, думаю, он не станет возражать. Возможно, он скопирует страницы с помощью нового фотопроцесса и копия будет очень точна. Твой любящий отец Г. X. Лидделл».
Это письмо оставляет какой-то осадок — и не только потому, что носит сугубо деловой характер. Зачем было Алисе говорить о 120 тысячах проданных экземпляров (кстати сказать, «Страны чудес», а не «Приключений Алисы под землей», подаренных ей)? Зачем беспокоиться о клише? Неужели она сомневалась в том, что Кэрролл вернет ей рукопись — и к тому же отправит не только подписанный им экземпляр факсимильного издания, но и еще столько экземпляров, сколько она пожелает?
Коллингвуд в своей книге опубликовал два письма Кэрролла Алисе. Одно мы уже привели; второе печатается ниже (оба даются без сокращений). Как явствует из второго послания, за те полтора года, что отделяют их друг от друга, Кэрролл и миссис Харгривс обменивались и другими письмами по поводу издания факсимиле, но до нас они не дошли. Впрочем, из тех писем, которыми мы располагаем, становится ясно, что миссис Харгривс дала разрешение на публикацию рукописи и переслала ее Кэрроллу и что он с присущей ему точностью сообщал ей о предпринятых действиях. Второе письмо Кэрролла, приведенное Коллингвудом, датировано 11 ноября 1886 года:
«Моя дорогая миссис Харгривс,
Сердечно Вас благодарю за разрешение напечатать „Больницы“[156] в Предисловии к Вашей книге. С этим злосчастным факсимиле у меня было не меньше приключений над землей, чем у Вашей тезки под землей.
Во-первых, лондонский цинкограф, которого мне порекомендовали — он должен был сфотографировать каждую страницу для изготовления цинковых клише, — соглашался взяться за работу только при условии, что я предоставлю книгу в его распоряжение, на что я ответил решительным отказом. Вы были столь добры, предоставив мне на время столь уникальную книгу, что я не мог позволить типографским работникам даже дотронуться до нее. Напрасно я предлагал ему привезти книгу в Лондон, жить там, сколько понадобится, и каждый день являться с ней к нему в студию, класть ее перед фотокамерой и переворачивать по мере надобности страницы. Он заявил, что это невозможно, ибо он фотографирует произведения „других авторов, которые ни в коем случае нельзя показывать публике“. Я обязался не глядеть ни на что, кроме собственной книги; но всё было напрасно: на все мои предложения он отвечал отказом.
Потом *** рекомендовал мне некоего мистера X***, превосходного фотографа, владельца столь небольшого дела, что мне пришлось согласиться на предоплату каждого клише; зато он согласился приехать в Оксфорд и работать там. Вся работа проходила в моей студии, которую я не покидал ни на минуту, переворачивая страницы и безропотно исполняя всё, что было нужно.
Впрочем, я уже, кажется, писал Вам о кое-каких эпизодах этой истории…
Мистер X*** сделал превосходные негативы и увез их с собой, чтобы изготовить цинковые клише. Он привозил их поначалу весьма регулярно, и я имел все основания надеяться, что книга будет готова к Рождеству 1885 года.
18 октября 1885 года я отослал Вашу книгу миссис Лидделл, которая сказала мне, что Ваши сестры собираются Вас навестить и отвезут ее Вам. Надеюсь, Вы ее благополучно получили?
Вскоре после этого клише перестали поступать (замечу, что я заранее всё оплатил); оставалось еще двадцать две страницы, но мистер X*** пропал!
Лично я полагаю, что он скрылся от кредиторов. Мы искали его, но всё было напрасно. Шли месяцы. Я было подумал нанять сыщика, чтобы отыскать его, но меня заверили, что „сыщики все негодяи“. Можно было просить Вас снова прислать мне книгу и сфотографировать недостающие страницы. Но мне решительно не хотелось снова забирать ее у Вас; к тому же я боялся рисковать, доверяя ее почте, ибо, даже посылая ее „заказной бандеролью“, нельзя быть абсолютно уверенным, что она не будет потеряна.
В апреле мистер X*** явился к Макмиллану и оставил восемь клише — и вновь пропал.
Оставалось четырнадцать страниц, недостающих в разных местах по всей книге. Я еще немного выждал, а затем передал всё дело поверенному, который скоро нашел беглеца, однако не смог добиться от него ничего, кроме обещаний. „Вы никогда не получите клише, — сказал поверенный, — если не пугнете его, отправив ему вызов к мировому судье“. Мне совсем не хотелось этого делать, но в конце концов пришлось послать этому невозможному человеку судебную повестку, которую надо было выправлять по месту его жительства, для чего я был вынужден дважды приехать из Истборна (Кэрролл там отдыхал. — Н. Д.): один раз, чтобы оформить вызов в суд (для чего потребовалось мое личное присутствие), а другой — чтобы вместе с поверенным присутствовать на суде в день, назначенный для слушания дела. Ответчик на суд не явился; и тогда судья объявил, что будет разбирать дело в его отсутствие. Затем я испытал неведомое мне ранее волнение: меня вызвали в качестве свидетеля и привели к присяге, после чего весьма суровый судебный секретарь подверг меня перекрестному допросу, видно, полагая, что стоит меня как следует припугнуть, как он тотчас уличит меня во лжи! Мне пришлось прочитать судье небольшую лекцию о цинкографии, и он, бедняга, заявил, что это столь сложно, что ему придется отложить слушание на неделю. Однако на этот раз, чтобы обеспечить присутствие неуловимого ответчика, он выдал ордер на его арест, и судебный пристав получил приказ задержать его и поместить в тюрьму накануне слушания дела. Узнав об этом, наш беглец и вправду перепугался и, не дожидаясь рокового дня, тотчас представил четырнадцать негативов (клише он так и не сделал). Я обрадовался, получив негативы, хотя мне и пришлось вторично оплатить четырнадцать клише, и взял назад свой иск.
Четырнадцать клише были быстро изготовлены и переданы в типографию; всё наконец уладилось, и я полон надежды, что книга скоро будет завершена и к концу месяца я смогу послать Вам специально заказанный экземпляр (в белом кожаном переплете — если Вы не предпочтете другого).
Всегда, уверяю Вас,
Искренне Ваш Ч. Л. Доджсон».Двадцать второго декабря 1886 года факсимильное издание рукописи, подаренной Алисе Лидделл 22 года назад, вышло в издательстве Макмиллана. Кэрролл предпослал ему предисловие, в котором привел строку из старинной песенки «Отгадай загадку, Как и Почему» и рассказал о том, как и почему он решил сделать свою рукопись достоянием публики:
«На вопрос „Как?“ я в известном смысле ответил в стихотворении, предпосланном „Алисе в Стране чудес“… А „Почему?“ нельзя, да и не нужно, выражать словами. Те, для кого душа ребенка — тайна за семью печатями, кто не видит в улыбке ребенка ничего божественного, стали бы напрасно вникать в эти слова; меж тем как тому, кто когда-либо любил реального ребенка, слова не нужны. Ему знаком тот трепет, который охватывает всякого человека, оказавшегося в присутствии души, только что вышедшей из рук ГОСПОДА, души, не омраченной тенью греха, которая несет лишь отдаленный и едва заметный окоем печали».
Льюис Кэрролл, викторианский последователь автора «Песен невинности», поклонник старых и новых романтиков, видит в улыбке ребенка ту чистую, всеобъемлющую и бескорыстную любовь, которая присуща только детям. Впрочем, пишет он, тот, кто «сумеет вложить все свои силы в некий замысел, не думая об ином вознаграждении, кроме тихих слов благодарности и воздушного поцелуя, посланного ему чистыми устами детей, возможно, слегка приблизится к ним». Кэрролл, регулярно посылавший свои книги в детские больницы и приюты (речь, конечно, идет о детях неимущих), делал это, по его собственным словам, «всегда с радостью». Он цитирует письмо одной из дам-патронесс такой больницы, которая рассказывает ему, как дети слушают присланные им сказки (к тому времени вышла уже и «Алиса в Зазеркалье») и молятся за него, и обещает написать обреченной девочке Минни, которая мечтает получить от него письмо — только пусть оно будет адресовано не «Каждому ребенку, который любит Алису» (такие письма Кэрролл посылал на Пасху), а лично ей. Современному читателю всё это, верно, покажется слишком сентиментальным (нас долго и жестко отучали от сочувствия другим), однако такое выражение чувств было присуще викторианцам, и Кэрролл, обладатель глубокой веры и доброй души, несомненно, писал это от всего сердца.
На последней странице книги был помещен постскриптум:
«Деньги, полученные от продажи этой книги (если случатся таковые), будут направлены в Детские больницы и Приюты для больных детей; счета по 30 июня каждого года будут печататься в Сент-Джеймс газетт во второй вторник последующего декабря».
Возвращаясь к основной мысли послесловия, Кэрролл добавляет:
В «Гайавате» Лонгфелло та же мысль прекрасно выражена мальчиком в его обращении к тем, кто верит,
Что беспомощные руки, Шаря ощупью, во мраке, Руку Божию находят.Итак, по выходе книги Кэрролл послал миссис Харгривс обещанный экземпляр с дарственной надписью. Однако на этом история рукописи не заканчивается.
Прошли годы. Кэрролла давно уже не было в живых; Алиса Харгривс, вырастившая троих сыновей, лишилась во время Первой мировой войны двух старших (первый был убит в 1917 году, второй — в 1918-м) и овдовела. В 1928 году она решила выставить уникальную рукопись на продажу. 3 апреля на аукционе «Сотбис» рукопись купил за 15 400 долларов известный американский библиофил и коллекционер редких книг из Филадельфии доктор А. С. У. Розенбах. Спустя полгода он продал ее Э. Р. Джонсону из Мурстауна, штат Нью-Джерси, за 30 тысяч.
В 1932 году англоговорящий мир широко отмечал столетний юбилей Льюиса Кэрролла. Ему посвятили статьи и книги такие видные писатели, как Гилберт Кит Честертон, Вирджиния Вулф, Алан Александр Милн, Уолтер де ла Мэр и др. Миссис Харгривс получила приглашение приехать в Нью-Йорк, где при большом стечении публики ей предстояло получить почетный диплом доктора литературы Колумбийского университета. Она отправилась в плавание в сопровождении младшего сына Кэрила. В Нью-Йорке ее приветствовали толпы встречающих, журналисты осаждали просьбами об интервью, ее чествовали как вдохновительницу бессмертной сказки, убедившую автора записать ее.
В 1946 году рукопись была передана для продажи в одну из нью-йоркских галерей. Неожиданно выступил Лютер Харрис Эванс, директор Библиотеки Конгресса США. В начале года, лежа в больнице, он прочитал в «Нью-Йорк таймс» о предстоящей продаже и отметил, что на аукционе «Сотбис», где ранее была выставлена рукопись, Британский музей предлагал сумму в десять тысяч фунтов. «Это навело меня на мысль о том, — вспоминал Эванс, — что было бы хорошо, если бы группа американцев выкупила рукопись и преподнесла ее Британскому музею». Он обратился к Л. Розенвальду, одному из видных спонсоров Библиотеки Конгресса; тот обещал, что лично внесет солидную сумму и посоветует ряду друзей принять участие в сборе средств. «Затем, — пишет Эванс, — я позвонил доктору Розенбаху и поручил ему купить рукопись (я готов был предложить за нее до 100 000 долларов, которые я переведу ему со своего личного счета)».
Доктор Розенбах купил рукопись за 50 тысяч долларов. Эванс начал кампанию по сбору средств на приобретение «культурного сокровища английской нации» — и вскоре собрал почти всю сумму. Список тех, кто сделал пожертвования от ста долларов и выше, был послан в Британский музей, хотя поначалу его не собирались предавать гласности. «В 1948 году, — пишет Эванс, — я доставил рукопись в Британский музей и добрал впоследствии недостающие несколько тысяч долларов». За этим скупым сообщением стоит еще одна история.
В те годы из Америки до Европы добирались на лайнерах (всё это происходило более шестидесяти лет назад!). Для безопасности драгоценной рукописи был сконструирован специальный непотопляемый кейс, снабженный флажком и радиосигнализацией на случай гибели судна. По счастью, плавание прошло благополучно. Сев в поезд, идущий из порта в Лондон, Эванс уже предчувствовал конец своей миссии. Ступив на платформу в Лондоне, он вздохнул с облегчением и направился к выходу в город — и вдруг остановился. Кейс с драгоценной рукописью остался в вагоне!
О том, как искали рукопись, история умалчивает. Важно, что она была найдена и передана в Британский музей — «в знак благодарности доблестному народу, который долгое время бился с Гитлером почти в одиночку». Рукопись принимал глава Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский, выразивший глубокую благодарность за этот «дар от чистого сердца». Присутствовавшие на церемонии, по словам Эванса, «сморкались и всхлипывали, что было совсем не похоже на англичан». Более полувека рукопись хранилась в Британском музее; теперь она в Британской библиотеке.
Пятнадцатого февраля 1881 года, более чем через 15 лет после выхода в свет «Алисы в Стране чудес», Льюис Кэрролл сделал в своем дневнике запись: «Отправил Макмиллану письмо с новым предложением: издать „Алису для малышей“ (The Nursery Alice) — с картинками в книжке». Издатель, выпустивший обе сказки об Алисе, одобрил новую идею Кэрролла, и вскоре тот уже обсуждал картинки к новой книге с Джоном Тенниелом, иллюстратором «Страны чудес» и «Зазеркалья».
Книга готовилась долго. Кэрролл был занят — писал роман «Сильвия и Бруно», математические и богословские труды, заботился о родных и близких; много времени отнимало у него и кураторство над клубом.
Было решено, что в книгу войдут 20 иллюстраций Тенниела — в увеличенном и раскрашенном виде. Работая над оформлением нового издания, предназначенного для совсем маленьких детей, которые даже грамоты не знали, Тенниел слегка изменил первоначальные картинки: в сцене в саду сменил «Тройку пик» на «Тройку червей», одел Алису в новое платье с поясом, завязанным бантом, нарисовал ее заново с вытянувшейся шеей, добавил или убрал кое-какие детали и, конечно, всё раскрасил. Его гонорар на этот раз равнялся 100 фунтам.
Изготовление цветных иллюстраций в те годы было делом непростым. Печать осуществлял Эдмунд Эванс, выдающийся мастер цветной гравюры по дереву. У него печатали свои книжки такие художники, как Уолтер Крейн, Рэндольф Колдекотт, Кейт Гринуэй и другие мастера, прославившие английскую детскую книгу. Рисунки для обложки выполнила Гертруда Томсон, приятельница Кэрролла.
«Алиса для малышей» вышла в свет лишь 18 декабря 1889 года. Ее иллюстрации показались Кэрроллу слишком яркими и безвкусными. Расстроенный, он пишет Макмиллану, что «ни одна из них не должна продаваться в Англии», и поручает Эвансу напечатать иллюстрации заново. Второй завод, отпечатанный в 1890 году, удовлетворил и требовательного автора, и художника. Что до отвергнутых ранее страниц, то их переплели и пустили в продажу: четыре тысячи экземпляров были отправлены в Соединенные Штаты, а остальные шесть тысяч все-таки предложены английским покупателям всего по два шиллинга за экземпляр (серия «Народное издание»).
Открывает книгу стихотворение Кэрролла «Милая детская», написанное с глубоким чувством, навеянным воспоминаниями о матери:
Прижаться к маминой груди: Забыть ребяческие страхи, Ушибы, слезы, охи, ахи, Не знать того, что впереди! Слегка подушку смяв щекой, Во сне выводишь ты рулады, И слаще в мире нет отрады… Любовь дарует нам Покой. Пригубить мамин поцелуй: В нем мед и нежное дыханье, В нем скрыто тайное посланье — «Будь счастлива!» и «Не балуй!». Его спешишь ты разгадать И радостью полна до края, Сейчас ты в двух шагах от рая… Дом нам дарует Благодать[157].Заглавные буквы в последней строке каждой строфы (Любовь — Покой — Дом — Благодать) подчеркивают значение этих слов. Кэрролл предпослал книжке предисловие, адресованное матерям малышей, для которых написана книжка:
«У меня есть все основания полагать, что „Приключения Алисы в Стране чудес“ прочитали сотни английских Детей в возрасте от пяти до пятнадцати лет, — а также Дети от пятнадцати до двадцати пяти лет — и Дети от двадцати пяти до тридцати пяти лет. Есть среди нас даже и такие Дети, что устали от мрачных насмешек Жизни с ее горестями и мишурой, здоровье и силы которых слабеют, — и всё же не дали иссякнуть источнику радости, что кроется во всех близких детству сердцах. Обойдем молчанием повесть о прошедших годах этих Детей „определенного возраста“ и предадим ее почтительному забвению.
А теперь я мечтаю о том (возможно, я слишком многого хочу?), чтобы мою книжку читали дети от нуля до пяти лет. Читали?! Нет, конечно! Я хочу, чтобы ее листали, ласкали, трепали, мяли и целовали эти крошки с ямочками на щеках, которые не знают грамоты и едва научились говорить, как надо, — они так весело шумят в детской, наполняя наши сердца глубокой радостью!..»
Конечно, «Алиса для малышей» непохожа на «Приключения Алисы в Стране чудес». Там нет ни удивительных приключений, ни странных персонажей с их диковинными речами, ни нонсенса, ни стихов. Да их и не может там быть! Эту небольшую книжку с картинками, в которой Кэрролл знакомит маленьких читателей (точнее, слушателей) с некоторыми — конечно, предельно упрошенными — персонажами и событиями «большой» книги, можно назвать введением в нее; автор надеялся, что в будущем подросшие малыши ее прочитают.
Позже помимо предисловия, адресованного матерям, Кэрролл снабдил свою новую книжку «Пасхальным приветствием каждому ребенку, любящему Алису». Впервые это приветствие было издано приложением к «Алисе в Зазеркалье», но автор хотел, чтобы его прочли все — и взрослые, и дети, когда они выучатся читать. Как видим, это уже другой, новый Кэрролл, которого мы прежде не знали. Впрочем, будет, пожалуй, вернее сказать, что он повернулся к нам другой стороной. Он и впрямь был очень многообразной личностью.
Глава восемнадцатая ПОЗДНИЕ ГОДЫ
Кэрролл по-прежнему любил театр. Но порой случались эпизоды, которые смущали его. Конечно, он всегда подчеркивал, что не ему предъявлять пуританские требования к театру, однако настаивал на том, что на сцене не должно происходить ничего, что могло бы оскорбить глаза и уши «настоящей леди». Еще в середине 1870-х годов он обидел своей щепетильностью актрису, пригласившую его с двумя друзьями в «Лицеум» на «Гамлета» в постановке прославленного Ирвинга и предоставившую в их распоряжение королевскую ложу. В фарсе, который давали после Шекспира, прозвучало слово «Проклятье!». Кэрролл написал своей знакомой письмо, в котором решительно возражал против употребления этого слова. (Заметим, подобные слова в «Гамлете» такой реакции у него не вызывали!) Актриса не ответила, и всякие отношения с ней и ее супругом были прерваны.
Кэрролл особенно возражал против использования в шутках библейских цитат, на что были горазды не только театральные люди, но даже порой и оксфордские священники. В этих случаях он обычно писал виновникам или, если представлялась возможность, выражал свое мнение устно.
Однако позднее в высказываниях Кэрролла о театре начинают звучать и иные ноты. В июне 1888 года он опубликовал в журнале «Театр» статью «Подмостки сцены и дух пиетета», изложив в ней мысли, которые давно занимали его. Он начинает с обещания, что эта статья не является, как часто бывает, замаскированной проповедью:
«Я хочу поговорить с читателем, который посещает театр или сам пишет для театра и, возможно, удостоит меня своим вниманием как человека — не как церковнослужителя, не как христианина, даже не как верующего в Бога, но просто как человека, который признает (это действительно очень важно), что существует различие между добром и злом, который понимает, что от злых людей и злых поступков происходит большая часть бед в жизни, если не все беды. И разве не может также слово „добро“ иметь более широкое значение, нежели то, которое обычно используется? Разве не может оно по справедливости включать в себя всё, что есть смелого, мужественного и истинного в человеческой природе? Несомненно, человек может почитать эти качества, даже если он не принадлежит ни к какому из религиозных вероисповеданий».
После столь смелого и неожиданного для священнослужителя вступления он, ссылаясь на лекцию историка Робертсона, приводит поразительный пример признания мужества врага у разбойничьих племен Верхнего Синда (на территории современного Пакистана): одержав победу в одной из битв, те почтили память павших врагов, повязав им на кисти рук красные шнурки — знак мужества, которым они отмечали своих убитых. Подобное почитание нередко увидишь на сцене. Кэрролл пишет:
«Я подразумеваю под почитанием просто веру в некое доброе и невидимое создание, находящееся вне пределов человеческой жизни, как мы ее понимаем, и над ними; создание, перед которым мы чувствуем себя ответственным. И я считаю, что „почитания“ заслуживают самые деградированные виды „религии“ как воплощение в конкретной форме принципа, который самый ярый атеист не боится почитать теоретически. Эти предметы можно классифицировать под двумя заголовками, в соответствии с тем, как они связаны с принципом добра и с принципом зла. Под первым заголовком мы можем назвать Божество и добрых духов, акт молитвы, места поклонения и священнослужителей; под вторым — злых духов и грядущее наказание».
Он тут же спешит пояснить:
«Непочтительность, с которой иногда обращаются с такими темами как в театре, так и вне его стен, отчасти может быть объяснена тем, что ни одно слово не имеет неразделимо закрепленного за ним значения; слово означает то, что подразумевает под ним говорящий, и то, что понимает под ним слушающий, и это всё». Подобные идеи Кэрролл уже развивал в работах, опубликованных ранее. Интересно добавление, сделанное автором: «Эта мысль может послужить для того, чтобы уменьшить ужасное впечатление от некоторых слов, используемых низшими классами, которые (и это утешает) представляют собой набор бессмысленных звуков»[158].
Кэрролл останавливается на некоторых спектаклях, входивших в то время в репертуар ведущих театров. Большую часть из них он одобряет, с радостью отмечая реакцию зала, освистывающего злодея и тепло встречающего героев, творящих добро. Впрочем, к величайшему сожалению автора, на подмостках не всё благополучно.
Его смущает слишком частое употребление на театральных подмостках клятв или фраз, «произносимых пренебрежительно или в шутку», в которых имя Господа упоминается всуе. Вину за это, полагает Кэрролл, следует возложить скорее на общество, чем на театр. Его современники постоянно употребляют для простого подшучивания такие фразы, как «Бог мой!», «Господи Боже!». Подобное употребление он находит и у Шекспира, и даже «у такой утонченной писательницы, как мисс Остин, которая может заставить молодую леди сказать: „Господи, как мне должно быть стыдно, что в тридцать два года я еще не замужем!“ („Гордость и предубеждение“). Когда подобные слова довольно часто употреблялись в разговорной речи, они не несли никакого смысла, однако, произносимые со сцены в наши дни, они режут слух».
Протестует Кэрролл и против насмешек над священниками, которые нередко встречаются в музыкальных пьесах знаменитых Гилберта и Салливана, хотя и отмечает, что именно им публика «глубоко обязана и благодарна за чистый и здоровый смех». При этом он оговаривается, что не защищает служителей культа от насмешек, когда они того заслуживают. Но его приводит в гнев веселая песенка в оперетте Гилберта и Салливана, исполняемая хором невинных девочек, которые повторяют проклятие капитана: «Он сказал: „Черт меня побери!“». Но, пожалуй, более всего писателя сердят шутки и анекдоты, рассказываемые священнослужителями, в «которых знакомые библейские фразы превращаются в гротескные пародии». Он взывает к тому чувству пиетета, которое столь необходимо соблюдать в жизни и на сцене — особенно на сцене.
Кэрролл по-прежнему дружил с детьми, среди которых было немало юных актеров. Вера Беринжер заслужила известность исполнением Седрика в инсценировке «Маленький лорд Фаунтлерой» по повести Франсис Ходгсон Бёрнетт. Как-то она отдыхала на острове Мэн, и Кэрролл послал ей стишок, в котором обыгрывал слово Man.
«Мэн, о Мэн!» — пела мисс молодая, Летним поездом вдаль отъезжая. Встрепенулись мужчины, Но не вижу причины: Остров Мэн — имя дальнего края[159].Это пятый лимерик из написанных Кэрроллом, других до нас не дошло. Тут, конечно, возникает вопрос, знал ли Кэрролл стихи Эдварда Лира, автора множества нонсенсов, и был ли знаком с ним лично. Нам об этом не известно решительно ничего. В дошедших до нас дневниках Кэрролла имя Лира не упоминается. Судя по всему, два признанных мастера нонсенса не только не встречались, но и никак не выразили своего отношения к творчеству друг друга. В письмах Кэрролла и Лира также нет упоминаний друг о друге. Правда, Лир по причине своего слабого здоровья жил в основном в теплых странах и в Англию приезжал нечасто, в то время как Кэрролл, если не считать путешествия в Россию, не бывал за границей. Они были совсем разными, да и произведения их, в сущности, были несхожими.
В 1880-х — первой половине 1890-х годов Кэрролл активно общался с лордом Робертом Артуром Толботом Сесилом, третьим маркизом Солсбери, который в течение ряда лет занимал пост премьер-министра. Как мы помним, Солсбери был выпускником Крайст Чёрч и играл видную роль в Оксфорде. Доджсон познакомился с маркизом Солсбери в Оксфорде в июне 1870 года, после торжественной церемонии, когда тот принял на себя обязанности канцлера Оксфордского университета. Верный друг Лиддон представил его жене канцлера, и уже на следующий день Доджсон фотографировал лорда Солсбери и двух его сыновей. Поначалу знакомство ограничивалось в основном леди Солсбери и двумя ее дочерьми, Мод и Гвендолен, которых он снимал и которым рассказывал истории и сказки собственного сочинения. Среди них была сказка про месть Бруно и некоторые другие сюжеты, вошедшие впоследствии в двухтомный роман «Сильвия и Бруно». Сохранились прекрасные фотографии девочек и самого хозяина дома, сделанные Кэрроллом.
Он был желанным гостем в Хэтфилд-хаусе. Одно время он перестал было рассказывать детям сказки — ему показалось, что его принимают в доме именно как рассказчика, — однако вскоре сменил гнев на милость. Постепенно он ближе познакомился и с хозяином дома, с которым у него нашлось немало общих интересов: лорда Солсбери, помимо политики, интересовали математика и богословие.
С 1874 года они обменивались письмами. В фамильной библиотеке Хэтфилд-хауса сохранилось 27 писем Кэрролла, адресованных лорду Солсбери, касающихся самых различных вопросов: университетских, политических и прочих, вплоть до расшифровки некоего шифра, который интересовал Солсбери. (Кэрролл предположил, что для шифра была использована фонетическая запись северного варианта староваллийского языка.)
Редкое письмо Доджсона обходилось без какой-либо просьбы к Солсбери. Он никогда не просил ничего для себя. Свое знакомство с премьер-министром он старался использовать для того, чтобы помочь попавшим в беду. Его волновали судьбы отдельных людей и целых поселений. Он ходатайствовал о месте для преподавателя математики, рекомендовал кого-то в качестве личного секретаря и т. д. Чаще всего он получал от маркиза учтивый, но отрицательный ответ, но это его не останавливало. Не обескураженный неудачами, он снова и снова обращался к Солсбери.
Особый интерес в этом смысле представляет переписка (декабрь 1885-го — февраль 1887 года), посвященная судьбе жителей острова Тристан-да-Кунья, расположенного в южной части Атлантического океана и принадлежавшего британской короне. После того как китобойные суда перестали заходить на остров, сотня его жителей оказалась на грани голода. О бедственном положении островитян Кэрролл узнал от своего брата Эдвина, который был там священником, и сообщил лорду Солсбери в письме от 12 декабря 1885 года. Он предлагал правительству рассмотреть вопрос о переселении жителей Тристан-да-Кунья в Южную Африку или Австралию и просил у премьера разрешения нанести ему визит вместе с братом, чтобы обсудить этот вопрос подробнее (Эдвин приехал в Англию для поправки здоровья). Лорд Солсбери отвечал уклончиво. В течение декабря Доджсон отправил ему еще три (!) письма, в которых излагал свои соображения о наилучшем устройстве судьбы жителей острова и снова просил об аудиенции. Тон его писем был спокойным и ровным, как будто он обращался не к премьер-министру, а к коллеге; Солсбери отвечал учтиво, но и только. Но Чарлз не отступал.
Наконец 30 декабря встреча состоялась. Премьер-министр принял братьев Доджсонов в Министерстве иностранных дел, однако, если судить по записи в дневнике Чарлза, беседа была малообещающей. 4 января 1886 года лорд Солсбери прислал ему через своего секретаря официальный ответ: корабли, идущие в Австралию, обычно на остров Тристан-да-Кунья не заходят, и менять их курс было бы дорого и опасно. Переселение жителей острова премьер-министр считал невозможным: он не хочет создавать «опасный прецедент, который может повести к просьбам со стороны англичан и ирландцев о бесплатном перевозе через Атлантический океан». Д. Дейвис, опубликовавший переписку, замечает по этому поводу: «Лорд Солсбери отвергает в своем письме одно за другим все предложения, выдвинутые с таким волнением Кэрроллом и его братом».
Год спустя, несмотря на неудачу прежних попыток заинтересовать лорда Солсбери, а через него и правительство, судьбой жителей Тристан-да-Кунья, Чарлз снова возвращается к этой проблеме. 21 февраля 1887 года он сообщает премьер-министру, что положение на острове приняло характер бедствия — одно из рыболовецких судов, которыми располагали жители, потерпело крушение, в результате чего на острове осталось всего 11 работоспособных мужчин, — и посылает список жителей острова и опись их имущества. Ответ лорда Солсбери не сохранился, однако его удалось восстановить по записям секретаря: «24 февраля 1887 года. Лорд Солсбери предлагает переслать бумаги в Адмиралтейство, однако выражает сомнение в том, что это приведет к какому-либо результату. Он отмечает, что если скот островитян оценивается, как сообщил ему ранее Доджсон, в 10 тысяч фунтов стерлингов, то их переселение может быть осуществлено без помощи правительства за их собственный счет». Тема была закрыта. Переселение не состоялось.
В 1890 году Эдвин Доджсон, здоровье которого было подорвано миссионерским служением в Африке, по совету врачей покинул остров. Всё же благодаря вмешательству Доджсонов жители острова получили со специально посланным кораблем кое-какую помощь и припасы.
В переписке Кэрролла с Солсбери поднимается еще одна важная тема. На протяжении многих лет его волновал вопрос о чистоте проведения выборов в парламент и более широком представительстве в нем. Подходя к нему как математик и логик, Чарлз задумывался о том, как достичь максимально взвешенного «пропорционального» представительства. Он ратовал за тайное голосование и подведение итогов только по окончании выборов, ибо сообщения о первых результатах неизбежно влияли на окончательный исход выборов, и пр. Свои рассуждения на эти темы он регулярно посылал премьеру. Впоследствии часть из них вошла в ряд статей и памфлетов («О чистоте выборов», «Парламентские выборы», «Принципы парламентского представительства»), опубликованных в ноябре 1884 года.
В письмах к Солсбери содержится также ряд предложений по другим животрепещущим проблемам (положение детей, проституция, вивисекция и др.), живо свидетельствующих о том, насколько автор принимал их близко к сердцу. Как видим, вопросы общественной жизни занимали его не меньше, чем наука и литература, и глубоко волновали.
Поздние годы жизни Кэрролла были отмечены дружбой с молодой художницей Эмили Гертрудой Томсон, которая была младше его на 18 лет. Они познакомились в конце 1870-х годов, и Гертруда стала ему добрым другом до конца его дней. Дочь Александра Томсона, профессора древнегреческого и древнееврейского языков, она окончила художественный колледж в Манчестере и была членом Королевского общества миниатюры. Внимание Кэрролла привлекла серия ее рисунков «Страна фей», и он обратился к ее издателю Аккерману с просьбой сообщить ему адрес художницы. Кэрролл послал ей письмо, в котором писал, что хотел бы ознакомиться с ее рисунками, и предлагал сделать иллюстрации к некоторым его книгам, в том числе к сборнику «Три заката и другие стихотворения». Одновременно Аккерман написал художнице, что Доджсон и Льюис Кэрролл — одно лицо. Несколько позже Кэрролл послал ей подписанные им два томика в белых переплетах с золотом, сопроводив их письмом:
«Я посылаю Вам „Алису“, а также и „Зазеркалье“. Есть какая-то незавершенность, когда даришь лишь одну книжку; к тому же та, которую Вы купили, была, скорее всего, в красном переплете и не подойдет к этим. Если Вы не будете знать, что делать с лишним (теперь) экземпляром, позвольте предложить Вам отдать его какому-либо бедному больному ребенку. Я рассылаю их во все больницы и дома для выздоравливающих, когда узнаю, что там есть дети, умеющие читать. Конечно, приятно слышать, что твои книги где-то популярны, но меня гораздо больше радует мысль о том, что они могут утешить и развеселить детей в тяжелые часы усталости и страданий».
Они стали переписываться. Как-то Кэрролл попросил у Гертруды разрешения навестить ее. В один из своих приездов в Лондон он зашел к ней, но не застал дома — она была в Британском музее.
Наконец их встреча состоялась — 29 июня 1879 года в полдень у коллекции Шлимана в Музее Виктории и Альберта. Впоследствии Гертруда Томсон так описала ее:
«Незадолго до двенадцати я уже была там, и тут до меня дошел весь юмор ситуации: ведь я не имела никакого представления о том, как он выглядит, да и он не мог узнать меня. В зале, как всегда, было полным-полно всякого народа; я бросала украдкой взгляды на находившихся там мужчин, чтобы убедиться, что ни один из них не может быть тем, кого я искала. Большие часы пробили двенадцать, и я услышала в коридоре веселые детские голоса и смех. В зал вошел высокий джентльмен, который вел за руки двух девочек. Увидев его стройную фигуру и чисто выбритое, тонкое и выразительное лицо, я сказала про себя: „Вот Льюис Кэрролл“. С минуту он стоял с высоко поднятой головой, обводя быстрым взглядом зал, а затем нагнулся и что-то шепнул одной из девочек. Та на минуту задумалась, а потом указала прямо на меня. Он отпустил их руки, подошел ко мне и со своей чудесной улыбкой, которая заставляла тут же забыть о том, что перед вами оксфордский профессор, просто сказал:
— Я мистер Доджсон. Я должен был встретиться с вами, не так ли?
На что я улыбнулась так же открыто и ответила:
— Как вы догадались, что это я?
— Моя маленькая приятельница нашла вас. Я сказал ей, что должен встретиться с юной леди, которая знает фей, и она тут же указала на вас. Правда, я вас узнал еще раньше».
Вскоре после встречи в музее Кэрролл отправил мисс Томсон приглашение приехать на день к нему в Оксфорд, выразив надежду, что она «достаточно свободна от условностей, чтобы не обращать внимания на миссис Гранди». В скобках он добавил: «Думаю, что так оно и есть», но всё же посоветовал написать отцу и спросить его разрешения, хотя ей в то время было уже почти 30 лет. Гертруда приехала, и они провели день вместе, посвятив его Оксфорду и искусству.
Бывая в Лондоне, Кэрролл часто навещал Гертруду Томсон в ее студии, где она рисовала с натуры своих «фей». Кэрролл также рисовал детей, которые приходили к ней; она правила его рисунки и кое-что объясняла ему.
Вскоре Кэрролл пригласил ее приехать, чтобы фотографировать «живых фей». В воспоминаниях, написанных после смерти Кэрролла, Гертруда рассказывает о его просторной студии на крыше колледжа, где повсюду лежали костюмы, в которых Кэрролл фотографировал детей (они любили эти переодевания). Во время частых перерывов все юные модели закусывали и слушали сказки, которые он им рассказывал, а из огромного шкафа, стоявшего в студии, извлекались игрушки — заводные борцы, кролики, медведи и пр. «Мы усаживались на пол, Льюис Кэрролл, феи, звери, я… Как мы веселились в эти часы! Как звонко раздавался его смех! А какую дивную чепуху он рассказывал! Словно целые страницы из „Алисы“, только еще гораздо восхитительней, ибо его голос и улыбка зачаровывали всех нас. Я не раз пыталась запомнить его рассказы и записать их. Это было невозможно — так же невозможно, как поймать цветной блик на залитой солнцем воде или схватить уходящую радугу. Это было нечто таинственное, неуловимое, словно осенняя паутинка, и запечатлеть это в словах, которыми пользуемся мы, значило бы лишить всё жизни и изящества, полностью всё уничтожить…»
Они часто виделись в эти годы и нередко работали вместе. Иногда Кэрролл привозил свою фотоаппаратуру в студию Гертруды и снимал детей, в то время как она их рисовала. Порой Гертруда приезжала в Оксфорд и проводила там день; он фотографировал, она зарисовывала для него его юных друзей. Если дети уходили после ланча, Гертруда и Кэрролл устраивались в его покойных креслах: беседовали, смотрели рисунки, которые она привозила, или фотографии из его огромной коллекции. «Там было, — вспоминала Гертруда, — много фотографий Габриеля Россетти и его сестры Кристины, детей Милле, семейства Терри… Помню фотографию Эллен Терри, снятую, когда ей было лет восемнадцать. Эллен как раз рассмеялась в этот момент — она была так прелестна! Затем он заваривал чай, быстро и ловко, как он умел, и вскоре счастливый визит подходил к концу».
Всё же принятые в обществе условности порой давали о себе знать.
«Приятельница мистера Доджсона, — вспоминает Гертруда Томсон, — хорошая женщина, весьма практичная, крайне приверженная условностям, как-то взялась за меня. Мы провели утро в ее доме, рисуя ее детей, — вернее, я рисовала, а мистер Доджсон рассказывал детям „Алису“. Он не остался на ланч. Когда мы поели, она отослала детей и, взяв шитье, уселась напротив меня.
— Я слышала, вы недавно провели в Оксфорде день с мистером Доджсоном.
— Да, чудесный день.
— Такие вещи делать не полагается.
— Мы оба часто поступаем не так, как полагается.
— Мистер Доджсон не ухаживает за женщинами.
— Он не был бы моим другом, если б ухаживал.
— Он убежденный холостяк.
— И я тоже. К тому же он годится мне в отцы.
С минуту она пристально смотрела на меня, а потом сказала:
— Я вам скажу, в чем дело. Вы для мистера Доджсона не „молодая леди“… Вы для него что-то вроде „взрослого ребенка“.
Я весело рассмеялась.
— Я согласна, чтобы мистер Доджсон смотрел на меня, как на старую бабушку, только б приглашал меня в Оксфорд.
Однако я чувствовала себя оскорбленной. Это грубое вмешательство как-то задело нашу чистую и прекрасную дружбу».
Впрочем, они сохранили дружеские отношения. Время от времени Кэрролл просил Гертруду проиллюстрировать что-то из написанного им, но это оказалось не так-то просто. Свои рисунки она присылала ему обычно с большим опозданием, а он писал ей подробные письма, в которых терпеливо разбирал ее промахи и снова и снова напоминал о том, что работа затягивается. Но дело не клеилось — она всё откладывала его в долгий ящик. Просматривая немногие рисунки Гертруды Томсон, понимаешь, что ее возможности художника были весьма ограниченны. Вероятно, она это понимала, хотя поначалу и делала попытки иллюстрировать работы своего друга. В результате в свет вышли лишь кое-какие ее иллюстрации к стихам Кэрролла да две стороны обложки к изданию «Алисы для малышей».
Последние 20 лет жизни Кэрролл проводил лето в Истборне на южном побережье Англии, откуда было рукой подать до Брайтона. Когда в 1887 году Сэвил Кларк привез туда постановку «Алисы», Кэрролл несколько раз приезжал в Брайтон, чтобы ее посмотреть. Его сестра Генриетта, единственная покинувшая семейное гнездо в Гилфорде (не считая вышедшей замуж Мэри), получив в пожилом возрасте небольшое наследство, поселилась в Брайтоне. В семье сохранились рассказы об эксцентричности Генриетты. Высокая, худая, она жила вместе со старой служанкой и кошками. Навещая родственников, она брала с собой портативную жаровню, чтобы в своей спальне жарить на ней сосиски. Однажды в поезде она так увлеклась пением гимнов с пассажирами, что пропустила свою остановку; в другой раз явилась в церковь, держа в руках будильник вместо молитвенника. Кэрролл часто навещал ее в Брайтоне, а иногда привозил к ней и своих юных друзей. Кейти Люси, которой в то время было 17 лет, после визита к Генриетте записала в дневнике: «Мне она понравилась. По-моему, она похожа на него».
Однажды Чарлзу удалось убедить сестру вместе с ним посмотреть в театре «Алису». Она впервые нарушила запрет на посещение театра, наложенный на сестер покойным отцом. Кэрроллу так понравился спектакль, что по возвращении в Лондон он отправился к Макмиллану и подписал 41 экземпляр подарочного издания для юных актеров, принимавших участие в постановке. Среди них он отметил тринадцатилетнюю Изу Боумен (Bowman), исполнявшую маленькую роль.
«Театральные дети» нередко гостили у Кэрролла в Истборне. В августе 1887 года он привез с собой Айрин Барнс, прославившуюся впоследствии как Айрин Вэнбру (Vanbrugh). Она провела в Истборне неделю. Были у него и другие юные друзья. Но Иза Боумен заняла особое место. Он попросил ее мать привезти девочку в Лондон (семейство жило в Стратфорде), чтобы познакомиться с ней лично.
Кэрролл повел Изу на выставку картин, потом они вместе пообедали, после чего он отвез свою новую знакомую домой в Стратфорд, где познакомился с ее большой семьей. Иза была старшим ребенком, у нее были три сестры и брат, все они выступали в театре. Через несколько дней Кэрролл с разрешения родителей увез Изу в Истборн, где она провела неделю. Он старался ее всячески развлечь, но вместе с тем они еще читали Библию и занимались математикой. Кэрролл радовался, что Иза вернулась домой отдохнувшей и даже немного поправившейся.
В июле 1888 года Сэвилл Кларк решил восстановить «Алису» на сцене. Кэрролл навестил его, чтобы обсудить новую постановку, и предложил дать главную роль Изе. 26 декабря она исполнила роль Алисы в кремовом платье, сшитом по заказу Кэрролла специально для нее. Ее брат Чарли играл Белого Кролика, а сестренка Эмзи — Мышь-Соню.
В воспоминаниях о Кэрролле Иза рассказала об этом времени. Однажды Кэрролл повел ее смотреть аттракцион — панораму Ниагарского водопада. На переднем плане панорамы находилась фигура пса в натуральную величину. Кэрролл принялся убеждать Изу, что пес этот живой, только его как следует выдрессировали, приучив часами стоять без движения. Он говорил Изе, что, если подольше подождать, можно увидеть, как служитель приносит ему еду. Иногда беднягу отпускают ненадолго погулять, а на это время его в панораме заменяет брат — весьма беспокойное животное, не отличающееся особой выдержкой. Увидев однажды бутерброд в руке какой-то девочки в толпе зрителей, непоседа с громким лаем выскочил из панорамы. Тут Кэрролл запнулся — он увидел, что вокруг него собралась небольшая толпа детей и взрослых, с восторгом слушавших его рассказ, и поспешил увести Изу. Этот эпизод невольно заставляет вспомнить, что лучшие произведения Кэрролла возникли как импровизация, игра… Стоило исчезнуть моменту свободной игры и импровизации, как они теряли свой блеск и оригинальность.
В Истборне Кэрролл снимал для своих юных гостей помещение по соседству с домом, где жил сам. Обычно они проводили день вместе и садились за стол у него в доме 7 по Лашингтон-роуд, хозяйка которого давно уже привыкла к странностям мистера Доджсона и к его юным друзьям. Кэрролл очень привязался к Изе; она стала частым гостем не только в Истборне, но и в Оксфорде. Он даже позволил ей называть его «дядей Чарлзом» — редкая привилегия, которой мало кто удостаивался!
В июле 1888 года Иза провела неделю в Оксфорде, где Кэрролл снял для нее комнату поблизости от своей квартиры. Он подарил ей тетрадь, озаглавив ее «Иза гостит в Оксфорде», — своеобразный дневник, который девочка вела вместе с «Д. Д. С.» (Древний, Древний Старичок — так он теперь часто подписывался в письмах к своим юным друзьям).
«В субботу у Изы был урок музыки и она научилась играть на американском органчике. Играть на этом инструменте не очень трудно, надо только крутить и крутить ручку, у нее это хорошо получалось. Вставляешь рулон бумаги, прокручиваешь его через органчик, и дырочки, наколотые на бумаге, извлекают различные ноты. Как-то они вставили бумагу не тем концом, услышали мелодию задом наперед и вскоре перенеслись в позавчерашний день. Однако они не стали слушать дальше из страха, что Иза превратится в малютку, которая и говорить-то не умеет. Д. Д. С. не любит гостей, которые с утра до ночи только и делают, что кричат до посинения».
Для Изы был открыт знаменитый шкаф, где хранились костюмы, приобретенные им в театрах; в них так любили позировать юные друзья Кэрролла. Были там и удивительные игрушки. Особое впечатление на Изу производил Боб (Bob the Bat) — заводная летучая мышь, сделанная из тонкой проволоки и легкой сетки. Боба запускали с помощью закрученной резинки. В комнатах Кэрролла были высокие потолки, и Боб с полминуты свободно летал по комнате. «Я всегда побаивалась Боба, — вспоминала Иза, — уж очень он был похож на настоящего, однако страх мешался с радостью… С Бобом случалось множество приключений. Его полету нельзя было придать направление. Однажды жарким летним утром Боб вылетел в открытое окно и опустился в миску салата, которую служитель нес кому-то в комнаты. Неизвестно откуда взявшиеся хлопающие крылья так напугали беднягу, что он выпустил из рук миску, которая разбилась на множество осколков».
В скором времени после этого визита Изы Кэрролл отправился с ней в Истборн, где она провела целых пять недель. На следующий год он снова приехал в Истборн с Изой, а через три дня, 20 июля 1889 года, чтобы она не скучала, неожиданно привез ее сестру Нелли. К счастью, в это время сестры Кэрролла Луиза и Маргарет, а также его невестка Алиса с тремя младшими детьми также отдыхали в Истборне и иногда брали к себе Изу и Нелли, чтобы Чарлз мог поработать над книгой. Он договорился об уроках плавания для сестер Боумен, катал их на пароходе и даже нанял для них учителя французского языка. Кэрролл с гордостью называл их «мои дети». Девочки собрались возвращаться домой, как вдруг пришло письмо от их матери, что Эмзи заболела скарлатиной, и они продлили свое пребывание в Истборне до 27 августа.
Когда семейство Боумен уехало в Нью-Йорк, где пробыло до мая 1890 года, Кэрролл переписывался с Изой, а в сентябре она снова приехала на неделю в Истборн. Изе исполнилось 16 лет, она уже прошла конфирмацию (обряд приема в церковную общину), и они вместе ходили к причастию, что глубоко трогало Кэрролла. Он продолжал опекать ее. Иза была хорошей актрисой и прекрасно танцевала, но голос у нее был слабоват для оперетты. В ноябре того же года Чарлз обратился к Эллен Терри с просьбой порекомендовать ему хорошего преподавателя дикции для Изы и был очень тронут, когда Эллен, великая актриса, сказала, что будет заниматься с ней сама. Письмо Кэрролла Эллен Терри, написанное 13 ноября 1890 года по возвращении в Крайст Чёрч, говорит о многом:
«Мой дорогой старый друг,
(N. В. „Старый“ значит не „старый годами“, а „старый по дружбе“.) Воистину Вы слишком милы и добры! Не знаю, как выразить это словами… Что делать с другом, который дарует в 100 раз более того, о чем его просят? Я, самое большее, надеялся на то, что, повидав Изу и удостоверившись в том, что она в какой-то мере „обучаема“, Вы отошлете меня к менеджеру такого-то театра, который даст мне адреса каких-то хороших преподавателей дикции. Мне и в голову не приходило, что Вы предложите сами заниматься с нею! О, Вы заслужили (если это может хоть как-то Вас отблагодарить) глубокую признательность одного старого друга и восторженную любовь одного восхищенного ребенка.
Так, значит, Вам известна эта тайна — одна из глубоких тайн Жизни: стоит и вправду делать только то, что мы делаем для других? Как говорится в старом изречении: „Что истратил — потерял, а что отдал — приобрел“. Казуисты пытаются обернуть максиму „делать добро“ в другую формулу — „делать зло“; они говорят, что „вы сами получаете удовольствие от того, что доставляете кому-то удовольствие; это всего лишь скрытое проявление себялюбия, ибо вами руководит собственное удовольствие“. Я же говорю: „Это не себялюбие, если мое удовольствие является одним из мотивов моего поступка, а не единственным мотивом, который при столкновении перевесил бы все другие мотивы. ‘Себялюбец’ — это тот, кто всё же поступит так, даже если это нанесет вред другим, но доставит удовольствие ему. Тот, кто себялюбцем не является, всё же поступит так, даже если ему это не доставит никакого удовольствия, а будет приятно другим“. При сравнении этих двух мотивов тот, кто не является себялюбцем, так им и остается, даже если собственное удовольствие является одним из мотивов! Я совершенно уверен, что Господь от всей души радуется, когда видит, что его дети счастливы! И когда я читаю, что „Иисус, давший нам веру и укрепивший ее, пошел на крест ради радости, ждавшей его“, я верю, что это буквально так и было.
И в Вашем случае это так, дорогой друг; я верю, что Вам доставляет истинную радость мысль о том, что Вы наполняете до краев маленькую чашу счастья Изы, и при этом в Вашем поступке нет и тени себялюбия, а только чистая, неподдельная, великодушная доброта.
Я не сомневаюсь, что Ваша великая доброта не пропадет даром и что мой дорогой юный друг сделает всё, что в ее силах, чтобы быть Вашей достойной ученицей».
Иза была хорошей актрисой. Но она быстро взрослела. В своих воспоминаниях о поездках в Истборн она признавалась, что когда она сидела с мистером Доджсоном над математическими задачами, а с мола доносились звуки музыки и она знала, что там танцуют, ей хотелось бежать туда и было трудно сосредоточиться. Театр требовал от нее всё больше времени; они встречались всё реже. В мае 1895 года Иза неожиданно посетила Кэрролла, чтобы известить его о своей помолвке. Больше в его дневнике нет записей об Изе. Через полтора года он услышал, что она вышла замуж.
В эти поздние годы Кэрролл окончательно отказался от традиционных визитов, которые наносили друг другу члены оксфордских колледжей, не принимал приглашений на обеды и сам не устраивал их и всячески экономил время — надо было столько всего написать! Однако он не отказывался от дружбы с детьми, продолжал встречаться с ними и писать им письма.
«К. Ч., 22 мая 1887 г.
Милая моя Винни,
Впрочем, ты, вероятно, устала читать такое длинное письмо, а потому спешу его закончить и подписываюсь
Любящий тебя
Ч. Л. Доджсон.
P. S. В том же конверте посылаю тебе „Крокетный замок“.
P. P. S. Ты даже представить себе не можешь, как трудно мне было написать „Винни“, а не „мисс Стивенс“, и „любящий тебя“, а не „искренне твой“.
P. P. P. S. Через год или чуть позже надеюсь найти возможность взять тебя еще разок на прогулку. К этому сроку Время, боюсь, уже „избороздит морщинами твое сияющее чело“… впрочем, мне всё равно! Почтенная спутница делает тебя молодым, и мне будет приятно услышать шепот прохожих: „Скажите, прошу вас, кто этот очень интересный юноша, который ведет эту старую даму с белыми как снег волосами так осторожно, будто она его прабабушка?“
P. P. P. P. S. Времени больше нет ни минутки».
Кэрролл пишет письма не только юным, но и «выросшим юным» друзьям. Он по-прежнему смешивает шутку с серьезностью и удивляет своих адресатов, выворачивая всё наизнанку или слегка подшучивая над ними и над собой. Впрочем, его друзья привыкли к его манере и с нетерпением ждут очередного письма.
Иногда тон его посланий меняется, становится более серьезным. В них мы находим не только веселый нонсенс, но и несколько слов о себе и своих трудах. Впрочем, затем он как бы спохватывается — и снова шутит…
«Лашингтон-роуд, № 7, Истборн
13 сентября 1893 года
Милая Инид,
Я уже давно думаю об этом: „Инид хотела бы услышать о Ваших приключениях в Истборне“… И всё это время я собирался написать тебе письмо. Но я так занят, милая моя девочка! Второй том „Сильвии и Бруно“ занимает (когда я в настроении, а сейчас я обычно в настроении) шесть или восемь часов в день. К тому же есть письма, которые необходимо писать. Есть еще одна вещь, которая требует времени. В прошлое воскресенье я прочитал первую проповедь за все свои годы в Истборне, а ведь я приезжал сюда семнадцать лет кряду (так говорит моя хозяйка). И в следующее воскресенье я должен читать еще одну проповедь; на это уходит много времени: надо же их обдумать.
Но величайшая трудность состоит в том, что здесь нет никаких приключений! Ах, как мне найти их, чтобы было что рассказать моей милой Инид? Может, выйти на дорогу и нокаутировать кого-нибудь? (Я, знаешь, выберу кого-нибудь поменьше и послабее.) Вот это будет приключение так приключение — и для него, и для меня. Мое будет заключаться в том, что полицейский сведет меня в участок и запрет в камеру. Тогда о моих приключениях можно было бы написать тебе. Только я этого сделать не смогу, как ты понимаешь, — придется это сделать полицейскому. „Уваж. мисс, Вам будет приятно узнать, что мистер Доджсон сей момент стучит ногами в дверь своей камеры. Я им отнес хлеб и воду, а они говорят, что им это не нужно. Говорят, они только пообедамши“. Как тебе это понравится, Инид?
Впрочем, вот тебе маленькое приключение. На днях я отправился на прогулку и повстречал мальчика лет двенадцати и девочку лет десяти; они были чем-то обеспокоены и внимательно разглядывали ее палец. Я спросил: „Что-то случилось?“ Они сказали, что девочку только что укусила оса. Я посоветовал им намочить, придя домой, палец нашатырным спиртом — боль тотчас пройдет. Я дал им маленький урок химии: объяснил, что если смешать кислоту и щелочь, они зашипят — и кислота потеряет свою кислотность, потому что осиный яд — это кислота, а нашатырный спирт — щелочь. Придя домой, я подумал: „Надо получше подготовиться к следующему разу, когда я встречу укушенную маленькую девочку“ (или „маленькую укушенную девочку“ — как лучше сказать?). Пошел и купил флакон крепкого аммиака (он действует лучше, чем нашатырный спирт). Когда я опять пойду на прогулку, я положу его в карман.
Теперь, если это снова случится, я смогу развеселить маленькую девочку в один миг. Но с тех пор я так и не повстречал маленьких девочек, которых бы укусила оса. Какая жалость, не правда ли?
Твой любящий старый друг
Чарлз Л. Доджсон»[160].В последние годы своей жизни Кэрролл работал над статьей «Вечное наказание». Эта тема давно занимала его. Когда-то Макдональд познакомил его со своим другом Фредериком Денисоном Морисом (Maurice), основателем христианского социализма. Тот решительно протестовал против идеи вечного наказания в аду, считая, что традиционные формы веры претерпевают в последнее время значительные изменения. Он твердо верил в то, что Господь не обречет никого жить в вечности без его любви, и подтверждал свою веру цитатами из Библии. Его взгляды были настолько новы, что он потерял все свои должности, включая место на кафедре богословия в Королевском колледже в Лондоне. Впрочем, позже он всё же профессорствовал в Кембридже и занимал ряд видных постов. Кэрролл внимательно изучал работы Мориса, а также другие труды на эту тему. Интересовали его также публикации о переводах Библии. Свою статью он начинает словами:
«Наиболее распространенную разновидность затруднения, возникающую при рассмотрении этой доктрины, можно выразить следующим образом: „Я верю, что Бог идеально добр; тем не менее, я вынужден верить, что Он нашлет вечное наказание некоторым человеческим созданиям при обстоятельствах, которые сделают его, как говорит мое сознание, несправедливым и, следовательно, неправильным“.
Выясняется, что если выразить эту проблему в логический форме, она возникает из существования трех несовместимых посылок, каждая из которых очевидно претендует на наше согласие с ней. Это следующие положения:
I. Бог идеально добр.
II. Обрекать некоторые человеческие создания и при некоторых обстоятельствах на вечное наказание было бы неправильно.
III. Бог способен так поступить».
Подвергнув эти три несовместимые посылки внимательному рассмотрению со ссылками на Библию и с необходимыми ограничениями используемых формулировок, Кэрролл отвергает идею «вечного наказания» для всех грешников.
Подробное изложение его логического анализа увело бы нас слишком далеко, остановимся поэтому на его заключении. С его точки зрения, толкование доктрины «вечного наказания»
«в основном, если не полностью, зависит от смысла, которым наделяется одно-единственное слово (ατών). Оно переведено в наших английских Библиях словами „вечный“ „длящийся вечно“; но многие критики считают, что оно не обязательно означает „бесконечный“. Если это так, то тогда кара, которую мы обсуждаем, является ограниченным наказанием за ограниченный грех и первоначальная проблема, таким образом, исчезает». Он уточняет свою позицию: «Я считаю, что слово, переведенное на английский как „вечное“ или „длящееся вечно“, было переведено неверно и что Библия на самом деле не утверждает больше, нежели то, что Бог назначает страдания неизвестной длительности, но не обязательно вечные, в качестве кары за грехи»[161].
Предложив читателям четыре возможных логических варианта толкования доктрины «вечного наказания», Кэрролл отмечает, что его целью было не указать одно направление в противовес другому, а помочь читателю ясно увидеть возможные пути и выбрать какой-либо из них.
Статья «Вечное наказание» вышла в свет уже после смерти автора.
Кэрролл выступал также в защиту высшего образования для девушек, правда, оговариваясь, что они не должны жить в кампусе (университетском городке). Два первых женских колледжа, Леди Маргарет-холл и Сомервилл, появились в Оксфорде в 1879 году; в первом из них Кэрролл читал лекции. Общежитие находилось на отшибе, а при передвижении студенток по территории колледжа их сопровождали специально нанятые женщины. Поначалу по окончании курса девушки не получали ученые степени; прошло немало лет, прежде чем они стали полноправными членами университетов.
В последние годы жизни Кэрролл читал курс в оксфордской средней школе для девочек и еще нескольких подобных школах. Этель Роувелл, которой Кэрролл, обнаружив ее способности, предложил заниматься с ним, с благодарностью вспоминает: «Его искреннее желание узнать, что я думаю, заставило меня заняться размышлением, этим нелегким трудом, развившим во мне независимость мысли, о которой я раньше и не помышляла… И еще мистер Доджсон подарил мне свою теплую дружбу, благодаря которой я поняла, как он со своим щедрым сердцем заботится о детях».
Кэрролл нередко выступал в церквах с проповедями, чаще всего детям. Он давно уже заметил, что детям, приходящим в церковь с родителями, трудно слушать проповеди священников, которыми обычно заканчивались воскресные службы, поскольку проповеди были совершенно непонятны и скучны для них. Он сделал неожиданное предложение: позволить детям во время проповеди читать принесенную из дома книжку — это гораздо лучше, чем заставлять их слушать то, чего они не могут понять. Сам он готовился к проповедям для детей с особым вниманием, стремясь к тому, чтобы его маленьким слушателям всё было понятно и интересно. Сохранился один из его текстов — «Слово к детям», специально предназначенный для маленьких слушателей.
Он начинается с того, как дети могут отблагодарить Бога за его любовь и доброту: «Бог примет даже маленькое проявление любви или простые добрые поступки по отношению к одному из его творений, и дети особенно могут это сделать, если постараются». Он рассказывает о придуманной им девочке Маргарет — та спасает розу, погибающую от недостатка влаги, птенчика, упавшего в ручей, игрушку, сломанную плакавшим малышом, — и приводит выразительные строки:
Тот молится хорошо, кто хорошо любит — И человека, и птицу, и зверя.Затем следуют истории о невымышленных персонажах — о певице Дженни Линд, которая однажды пела для «одинокой старой больной женщины», мечтавшей ее услышать, и о Флоренс Найтингейл, «одной из самых благородных женщин Англии, ибо она была первой, кто решил ухаживать за нашими бедными ранеными солдатами на поле боя». Он рассказывает детям о том, как еще в детстве Флоренс выходила избитую жестокими мальчишками собаку, оговариваясь, что, возможно, мальчишки были не столько «жестокими», сколько «бездумными».
В заключение он просит маленьких слушателей обещать ему, что со следующего дня они постараются каждый день совершать какой-нибудь «любящий, добрый поступок»:
«Так же, как вы стираете с доски ответ по арифметике, который не получился, и начинаете снова, также точно оставьте в прошлом непослушание, или себялюбие, или дурной нрав прошлой недели и начните с самого начала стараться делать всё, что в ваших силах, каждый день, чтобы исполнять Божий закон любви»[162].
Читая «Слово к детям», ясно чувствуешь, что это написано человеком, для которого слово «Любовь» (он часто писал его с прописной буквы) много значило и который отвергал «вечное наказание». Его друзья часто говорили об этом. Об этом же пишет и его первый биограф.
1880-е годы были для Кэрролла отмечены неожиданными болезнями. Вообще говоря, он следил за своим здоровьем и хворал редко. Как мы помним, в результате детских болезней, перенесенных еще в Регби, где не было условий для медицинского ухода, Чарлз получил воспаление среднего уха, которое тогда не умели лечить, и оглох на правое ухо. В 17 лет он перенес коклюш, весьма опасный в этом возрасте: в течение целых пяти месяцев он не мог избавиться от кашля. Доктор Гудейкер считает, что результатом этого была бронхоэктазия — патологическое расширение бронхов с изменением структуры их стенок в результате инфекции; из-за этого впоследствии его часто мучили приступы бронхита.
Временами Кэрролл страдал головными болями, казалось, что перед глазами двигаются какие-то угловатые формы. Однажды он потерял сознание в храме. Так как он стоял на коленях, опустив голову, все решили, что он молится, и не стали его беспокоить. Он очнулся в пустом храме, на полу были капли крови. Современные врачи затрудняются ставить диагноз по таким описаниям.
Некоторые из современников Кэрролла вспоминали о том, что его походка была неровной и напряженной; судя по всему, у него был остеохондроз. В конце 1891 года он перенес настолько жестокий приступ, что слег на четыре месяца. В феврале следующего года он записал, что доктор Брукс пробует лечить его массажем, но это не помогает.
Его навещали друзья; были и неожиданные визиты. Во время его болезни герцогиня Олбани, вдова принца Леопольда, гостила у ректора Лидделла. Узнав о болезни Кэрролла, она послала своих детей, принцессу Алису и принца Чарлза, навестить его. Их визит обрадовал Кэрролла; он играл с ними и научил их складывать из бумаги пистолеты. Его посетили также Вайолет и Рода, младшие сестры Лидделл; они пришли к чаю и настояли на том, чтобы подать ему чай в постель. К сожалению, знакомство с ними не продолжилось, хотя младшие сестры ничем не уступали старшим и были такого же возраста, как те, когда познакомились с Кэрроллом.
В конце концов он оставил свои болезни позади и продолжил прежнюю бодрую жизнь: совершал далекие прогулки, приобрел гири, чтобы держаться в хорошей физической форме.
В 1890 году Кэрролл опубликовал небольшую книжечку под названием «Восемь или девять мудрых слов о том, как писать письма». К ней прилагалась «Чудесная коробочка для марок», придуманная автором и изготовленная его сестрой Луизой, в которой было 12 отделений для марок различного размера и стоимости. На крышке коробки была изображена Алиса с ребенком на руках, на обороте — Чеширский Кот. Когда коробку открывали, картинка на крышке менялась на Алису с поросенком на руках, а Чеширский Кот — на улыбку.
Конечно, в свою книгу Кэрролл не внес все те правила, которым следовал сам: она была адресована детям и взрослым, у которых не было такой огромной переписки, как у него, и его советы были просты и весьма полезны; они не потеряли смысла и по сей день. Он давал ряд рекомендаций, в первую очередь «технических»: сначала наклеить на конверт марку и надписать адрес и лишь потом садиться за письмо, пометить в письме полную дату и адрес, держать перед глазами письмо, на которое отвечаешь, и пр. Всё это иллюстрировалось примерами из собственного опыта. Кэрролл предлагал читателям «золотые правила», которых следует придерживаться при написании писем. Вот некоторые из них:
«Не повторяйтесь! Высказавшись один раз ясно и со всей определенностью по какому-то вопросу и не сумев убедить своего друга, оставьте спорную тему. Повторяя свои доводы, Вы лишь вынудите его сделать то же самое. <…>
Написав письмо, которое, по Вашему мнению, вызовет раздражение у Вашего друга, хотя Вы высказали всё именно так, как думаете, отложите письмо в сторону до завтра. Затем перечитайте его и постарайтесь представить, что оно адресовано Вам. Это нередко заставит Вас переписать письма заново, убрав уксус и перец и добавив меда, что превратит его в гораздо более съедобное блюдо! Если же, переписав письмо в как можно более мирных тонах, Вы всё же почувствуете, что оно может задеть Вашего друга, сохраните копию письма. Что толку несколько месяцев спустя оправдываться: „Я почти уверен, что никогда не говорил ничего такого. Насколько мне помнится, я сказал то-то и то-то“. Гораздо лучше иметь возможность написать: „Я не употреблял таких выражений. В моем письме было сказано следующее…“ <…>
Если Ваш друг допустил резкое замечание, то либо сделайте вид, что Вы этого не заметили, либо ответьте, но гораздо менее резко. Если же он сделает дружеское замечание, пытаясь загладить возникшее разногласие, ответьте ему в еще более дружеском тоне. Если бы в назревающей ссоре каждая сторона была склонна преодолеть не более трех восьмых, а при примирении — не менее пяти восьмых пути, то примирений было бы больше, чем ссор! Ситуация здесь такая же, о какой говорит ирландец, выговаривающий своей дочери за то, что ее никогда не бывает дома: „Вечно ты уходишь из дома! Раз придешь, а три раза уйдешь“. <…>
Не стремитесь к тому, чтобы последнее слово осталось за Вами! Сколько споров можно было бы подавить в зародыше, если бы каждый стремился к тому, чтобы последнее слово осталось за другим!..»[163]
Как видим, этими мудрыми советами можно с успехом пользоваться и по сей день. И, что не менее важно, они многое говорят об авторе.
В поздние годы своей жизни Кэрролл был по-прежнему окружен молодыми знакомыми. Правда, теперь среди них было всё больше девушек и женщин двадцати — тридцати лет, которых он называет «детскими друзьями» по сравнению с собой (он считал себя уже стариком, что было обычным в те годы). Среди них было немало его прежних юных приятельниц, давно уже ставших замужними женщинами и матерями, но продолжавших поддерживать дружбу с ним. С некоторыми из них он не терял связи до конца своих дней.
К концу Викторианской эпохи нравы заметно изменились, но «миссис Гранди» по-прежнему зорко следила за соблюдением правил поведения в обществе. В своих письмах Кэрролл не раз с сарказмом упоминал эту символическую особу и продолжал по-прежнему бросать ей вызов, не обращая внимания на сплетни. Однако не все разделяли его точку зрения. 19 сентября 1893 года его давнишняя приятельница Гертруда Четуэй гостила у Кэрролла в Истборне. Сестра Мэри, до которой дошли слухи об этом, прислала ему тревожное письмо относительно его знакомых (судя по всему, речь шла о девушках, которым было за двадцать). Это письмо не сохранилось, и многие из современных исследователей посчитали, что ее тревожила дружба брата с детьми. По-видимому, они были введены в заблуждение тем, что юные приятельницы Кэрролла часто уменьшали свой возраст. Как бы то ни было, через два дня, 21 сентября, Кэрролл ответил сестре, что им незачем вступать в спор по поводу этого вопроса, так как «нет никаких разумных оснований предположить, что он изменит ее или его взгляды». Он отвергал «эту злостную безответственность», с которой люди распространяют сплетни, и заключал:
«Теперь я руководствуюсь лишь двумя критериями относительно того, могу ли я пригласить в гости какую-то девочку или девушку из моих друзей. Это, во-первых, моя совесть, которая решает, является ли такой поступок совершенно невинным и допустимым в глазах Господа, а во-вторых, ее родители, которые решают, одобряют ли они полностью то, как я поступаю.
Тебя не должно шокировать то, что про меня говорят. Любой из тех, о ком вообще говорят, наверняка будет кем-то осужден, и любой поступок, как бы ни был он сам по себе невинен, может быть, что вполне вероятно, кем-то не одобрен. Если делать в жизни лишь то, против чего никто не станет возражать, то недалеко уйдешь!»
Одна за другой выходят книги «История с узелками» (1885), «Логическая игра» (1887), первая часть «Математических курьезов» (1888). Вторая часть этой книги увидела свет в декабре 1893 года под названием «Полуночные задачи, придуманные в часы бессонницы» (Pillow Problems, Thought Out During Sleepless Nights). Во втором издании он заменил «часы бессонницы» на «ночные бодрствования» (Wakeful Nights). В этом сборнике он опубликовал 72 задачи по алгебре, геометрии и тригонометрии, которые были придуманы и решены им в ночной тьме и записаны на следующее утро. «Хотя эти задачи, — замечает Э. Кларк, — не выходят за пределы возможностей математиков с разумными способностями, если они располагают бумагой и карандашом, потребуется невероятная сосредоточенность, чтобы решить их в темноте». В феврале 1896 года была опубликована «Символическая логика (часть 1)».
Юрий Александрович Данилов, математик и большой любитель Кэрролла, опубликовавший свои переводы этих работ, отмечает, что многие ученые, занимающиеся семантикой и семиотикой, «необычайно высоко оценивают эксперименты Кэрролла с языком, а историки науки вынуждены признать, что логические работы Кэрролла скорее намного опережали свое время, чем отставали от него». Данилов выделяет логические задачи Кэрролла. «Особой виртуозности, — пишет он, — Кэрролл достиг в составлении (и решении) сложных логических задач, способных поставить в тупик не только неискушенного человека, но даже современную ЭВМ (написано в 1973 году. — Н. Д.). Разработанные Кэрроллом методы позволяют навести порядок в, казалось бы, безнадежном хаосе посылок и получить ответ в считаные минуты. Несмотря на столь явное превосходство, методы Кэрролла не были оценены по достоинству, и имя его незаслуженно обойдено молчанием в книгах по истории логики». Некоторые логические задачи Кэрролла Данилов оценивает особенно высоко: «Величайшим достижением Кэрролла следует считать два логических парадокса, опубликованных в журнале „Майнд“ (Mind): „Что черепаха сказала Ахиллу“ и „Алан, Браун и Карр“»[164]. Вторую из этих задач выделял и английский математик и философ Бертран Рассел, которому пришлось поломать над ней голову.
В наши дни математическим и логическим работам Кэрролла было уделено значительное внимание; мнение о нем как о посредственном математике было подвергнуто значительной переоценке. Вот что говорит об этом американский математик, профессор Франсин Абелис, подготовившая к изданию том его математических работ: «Работая над математическими статьями Кэрролла, я обнаружила, что, вопреки распространенному у нас мнению, он был серьезным и самобытным математиком. Однако ему не повезло. Для своих студентов он написал книгу „Евклид и его современные соперники“, которая приобрела печальную известность. Но судить о нем как о математике надо не по этой книге, а по его оригинальным трудам, где он рассматривал проблемы, которые его действительно интересовали. Такова работа о квадратуре круга, где он предлагает очень интересный тригонометрический способ рассмотрения этой задачи, причем делает это в эпоху, когда никто и не помышлял о компьютерах. В целом надо сказать, что он подошел вплотную к трудам, подготовившим появление компьютеров. Его методы всегда computer-friendly, то есть позволяют легко написать алгоритм, который можно использовать в компьютере. Это особенно хорошо видно на сохранившихся страницах его заметок „Регистрация корреспонденции“, которую он предлагал опубликовать как приложение к своей работе „Восемь или девять мудрых слов о том, как писать письма“. Но, конечно, он был в первую очередь логиком, что чувствуется и в его литературных сочинениях. „Логические игры“, „Математические курьезы“, „Символическая логика“, вышедшие в последние годы его жизни, привлекают пристальное внимание современных логиков, математиков и физиков, считающих, что „сумасшедшая“ логика Кэрролла во многом напоминает диалектическую логику современного научного исследования, подчас столь причудливую, что она кажется непостижимой и столь противоречивой, что способна повергнуть в отчаяние не только человека, далекого от науки, но и самого исследователя».
Специалисты, посвятившие немало работ логическим трудам Доджсона, отмечают, что он работал в той области, которая подготовила появление современной математической логики. Для нас важно отметить, что в литературных произведениях Кэрролла слышатся несомненные отзвуки его нетривиальных занятий логикой. Видный ученый Мартин Гарднер, автор комментариев к «Аннотированной Алисе», специально обращает на это внимание читателей.
Двадцать третьего декабря 1897 года Кэрролл приехал в Гилфорд, чтобы, как всегда, встретить Рождество с сестрами. Через несколько дней он понял, что заболел: простуда осложнилась лихорадкой и кашлем. Поначалу болезнь не вызывала особой тревоги, но когда бронхит усилился, доктор Гэбб предписал больному постельный режим.
В наш век антибиотиков болезнь не была бы столь опасна, но в конце XIX столетия бронхит был серьезной угрозой. Теперь мы знаем об одной из причин этой болезни, о которой не подозревали Кэрролл и его современники. Еще в декабре 1884 года Кэрролл заменил уголь, которым топили камины, на асбестовые горелки — это новшество тогда многими приветствовалось. Он установил их у себя в квартире в Крайст Чёрч, а также в своих комнатах в Гилфорде, куда часто наведывался к сестрам, и Истборне, где проводил лето. Асбестовые горелки считались большим удобством: за ними, в отличие от камина, не надо было приглядывать, они могли гореть всю ночь напролет. Однако в те годы никто не подозревал о том, что частицы асбеста при горении проникают в легкие, нанося им непоправимый вред.
Спустя несколько дней дыхание у больного стало затрудненным; его усадили повыше, обложив подушками. 13 января он почувствовал приближение смерти. «Уберите эти подушки, — сказал он. — Больше они мне не понадобятся». На следующий день около половины третьего одна из сестер, бывшая в его спальне, заметила, что тяжелое дыхание больного внезапно остановилось.
Завещание Кэрролл составил задолго до смерти. Оно состояло всего из девятнадцати строк. Он просил, чтобы похороны его были «простыми и недорогими, избегая всего, что обычно делают для показа, и сохранив лишь то, что, по суждению тех, кто займется ими, будет необходимым для приличного и достойного проведения Похорон». Он просил также не воздвигать над его могилой дорогой памятник: «Я бы предпочел небольшое надгробие». Его желания были исполнены.
Простую панихиду по усопшему отслужили в церкви Святой Марии в Гилфорде ректор Крайст Чёрч, доктор Педжет, и настоятель собора Крайст Чёрч каноник Грант. Верный друг Кэрролла Гертруда Томсон в своих воспоминаниях описала похороны Льюиса Кэрролла:
«Пасмурный январский день, тихий, без единого звука, исполненный Божьей благодати, недоступной нашему пониманию.
Крутая каменистая сельская дорога; по обеим сторонам живые изгороди, которых уже коснулось дыхание ранней весны. Меж высохшей травы тут и там сверкали звездочки невинных белых маргариток.
Следом за простыми носилками с гробом, наполовину покрытым цветами, молча поднимались в гору немногие провожавшие.
Тело его опустили в чистую меловую землю под старым плющом, по узловатому стволу которого вились зеленые ветви; мерные удары похоронного колокола возвещали о кончине „Добрейшей души, когда-либо сиявшей в людских глазах“».
На могиле Кэрролла на Гилфордском кладбище стоит простой белый крест, на котором написано: «Да будет воля Твоя», а в основании креста выбито:
«Преп. Чарлз Латвидж Доджсон (Льюис Кэрролл)
Уснул 14 января 1898 года».
Смерть Кэрролла оплакали в Англии многочисленные друзья и читатели. Некрологи появились в крупнейших газетах, семья получила множество венков и писем от поклонников его таланта. С годами он был признан во всём мире одним из гениев английской литературы, и, как ни удивительно это может показаться на первый взгляд, его популярность и интерес к его творчеству и жизни по сей день с каждым годом растет.
Постскриптум ТАЙНА ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА
Четырнадцатого февраля 2010 года английская газета «Санди таймс» опубликовала сенсационную статью Мориса Читтендена, озаглавленную «Льюис Кэрролл залезал в долги, чтобы спасать детей». Эта статья, сразу вызвавшая огромный интерес публики, предваряла публикацию новой биографии Льюиса Кэрролла. Книга Дженни Вулф «Тайна Льюиса Кэрролла» (Woolf J. The Mystery of Lewis Carroll) вышла 1 марта того же года и была высоко оценена видными исследователями Кэрролла.
Во время работы над биографией Кэрролла исследовательнице пришла в голову мысль изучить счет, открытый на имя Чарлза Латвиджа Доджсона в Старом Оксфордском банке (Old Oxford Bank). Этот банк уже давно не существует — уже спустя три года после смерти писателя он был поглощен крупным банком «Барклиз» (Barcley’s), широко известным и в наши дни. Дженни Вулф обратилась к руководству банка с просьбой открыть ей доступ к информации о банковском счете Ч. Л. Доджсона. Так как со смерти писателя прошло более ста лет и никого из тех, кто знал Кэрролла, уже не было в живых, банк дал согласие.
Вулф погрузилась в изучение архивов столетней давности. Более шестидесяти часов она провела в Манчестере в комнате без окон над расшифровкой переплетенных в кожу старых счетов, которые были написаны неразборчивыми почерками клерков, и сделала ряд удивительных открытий. Она обнаружила, что Льюис Кэрролл часто попадал в «красный список» (имена должников банка помечали красными чернилами), так как щедро выписывал чеки нуждающимся в помощи людям и благотворительным обществам, в результате чего сам не раз оказывался в минусе, на банковском языке — овердрафте. Его имя чаще других было помечено красным, отмечает Вулф, что облегчало его поиск в банковских списках. Счет Кэрролла свидетельствует о том, что он столь часто брал с него средства, не заботясь о том, что лежало в остатке, что в конце концов менеджеру пришлось предупредить его: дальнейшие выплаты будут делаться лишь по предварительной договоренности с банком.
Отчасти такое положение объясняется тем, что Кэрролл, как правило, точно не знал, когда именно на его счет будут перечислены деньги. В Крайст Чёрч это обычно происходило после того, как колледж подсчитывал доходы от своих земель и прочие поступления текущего года. Деньги переводились обычно раз или два в год. Проценты с продажи его книг поступали обычно в феврале, но порой задерживались и до марта. Впрочем, это не мешало Кэрроллу столь щедро жертвовать деньги, что порой его долг банку превышал его годовое жалованье более чем вдвое. Кэрролл не был богат, хотя и был достаточно обеспечен. Он получал 300 фунтов в год от Крайст Чёрч и почти вдвое больше от Макмиллана. Овердрафт 1892 года, по найденным Вулф данным, составил 442 фунта, которые сегодня равнялись бы примерно 22 тысячам фунтов.
Банковский счет проливает свет на события, которые лишь мельком были отмечены или вовсе не упоминались в дневнике Кэрролла. Банк всегда фиксирует, на чье имя выписывается чек, что дает возможность составить представление о том, как и кому помогал Льюис Кэрролл.
Выше уже говорилось, что он взял на себя поддержку родных, в первую очередь сестер. Все они по отцовскому завещанию получили средства, позволявшие им до конца дней жить скромно, но безбедно. Каждой из них Кэрролл регулярно отсылал дополнительные суммы и подарки; вел их счета; приезжая в Гилфорд, неизменно оплачивал все расходы, связанные с его приездом и пребыванием гостей. Он водил их в театр и на выставки, оплачивал врачей, поездки и пребывание в Оксфорде и Истборне, где проводил летние каникулы последние 20 лет своей жизни. Сестре Мэри, вышедшей замуж за преподобного Коллингвуда и жившей весьма скромно, он также посылал деньги и помог ей дать образование сыновьям. На свадьбу брату Уилфреду он подарил 400 фунтов — солидную сумму, очевидно, рассчитанную на то, чтобы помочь новобрачным устроиться.
Дважды в год Кэрролл посылал по 30 фунтов вдове своего двоюродного брата Уильяма Уилкокса, которого очень любил. Клан Уилкокс вообще занимал важное место в его жизни, эта фамилия часто фигурирует в банковских документах Кэрролла. В 1880-х годах он вложил деньги в пароходное товарищество, в котором участвовал Герберт Уилкокс, отчасти чтобы помочь ему. Эта крупная сумма — почти полторы тысячи фунтов — была самым большим вложением в жизни Кэрролла. Товарищество обанкротилось, Герберт был разорен, а Кэрроллу удалось восстановить свои потери лишь спустя несколько лет. Примечательно, что это не повлияло на его отношения с Гербертом Уилкоксом, с которым он поддерживал дружбу и обменивался письмами все эти годы.
Одним из тех, кому Кэрролл помог в тяжелое время, был Генри Кингсли. В дневнике Кэрролла мы находим запись от 13 января 1872 года о том, что он заходил к Кингсли (в то время тот уже жил с семьей в Лондоне), но не застал его дома. Возможно, Кэрролл заносил ему экземпляр только что вышедшего «Зазеркалья». В банковских бумагах значится, что 25 января Кингсли обналичил полученный от Кэрролла чек на 100 фунтов (вероятно, тот оставил его, когда заходил). Для Кингсли это были тяжелые годы: он выпускал книгу за книгой, но они не имели успеха; здоровье его было подорвано. 100 фунтов по тем временам были серьезным подспорьем, с ними можно было продержаться не один год. Недатированное письмо Кэрроллу, в котором Кингсли выражает восторг от «Зазеркалья», начинается словами: «С чистой головой и совестью…» — возможно, в них содержится деликатный намек на то, что ни спиртное, ни полученные им от Кэрролла деньги никак не повлияли на его впечатление от книжки.
Кингсли умер от рака горла и языка в мае 1876 года в возрасте сорока шести лет. В ноябре на банковский счет Кэрролла было возвращено 37 фунтов 6 шиллингов. Вряд ли эти деньги послал Чарлз Кингсли — они с младшим братом не ладили, да и если бы он решил вернуть братнин долг, то перевел бы всю сумму. Скорее всего, эти деньги послала жена писателя, получившая скромное наследство. Она не знала принцип Кэрролла: не давать деньги в долг, а просто дарить их.
Не все подопечные Кэрролла были его друзьями или родными. Это не мешало ему принимать в них участие, хотя порой и ставило его в трудное положение. Таков, к примеру, был выпускник Оксфорда (но не Крайст Чёрч) Томас Дж. Даймс, получивший место в Истборнском колледже (Eastbourne College). Кэрролл познакомился с ним, его женой и многочисленными детьми в 1877 году. В 1883 году Даймс попал в финансовые затруднения, и Кэрролл решил помочь ему. Он написал письмо относительно работы для Даймса и его старших детей и, отпечатав 180 экземпляров, разослал друзьям и коллегам. Составив вместе со своим коллегой, историком Харрисоном, список долгов Даймса лавочникам, квартирным хозяевам и т. д., Кэрролл выписал ему чек на 419 фунтов для оплаты этих долгов, из которых 200 фунтов составляли безвозмездный дар. В течение 1880-х годов эта сумма «висела» на его счету, ставя его перед банком в очень трудное положение.
Меж тем Даймс писал различным корреспондентам пространные письма, в которых жаловался на судьбу и просил о помощи, однако не предпринимал никаких шагов, чтобы расплатиться с долгами и начать контролировать ситуацию.
Кэрролл отнюдь не был наивным человеком и хорошо усвоил уроки отца, помогавшего беднякам своего прихода, но проверявшего расходование пожертвованных средств. Он скоро понял, что собой представляет Даймс, и не питал иллюзий. Однако он был привязан к его детям, с которыми часто виделся. (Правда, в дневнике Кэрролла мы находим запись, что им далеко «до Гарри и девочек Лидделл».)
Лишь в 1891 году в дневнике Кэрролла появляется последняя запись о Даймсе, свидетельствующая о том, что терпение его истощилось.
Как ни важна для нас информация в дневниках Кэрролла о его расходах и отношениях с отдельными лицами, настоящей сенсацией стало открытие Дженни Вулф, что Кэрролл втайне целенаправленно занимался благотворительностью. Если поначалу его помощь не была систематической, то с 1882 года и до конца своих дней он регулярно переводил деньги тридцати благотворительным обществам, в основном организациям, поддерживавшим женщин и детей, подвергшихся жестокому обращению и насилию.
Он помогал слабым, больным и беззащитным — тем, кому, по его словам, «было некому помочь». Это о них писал Гринвуд в статьях и книге «Семь зол Лондона». Дженни Вулф возражает тем, кто полагает, что Кэрролл был слишком наивен и далек от грубой повседневной жизни с ее ужасами и преступлениями: «Эти регулярные пожертвования свидетельствуют о том, что он знал о существовании этих проблем и всей душой ненавидел их. Он поддерживал эти организации не для того, чтобы обратить на себя внимание… Не говоря никому об этом ни слова, он отправлял этим организациям деньги. В течение многих лет эти переводы были частью более широкой системы пожертвований для добрых целей».
Об этой стороне жизни Кэрролла никто не знал до выхода книги Вулф. «Льюис Кэрролл, — сказала исследовательница журналисту, который брал у нее интервью, — пришел бы в ужас, если бы узнал, что его банковский счет стал известен публике». Открытие информации о банковском счете Кэрролла, которая, как он полагал, никогда не станет известна публике, осветило эту сторону его жизни. «Не говоря никому ни слова и без суеты, — пишет Вулф, — он оказывал финансовую поддержку организациям, которые находили и наказывали мужчин, проявлявших жестокость по отношению к детям и женщинам. Так же молча и без суеты он посылал деньги многим другим благотворительным обществам, которые всячески помогали беззащитным. Его особенно занимало обеспечение беззащитных женщин и детей. Его заботливость и склонность к защите была характерной чертой, которые многие отмечали, и вся его жизнь показывает, насколько его ужасали любые виды жестокости».
Он посылал регулярные переводы «домам надежды» для «падших молодых женщин, у которых нет друзей»; Клеркенвельской женской тюрьме, где проходили реабилитацию «жертвы предательства» и «искренне раскаявшиеся падшие женщины»; «Обществу спасения молодых женщин и детей», помогавшему обездоленным удержаться от выхода на панель; «Обществу защиты женщин и детей», боровшемуся с сексуальной эксплуатацией и торговлей детьми, для чего иногда приходилось подавать судебные иски в отношении мужчин, подвергавших детей жестокому обращению и насилию; «Союзу исправления и приюта», содержавшему по всей стране 90 домов для падших, нищих и бесприютных, в особенности женщин и детей; «Столичной ассоциации помощи юным служанкам», заботившейся о неопытных молодых девушках, живших вдали от родного дома и часто подвергавшихся сексуальной эксплуатации; Локской больнице, имевшей разветвленную сеть лечебниц и убежищ для проституток; «Обществу подавления греха», поддерживавшему женщин и детей, подвергшихся жестокости и сексуальному насилию.
Как христианин и священнослужитель Кэрролл помогал христианским благотворительным обществам: «Дому для нуждающихся», принимавшему «добропорядочных» людей, на долю которых выпали трудные времена; «Обществу помощи нуждающимся», поддерживавшему всех, вне зависимости от веры и расы. Он никогда не держал домашних животных, однако не выносил жестокости по отношению к животным и был одним из первых противников вивисекции. Он регулярно переводил средства «Временному убежищу для собак». От него получала помощь «Столичная ассоциация питьевых фонтанов и кормушек для домашнего скота», которая строила фонтаны для людей и кормушки для животных, а также несколько больниц, большинству которых в отсутствие государственной поддержки приходилось полагаться лишь на благотворительность.
Дженни Вулф обращает внимание на то, что Кэрролл, так широко и щедро помогая благотворительным обществам, родным, друзьям, коллегам и совсем посторонним людям, совершенно не думал о себе. В молодости, вскоре после того, как он занял пост преподавателя в Крайст Чёрч, отец советовал ему застраховать жизнь, но он не внял этому совету ни тогда, ни впоследствии. Он жил очень скромно. Этот человек, который, будучи куратором клуба колледжа, педантично считал каждый пенни, в то же время совершенно не заботился о собственных расходах. Порывистость и импульсивность, подчас прорывавшиеся в его молодые годы, пышно расцветали, когда дело касалось других людей. Его доброту отмечали все, кто его знал.
Парадоксальным образом после смерти Кэрролла его родные оказались в затруднительном положении. Вынужденные по требованию колледжа освободить в кратчайший срок его комнаты, они наспех сортировали его бумаги, предавая огню всё, что казалось им неважным: рукописи, письма, бумаги… Кое-что из его бумаг родные оставили себе, многое отложили для весеннего аукциона в Оксфорде. На аукцион, состоявшийся 10–11 мая, были выставлены мебель и огромная библиотека Кэрролла, его рисунки и портреты его знакомых, картины и этюды его друзей-художников, его фотографии, фотоальбомы и фотопринадлежности, его никтограф[165], коллекция технических приспособлений и новинок, игры и многое другое. Всё это ушло за бесценок и рассеялось.
Родных Кэрролла часто упрекают в этой связи, пишет Вулф, однако положение действительно было нелегким. Кэрролл жил в основном на доходы от своих книг, приличные, но не слишком большие. Как указывалось выше, ежегодные проценты за проданные экземпляры поступали на его счет в Старом Оксфордском банке в феврале, а то и в марте. 14 января, когда Кэрролл скончался, отчисления за книги еще не пришли, и рассчитывать на скорое их получение не приходилось. «Можно только надеяться, — пишет Дженни Вулф, — что его родные так же не обратили внимания на упреки, как это сделал бы их брат».
Впоследствии кэрролловские рукописи, книги, бумаги, письма, фотографии, игры и всё прочее стали разыскивать и собирать — с огромным трудом и затратами. Эти поиски продолжаются по сей день и нередко приводят к удивительным находкам.
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Борисенко, Н. Демурова ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ: МИФЫ И МЕТАМОРФОЗЫ[166]
Ему казалось — юный Клерк По улице идет. Он присмотрелся — это был Не Клерк, а Бегемот. Сказал он: «Звать его на чай — Не маленький расход». Льюис Кэрролл. Песня Безумного Садовника[164]В жизни Пушкина еще так много неисследованного… Кое-что изменилось с прошлого года…
Сергей Довлатов. ЗаповедникНаше время, не опасаясь преувеличений, можно назвать временем мифов, их бурного роста и широчайшего распространения. Можно было задаться вопросом о том, как и почему это происходит. Как соотносятся в мифе вымысел и факт? Что активизирует от века данную людям способность к мифотворчеству? Потребность ли заполнить образовавшуюся по тем или иным причинам пустоту в их жизни? Усилия ли массмедиа, культивирующих интерес к «знаменитостям» с особым упором на интимные, а зачастую и просто грязные, подробности? Вглядываясь в знакомые черты, мы видим, как они меняются, послушные веяниям времени: сквозь глянец парадного портрета вдруг проступает карикатура, а то и совсем иная физиономия. Изображение колеблется, лицо ускользает.
Взять хотя бы Льюиса Кэрролла, математика и богослова, автора двух сказок — «Приключения Алисы в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье», принесших ему мировую славу.
Всем известно, скажем, что Льюис Кэрролл (он же Чарлз Латвидж Доджсон) был застенчивым, неуклюжим заикой и нелюдимом. Мы знаем, что он скучно читал лекции, двух слов не мог связать в светской беседе и лишь в обществе детей оживлялся и становился вдруг — о чудо! — изобретательным и веселым рассказчиком. Мы знаем, что он всегда ходил в цилиндре и перчатках, отличался чопорностью и педантизмом, писал множество писем (в основном детям, разумеется) и воплощал в себе все викторианские добродетели.
Известно также, что превращению мрачного чудака в фантазера и сказочника способствовали не просто дети, а исключительно маленькие девочки, к которым этот чудесный сказочник испытывал — о ужас! — вовсе не отеческий интерес. Злоупотребляя доверием наивных мамаш, он увлекал юных спутниц в рискованные длительные прогулки, забрасывал их письмами и даже фотографировал в обнаженном виде!
В сущности, мы знаем не одного человека, а двух — Льюиса Кэрролла и Чарлза Латвиджа Доджсона, и эти двое оказываются почти антиподами: Доджсон, как видно, весьма умело дурачил недальновидных современников, скрывая свою истинную сущность под скучной благопристойной личиной. Но и проницательным потомкам приходится нелегко — Кэрролл двоится в глазах, не дается в руки. Недаром Вирджиния Вулф написала о нем: «Он шел по жизни таким легким шагом, что не оставил следов». Поразительнее всего то, что речь идет о человеке, чья жизнь была столь подробно и тщательно документирована… После смерти Доджсона остались дневники, письма, воспоминания современников. В том числе и его некогда юных приятельниц, которых он называл ту child-friends.
Попробуем разобраться в удивительных метаморфозах кэрролловского образа.
Сразу же после смерти Чарлза Доджсона его племянник, преподобный Стюарт Доджсон Коллингвуд, издал подробную биографию Кэрролла. Она называлась традиционно: Life and Letters of Lewis Carroll, что на русский язык переводится так же традиционно: «Жизнь и творчество Льюиса Кэрролла» (Letters здесь означает всё, что вышло из-под его пера, в том числе и переписку). Архив Чарлза Латвиджа Доджсона был огромен. Всю жизнь этот педантичный викторианец вел дневники, писал бесчисленные письма, фиксировал в реестре всю отправленную и полученную корреспонденцию, сочинял политические и научные трактаты, стихи и прозу — словом, трудно даже представить себе объем «бумажного» наследия, который остался в распоряжении душеприказчиков. Душеприказчиками были два младших брата Кэрролла — Уилфред и Эдвин. Именно Уилфред после смерти Кэрролла сжег часть его личных бумаг — возможно, выполняя волю умершего. (В переписке с Анной Хендерсон Доджсон упоминает о конвертах, где хранились личные записи и фотографии, с надписью «в случае моей смерти уничтожить, не вскрывая». Возможно, он оставил и другие инструкции.) По смерти писателя «комнаты» в Крайст Чёрч (так называли преподавательские квартиры, расположенные в самом колледже), которые он занимал в течение стольких лет, надлежало срочно освободить. Огромный архив Кэрролла разбирали второпях, часть его, как уже упоминалось, была сожжена, остальное, по всей видимости, было «поделено» между родственниками, что-то впоследствии затерялось.
По-видимому, Коллингвуд во время работы над биографией Кэрролла имел в распоряжении всю его переписку, все дневники и реестр корреспонденции: биография снабжена множеством цитат из этих документов. Выпускник того же колледжа, в котором учился, а потом преподавал его дядюшка, кроткий и образованный священнослужитель, Стюарт Доджсон Коллингвуд создал идеализированный портрет своего прославленного родственника. Эта первая биография, вышедшая в сентябре 1898 года, то есть спустя всего семь месяцев после смерти Кэрролла, стала основным документальным свидетельством, на которое ориентировались все последующие биографы. Отчасти это объясняется тем, что письма и дневники Кэрролла не были доступны последующим исследователям во всей полноте. Но, конечно, дело не только в этом.
XIX век создал свой миф о Кэрролле, миф о том, что было дорого викторианской Англии, — о доброте и эксцентричности, о глубокой религиозности и удивительном юморе, о строгой и размеренной жизни, изредка прерываемой короткими «интеллектуальными каникулами» (Г. К. Честертон), во время которых и были написаны сказки об Алисе и некоторые другие произведения. Коллингвуд в своей книге приводит проникновенные отзывы современников о Кэрролле. «Я с радостью вспоминаю наши серьезные беседы — то, как великолепно и доблестно он использовал возможности, которыми обладал как наделенный юмором человек, для того чтобы привлечь внимание множества людей, — его любовь к детям — простоту его сердца — заботу о слугах — его духовную заботу о них», — пишет один. Другой вспоминает «ту сторону его натуры, которая, на мой взгляд, представляла больший интерес и более заслуживает того, чтобы о ней помнили, чем даже его поразительный и чарующий юмор, — я имею в виду его глубокое сострадание всем страждущим и нуждающимся. Он несколько раз приходил ко мне по делам милосердия, и я всю жизнь учился у него готовности помочь людям в беде, его бесконечной щедрости и его бесконечному терпению перед лицом ошибок и безрассудств». Третий отмечает, что «та чуть ли не странная простота, а порой непритворная и трогательная детскость, которая отличала его во всех областях мысли, проявлялась в его любви к детям и в их любви к нему, в его боязни причинить боль любому живому существу». В предисловии Коллингвуд лаконично предваряет эти и многие другие подобные воспоминания современников Кэрролла словами: «Узнать его значило его полюбить».
После смерти братьев и сестер Кэрролла его бумаги перешли на хранение к двум незамужним племянницам — Менелле и Вайолет — и оставались у них до самой их смерти (Менелла умерла в 1963 году, Вайолет тремя годами позже). За это время многие бумаги были утеряны (включая четыре тома дневников), кроме того, отдельные дневниковые записи были вырезаны. В 1953 году тщательно отобранные племянницами фрагменты дневников были изданы в двух томах под редакцией P. Л. Грина, который объясняет в предисловии, что, поскольку Коллингвуд уже использовал при написании своей «Биографии» дневники Кэрролла, «не было необходимости тщательно их сохранять — и они на много лет исчезли вместе с остальными уцелевшими бумагами. По прошествии времени они вновь нашлись в подвале, выпав из картонной коробки; оказалось, что из тринадцати томов недостает четырех».
Однако, как бы ни скрытничали лояльные племянницы, XX век уже вступил в свои права и начинал творить свои мифы. После Великой войны (так называли англичане Первую мировую) образ Кэрролла стал неуловимо меняться. Это были годы «победного шествия» психоанализа, быстро распространившегося в Европе, Америке, России и даже в консервативной Англии. Уже в своей краткой «Заметке о Шалтае-Болтае», написанной в 1926 году в связи с новым переводом «Алисы в Стране чудес» на немецкий язык, Д. Б. Пристли высказывал провидческие опасения относительно того, что этой книгой вскоре займется «добрая тысяча важных тевтонцев», что «на сцену неизбежно явятся Фрейд и Юнг со своими последователями и нам предложат чудовищные тома о Sexualtheorie в „Алисе в Стране чудес“, об Assoziationsstudien Бармаглота и о сокровенном смысле конфликта между Труляля и Траляля с психоаналитической и психопатологической точки зрения».
В своем эссе Пристли высказывает еще одно предположение, которое, увы, не оправдалось; впрочем, он и сам это предвидит: «Что до самой Алисы… но нет, Алису пощадят; я, во всяком случае, не собираюсь разрушать иллюзий задумчивой тени Льюиса Кэрролла. Да пребудет он еще немного в неведении о том, что там на самом деле творилось в Алисиной головке, этой, с позволения сказать, особой стране чудес».
Увы, Алису не пощадили. «Психоаналитическими и психопатологическими» толкованиями с жаром принялись заниматься — и по сей день занимаются! — отнюдь не одни лишь «тевтонцы». Пристли, посвятившему столько прочувствованных страниц старой доброй Англии, даже и в страшном сне не могло присниться, что именно будут писать об Алисе в этой самой Англии и в других англоязычных странах. Романтическое отношение к детству и детям, в котором ранняя пора жизни виделась как царство невинности, уступило место совсем иным взглядам. Наступил век психоанализа, и книги Кэрролла, как казалось, предлагали весьма благодатное поле для новомодных умозаключений.
Отправной точкой для психоаналитиков стало уже закрепившееся мнение, с беспощадной категоричностью повторяющееся в каждом исследовании: «У него не было взрослых друзей. Ему нравились девочки и только девочки». Это слова Пола Шилдера, и взяты они из «Психоаналитических заметок об Алисе в Стране чудес и Льюисе Кэрролле» (1938). Шилдер строго вопрошает: «Каково было его отношение к собственному половому органу?» — и отвечает, что воплощением фаллоса является не кто иной, как сама Алиса… (Бедный, наивный Пристли!) Тони Голдсмит, который, собственно, и положил начало психоаналитическим толкованиям «Алисы» — именно в его писаниях любовь Кэрролла к детям впервые приобрела зловещий оттенок, — пространно теоретизирует о символике дверей и ключей, отмечая, что объектом особого интереса становится именно маленькая дверка (то есть девочка, а не взрослая женщина). Дальше — больше. В книгах Кэрролла каждый смог найти то, что искал: неврозы, психозы, оральную агрессию, эдипов комплекс… Ну и, конечно, излишне объяснять, что такое на самом деле кроличья нора… («Когда я беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше и не меньше», — сказал Шалтай-Болтай презрительно.)
Не будем далее углубляться в эти концепции: они уже давно навязли у всех в зубах. Справедливости ради надо заметить, что потребность в скандалах и сенсациях не исчерпывалась одной лишь сексуальной тематикой. Во второй половине XX столетия то и дело возникали новые толкования кэрролловской «Алисы». То обнаруживали в «Стране чудес» записанные особым кодом цитаты из Ветхого Завета, то выяснялось, что это послание психоделика, созданное под влиянием особых галлюциногенных грибов (помните гриб, на котором восседала Синяя Гусеница, посоветовавшая Алисе откусить «с одной и с другой стороны»?). Особенно много шума наделала теория, согласно которой автором «Алисы» был не кто-нибудь, а сама королева Виктория! Об этом даже в советские времена у нас писала центральная пресса и люди спорили в университетских буфетах.
После выхода в свет набоковской «Лолиты» (1955), популярность которой с каждым годом всё росла и росла, массовому читателю стало окончательно ясно, что Кэрролл, конечно, был педофилом. Теперь, наконец, кэрролловский эвфемизм child-friends открыл свой истинный смысл: нимфетки! С новой жадностью читатель вглядывался в мемуары кэрролловских «нимфеток», пытаясь читать между строк.
Теперь уже ни один серьезный исследователь творчества Кэрролла не мог обойти молчанием проклятый вопрос о том, КАК именно любил Кэрролл маленьких девочек. И если исследователь не желал признавать писателя педофилом и извращенцем, ему приходилось занимать оборонительную позицию и выстраивать систему оправданий.
«Сам Кэрролл считал свою дружбу с девочками совершенно невинной; у нас нет оснований сомневаться в том, что так оно и было. К тому же в многочисленных воспоминаниях, написанных позже его маленькими подружками, нет и намека на какое-либо нарушение приличий. <…> В наши дни Кэрролла порой сравнивают с Гумбертом Гумбертом, от чьего имени ведется повествование в „Лолите“ Набокова. Действительно, и тот и другой питали страсть к девочкам, однако преследовали они прямо противоположные цели. У Гумберта Гумберта „нимфетки“ вызывали плотское желание. Кэрролла же потому и тянуло к девочкам, что в сексуальном отношении он чувствовал себя с ними в полной безопасности. От других писателей, в чьей жизни не было места сексу (Торо, Генри Джеймс), и от писателей, которых волновали девочки (По, Эрнест Даусон), Кэрролла отличает именно это странное сочетание полнейшей невинности и страстности. Сочетание уникальное в истории литературы», — пишет Мартин Гарднер, автор «Аннотированной Алисы».
«Льюису Кэрроллу доводилось сражаться с дьяволом — а, как мы знаем, для викторианцев секс часто был личиной дьявола. Я убежден, что Кэрролл выходил победителем из этих сражений. <…> В глубине души Кэрролл сознавал, что если он хоть раз уступит малейшему искушению в дружбе с детьми, то никогда не сможет возобновить этой дружбы. Он был своего рода викторианским Ловцом во ржи, однако он не был Гумбертом Гумбертом», — утверждает другой известный исследователь творчества Кэрролла, Мортон Коэн.
Но как бы ни пытались некоторые благородные умы защитить эксцентричного сказочника, обыватель не может оторвать завороженного взгляда от жутковатой картинки: дитя наедине с коварным искусителем, у которого карманы набиты игрушками, а в голове бродят нечистые мысли. Это зрелище ужасает почтенную публику чуть ли не до конца двадцатого века…
А между тем после смерти Менеллы и Вайолет сохранившиеся дневники Льюиса Кэрролла все-таки были проданы наследниками Британскому музею. Некогда запертые на семь замков, заветные листки стали доступны для изучения. Но — ничего не произошло. Неказистые тетради в серых обложках уже никого не интересовали. Биографы и исследователи Кэрролла продолжали опираться на привычные факты и приходить к привычным выводам.
Очередной поворот посмертной судьбы Кэрролла начался с любезной его сердцу математики. Почти одновременно в двух разных странах два пытливых исследователя занялись, представьте, сложением и вычитанием. И тут обнаружилось, что многие из милых крошек в момент знакомства с Кэрроллом уже перешагнули рубеж семнадцати, восемнадцати, двадцати, а то и тридцати лет… Как же так, спросит недоверчивый читатель? Неужели никто раньше не удосужился посчитать, сколько лет было девочкам? Да, такова таинственная магия мифа. Его гармония не терпит грубого вмешательства алгебры (и даже арифметики).
Очень показательно, что на незыблемые, давно установленные истины покусились, в известном смысле, аутсайдеры — французский профессор (иностранец!) Хьюго Лебейли и не имеющая отношения к науке актриса (!) Кэролайн Лич. (Ученое сообщество отнюдь не пришло в восторг от этого вмешательства.) Лебейли изложил свои выводы в научных трудах; Лич опубликовала книгу, рассчитанную на широкого читателя[168].
Результаты пересмотра известных фактов и сохранившихся документов оказались сокрушительными. Как карточный домик рассыпаются глубокомысленные построения и гипотезы… («Вы — просто колода карт!» — говорит разгневанная Алиса и просыпается.)
В качестве примера можно привести хорошо известные воспоминания Изы Боумен (1873–1958), актрисы, в чьей судьбе Ч. Л. Доджсон принимал живое участие. (Доджсон помогал также ее сестрам и брату.) Ее книжка «История Льюиса Кэрролла, рассказанная настоящей Алисой в Стране чудес», вышла в 1899 году, через несколько месяцев после биографии Коллингвуда. Алисой она называет себя на том основании, что в 1888 году ей довелось играть знаменитую кэрролловскую героиню.
Мемуары Изы, написанные достаточно живо, с несомненной любовью к Кэрроллу, которого она называет «дядюшкой», тем не менее оставляют странный, слащавый привкус, знакомый русскоязычным читателям среднего и «выше среднего» возраста по школьным «рассказам о Ленине». «Маленькая девочка и ученый профессор! Какое странное сочетание!» — восклицает она то и дело. Портрет ученого чудака расцвечен описаниями игр, прогулок, ее долгих визитов в Крайст Чёрч… Словом, читателю не приходится жаловаться на отсутствие «картинок и разговоров». Так, мы находим в воспоминаниях весьма драматичное описание ссоры и примирения «профессора и маленькой девочки»:
«В детстве я часто развлекалась тем, что рисовала карикатуры, и однажды, когда он (Кэрролл. — А. Б., Н. Д.) писал письма, я принялась делать с него набросок на обороте конверта. Сейчас уж не помню, как выглядел рисунок, — наверняка это был гадкий шарж, — но внезапно он обернулся и увидел, чем я занимаюсь. Он вскочил с места и ужасно покраснел, чем очень меня испугал. Потом он схватил мой злосчастный набросок и, разорвав его в клочья, молча швырнул в огонь. После, всё так же не говоря ни слова, он внезапно подошел ко мне, обнял и горячо поцеловал. Мне было тогда всего десять-одиннадцать лет, но и теперь этот эпизод стоит у меня перед глазами, как будто всё это было вчера…»
Итак, по утверждению Изы, в момент описанной размолвки ей «не более десяти-одиннадцати лет»… Однако на деле ей гораздо («О, гораздо!» — сказала Королева…) больше. «Примечательно, — ядовито замечает по этому поводу Кэролайн Лич, — что Изе уже исполнилось тринадцать, когда она познакомилась с Доджсоном. К тому времени, как он оплачивал ее уроки актерского мастерства и возил ее на каникулы, ей было лет четырнадцать — шестнадцать, в последний раз она гостила у него в Истборне в двадцатилетием возрасте».
Гипноз коллективно созданного образа так велик, что уже другая «юная подружка» Кэрролла, Рут Гэмлен, в мемуарах, написанных в семидесятилетием возрасте, отчетливо вспоминает, как в 1892 году родители пригласили на обед Кэрролла с гостившей у него в то время Изой — та описана как «застенчивый ребенок лет двенадцати». «Прелестно и убедительно, — комментирует этот пассаж Кэролайн Лич, — однако в 1892 году Изе уже исполнилось восемнадцать…»
В случае Изы Боумен речь, конечно, не идет о случайной ошибке. Ее мемуары пестрят навязчивыми напоминаниями о том, что Кэрролл был «величайшим другом детей» — это определение повторяется не однажды.
«Я думаю, что сделала всё, что было в моих силах, чтобы показать самую светлую сторону натуры Льюиса Кэрролла — друга детей. <…> Я надеюсь, что мой скромный вклад поможет сохранить память о величайшем друге детей», — пишет Иза, прекрасно зная, что большая часть описанных эпизодов относится отнюдь не к детскому ее возрасту. Объяснить такую настойчивость несложно. Одно дело рисовать идиллические картинки вечеров у камина, долгих прогулок рука об руку, поездок к морю, когда речь идет о «маленькой девочке и ученом профессоре». Другое дело — бросать вызов обществу, повествуя об отношениях необычных, не укладывающихся в рамки общепринятого — об отношениях с неординарным человеком, жившим по собственным, неординарным правилам. Правдивое изложение фактов, отмечает Кэролайн Лич, могло губительным образом отразиться на репутации Изы — к тому времени преуспевающей актрисы. Нетрудно представить себе выводы, к которым пришли бы добродетельные викторианцы, узнав, что немолодой профессор оплачивал уроки музыки, визиты к дантисту и другие расходы молодой актрисы, отнюдь уже не ребенка. Между тем Иза не была исключением в жизни Кэрролла — ни в качестве child-friend, ни в качестве заботливо опекаемой протеже. Кэрролл много общался с детьми актеров и много помогал им. Широко известна многолетняя дружба Кэрролла с актерским семейством Терри — и с самой знаменитой из них Эллен Терри, на чьи спектакли он неизменно водил своих приятельниц.
Чуть ли не каждая из child-friends Кэрролла, чьи мемуары собраны в книге «Льюис Кэрролл: интервью и воспоминания» (Lewis Carroll: Interviews and Recollections // Ed. by M. N. Cohen. London, 1989), отмечает, что она была исключением из правил, поскольку ее дружба с Кэрроллом не прервалась с окончанием детства, а продолжилась в более зрелые годы. Читая одно за другим эти утверждения, начинаешь недоумевать, что же это за такое правило, из которого так много исключений? Гертруда Аткинсон, например, пишет об этом так: «Многие утверждают, что он любил детей, только пока они оставались детьми, и терял к ним интерес, когда они вырастали. Мой опыт был иного рода: мы оставались друзьями всегда. Я думаю, иногда возникали недоразумения оттого, что многим выросшим девочкам не нравится, когда с ними обращаются так, будто им все еще десять лет. Лично мне эта его привычка всегда казалась очень милой».
Иные child-friends подружились со знаменитым сказочником, будучи уже вполне взрослыми людьми. Таково было знакомство Кэрролла с художницей Гертрудой Томсон, которой было немногим меньше тридцати, когда они впервые встретились. Вместе с Томсон Кэрролл часто работал над портретами детей — в том числе обнаженных девочек. В викторианской Англии всё еще во многом господствовало представление о ребенке, унаследованное от предромантиков и романтиков — Блейка, Вордсворта, Кольриджа. Образ девочки воплощал для викторианцев чистоту и невинность, красота детского тела воспринималась как асексуальная, божественная, изображения обнаженных детей были весьма обычны для того времени.
Кэрролл был необычайно щепетилен во всём, что касалось его маленьких моделей. Во время сеансов непременно присутствовала сопровождающая дама (мать, тетушка, гувернантка и пр.). Сам Кэрролл писал: «Если бы я нашел для своих фотографий прелестнейшую девочку в мире и обнаружил бы, что ее смущает мысль позировать обнаженной, я бы почел своим священным пред Господом долгом, как бы мимолетна ни была ее робость и как бы ни легко было ее преодолеть, тут же раз и навсегда отказаться от этой затеи».
В июне 1881 года, спустя год после того, как Кэрролл оставил занятия фотографией, он принимает решение уничтожить снимки и негативы обнаженных девочек во избежание кривотолков в случае его смерти (ему скоро исполнится 50 лет). Он пишет письма матерям своих моделей, спрашивая, не прислать ли им фотокарточки и негативы, и сообщая, что в противном случае они будут уничтожены. Сохранилось лишь несколько таких снимков.
Вообще говоря, Кэрролл фотографировал много — детей (как девочек, так и мальчиков) и, разумеется, взрослых: своих родных, друзей, коллег по Оксфорду, писателей, художников, актеров, священнослужителей, включая епископов и архиепископов, государственных деятелей (с большинством из них он был знаком по Крайст Чёрч), в том числе премьер-министра. Правда, прославился он именно благодаря снимкам детей: из работ фотографов-любителей XIX века его детские портреты считаются лучшими. Недаром на знаменитой фотовыставке «Род человеческий», объехавшей в 1956 году многие страны, побывавшей и в России, из своих современников был представлен он один.
Вопреки устоявшемуся мнению, круг знакомств Кэролла был также весьма широк и разнообразен и включал в себя множество мужчин и женщин самого разного возраста. Откуда же взялось столь устойчивое убеждение в том, что знаменитый автор «Алисы» общался исключительно с маленькими девочками?
И что же все-таки скрывала семья? Что заставляло братьев, сестер и племянников проявлять такую сдержанность, такую осторожность в обращении с бумагами Льюиса Кэрролла?
Разумеется, как справедливо замечает Кэролайн Лич, «страницы не вырезаются сами собой». Но какие различные причины могут скрываться за холодным щелканьем ножниц! Вырезанных страниц не вернуть. Менелла и Вайолет — хотя бы отчасти — обеспечили своему великому родственнику право на privacy[169] — этот непереводимый оплот английской души.
Кэролайн Лич весьма запальчиво пишет о пропаже дневников и писем Кэрролла, обвиняя его семейство в умышленном искажении образа писателя, желании утаить от публики «правду» и других тяжких грехах; по-видимому, она нисколько не сомневается, что «народ имеет право знать». Невольно вспоминается знаменитое письмо А. С. Пушкина П. А. Вяземскому с затертым от постоянного цитирования пассажем: «Толпа жадно читает исповеди, записки, etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой подлости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы; он и мал и мерзок не так, как вы, — иначе». А начинается эта известная тирада так: «Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? черт с ними! слава Богу, что потеряны…»
Но вернемся к сохранившимся тетрадям, которые всё-таки попали в Британский музей, и к открытиям Кэролайн Лич и Хьюго Лебейли.
Из переписки Кэрролла с сестрами явственно следует, что кое-какие страницы его биографии доставляли хлопоты родственникам еще при жизни писателя. Дело в том, что преподобный Доджсон — оксфордский лектор, дьякон и джентльмен — всю жизнь был не в ладах с «миссис Гранди», то есть, выражаясь по-русски, не заботился о том, «что станет говорить княгиня Марья Алексевна». «Ты не должна пугаться, когда обо мне говорят дурно, — писал он обеспокоенной сплетней младшей сестре, — если о человеке говорят вообще, то кто-нибудь непременно скажет о нем дурно».
Его страстная любовь к театру считалась совершенно неподобающей для священнослужителя (ведь в театре показывали и фарсы, и водевили, и бурлески, которые Кэрролл очень ценил), так же как и предпочтения в живописи, в частности восхищение полотнами, изображающими обнаженных женщин; а дружба и свободное общение с молодыми (и не очень молодыми) дамами и вовсе не укладывались ни в какие рамки.
«Истории о том, как молодые женщины без сопровождения проводили каникулы у моря с Льюисом Кэрроллом, вряд ли могли бы умилить добропорядочное викторианское общество, к которому принадлежали большинство читателей Коллингвуда. Совсем не это хотелось услышать публике о создателе „Алисы“! Легко понять, что семейство Доджсон стремилось положить конец сплетням, неизбежно окружавшим подобные эскапады. Публично сказать правду — признаться в печати, что Льюис Кэрролл обедал, гулял, ездил к морю наедине с молодыми девицами, оставался ночевать в домах вдов и замужних женщин, чьи мужья находились в отъезде, — было всё равно что предположить в преподобном Доджсоне прелюбодея и совратителя! Это просто никуда не годилось», — пишет Кэролайн Лич.
С точки зрения викторианской морали самым невинным из всех увлечений Кэрролла казалось его увлечение маленькими девочками. Именно это увлечение, такое уместное для сказочника, и подняли на щит сначала Коллингвуд, а вслед за ним и многочисленные мемуаристы и биографы. Кто же мог знать, что в следующем веке всё встанет с ног на голову и любовно наведенный современниками «хрестоматийный глянец» отольется в столь рискованные формы!..
Однако для публики того времени, как и для семейства Кэрролла, дружба с девочками выглядела абсолютно безопасной темой. Считалось, что до четырнадцатилетнего возраста девочка остается ребенком и, соответственно, до этой поры стоит выше всего земного и грешного.
По словам Кэролайн Лич, именно эти представления «стоят за наивными попытками семейства убедить публику, что все его многочисленные приятельницы были моложе роковых четырнадцати лет. Эта манипуляция становится особенно прозрачной, когда выясняется, что даже в тщательно отобранной Коллингвудом переписке почти половина цитируемых писем написана девочкам старше четырнадцати, а четверть адресована девицам восемнадцати лет и старше».
В результате сравнения опубликованных фрагментов дневников с более полной версией, хранящейся в Британском музее (пусть даже с вырезанными страницами и пропавшими томами), профессор Лебейли приходит к выводу, что «отнюдь не трогательный интерес дядюшки к прелестным ангелочкам оберегали от постороннего взгляда престарелые викторианские дамы, но его склонность к сомнительным, по их мнению, спектаклям, в которых играли бойкие молодые актрисы, его благосклонные отзывы о полотнах, изображающих обнаженных женщин. Доказательства столь вульгарного вкуса казались им поистине скандальными, и они замалчивали их последовательно и методично, не подозревая, что тем самым подпитывают распространенное представление о Льюисе Кэрролле как об извращенце и маньяке».
И в самом деле, как могли они предположить, что, оберегая викторианские добродетели, обрекут своего знаменитого родственника на гораздо более грозные обвинения? Великолепная ирония судьбы, достойная Кэрролла.
Возможно, сам Кэрролл отчасти способствовал возникшей путанице. Взять хотя бы изобретенный им термин child-friend. По сути, это словосочетание указывало не столько на возраст (или даже возрастную разницу), сколько на тип отношений, столь обычный для Кэрролла и столь малопонятный обществу — вероятно, сегодняшнему так же, как и тогдашнему. Впрочем, и само слово child в XIX веке всё еще сохраняло отзвуки иных оттенков значений. Слово это могло указывать не только на возраст, но и на характер отношений, в частности определяемый разницей в возрасте или социальном положении (ср. принятое в XVIII столетии выражение «дети и слуги»). Кстати говоря, не зря, видимо, многие современники упоминали о том, как внимателен был Кэрролл к слугам — по всей видимости, для него особое значение имели отношения с более слабыми, зависимыми, в известной степени более уязвимыми (не стоит забывать, что он рано узнал бремя ответственности за восьмерых младших братьев и сестер).
Однако в употреблении Кэрроллом слова child был, конечно, и игровой компонент, на что справедливо указывают и Кэролайн Лич, и Хьюго Лебейли. Он частенько использовал слово «ребенок» применительно к особам женского пола в возрасте двадцати, тридцати, а то и сорока лет…
В 1894 году Кэрролл пишет миссис Эгертон, приглашая на обед двух ее дочерей, шестнадцати и восемнадцати лет:
«Одна из главных радостей моей — на удивление счастливой — жизни проистекает из привязанности моих маленьких друзей. Двадцать или тридцать лет тому назад я бы сказал, что десять — идеальный возраст; теперь же возраст двадцати — двадцати пяти лет кажется мне предпочтительней. Некоторым из моих дорогих девочек тридцать и более: я думаю, что пожилой человек шестидесяти двух лет имеет право всё еще считать их детьми».
Примерно такое же рассуждение содержится в письме 24-летней Гертруде Четуэй, которую Кэрролл зовет погостить у него в Истборне. Вот как он оправдывает необычность подобного приглашения:
«Во-первых, если я доживу до следующего января, мне исполнится 59 лет. Если бы подобную вещь предложил мужчина тридцати или даже сорока лет от роду, это было бы совсем другое дело. Тогда бы об этом и речи идти не могло. Мне самому подобная мысль пришла в голову лишь пять лет назад. Только накопив действительно немало лет, рискнул я пригласить в гости десятилетнюю девочку, которую отпустили без малейших возражений. На следующий год у меня неделю пробыла двенадцатилетняя гостья. А еще через год я позвал девочку четырнадцати лет, на этот раз ожидая отказа под тем предлогом, что она уже слишком взрослая. К моему удивлению и радости, ее матушка согласилась. После этого я дерзко пригласил ее сестру, которой уже исполнилось восемнадцать. И она приехала! Потом у меня побывала еще одна восемнадцатилетняя приятельница, и теперь я совсем не обращаю внимания на возраст».
По мнению профессора Лебейли, поведение Кэрролла объясняется прежде всего крайней независимостью характера, стремлением самому, в соответствии со своим разумением и своей совестью принимать решения и контролировать ситуацию. Он избегал всего, что могло быть ему навязано (до такой степени, что не хотел, чтобы ему назначали время встречи, ограничивая тем самым его свободу). Что может быть менее обязывающим, менее требовательным, чем общение с child-friencl?
При этом, продолжает Лебейли, Кэрролл вовсе не чурается женщин. Однако, будучи человеком крайне щепетильным, Кэрролл строго регламентирует свое общение с прекрасным полом — в молодости он держится подальше от девиц на выданье и только к старости начинает проявлять известную беззаботность относительно возраста своих приятельниц… На основании точно подсчитанных отзывов Кэрролла о произведениях живописи и театральных постановках (из 870 комментариев, сделанных им по поводу актерской игры, только 150 относятся к детям) Лебейли делает вывод, что цветущая женственность привлекала его на деле значительно больше, чем девичья незрелая прелесть. Словом, миф лжет — автор сказок об Алисе был вовсе не таким, каким его привыкли считать…
Миф лжет, вторит профессору Кэролайн Лич. Кэрролл вовсе не был застенчивым, мрачным отшельником — напротив, порой он наносил в день по полдюжины визитов, водил в театр своих бесчисленных приятельниц; никогда не избегал мужчин и уж тем более не испытывал ненависти к мальчикам; он получал удовольствие от жизни и любил общество молодых женщин… Впрочем, яростно развенчивая старый миф, Кэролайн Лич тут же начинает создавать новый — головокружительную историю любви Кэрролла к миссис Лидделл. И можно быть уверенными, что новые сенсации не за горами. Возможностей масса: роман с гувернанткой, роман с миссис Лидделл, роман с мистером Лидделлом… Возможно, выяснится, что Кэрролл любил только мальчиков. Возможно, найдется и какой-нибудь подозрительный домашний питомец или возлюбленный труп. И в этом отчасти будут виноваты злополучные викторианские дамы, затерявшие и изрезавшие драгоценные томики дневников. Ибо ничто так не будоражит воображение, как тайна. Сколько лет дописывают за Диккенса его последний неоконченный роман, сколько лет волнует умы десятая, сожженная, глава «Евгения Онегина»! Вероятно, и Кэрроллу предстоит еще немало удивительных метаморфоз…
Но мы, пожалуй, остановимся, передохнем и оглядимся. Может быть, у нас, наконец, перестанет двоиться в глазах и нам удастся увидеть не двух антиподов, этаких Джекилла и Хайда, а одного незаурядного человека, необычного до такой степени, что современники и потомки предпочли разделить его на «Кэрролла» и «Доджсона» и воспринимать «по частям». Загадки и парадоксы по-прежнему сопровождают его имя — даже теперь, спустя более столетия после его смерти. Прелесть в том, что у загадки не всегда есть ответ — чем, например, ворон похож на конторку?
Англичане знают цену странности. У Кэрролла на родине есть своя культурная ниша — «эксцентричный ученый-джентльмен»; хотя, конечно, и это всего лишь одна из масок. Бесспорно, она подходит ему не в пример лучше, нежели маска чопорного педанта, у которого, как заметила в свое время Вирджиния Вулф, «не было жизни», или совсем уж нелепая маска тайного искусителя девочек… Но если эти маски расплывутся, исчезнут, что же останется? Улыбка, разумеется.
Можно ли сказать, что Льюис Кэрролл был свободным человеком? Он, несомненно, был глубоко религиозен, но не мог принять идею о вечных муках; позволял себе присутствовать на службе в православном храме и даже в синагоге, говорил, что если бы знал язык, то принял бы участие в православной литургии. Он уважал традиции и установления общества, но открыто возражал против тех из них, которые казались ему бессмысленными или несправедливыми. Он дарил необыкновенную дружбу, исполненную юмора и доброты, многим представительницам прекрасного пола — как мы теперь знаем, самого различного возраста. И при этом значительно больше полагался на свое суждение, нежели на общепринятые правила. Это был человек совести, в своих помыслах и поступках он давал строгий отчет Господу. Но никогда — никогда! — не путал он Господа с «миссис Гранди», с духовными и светскими властями. Он держал ответ перед Богом, а не перед ними. И не перед нами.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Силуэтные портреты Франсис и Чарлза Доджсон, родителей Чарлза Латвиджа Доджсона, будущего писателя Льюиса Кэрролла
Дом в Дарсбери, где родился Чарлз Латвидж Доджсон. Фото Л. Кэрролла. 1860 г.
Силуэтный портрет маленького Чарли. 1830-е гг.
Чарлз (второй справа) с приятелями. Конец 1830-х гг.
Церковь в Дарсбери, где проповедовал Чарлз-старший и был крещен Чарлз-младший
Витражи Джеффри Вебба на сюжеты «Алисы в Стране чудес» украсили часовню церкви в Дарсбери к столетнему юбилею Кэрролла
В 1846–1850 годах Чарлз учился в публичной школе в Регби
Епископ Оксфордский Сэмюэл Уилберфорс. Фото Л. Кэрролла. 1860 г.
Архидьякон Ричмондский Чарлз Доджсон. Фото Л. Кэрролла
Главная улица Оксфорда Хай-стрит. Вторая половина XIX в.
Чарлз Латвидж Доджсон — студент оксфордского колледжа Крайст Чёрч. Начало 1850-х гг.
Сестры Доджсон с младшим братом Эдвином. Фото Л. Кэрролла. Около 1857 г.
Семья Доджсон перед домом в Крофте-на-Тисе. Фото Л. Кэрролла
Оксфордский колледж Крайст Чёрч. Литография 1849 г.
Оксфордский кафедральный собор Крайст Чёрч
Пекуотер — первоначальное место обитания Доджсона в Крайст Чёрч
В течение тридцати лет студент, а потом преподаватель Доджсон жил в Том Квод — внутреннем дворе колледжа. Вторая половина XIX в.
Большой холл колледжа Крайст Чёрч. 1860–1880-е гг.
В 1855 году Доджсон стал помощником хранителя библиотеки колледжа
Поэт-лауреат Альфред Теннисон. Фото Л. Кэрролла. 1857 г.
Глава прерафаэлитов поэт и художник Данте Габриель Россетти. Фото Л. Кэрролла. 1863 г.
Сцена сна королевы Екатерины из шекспировского «Генриха VIII» в «Театре Принцессы» поразила Доджсона. Рисунок 1855 г.
Снимок Реджиналда Саути со скелетом и черепами — одна из самых известных ранних фоторабот Доджсона (Льюиса Кэрролла). 1857 г.
Много лет фотография была страстью Доджсона. Фото О. Реджлендера. 1863 г.
Ректор Крайст Чёрч Генри Лидделл
Алиса Лидделл. Фото Л. Кэрролла. 1860 г.
Слева направо: Алиса, Лорина, Гарри, Эдит Лидделл. Фото Л. Кэрролла. 1860 г.
Лорина и Алиса в китайских костюмах. Фото Л. Кэрролла. 1858 г.
Участники памятной лодочной прогулки 4 июля 1862 года проплывали мимо гостиницы «Форель». Фото Г. Тонта. Около 1862 г.
Проповедник, сказочник и поэт Джордж Макдональд с дочерью. Фото Л. Кэрролла. 1863 г.
Льюис Кэрролл с миссис Макдональд и детьми. Фото Л. Кэрролла. 1863 г.
Знаменитая актриса Эллен Терри. Фото Л. Кэрролла. 1864 г.
Кэрролл дружил со всей актерской семьей Терри. Фото Л. Кэрролла. 1865 г.
В 1867 году Льюис Кэрролл вместе с Генри Лиддоном совершил путешествие в Россию
Нижегородская ярмарка. П. Верещагин. 1867 г.
Троице-Сергиева лавра. Открытка второй половины XIX в.
Епископ Дмитровский Леонид
Митрополит Московский Филарет. Акварель В. Гау. 1854 г.
Художник Джон Тенниел стал первым иллюстратором обеих книг Кэрролла о приключениях Алисы
Иллюстрации Генри Холидея к поэме Кэрролла «Охота на Снарка» выполнены в совсем иной творческой манере
Повзрослевшая Алиса Лидделл. Фото Л. Кэрролла. 1870 г.
Последняя страница рукописи «Приключений Алисы под землей» с вклеенной фотографией Алисы Лидделл, сделанной Л. Кэрроллом
Рисунки Кэрролла в рукописи «Приключений Алисы под землей»
Постановка «Алисы в Стране чудес» в лондонском «Театре принца Уэльского». 1886 г.
Кабинет преподавательской квартиры Кэрролла в Крайст Чёрч
В качестве куратора Клуба Крайст Чёрч Кэрролл контролировал кухню колледжа
Дом в Гилфорде, где скончался Кэрролл
Могила Кэрролла на Гилфордском кладбище
Чарлз Латвидж Доджсон — Льюис Кэрролл, логик и мечтатель, математик и философ, фотограф и сказочник
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА (ЧАРЛЗА ЛАТВИДЖА ДОДЖСОНА)
1832, 27 января — в деревне Дарсбери (графство Чешир) в семье преподобного Чарлза Доджсона и Франсис Джейн, урожденной Латвидж, родился сын Чарлз, третий из одиннадцати детей.
1843 — в связи с получением отцом прихода семья переехала в деревню Крофт-на-Тисе неподалеку от Ричмонда (графство Йоркшир). 1844–1846 — Чарлз-младший посещает школу в Ричмонде.
1845 — начал издавать первый из рукописных «семейных журналов» «Полезная и назидательная поэзия».
1846 — поступил в публичную школу в Регби.
1850, 23 мая — успешно сдал экзамен в оксфордский колледж Крайст Чёрч.
1851, январь — начало учебы в Крайст Чёрч. Смерть матери.
Ноябрь — награжден стипендией Боултера за академические успехи.
1852, конец года — получил отличие первой степени по математике и второй степени по классическим дисциплинам и звание пожизненного члена Крайст Чёрч.
1854, лето — в газете «Оксфорд эдвертайзер» впервые анонимно опубликовал два стихотворения.
18 октября — присвоена степень бакалавра.
1855, февраль — получил должность помощника хранителя библиотеки Крайст Чёрч.
Май — стал Бостокским стипендиатом.
Конец года — начал читать лекции по геометрии, получил степень магистра.
1856, февраль — начал заниматься фотографией.
Март — в журнале «Трейн» опубликовано стихотворение «Уединение», впервые подписанное псевдонимом «Льюис Кэрролл».
25 апреля — познакомился с дочерьми ректора Лидделла Лориной, Алисой и Эдит.
1857 — знакомство с художником и искусствоведом Джоном Рёскином, писателем Уильямом Теккереем, поэтом Альфредом Теннисоном.
1858 — выпустил первую научную книгу «Алгебраический разбор Пятой книги Евклида» под псевдонимом «Тьютор колледжа».
1860 — опубликовал «Конспекты по плоской алгебраической геометрии Чарлза Латвиджа Доджсона».
1861, 12 декабря — рукоположен епископом Оксфордским в сан дьякона.
1862, 4 июля — во время лодочной прогулки в Годстоу рассказывал девочкам Лидделл сказку об Алисе.
13 ноября — начал работать над рукописью «Приключений Алисы под землей».
1863, 10 февраля — закончил «Приключения Алисы под землей».
1864, апрель — завершились переговоры с художником Тенниелом и издателем Макмилланом об издании сказки об Алисе.
26 ноября — передал Алисе Лидделл рукопись «Приключений Алисы под землей» с собственноручными рисунками.
21 декабря — познакомился с актрисой Эллен Терри.
1865, 27 января — получил от издателя первые экземпляры «Алисы в Стране чудес».
1866 — вышли в свет «Сведения из теории детерминантов».
1867, 24 января — первое упоминание в дневнике о работе над «Зазеркальем».
Июль — сентябрь — совершил с другом Генри Лиддоном единственную заграничную поездку — в Россию через Францию, Бельгию и Германию.
Декабрь — в ежемесячном «Журнале тетушки Джуди» напечатан рассказ «Месть Бруно», ставший впоследствии основой романа «Сильвия и Бруно».
Опубликовано «Элементарное руководство по теории детерминантов».
1868, 21 июня — смерть отца.
1869, начало января — опубликован сборник «Фантасмагория и другие стихотворения».
12 января — послал издателю Макмиллану первую главу сказки об Алисе в Зазеркалье.
Первые немецкий и французский переводы «Алисы в Стране чудес».
Знакомство с художником Генри Холидеем, будущим иллюстратором «Охоты на Снарка».
1870, 4 января — завершил работу над рукописью второй сказки об Алисе.
1871, декабрь — вышла в свет сказка «Сквозь Зеркало и что там увидела Алиса» («Алиса в Зазеркалье»).
1872 — первый итальянский перевод «Алисы в Стране чудес».
1874, июль — начал писать поэму «Охота на Снарка».
Первый голландский перевод «Алисы в Стране чудес».
1875, лето — работал над «Охотой на Снарка» в курортном городке Сандаун на острове Уайт.
1876, 29 марта — вышла в свет «Охота на Снарка».
Первая инсценировка «Алисы в Стране чудес» и «Алисы в Зазеркалье».
1879, март — опубликован математический труд «Евклид и его современные соперники».
29 марта — 21 июня — в журнале «Вэнити Фэр» напечатаны «Дублеты, словесные загадки».
Первый русский перевод «Алисы в Стране чудес».
1881, октябрь — отказался от чтения лекций по математике в Крайст Чёрч.
Выпустил математический труд «Первая и Вторая книги Евклида».
1882, ноябрь — стал куратором Клуба Крайст Чёрч.
1883, 6 декабря — опубликовал стихотворный сборник «Стихи? И смысл?».
1884, ноябрь — вышли статьи «Принципы парламентского представительства», «Парламентские выборы», «О чистоте выборов».
1885, 22 декабря — напечатан сборник игр и загадок «История с узелками».
1886, 22 декабря — в издательстве Макмиллана осуществлено факсимильное издание рукописи «Приключений Алисы под землей».
23 декабря — премьера в «Театре принца Уэльского» в Лондоне спектакля «Алиса в Стране чудес», поставленного Генри Сэвилом Кларком.
1887, 21 февраля — опубликовал «Логическую игру».
1888 — издал «Математические курьезы» (часть I).
1889, 2 сентября — в журнале «Театр» напечатана статья Кэрролла «Дети сцены».
12 декабря — в издательстве Макмиллана вышел роман «Сильвия и Бруно».
1890— изданы «Алиса для малышей», «Круглый бильярд»; «Восемь или девять мудрых слов о том, как писать письма»; в Нью-Йорке вышла «Охота на Снарка».
1892 — покинул пост куратора преподавательского клуба.
1893, 29 декабря — опубликован роман «Сильвия и Бруно. Заключение». Издана вторая часть «Математических курьезов» — «Полуночные задачи».
1896, 21 февраля — выход в свет «Символической логики» (часть I).
1898, 14 января — скончался в Гилфорде. Похоронен на Гилфордском кладбище.
БИБЛИОГРАФИЯ
Произведения Льюиса Кэрролла
Кэрролл Л. Алиса в Стране чудес и в Зазеркалье. Пища для ума. М., 2007.
Кэрролл Л. Алиса для малышей / Пер. Н. Демуровой. М., 2012.
Кэрролл Л. История с узелками / Пер. Ю. А. Данилова; предисл. Ю. А. Данилова, Я. А. Смородинского. М., 1973.
Кэрролл Л. Охота на Снарка / Пер. И. Липкина. М., 1993.
Кэрролл Л. Полное иллюстрированное собрание сочинений в одном томе. М., 2010.
Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране чудес. Сквозь Зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье / Пер. H. М. Демуровой; коммент. М. Гарднера. М., 1978.
Кэрролл Л. Фантасмагория и другие стихотворения / Пер. М. Матвеева; предисл. Н. Демуровой. М., 2008.
Carroll L. Alice for the Nursery. L., 1890.
Carroll L. Alice’s Adventure Under Ground / Introd. by M. Gardner. N. Y., 1965.
Carroll L. Annotated Alice / Introd. and Notes by M. Gardner. N. Y., 1962.
Carroll L. More Annotated Alice / Introd. and Notes by M. Gardner. N. Y., 1990.
Carroll L. The Annotated Alice: Alice’s Adventures in Wonderland & Through the Looking-Glass / Updated, with an Introd. and Notes by M. Gardner. N. Y.; L. 2000.
Carroll L. The Annotated Snark / Introd. and Notes by M. Gardner. L., 1962.
Carroll L. The Letters / Ed. by M. N. Cohen: In 2 Vols. L. 1979.
Carroll L. The Works of Lewis Carroll / Ed. and introd. by R. L. Green. Feltham, 1965.
Carroll L. Useful and Instructive Poetry. N. Y., 1954.
Lewis Carrol’s Diaries / With Notes and Annotations by E. Wakeling: in 10 Vols. Luton, 1993–2007.
Литература
Важдаев В. Льюис Кэрролл и его сказка // Иностранная литература. 1965. № 7.
Вендровский К. В. Фотограф из Зазеркалья // Химия и жизнь. 1983. № 8.
Винтерих Д. Приключения знаменитых книг / Предисл., послесл., прим. Д. Урнова. М., 1975.
Данилов Ю. А. «Пища для ума» // Природа. 1975. № 5.
Данилов Ю. А. Логика в Стране чудес // Знание — сила. 1973. № 12. Данилов Ю. А. Льюис Кэрролл как нелинейное явление // Химия и жизнь. 1997. № 5.
Демурова Н. Картинки и разговоры: Беседы о Льюисе Кэрролле. СПб., 2008.
Демурова H. М. Льюис Кэрролл: Очерк жизни и творчества. М., 1979.
Демурова H. М. Соня, Аня, Алиса… Заметки о русских переводах сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» // Алиса в Стране чудес. Страна чудес Алисы. М., 2010.
Диорденко А. Историк и коллекционер // Советское фото. 1985. № 10.
Кагарлицкий Ю. Предисловие // Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране чудес. Зазеркалье (про то, что увидела там Алиса). М., 1977.
Кизевальтер Г. Льюис Кэрролл — фотограф // Знание — сила. 1988. № 8.
Лён В. Гусеница Владимира Набокова // Человек и природа. 1989. № 11.
Лобанов В. В. Льюис Кэрролл в России: Аннотированная библиография переводов книг Alice in Wonderland и Alice Through the Looking-Glass на русский язык // Folia Anglistica. Приложение к серии «Theory and Practice of Translation». М., 2000.
Оден У. X. Сегодняшнему миру чудес нужна Алиса // Знание — сила. 1979. № 7.
Панов М. В. О переводах на русский язык баллады «Джаббервоки» Льюиса Кэрролла // Развитие современного русского языка. 1972. М., 1975.
Петровский М. Владимир Маяковский и страна Льюиса Кэрролла // Детская литература. 1982. № 2.
Синицына О. Как рисуют множество: Из истории иллюстрирования «Алисы в Стране чудес» // Алиса в Стране чудес. Страна чудес Алисы. М., 2010.
Скуратовская Л. И. Повести об Алисе в английской и американской кэрроллиане // Проблемы развития романа в зарубежной литературе XVII–XX вв. Днепропетровск, 1978.
Тренин В. Льюис Кэрролл и его сказки о приключениях Алисы // Детская литература. 1939. № 4.
Урнов Д. М. Как возникла «Страна чудес». М., 1969.
Филюшкина С. Льюис Кэрролл и его Алиса // Детская литература. 1968. № 1.
Alice’s Recollections of Carrollian Days as Told by her Son, Caryl Hargreaves // The Cornhill Magazine. 1932. July. Vol. LXXIII. № 433.
Aspects of Alice. Lewis Carroll’s Child as Seen Through the Critics’ Looking-Glasses. 1865–1971 / Ed. by R. Phillips. L.; N. Y.,1972.
Bowman I. The Story of Lewis Carroll. L., 1899.
Cammaerts E. The Poetry of Nonsense. N. Y., 1926.
Carpenter H. Alice and the Mockery of God // Secret Gardens. Oxford, 1986.
Chesterton G. K. Both Sides of the Looking-Glass // The Spice of Life and Other Essays. L.; N. Y., 1958.
Chesterton G. K. The Library of the Nursery // Chesterton G. K. Lunacy and Letters. L.; N. Y. 1958.
Chesterton G. K. Lewis Carroll // Chesterton G. K. A Handful of Authors. L.; N. Y.,1953.
Clark A. Lewis Carroll: A Biography. N. Y., 1979.
Clark A. The Real Alice. L., 1981.
Cohen M. N. Lewis Carroll: A Biography. N. Y., 1995.
Collingwood S. D. The Life and Letters of Lewis Carroll. L., 1899.
De la Mare W. Lewis Carroll. L.,1932.
Empson W. Some Versions of the Pastoral. L., 1935.
Furness H. Confessions of a Caricaturist. L., 1902.
Gamer A. Dodgson from Cheshire and Carroll from Oxford // Carroll L. Complete Nonsence. L., 1998.
Gernsheim H. Lewis Carroll Photographer. L., 1949.
Green R. L. Lewis Carroll. L., 1960.
Green R. L. The Story of Lewis Carroll. L., 1949.
Guiliano E. Lewis Carroll: A Celebration. Essays on the Occasion of the 150th Anniversary of the Birth of Charles Lutwidge Dodgson. N. Y., 1982.
Hatch E. M. A Selection from Letters of Lewis Carroll to his Child-Friends. L., 1933.
Hudson D. Lewis Carroll. L., 1954.
Imholts A. A. Jr. Lewis Carroll and Political Correctness // Материалы конференции Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы, посвященной памяти Льюиса Кэрролла. Май 1998 года (рукопись готовится к печати).
In Memoriam. Charles Lutwidge Dodgson. 1832–1898. Obituaries of Lewis Carroll and Related Pieces / Compil. and ed. by A. A. Imholts Jr. and C. Lovett. N. Y., 1998. January 14.
Lewis Carroll Observed. A Collection of Unpublished Photographs, Drawings, Poetry, and New Essays / Ed. by E. Guiliano. N. Y., 1976.
Lewis Carroll. Interviews & Recollections / Compil. and ed. by M. N. Cohen. Iowa City, 1989.
Liddon H. P. The Russian Journal — II / Notes and Introd. by M. N. Cohen // Carroll Studies № 3. N. Y., 1979.
Maynard T. Lewis Carroll: Mathematician and Magician // Catholic World. L., 1935.
Morgan C. The House of Macmillan. 1843–1943. N. Y., 1943.
Priestley J. B. A Note on Humpty Dumpty// Priestley J. В. I for One. N. Y., 1921.
Pudney J. Lewis Carroll and His World. L., 1976.
Richardson J. The Young Lewis Carroll. L., 1964.
Sewell E. Lewis Carroll and T. S. Eliot as Poets of Nonsense // T. S. Eliot. Ed. by N. Braybrook. N. Y., 1958.
Sewell E. The Field Of Nonsense. L., 1952.
Sutherland R. D. Language and Lewis Carroll. The Hague; Paris, 1964.
The Philosopher’s Alice / Introd. and Notes by P. Heath. N. Y., 1974.
Weaver W. Alice in Many Tonques. The Translations of Alice in Wonderland. Madison, 1964.
Woolf J. The Mystery of Lewis Carroll. L., 2010.
Woolf V. Lewis Carroll // The Moments and other Essays. N. Y., 1948.
Примечания
1
Так называлась организация, осуществлявшая в те годы заказ изданий для нас в странах Восточной Европы. Книги переводились на русский язык и продавались по всей стране в магазинах «Дружба». (Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примечания автора.).
(обратно)2
Так произносят все англоговорящие народы имя Luthwidge, в отличие от часто встречающейся русской транслитерации «Лютвидж». В энциклопедических словарях приводится форма «Латуидж»; я использую транслитерацию «Латвидж», поскольку считаю, что она более точно соответствует английской фонетике и легче «ложится» на русский язык.
(обратно)3
См.: Collingwood S. D. The Life and Letters of Lewis Carroll. London 1899.
(обратно)4
См.: Wright K. The Dodgson Ancestry // Carrollian. 2004. № 13. Spring. P. 8–31.
(обратно)5
Британская сухопутная миля составляет 1609,344 метра.
(обратно)6
Майорат — система наследования по мужской линии, при которой титул и всё имущество умершего нераздельно переходят к старшему в роде или семье.
(обратно)7
Здесь и далее в случаях, когда не указан переводчик, перевод сделан автором книги. (Прим. ред.)
(обратно)8
Dean может означать и декана, и ректора колледжа, и настоятеля собора.
(обратно)9
Даты в жизнеописании Кэрролла даются по григорианскому календарю. В XIX веке он опережал действовавший в России юлианский календарь на 12 дней.
(обратно)10
Сонькин В. Англиканская церковь // Только не дворецкий. Комментарии. Англиканская церковь. М., 2011. С. 642–643.
(обратно)11
Беатификаций (от лат. beatus — счастливый, благословенный) — в католической церкви причисление умершего к лику блаженных, предваряющее его канонизацию — причисление к лику святых.
(обратно)12
Высокая церковь — течение внутри англиканства, подчеркивающее историческую связь с древней неразделенной Церковью. Ее приверженцы считают необходимыми институт епископата и отправление таинств, церковные облачения, сохранение традиций церковной архитектуры и использование во время богослужений средневековой музыки.
(обратно)13
Перевод С. Маршака.
(обратно)14
Перевод О. Белозерова.
(обратно)15
На письме не проставлена дата; его предположительно датируют 1837 годом.
(обратно)16
Перевод Д. Орловской.
(обратно)17
Из заповедей Христовых: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».
(обратно)18
Первое послание апостола Павла к коринфянам: «А мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие».
(обратно)19
Old по-английски может означать не только «старый», но также «милый», «славный».
(обратно)20
От нем. Mischmasch — всякая всячина.
(обратно)21
Перевод лимериков А. Шараповой и М. Полыковского.
(обратно)22
Полдень, юг (ит.).
(обратно)23
Прекрасный вид (ит.).
(обратно)24
Перевод М. Штайнман. Курсив мой. — Н. Д.
(обратно)25
Речь идет об «Истории Англии» английского историка, публициста и политического деятеля Томаса Бабингтона Маколея (1800–1859).
(обратно)26
С любовью (ит.).
(обратно)27
Коммонеры («сотрапезники») — нетитулованные студенты, которые оплачивали свое питание за общим столом (commons — питание, трапеза). В Крайст Чёрч студенты обедали в Холле — бывшей монастырской трапезной; их присутствие на завтраке и обеде было таким же обязательным, как присутствие на утренней службе в соборе. Сервиторы («служители») — студенты, которые оплачивали свое обучение в университете, прислуживая за столом и пр. Знал ли Чарлз, что один из его предков был студентом-служителем в Кембридже (там их назвали сайзерами), нам неизвестно.
(обратно)28
Здесь и далее цитаты из Теккерея даются по: Теккерей У. Собрание сочинений: В 12 т. Т. 3. М., 1975. Глава XIII. Кое-где в перевод были внесены необходимые исправления. Некоторые различия в описании одежды студентов объясняются тем, что Теккерей говорит о Кембридже, в котором учился сам.
(обратно)29
Проезд по железной дороге от Лондона до Оксфорда и обратно стоил пять шиллингов — немалая сумма по тем временам.
(обратно)30
Перевод С. Головой.
(обратно)31
Пятого ноября 1605 года был раскрыт Пороховой заговор католиков, намеревавшихся с помощью бочек с порохом взорвать здание парламента с целью убийства короля Якова I. С тех пор это событие англичане отмечают сжиганием чучела руководителя заговорщиков Гая Фокса и фейерверками.
(обратно)32
Так называли преподавателей в Оксфорде и Кембридже.
(обратно)33
Сестра Чарлза Мэри Шарлотта.
(обратно)34
Что это был за подарок — брелок, компас, нож, часы, — мы не знаем.
(обратно)35
Лауреат — в Англии звание придворного поэта, утвержденного монархом: в его обязанности входило написание стихов по торжественным случаям.
(обратно)36
Хор из интродукции «Тысяча благодарностей, мои господа» (исп. Mille grazie, mio signore).
(обратно)37
Акт IV, сцена 2. Перевод Б. Томашевского.
(обратно)38
Бенджамин Роберт Хейдон (1786–1846) — автор исторических и религиозных полотен, а также портретов Вордсворта, который посвятил ему сонет, и Китса. Он был противником академической школы и оставил после себя обширные автобиографические записки, которые, по мнению критиков, дают представления о художественной жизни той поры и о неуравновешенном сознании их автора.
(обратно)39
Шекспир умер 23 апреля 1616 года, в день своего 52-летия.
(обратно)40
Сэр Артур Хелпс (1813–1875) — эссеист, историк, беллетрист и драматург; редактировал книгу королевы Виктории «Шотландский дневник», а также «Речи и обращения принца-консорта». Его «Дружеские беседы» вышли в 1847–1859 годах четырьмя сериями.
(обратно)41
Чарлз Кингсли (1819–1875) — писатель, историк и священник, один из так называемых христианских социалистов; его социальный роман «Олтон Локк» (1850) был посвящен тяжелому положению сельских и городских бедняков в 1830–1840-х годах, вызвавшему в Англии чартизм — политическое и социальное движение, получившее название от поданной в 1839 году парламенту петиции — «народной хартии» (charter).
(обратно)42
Речь идет не о ложке, а о половнике. В «Собрании художественных произведений Льюиса Кэрролла» это стихотворение опубликовано под названием «Дама ковша».
(обратно)43
Перевод К. Савельева.
(обратно)44
Перевод О. Седаковой.
(обратно)45
Перевод Д. Орловской.
(обратно)46
Перевод К. Савельева.
(обратно)47
Перевод О. Белозерова.
(обратно)48
Художественное училище при Лондонском университете, открытое в 1871 году, названо по имени Феликса Слейда, филантропа и коллекционера произведений искусства.
(обратно)49
Живые картины (фр.).
(обратно)50
Капитул — собрание каноников собора во главе с настоятелем.
(обратно)51
Перевод М. Полыковского.
(обратно)52
Перевод М. Матвеева.
(обратно)53
Отец семейства (лат.).
(обратно)54
Мать семейства (лат.).
(обратно)55
Перевод обоих стихотворений В. Лунина.
(обратно)56
Цит. по: Thomas D. Lewis Carroll. London, 1996. P. 187.
(обратно)57
Перевод Э. Ермакова.
(обратно)58
Перевод М. Матвеева.
(обратно)59
В 1776 году в этот день была принята Декларация независимости США.
(обратно)60
Воспоминания Алисы Лидделл (миссис Харгривс) были записаны ее сыном в 1932 году в связи с празднованием столетия со дня рождения Льюиса Кэрролла.
(обратно)61
Перевод О. Седаковой.
(обратно)62
Построен в 1699 году Кристофером Реном (Wren) на средства епископа Кентерберийского Гилберта Шелдона.
(обратно)63
Оксфордский университет с 1603 по 1950 год имел право посылать своего представителя в палату лордов парламента.
(обратно)64
Перевод О. Седаковой.
(обратно)65
Перевод Д. Орловской.
(обратно)66
В переводе с валлийского это означает «на краю покрытой вереском пустоши» (или «болота»), но ни вереска, ни болота теперь здесь поблизости нет. Правда, до недавнего времени дом стоял на краю города, на берегу моря.
(обратно)67
Перевод О. Седаковой.
(обратно)68
Перевод Д. Орловской.
(обратно)69
Перевод Д. Орловской.
(обратно)70
Письма Кэрролла Мэри Макдональд приводятся в переводе Ю. Данилова.
(обратно)71
Тех, кого интересует эта проблема, отсылаю к интервью М. Митурича-Хлебникова в моей книге «Картинки и разговоры. Беседы о Льюисе Кэрролле» (СПб., 2008).
(обратно)72
Перевод Д. Орловской.
(обратно)73
Перевод С. Маршака.
(обратно)74
Перевод О. Седаковой.
(обратно)75
Перевод О. Белозерова.
(обратно)76
Этому и другим русским переводам сказки посвящена моя статья. См.: Демурова Н. М. Соня, Аня, Алиса… Русские переводы «Приключений Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла // Кэрролл Л. Алиса в Стране чудес, Страна чудес Алисы. Из истории книги. М., 2010. С. 44–65.
(обратно)77
В то время в Англии совершеннолетие (the age of consent) для девушек официально наступало в 12 лет, позже возраст его достижения изменили на 14 лет и лишь в XX веке — на 16.
(обратно)78
Здесь и далее цитаты из дневника Лиддона даются по изданию: The Russian Journal — 2. A Record Kept by Henry Parry Liddon of a Tour Taken with C. L. Dodgson in the Summer of 1867 / Ed. by Morton N. Cohen. New York, 1979.
(обратно)79
Здесь и далее цитаты из «Русского дневника» Доджсона даются по: Lewis Carroll’s Diaries: In 10 vols / Notes and Annotations by Edward Wakeling. Luton, 1999. Vol. 5. P. 255–369.
(обратно)80
Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов) (1782–1867) — митрополит Московский и Коломенский, крупнейший русский православный богослов XIX века. В 1994 году канонизирован Русской православной церковью в святительском чине.
(обратно)81
Здесь и далее цитаты из «Русского дневника» даются по моему переводу, выполненному по изданию МакДермотта и сверенному с оригиналом, хранящимся в коллекции Пэрриша в Принстонском университете, с восстановлением пропусков, исправлением неверно прочитанных слов и сохранением особенностей записей Кэрролла (использование заглавных букв, цифр вместо числительных, тире в длинных пассажах и пр.). Некоторые слова (имена, названия гостиниц и пр.) в дневнике Кэрролла написаны по-русски — русскими или английскими буквами. Я привожу их в кэрролловском, не всегда верном написании, оговаривая неточности.
(обратно)82
Перевод М. Матвеева.
(обратно)83
Очень прост (фр.).
(обратно)84
Возможно, речь идет об Оммеганге — костюмированной процессии со статуей Девы Марии, ежегодно совершаемой и поныне в начале июля.
(обратно)85
Табльдот (фр. table d’hôte, букв. хозяйский стол) — общий обеденный стол в пансионах и гостиницах.
(обратно)86
Кэрролл называет шалью большой «талит» — кусок материи размером 1,5×1 метр с нитями по углам и двумя полосами по верхнему краю, накидываемый иудеями на плечи во время молитвы.
(обратно)87
«Через минуты я принесет холодный ветчин» (искаж. англ.).
(обратно)88
От лат. vesica — пузырь.
(обратно)89
Рыба (греч.).
(обратно)90
«Он не говорит по-английски, он не говорит по-немецки» (нем.).
(обратно)91
Год 66 (лат.).
(обратно)92
Здрасьте (англ.).
(обратно)93
В оригинале — Admiralty Platz (Площадь); слово в скобках написано по-русски.
(обратно)94
Кэрролл ошибся: кафедральным был Исаакиевский собор, а не Петропавловский в одноименной крепости.
(обратно)95
Как указывает историк искусства Н. Ю. Семенова, картина была куплена для Николая I в 1836 году на аукционе в Лондоне. На акварели Луиджи Премацци 1869 года видно, что она висела в Угловом кабинете императрицы Марии Федоровны, супруги Александра III. Увы, этого шедевра Рафаэля, написанного около 1510 года и известного под названием «Мадонна Альба», нет более в Эрмитаже — в апреле 1931 года он был продан американскому миллионеру Э. Меллону за рекордную по тем временам цену — 1 166 400 долларов. В настоящее время полотно находится в Национальной галерее искусства в Вашингтоне.
(обратно)96
«Святой памяти Александра I, который восстановил из пепла сей древний град, преданный огню во время войны с французами 1812 года, и своими отеческими заботами украсил его многими памятниками» (лат.).
(обратно)97
Кэрролл называет Филарета архиепископом, поскольку сан митрополита ему незнаком, ибо отсутствует в иерархии Англиканской церкви.
(обратно)98
Так обычно называли первую Ламбетскую конференцию, которая должна была состояться в сентябре 1867 года, чтобы решить судьбы англиканских епископов в африканских колониях, получавших независимое законодательство.
(обратно)99
Джон Уильям Коленсо (1814–1883) — епископ провинции Натал (Южная Африка), известный миссионерством среди зулусов. Он был обвинен в ереси, предан суду, низложен и отлучен от церкви Робертом Греем, епископом Кейптауна, однако это решение было отменено Судебным комитетом Тайного совета. Энциклика архиепископа Кентерберийского по поводу этого дела была разослана главам Восточных церквей с сопроводительными письмами.
(обратно)100
Первый день Успенского поста, праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня.
(обратно)101
Речь идет о полотне Ф. А. Бруни «Медный змий».
(обратно)102
Здесь: фотопортрет размером 3,5×2,5 дюйма, наклеенный на картонное паспарту.
(обратно)103
Курхаус (нем. Kuhrhaus — букв, курортный дом) — летний павильон на курорте, предназначенный для балов, выставок, концертов.
(обратно)104
Необычайная, нарочитая (фр.).
(обратно)105
Печальный (фр.).
(обратно)106
Диккенс Ч. Земля Тома Тиддлера / Пер. Н. Бать //Диккенс Ч. Собрание сочинений: В 30 т. Т. 27. М., 1962. С. 45.
(обратно)107
См.: Woolf J. The Mystery of Lewis Carroll. London, 2010. P. 208.
(обратно)108
Цит. по: Ibid. P. 208–209.
(обратно)109
Clark A. Lewis Carroll. London, 1979. P. 174.
(обратно)110
Здесь и далее в этой главе письма детям приводятся в переводе Ю. Данилова.
(обратно)111
Перевод М. Матвеева.
(обратно)112
Перевод М. Бородицкой.
(обратно)113
Поэтами становятся, а не рождаются (лат.).
(обратно)114
Ораторами становятся, поэтами рождаются (лат.).
(обратно)115
Перевод М. Бородицкой.
(обратно)116
Падни Д. Льюис Кэрролл и его мир / Пер. В. Харитонова, А. Сквайрс. М., 1982. С. 93.
(обратно)117
Перевод О. Седаковой.
(обратно)118
Институт Тейлора (Taylorian Institute) — институт иностранных языков при Оксфордском университете, основанный в 1845 году на средства, завещанные Робертом Тейлором; обладает большой библиотекой иностранной литературы.
(обратно)119
Перевод О. Седаковой.
(обратно)120
Кто такой Шалтай-Болтай? Ответ прост — яйцо!
(обратно)121
Перевод Д. Орловской.
(обратно)122
Речь идет о факсимиле рукописи Кэрролла «Приключения Алисы под землей», опубликованном в декабре 1886 года.
(обратно)123
Carroll L. Alice on the Stage // Alice in Wonderland. Lewis Carroll / Ed. by D. Gray. N.Y., 1971. P. 281–282.
(обратно)124
Глава написана М. Матвеевым.
(обратно)125
Кэрролл Л. Точ(еч)ная динамика партийной болтовни / Пер., вступ. ст. и коммент. Ю. М. Батурина // История политической мысли и современность: Ежегодник. 1988. М., 1988.
(обратно)126
Цит. по: Дарвин Ф. Воспоминания о повседневной жизни моего отца // Дарвин Ч. Сочинения: В 9 т. / Пер. С. Л. Соболя; под ред. В. Н. Сукачева. Т. 9. М., 1959.
(обратно)127
Роберт Артур Толбот Гаскойн-Сесил, третий маркиз Солсбери (1830–1903) — государственный деятель, премьер-министр (1885, 1886–1892, 1895–1902), министр иностранных дел (1878, 1885–1886, 1886–1892, 1895–1900).
(обратно)128
Carroll L. Alice on the Stage // The Theatre. 1887. Vol. IX. January to June. P. 181.
(обратно)129
Перевод В. Рогова.
(обратно)130
Мэрион Терри была снята в образе Фиц-Джеймса, героя поэмы Вальтера Скотта «Дева озера».
(обратно)131
На корабле «Бигль» Чарлз Дарвин совершил кругосветное плавание в 1831–1836 годах.
(обратно)132
Перевод Ю. Данилова.
(обратно)133
Цит. по: Падни Д. Льюис Кэрролл и его мир. М., 1982. С. 104.
(обратно)134
Первая строчка речи Марка Антония на похоронах Цезаря из пьесы Шекспира «Юлий Цезарь».
(обратно)135
См.: Hatch В. Lewis Carroll // Strand Magazine. 1898. April.
(обратно)136
Цит. по: Демурова Н. О степенях свободы: Перевод имен в поэме Льюиса Кэрролла «Охота на Снарка» //Альманах переводчика. М., 2001. С. 30.
(обратно)137
Цит. по: Демурова Н. М. Льюис Кэрролл: Очерк жизни и творчества. М., 1979. С. 32.
(обратно)138
Цит. по: Демурова Н. О степенях свободы. С. 30.
(обратно)139
См.: Shaw L. The Baker Murder Case // ‘Inside and Science Fiction Advertiser. 1956. September.
(обратно)140
Mayer J. The Vivisection of the Snark //Victorian Poetry. 2009. Vol. 47.
(обратно)141
Холидей вспоминал: «Я спросил Льюиса Кэрролла, когда впервые прочитал его рукопись, почему он приписал всем членам команды занятия, начинающиеся с буквы „Б“. Он ответил: „А почему бы и нет?“». Известно также, что Кэрролл использовал псевдоним «Б. Б.» (В. В.), подписывая некоторые свои ранние стихи.
(обратно)142
Честертон Г. К. Льюис Кэрролл // Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране чудес. Сквозь Зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье / Пер. Н. М. Демуровой. М., 1978. С. 232.
(обратно)143
См.: Стритер Р., Вайтман А. РСТ, спин и статистика и всё такое / Пер. А. Д. Суханова. М., 1966; Даррелл Д. Путь кенгуренка / Пер. Л. Жданова. М., 1968.
(обратно)144
Кстати (фр.).
(обратно)145
Кэрролл Л. Сильвия и Бруно / Пер. А. Голова. М.; Томск, 2003. С. 11–12.
(обратно)146
Здесь и далее все тексты из книги «Сильвия и Бруно» даются в переводе А. Голова.
(обратно)147
Название механизма было образовано путем замены второй части слова velocipede, происходившей от лат. pês — нога, производным от лат. manus — рука.
(обратно)148
Перевод И. Разумовской и С. Самостреловой.
(обратно)149
Перевод И. Комаровой.
(обратно)150
Перевод обоих сонетов И. Комаровой.
(обратно)151
Перевод В. Харитонова и Е. Сквайрс.
(обратно)152
«Миссис Гранди» символизирует общественное мнение.
(обратно)153
«Божественная комедия» (ит.).
(обратно)154
Перевод этой и следующей цитаты В. Харитонова и Е. Сквайрз.
(обратно)155
Быт. 28:12–13.
(обратно)156
Это письмо про больницы будет опубликовано в постскриптуме на последней странице книги (см. ниже).
(обратно)157
Перевод С. Таска.
(обратно)158
Перевод А. Боченкова.
(обратно)159
Перевод М. Полыковского.
(обратно)160
Перевод Ю. Данилова.
(обратно)161
Перевод А. Боченкова.
(обратно)162
Перевод А. Боченкова.
(обратно)163
Перевод Ю. Данилова.
(обратно)164
См.: Кэрролл Л. История с узелками. М., 1973. С. 368–377.
(обратно)165
Никтограф (от греч. nyktos — ночь, grapho — пишу) — картонная дощечка с шестнадцатью прорезанными отверстиями в два ряда, позволяющая писать символы на ощупь.
(обратно)166
Статья, впервые опубликованная в журнале «Иностранная литература» (2003. № 7), несколько переработана для настоящего издания.
(обратно)167
Перевод Д. Орловской.
(обратно)168
См.: Lebailly Н. Dodgson’s Diaries: The Journal of a Victorian Playgoer (1855–1897); Charles Lutwidge Dodgson’s Infatuation with the Weaker and More Aesthetic Sex Re-examined; Leach K. In the Shadow of the Dreamchild: a new understanding of Lewis Carroll. London, 1999.
(обратно)169
«Новый большой англо-русский словарь» под ред. Ю. Д. Апресяна дает следующее определение privacy: 1. уединение; уединенность; 2. тайна, секретность; 3. личное, частное дело; 4. уединенный уголок.
(обратно)



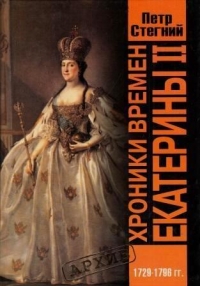

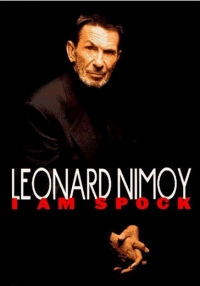
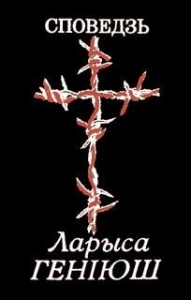
Комментарии к книге «Льюис Кэрролл», Нина Михайловна Демурова
Всего 0 комментариев