Пролог «СЧАСТЬЕ НЕ ТАК СЛЕПО…»
В начале лета 1791 года пожилая дама прогуливалась по зеленым липовым аллеям Царского Села. Ей было за 60, но она сохранила бодрость и все еще любила долгие пешие променады, как бы отделявшие часы утренней работы от обеда и послеобеденных дел. «Нет человека подвижнее меня в этой местности, — писала она за двадцать лет до того о Царском Селе. — …Я хожу по десяти верст как ни в чем не бывало. Не значит ли это испугать самого храброго лондонского ходока?»[1]
Судя по Камер-фурьерскому журналу, государыню повсюду сопровождали любимая левретка — представлявшая уже третье поколение левреток, подаренных когда-то Екатерине английским доктором Джеймсом Димсдейлом в честь успешно проведенной операции оспопрививания в России, — и две немолодые подруги: камер-юнгфера Марья Саввишна Перекусихина и статс-дама Анна Никитична Нарышкина. За долгие годы, проведенные у власти, императрица научилась оставаться одна даже в компании посторонних. Когда-то веселую и общительную великую княгиню тяготило вынужденное одиночество. Потом, уже после восшествия на престол, вынужденным стало постоянное пребывание на публике, и Екатерина смогла в полной мере оценить прелесть редких минут уединения.
Окруженная спутницами, она слушала и не слышала их разговор, отвечала, улыбалась, шутила, но… думала о другом. Не так давно Екатерина возобновила работу над «Записками» — воспоминаниями о днях молодости. Государыня много раз обращалась к этому произведению, можно сказать, работала над ним всю жизнь, внося что-то новое, уточняя и вымарывая, переставляя куски…
Еще в 1745 году юная принцесса нарисовала свой психологический портрет, озаглавив рукопись «Набросок начерно характера философа в пятнадцать лет». В конце 1750-х из-под пера Екатерины вышла краткая редакция «Записок». А в 1758 году, узнав об аресте канцлера Алексея Петровича Бестужева, ее политического сторонника, великая княгиня сожгла бумаги, в том числе и биографические заметки. После переворота 1762 года молодая императрица написала еще две редакции «Записок», одна из которых почти совпадала с первой (этот вариант предназначался для ее подруги П. А. Брюс), а другая была расширена за счет рассказа о заговоре. Затем воспоминания оказались надолго отложены в дальний ящик, а их автор со всей страстью предался государственной работе. На повестке дня стояли: секуляризация церковных земель, генеральное межевание, созыв Уложенной комиссии…
Кроме того, Екатерина сочиняла пьесы, либретто для комических опер, делала исторические заметки, но ни разу не прикоснулась к своим мемуарам. Видимо, она была так поглощена новыми замыслами, что у нее не возникало потребности вспоминать прошлое. Жизнь сегодняшняя, реальная кипела у Екатерины под руками и буквально капала с кончика пера.
Однако все имеет свой предел, и человеческие силы тоже. С 1771 года начался один из труднейших периодов царствования императрицы. Цесаревич Павел подрос и стал всерьез претендовать на престол, один заговор следовал за другим. Продолжалась первая Русско-турецкая война, а в глубине страны разразилась Пугачевщина. Вот тогда-то Екатерина вновь взялась за «Записки». Их очередная редакция обогатилась рассказами о событиях 1729–1750-х годов. Над ней царица работала с 1771 по 1774 год. То есть до тех пор, пока в ее жизни не произошел новый крутой поворот и она не обрела опору там, где не чаяла.
Осенью 1774 года императрица вступила во второй, теперь уже тайный, брак — с Григорием Александровичем Потемкиным. Светлейший князь стал для Екатерины главным помощником, оказывая ей политическую и моральную поддержку. Он создавал новые государственные идеи, воплощением которых отмечена вся вторая половина екатерининского царствования. И опять в течение семнадцати лет, совпавших со временем могущества Потемкина, царица не притрагивалась к воспоминаниям. Она вновь сочиняла исторические драмы, бытовые пьесы и сказки для внуков, вела громадную переписку.
Прошло почти двадцать лет, и Екатерина внезапно вернулась к мемуарам. Она трудилась над их последней редакцией с 1790 года до конца жизни, то есть до 1796 года. Это время тоже не было простым: новая Русско-турецкая война 1787–1791 годов, совпавшая с ней Русско-шведская 1788–1790 годов, затем смерть Потемкина, оставившего ее один на один с громадой государственных дел. Наконец, французская революция, наложившая глубокий отпечаток на внешнюю и внутреннюю политику всех европейских стран, в том числе и России.
Екатерина старела, ее жизненная энергия и былой задор иссякали, болезни брали свое. Оставались ясность ума и грустное сознание того, что далеко не все задуманное удалось совершить в лучшие годы. И вот опять императрица вынимает пожелтевшие листы воспоминаний, перерабатывает, дописывает, уточняет.
Создается впечатление, что Екатерина обращалась к мемуарам именно в тяжелые моменты жизни. Что она искала в них? Ободрения? Опоры? Силы для того, чтобы выстоять в невзгодах? Вероятно, трудности, встававшие перед государыней уже в дни царствования, не были, на ее взгляд, сравнимы с тем откровенно невыносимым существованием, которое она вела в юности. Недаром пожилые героини пьес Екатерины часто в той или иной форме повторяют фразу: «Хоть печали и много было смолоду, но мне под старость бы видеть лица веселые». Вглядываясь в картины прошлого, Екатерина словно училась у самой себя, более молодой и выносливой, словно говорила: если я выдержала тогда, грешно не выдержать сейчас.
Третья редакция «Записок», относящаяся к 90-м годам XVIII века, начиналась многозначительным рассуждением о счастье и несчастье: «Счастье не так слепо, как его себе представляют. Часто оно бывает следствием длинного ряда мер, верных и точных, незамеченных толпою и предшествующих событию. А в особенности счастье отдельных личностей бывает следствием их качеств, характера и личного поведения. Чтобы сделать это более осязательным, я построю следующий силлогизм:
Качества и характер будут большей посылкой;
Поведение — меньшей;
Счастье или несчастье — заключением.
Вот два разительных примера.
Екатерина II,
Петр III».
Что же позволило императрице поставить такой победный аккорд именно в годы невзгод и испытаний? Что заставляло Екатерину думать о себе как о счастливом человеке, когда кругом в зыбком вихре, поднятом французской революцией, кружились осколки корон и вдребезги разбитых тронов, когда резкие звуки Марсельезы, доносясь до Петербурга, начинали смахивать на разбойничьи песни пугачевцев?
Дело в том, что пожилой даме, мирно раскладывающей пасьянс со своими старыми камер-фрау, было что противопоставить надвигающемуся хаосу. Это была она сама.
На одном из портретов кисти голландского живописца В. Эриксена Екатерина изображена у огромного зеркала. Императрица смотрит на зрителя, а мы можем наблюдать ее одновременно в профиль и фас. Сзади, за небрежно откинутой драпировкой еще одно зеркало, оно тоже ловит и бесконечно умножает изображения государыни. Создается впечатление, что куда бы ни повернулась Екатерина, она повсюду увидит самое себя.
Художественный образ весьма точен. С юности будущая «владычица полумира» проявляла углубленный интерес к своей личности. Она оставила множество разрозненных заметок на этот счет. В письмах философам Вольтеру, Дидро, Гримму, на страницах воспоминаний, в разрозненных заметках императрица то и дело возвращается к оценке своего характера и жизненных принципов.
Даже на обратной стороне листка, содержавшего эпитафию любимой собачке сиру Тому Андерсону, государыня пишет свою собственную надгробную надпись: «Здесь покоится тело Екатерины II… Она приехала в Россию, чтобы выйти замуж за Петра III. 14 лет она составила тройной план: нравиться своему супругу, Елизавете и народу — и ничего не забыла, чтобы достигнуть в этом успеха. 18 лет скуки и одиночества заставили ее много читать. Вступив на русский престол, она желала блага и старалась предоставить своим подданным счастье, свободу и собственность. Она охотно прощала и никого не ненавидела. Снисходительная, жизнерадостная, от природы веселая, с душою республиканки и добрым сердцем она имела друзей. Работа для нее была легка. Общество и искусства ей нравились»[2].
В этом коротком тексте есть все, вокруг чего обычно крутится рассказ о жизни императрицы. Ни один исследователь не миновал вопроса о средствах достижения Екатериной успеха, о ее амбициозных планах, составленных в столь раннем возрасте, о тяжелых годах супружества, о влиянии книг на развитие будущей государыни. Множество перьев сломано в дискуссиях об искренности желания Екатерины наделить своих подданных «счастьем, свободой и собственностью». И, наконец, о том, как республиканка «в душе» стала одним из самых могущественных русских самодержцев.
Вероятно, ответы на эти вопросы живо волновали саму Екатерину, иначе она не пыталась бы столь часто прибегать к анализу своего «я». Одним из способов заглянуть в тайники собственной души было для нее обращение к воспоминаниям.
Глава первая ШТЕТТИН — МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД
«Зачем вам Штеттин? — писала в 1776 году Екатерина своему старому корреспонденту барону Мельхиору Гримму, узнав, что тот собирается побывать у нее на родине. — Вы никого там не застанете в живых… Но если вы не можете освободиться от этой охоты, то знайте, что я родилась в Мариинском приходе, что я жила и воспитывалась в угловой части замка и занимала наверху три комнаты со сводами возле церкви, что в углу. Колокольня была возле моей спальни… Через весь этот флигель по два или по три раза в день я ходила, подпрыгивая, к матушке, жившей на другом конце. Впрочем, не вижу в том ничего занимательного. Разве, может быть, вы полагаете, что местность имеет влияние на произведение сносных императриц?»[3]
Несмотря на шутливый тон, с каким Екатерина говорила о годах своего младенчества, в мемуарах она уделяет раннему периоду жизни самое серьезное внимание. Когда императрица думала и писала наедине с собой, уже неуместны были замечания вроде брошенных Гримму: «Со временем станут ездить в Штетин на ловлю принцесс, и в этом городе появятся караваны посланников, которые будут там собираться, как за Шпицбергеном китоловы»[4].
В третью, наиболее позднюю редакцию «Записок» Екатерина специально вставила страницы, посвященные детству и описанию людей, которые ее окружали. Век Просвещения принес с собой совершенно новое понимание ценности человеческого детства. Вместо «низеньких взрослых» в застывших позах на портретах появились малыши с игрушками, возникло понятие особой комнаты в доме — детской, в популярных журналах целые полосы посвящались вопросам воспитания. Масоны в ложах произносили нравоучительные речи о создании «совершенного человека», которое начиналось с младых ногтей, когда, по утверждению английского психолога Джона Локка, ребенок напоминает чистый лист бумаги: важно начертать на нем добрые, разумные письмена. Кто и какие письмена чертил на белом листе души маленькой принцессы Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской?
Для Екатерины, как и для наиболее одаренных мемуаристов той эпохи, значение детских впечатлений стало очевидно гораздо раньше, чем для большинства современников. Читая строки ее воспоминаний, можно найти ответы на многие загадки личности будущей императрицы. Даже болезни оказались отдельной страницей в становлении характера «Северной Семирамиды».
Девочка росла сущим бесенком и постоянно норовила сломать себе шею во время самых невинных игр. У нее было столько энергии, что, набегавшись и напрыгавшись за день, она вечером не могла уснуть и, оседлав громадную диванную подушку, скакала на ней, как на лошади, до тех пор, пока в изнеможении не падала на кровать. «Однажды я так изловчилась, — вспоминала Екатерина, — что шкаф, полный игрушек и кукол, упал на меня… Мать подумала, что меня задавило, но, к счастью, дверцы шкафа были отперты, и он лишь удачно накрыл меня… В другой раз я чуть не проткнула себе глаз ножницами: острие попало в веко»[5].
Невольно задумаешься над ролью случая. Как пошла бы дальше история России, если б маленькая немецкая принцесса окривела и не вышла замуж за наследника российского престола?
До семи лет будущая императрица страдала разве что повторяющимися приступами золотухи, которой тогда болели почти все дети. Существовало мнение, что золотуху лечить опасно, и потому хворого ребенка брили наголо, если короста появлялась на голове, и усиленно пудрили. Если же болезнь вспыхивала на руках, то на них натягивали глухие перчатки, которые не снимали до тех пор, пока корки не сходили. Не миновала подобного «лечения» и юная Екатерина. Впрочем, это ее не слишком беспокоило.
Настоящим наказанием в старом штеттинском замке были сквозняки. Каждое утро и каждый вечер детей ставили на колени читать молитву. В один прекрасный день Фикхен зашлась страшным кашлем, повалилась на бок и не смогла встать. «Ко мне бросились и снесли меня на кровать, где я оставалась почти в течение трех недель, лежа постоянно на левом боку с кашлем и колотьями и очень сильным жаром». Когда же девочка поднялась с постели, то окружающие увидели страшную картину: «правое плечо стало выше левого, позвоночник шел зигзагом, а в левом боку образовалась впадина». Об уродстве маленькой принцессы родители не отважились сказать никому, за исключением двух верных слуг, которые и пригласили к своей больной госпоже… местного палача (в городе, по признанию Екатерины, не было доктора).
Штеттинский палач, а по совместительству хирург, предложил весьма оригинальный способ лечения. «Человек этот, осмотрев меня, приказал, чтоб каждое утро в шесть часов девушка натощак приходила натирать мне плечо своей слюной, а потом позвоночник. Затем он сам сделал род корсета, который я не снимала ни днем ни ночью… Сверх того, он заставил меня носить широкую черную ленту, которая шла вокруг шеи, охватывала с правого плеча правую руку и была закреплена на спине… Я перестала носить этот столь беспокойный корсет лишь к десяти или одиннадцати годам»[6].
Представьте себе ребенка, в течение трех-четырех лет закованного в неудобный стесняющий движения корсет. Нельзя бегать, лазать по деревьям, играть со сверстниками в шумные игры, каждый лишний шаг, взмах руки, наклон головы крайне ограничен. И это у девочки, которая еще недавно не знала, куда девать энергию! Временная кривобокость — первая в жизни Екатерины болезнь-урок. Именно тогда будущая императрица приобрела необыкновенно прямую величественную осанку, о которой писали все современники, а главное — в столь раннем возрасте научилась сдерживать свои порывы и жить в постоянном принуждении к стесняющим волю правилам. Этот горестный навык очень пригодился Екатерине в будущем.
Сестры Кардель
Мир девочки вращался вокруг трех главных в ее детской жизни людей: матери, отца и гувернантки. В знатных семьях дети больше времени проводили не в обществе родителей, а в обществе воспитателей и наставниц. Именно последние оказывали наибольшее влияние на характер подопечных. В зрелые годы Екатерина вспоминала об обеих своих гувернантках.
В сказке Г. X. Андерсена «Ребячья болтовня» есть описание одной не в меру спесивой девочки, которой, по меткому выражению автора, манеры «не вбили, а вцеловали, и не родители, а слуги». Было бы любопытно взглянуть, какие из качеств будущей императрицы «вцеловали» ей штеттинские слуги, а какие действительно «вбила» мать, по отзывам дочери весьма тяжелая на руку.
Еще до гувернанток совсем маленькую Фикхен поручили заботам компаньонки ее матери, некой фон-Гогендорф. «Эта дама так неумело взялась за меня, что сделала меня очень упрямой, — писала впоследствии императрица, — я никогда не слушалась иначе, как если мне прикажут по крайней мере раза три, и притом очень внушительным голосом»[7]. Упрямство в течение всей жизни было заметной чертой характера Екатерины. Правда, с годами она научилась хорошо скрывать его. «Я умела быть упрямой, — позднее писала она, — твердой, если хотите, когда это казалось мне необходимым. Я никогда не стесняла ничьих мнений, но при случае имела свое собственное. Я не люблю споров, потому что вижу, что всегда каждый остается при своем мнении. Вообще я не смогла бы всех перекричать»[8].
С двух лет заботы о девочке поручили француженке-эмигрантке Магдалине Кардель, «которая была вкрадчивого характера, но считалась немного фальшивой». «Она очень заботилась о том, чтобы я являлась перед отцом и матерью такою, какой могла бы им нравиться, — вспоминала Екатерина. — Следствием этого было то, что я стала слишком скрытной для своего возраста»[9].
Кардель рано привила Фикхен те черты, о которых впоследствии будут много писать мемуаристы: умение нравиться, превратившееся в настоящее искусство. Прошли годы, место родителей заняли другие люди, и императрица всегда представала перед ними такой, какой ее хотели видеть. Для тысячи зрителей у нее была тысяча масок, для каждого собеседника — свой стиль и своя манера общения. Однако, и это следует подчеркнуть, подобный маскарад не являлся бездумной сменой амплуа на сцене жизни. Екатерина всегда играла свою роль. Просто ее роль оказалась настолько сложна, что потребовала от исполнительницы умения демонстрировать все грани своего актерского таланта.
Сама Екатерина не слишком любила в себе эту черту. Во всяком случае, Магдалине Кардель сильно достается от воспитанницы за фальшь. Естественность и искренность старательно изгонялись из поведения девочки, заменяясь наивным позерством. Одновременно происходило поощрение слабостей: тщеславия, любви к подаркам и лести. В таком состоянии ребенка нашла новая гувернантка, о которой Екатерина с благодарностью писала: «Магдалина Кардель вышла замуж… и меня поручили ее младшей сестре Елизавете Кардель, смею сказать образцу добродетели и благоразумия — она имела возвышенную от природы душу, развитой ум, превосходное сердце; она была терпелива, кротка, весела, справедлива, постоянна и на самом деле такова, что было бы желательно, чтобы могли всегда найти подобную при всех детях»[10].
Однако это слова уже взрослой, умудренной опытом женщины. Маленькой упрямой и скрытной Фикхен новая наставница сначала очень не понравилась. «Она меня не ласкала и не льстила мне, как ее сестра; эта последняя тем, что обещала мне сахару да варенья, добилась того, что испортила мне зубы и приучила меня к довольно беглому чтению, хоть я и не знала складов. Бабет Кардель, не столь любившая показной блеск, как ее сестра, снова засадила меня за азбуку и до тех пор заставляла меня складывать, пока не решила, что я могу обходиться без этого»[11]. Заметим, что многие наблюдатели отмечали в Екатерине любовь к «показному блеску» и умение пускать пыль в глаза, то есть именно те качества, за которые воспитанница бранит старшую из гувернанток.
Лесть как путь к сердцу монархини использовали многочисленные придворные дельцы и иностранные дипломаты. Английский посол сэр Джеймс Гаррис передавал в донесении домой совет, данный ему светлейшим князем Г. А. Потемкиным. На вопрос, как завоевать симпатию императрицы, тот ответил: «Льстите ей»[12]. Даже если Потемкин посмеивался над Гаррисом или, что вероятнее, втягивал его в свою политическую игру, дыма без огня быть не могло: Екатерина всю жизнь оставалась неравнодушна к отзывам о своей личности, талантах и заслугах. Поэтому строгие нравственные уроки Елизаветы Кардель, без сомнения, пошли будущей императрице на пользу. Они научили Фикхен сдерживать в узде неуемную жажду похвал и показали, что не все люди будут потакать ее слабостям.
Именно младшая Кардель приохотила воспитанницу к чтению, причем возможность слушать книги подавалась как награда за хорошее поведение. Это заставило девочку считать книги высшим и наиболее изысканным наслаждением. «У Бабет было своеобразное средство усаживать меня за работу и делать со мной все, что ей захочется: она любила читать. По окончании моих уроков она, если была мною довольна, читала вслух; если нет, читала про себя; для меня было большим огорчением, когда она не делала мне чести допускать меня к своему чтению»[13].
Вместе с Кардель Фикхен впервые познакомилась с пьесами Мольера. Гувернантка читала, а воспитанница занималась «ручной работой»: шила, вязала, украшала салфетки кружевом. Много лет спустя императрица сохранила любовь к подобному времяпрепровождению. В послеобеденные часы, отдыхая отдел, она слушала, как старый вельможа И. И. Бецкой читал ей «Рейнские ведомости» и другие газеты, а сама шила попонки для собачек, чулки и чепчики для внуков. Государыню не смущало то, что с иголкой и пяльцами в руках она напоминает простую сельскую барыню. «Что мне делать? — говорила Екатерина. — …Моя гофмейстерина была старосветская француженка. Она не худо приготовила меня для замужества в нашем соседстве»[14].
Как всегда Екатерина подтрунивала над собой, да и над гувернанткой тоже. Умная и благородная Кардель умела подавить упрямство, капризы и тщеславие своей воспитанницы, но в маленьком захолустном замке и хозяева, и слуги жили бесконечными слухами, переполнявшими мирок немецких княжеств. Эти слухи, как и этот мирок, тоже были маленькими, если не сказать мелочными. Где балы и маскарады прошли удачнее: в Брауншвейге или в Берлине? Какая из принцесс, бесконечных кузин Софии, сделала партию лучше? Когда же и за кого выйдет замуж сама Фикхен? Подобные разговоры в присутствии детей разжигали честолюбие маленькой принцессы — потенциальной невесты любого из европейских принцев.
«В доме отца был некто по имени Больхаген, — рассказывала Екатерина, — сначала товарищ губернатора при отце, впоследствии ставший его советником… Этот Больхаген и пробудил во мне первое движение честолюбия. Он читал в 1736 году газету в моей комнате; в ней сообщалось о свадьбе принцессы Августы Саксен-Готской, моей троюродной сестры, с принцем Уэльским, сыном короля Георга II Английского. Больхаген обратился к Кардель: „Ну правда сказать, эта принцесса была воспитана гораздо хуже, чем наша; да она совсем и некрасива; и однако вот суждено ей стать королевой Англии; кто знает, что станется с нашей“. По этому поводу он стал проповедовать мне благоразумие и все христианские и нравственные добродетели, дабы сделать меня достойной носить корону, если она когда-нибудь выпадет мне на долю. Мысль об этой короне начала тогда бродить у меня в голове и долго бродила с тех пор»[15].
Софии в это время едва исполнилось семь лет, а ее уже рассматривали как возможную супругу того или иного коронованного лица. Очень скоро, лет через пять-шесть, для нее должна была наступить лучшая, по понятиям XVIII века, пора замужества. На этом пути услуги Бабет Кардель отходили в прошлое, и София начинала остро нуждаться в советах матери.
Семейный треугольник
Принцесса Иоганна Елизавета принадлежала к знатному Голштин-Готторпскому дому и обладала богатой родней. Она была еще слишком молода, чтобы всерьез обращать внимание на детей. Однако с дочерью ее отношения складывались с самого начала трудно. Известна фраза Екатерины о том, что лучшим аргументом в споре ее мать считала пощечину. Неумное поведение принцессы Иоганны было первым толчком, надломившим хрупкий стебелек женственности, едва начавший прорастать в душе Софии.
В детстве Фикхен была дурнушкой, и мать постоянно подчеркивала изъяны девочки, говоря, что при такой непривлекательной внешности она должна стать нравственным совершенством, чтобы не отпугивать людей. «Не знаю наверное, была ли я действительно некрасива в детстве, — рассуждала Екатерина, — но я хорошо знаю, что мне много твердили об этом и говорили, что поэтому мне следовало позаботиться о приобретении ума и достоинств, так что я была убеждена до 14 ил и 15 лет, будто я совсем дурнушка»[16].
Иоганна Елизавета рано почувствовала в дочери скрытое, молчаливое сопротивление и посчитала его проявлением гордости. Чтобы сломить высокомерие Фикхен, она заставляла ее целовать платья у знатных дам, приезжавших в гости. Грубое давление вызывало только отпор, девочка хотела, чтобы с ней обращались, как с разумным человеком. «Самым унизительным положением мне всегда казалось быть обманутой, — писала Екатерина. — Быв ребенком, я горько плакала, когда меня обманывали, а между тем я поспешно исполняла все, что от меня ни требовали, и даже не нравившееся мне, когда мне объясняли причины»[17].
Менее живую и общительную девочку упреки матери могли заставить замкнуться в себе, развили бы в ней робость и нелюдимость. Однако в характере Фикхен рано проявилась такая спасительная в данном случае черта, как упрямство. Она стала при встречах с другими людьми изо всех сил стараться занять их интересным разговором, подстраиваясь под вкусы и пристрастия собеседника, и таким образом победить мнимое отвращение, которое якобы должны были испытывать к ней гости.
В хорошо известной детям того времени сказке Шарля Перро «Рикэ-хохолок» описывается умная, но некрасивая принцесса, которая ничуть не страдала от своего безобразия. Рассказывая о ней, автор как бы переносит в сказку представления общества эпохи Просвещения о внутренней сущности красоты. «Принцесса… умела так занять гостей блестящей остроумной беседой, что часы казались им минутами, а дни часами. Слушая ее, они забывали о том, что она некрасива, и от души наслаждались ее обществом. Скоро все молодые люди стали поклонниками некрасивой принцессы, а самый умный и красивый из них стал ее женихом»[18].
Маленькая София вела себя в полном соответствии с приведенным «рецептом». «Я действительно гораздо больше старалась о приобретении достоинств, нежели думала о своей наружности», — сообщала она в мемуарах. Впоследствии Екатерина стала весьма привлекательной молодой особой, но так и не научилась осознавать свою прелесть. «Говоря по правде, — писала императрица, — я никогда не считала себя особенно красивой, но я нравилась, и думаю, что в этом была моя сила»[19]. С этим согласуется мнение такого ценителя женских достоинств, как Джакомо Казанова, посетившего Россию в 1765 году. «Государыня, — писал он, — обладала искусством пробуждать любовь всех, кто искал знакомства с нею. Красавицей она не была, но умела понравиться обходительностью, ласкою и умом, избегая казаться высокомерной»[20]. В этой зарисовке мы видим результат долгой кропотливой работы над собой, которую София начала еще маленькой девочкой. Именно тогда у будущей императрицы впервые проявилось острейшее желание нравиться. Нравиться любой ценой.
К четырнадцати годам София из гадкого утенка превратилась в прекрасного лебедя, а место постоянных насмешек и придирок со стороны матери заняла глухая ревность. Во время пребывания в гостях у бабушки в Гамбурге девочка познакомилась с одним из своих многочисленных дядюшек, принцем Георгом Людвигом, который не на шутку увлекся ею. «Он был на 10 лет старше меня и чрезвычайно веселого нрава», — рассказывала Екатерина.
Первой забила тревогу верная Кардель, заметив, что «тысячи любезностей» доброго дяди по отношению к племяннице перерастают в откровенное ухаживание. Однако к голосу гувернантки никто не прислушался, и вскоре София с изумлением впервые в жизни услышала признание в любви, а затем и просьбу руки. Не зная, как быть, и скорее плывя по течению, чем действительно испытывая к поклоннику серьезное чувство, девушка дала согласие. «Он был тогда очень красив, — вспоминала императрица, — глаза у него были чудесные, он знал мой характер, я уже свыклась с ним, он начал мне нравиться и я его не избегала».
Софии было важно проучить наконец мать, Иоганну Елизавету, продемонстрировать ей, насколько та была не права в оценке чисто женских качеств дочери. Фикхен добилась своего. «С последней поездки в Гамбург мать стала больше ценить меня»[21], — не без гордости записала императрица в мемуарах, словно и через тридцать лет незримый спор матери и дочери продолжался.
Казалось, этот спор начался с самого рождения Екатерины. В семье ждали мальчика, и появлению дочери, никто, кроме отца — добродушного принца Христиана Августа Ангальт-Цербстского, не обрадовался. «Мать не очень-то беспокоилась обо мне, — обижалась Екатерина, — через полтора года после меня у нее родился сын, которого она страстно любила; что касается меня, то я была только терпима, и часто меня награждали колотушками в сердцах и с раздражением, но не всегда справедливо»[22].
Сознание своей ненужности развило в Софии детскую ревность. В жизни самой Фикхен братья и сестры не играли никакой роли. В мемуарах она даже не называет их имен и не испытывает грусти, когда рассказывает о смерти своего тринадцатилетнего хромого брата. Ведь это был тот самый мальчик, которого так «страстно любила» мать! Уже став императрицей, Екатерина запретила своей родне приезжать в Петербург, заметив, что «в России и без того много немцев».
Уязвленной девочке казалось, что принцесса Иоганна готова дарить свое внимание и ласку кому угодно, только не ей. В Брауншвейге маленькая София была очень дружна с принцессой Марианой Брауншвейг-Бевернской, но и эта дружба оказалась отравлена ядом ревности. «Моя мать очень любила ее, — пишет Екатерина о Мариане, — и предрекала ей короны. Она, однако, умерла незамужней. Как-то приехал в Брауншвейг с епископом принцем Корвенским монах из дома Менгден, который брался предсказывать будущее по лицам. Он услышал похвалы, расточаемые моей матерью этой принцессе, и ее предсказания; он сказал ей, что в чертах этой принцессы не видит ни одной короны, но, по крайней мере, три короны видит на моем челе. События оправдали это предсказание»[23].
«Дитя выше лет своих»
Впрочем, Иоганна Елизавета была далеко не единственной, кто глядел, да проглядел Софию. Камер-фрейлина крошечного штеттинского двора баронесса фон Принцен вспоминала о детстве русской императрицы: «На моих глазах она родилась, росла и воспитывалась; я была свидетельницей ее учебных занятий и успехов; я сама помогала ей укладывать багаж перед отъездом в Россию. Я пользовалась настолько ее доверием, что могла думать, будто знаю ее лучше, чем кто-либо другой, а между тем никогда не угадала бы, что ей суждено было приобрести знаменитость, какую она стяжала. В пору ее юности я только заметила в ней ум серьезный, расчетливый и холодный, столь же далекий от всего выдающегося, яркого, как и от всего, что считается заблуждением, причудливостью или легкомыслием. Одним словом, я составила себе понятие о ней, как о женщине обыкновенной»[24].
Современный российский исследователь А. Б. Каменский справедливо удивлялся: «Разве можно назвать обыкновенной женщину, отличавшуюся в 14 лет „серьезным, расчетливым и холодным“ умом, не склонную к причудам и легкомыслию? И разве не именно эти качества столь необходимы настоящему политику?»[25] Остается признать, что баронесса не дала себе труда задуматься над собственными наблюдениями. Любопытно, но ее имя даже не упомянуто в «Записках» Екатерины, а ведь эта дама была убеждена, что «пользовалась доверием девочки» и знала ее «лучше, чем кто-либо».
Зато каждый, кто проявил к Софии в детстве хоть каплю внимания, нашел место на страницах ее мемуаров. В 1740 году в Гамбурге Иоганну Елизавету с дочкой встретил прусский вельможа граф A. X. Гюлленборг (Гилленборг). «Это был человек очень умный, уже немолодой и очень уважаемый моею матушкой. Во мне он оставил признательное воспоминание, потому что в Гамбурге, видя, что матушка мало или почти вовсе не занималась мною, он говорил ей, что она напрасно не обращает на меня внимания, что я дитя выше лет моих и что у меня философское расположение ума»[26]. Могли ли такие слова не тронуть сердце юной Софии? Но Иоганна Елизавета, судя по всему, осталась глуха к ним.
Подобное положение вещей заставляло маленькую принцессу с еще большей силой желать выдвинуться, показать себя, продемонстрировать свои достоинства так ярко, чтобы их наконец заметили. В еще очень раннем возрасте из кирпичиков ревности, зависти к более красивым и удачливым детям, жажды материнской ласки у Софии складывается то поистине сжигающее честолюбие, которое заставило ее идти к намеченной цели, невзирая ни на какие преграды.
Ко времени пятнадцатилетия дочери Иоганне Елизавете самой было лишь 30, и она болезненно переживала свое увядание на фоне расцвета Фикхен. Еще больнее для нее было сознание того, что собственную жизнь уже не изменить — она жена коменданта захолустной крепости, а вот ее дочь может сделать головокружительную партию. Когда же эта партия наметилась, принцесса повела себя настолько по-женски, что Екатерина и через тридцать лет не смогла забыть ее откровенно враждебных действий.
За год до романа с дядей, когда тринадцатилетняя София находилась с матерью в Берлине, их дом неожиданно посетил Яков Ефимович Сиверс, впоследствии один из близких сотрудников Екатерины, а тогда молодой камер-юнкер русского двора. Он привез Фридриху II Андреевскую ленту в подарок от императрицы Елизаветы Петровны. Сиверс нанес визит принцессе Иоганне, во время которого как бы между прочим попросил позволения взглянуть на Фикхен. Подобные просьбы, исходящие из уст посланца двора, где подрастал маленький царевич, выглядели прозрачно. «Мать велела мне прийти причесанной наполовину, как была»[27], — вспоминала Екатерина.
Нетрудно представить, как выглядела девочка, которой утром не просто расчесывали, а начесывали и взбивали волосы в модную высокую прическу — ведь дело происходило при дворе. Недаром в известной тогда сатирической песенке о дамских нарядах пелось: «Ангел дьяволом причесан и чертовкою одет». Сиверс не только не испугался «лохматого ангела», но и попросил портрет Софии, чтобы показать его в Петербурге. Через год уже в Гамбурге ту же просьбу о встрече с Софией повторил генерал русской службы барон Николай Андреевич Корф, женатый на двоюродной сестре Елизаветы графине Скавронской. «Вероятно, я стала уже не так дурна, — рассуждала Екатерина, — потому что Сиверс и Корф казались сравнительно довольными моей внешностью; каждый из них взял мой портрет, и у нас шептали друг другу на ухо, что это по приказанию императрицы. Это мне очень льстило, но чуть не случилось происшествия, которое едва не расстроило все честолюбивые планы».
Речь идет о романе с дядей как раз в разгар многозначительных намеков русского двора. Принц Георг Людвиг вел себя слишком свободно для человека, который заранее не заручился согласием матери. «Я узнала потом, что мать все это знала, — вспоминала Екатерина, — да и нельзя ей было не заметить его ухаживания, и если б она не была с ним заодно, то, я думаю, она не допустила бы этого. Много лет спустя у меня явились эти мысли, которые тогда и не приходили в голову»[28].
Вообразите себе мать, которая всеми силами старается избавить дочь от… короны. Причем ничего дурного о характере и нравах Петра Федоровича она еще не знает, а просто не хочет ехать в Россию. И правда, что делать при русском дворе, если замуж выходит не Иоганна Елизавета, а София Августа Фредерика?
«Я знаю, она отклоняла отца от мысли о нашей поездке в Россию, — писала Екатерина, — я сама заставила их обоих на это решиться». В памятный январский день 1744 года София коршуном напала на мать с неожиданными и едва ли не резкими словами, убеждая ее согласиться на полученное приглашение приехать в Петербург. «Я воспользовалась этой минутой, чтобы сказать ей, что, если действительно ей делают подобные предложения из России, то не следовало от них отказываться, что это было счастье для меня». Иоганна привела неотразимый аргумент: «Она не могла удержаться и не сказать: „А мой бедный брат Георг, что он скажет?“ …Я покраснела и сказала ей: „Он только может желать моего благополучия и счастья“»[29].
Ни сожалений, ни сентиментальной грусти о первом чувстве. Пятнадцатилетняя девушка легко переступает через все, что было ей дорого в прошлом, а любящий человек должен радоваться за нее, иначе в его сердце царствует не любовь, а эгоизм.
Иоганна Елизавета оказалась побеждена. Но какой ценой? Девочка слишком рано перестала видеть в ней мать и увидела соперницу. Через много лет картина семейного противостояния будет воспроизведена Екатериной в ее отношениях с сыном Павлом, только место дамского соперничества займет вражда политическая.
«Человек прямого и здравого смысла»
Не в последнюю очередь сложные отношения Софии и Иоганны Елизаветы были связаны с отцом, принцем Христианом Августом, которого маленькая принцесса буквально боготворила.
Вот как Екатерина описывала семейную пару своих родителей: «Мать моя, Иоганна-Елизавета Голштинг-Готторпская, была выдана замуж в 1727 г., пятнадцати лет, за моего отца, Христиана-Августа Ангальт-Цербстского, которому было тогда 42 года. С внешней стороны они отлично уживались друг с другом, хотя и была большая разница в годах между ними, да и склонности их были довольно различны. Отец, например, был очень бережлив; мать очень расточительна и щедра. Мать любила исключительно удовольствия и большой свет; отец любил уединение. Одна была весела и шутлива, другой серьезен и очень строгих нравов. Но в чем они совершенно были сходны между собою, так это в том, что оба пользовались большой популярностью, были непоколебимо религиозны и любили справедливость, особенно отец. Я никогда не знала человека более глубоко честного и по убеждению, и на деле. Мать считалась умнее отца и в ее уме находили больше блеска; но отец был человеком прямого и здравого смысла, с которым он соединял много знаний; он любил читать, мать читала тоже; все, что она знала, было очень поверхностно; ее ум и красота доставили ей большую известность; кроме того, она имела более великосветские манеры, чем отец»[30].
Заметим, что Екатерина подчеркивает внешнюю сторону хороших отношений своих родителей. В описании она все время как бы ставит под сомнение достоинства матери: щедрость превращается в расточительность, светскость в безудержную любовь к удовольствиям, Иоганна Елизавета только «считается» умнее мужа, а на самом деле ум ее блестящ, но неглубок, а все знания поверхностны. Для Софии не важно, что кто-то считает Христиана Августа глупее жены, для девочки он просто порядочный человек, не пускающий пыль в глаза и знающий очень много интересного.
Нетрудно догадаться, что между столь разными людьми возникали размолвки. В этих ссорах подрастающая София молчаливо занимала сторону отца, которого считала незаслуженно оскорбленным ветреностью матери. К тому же принц Христиан был на 27 лет старше взбалмошной и избалованной Иоганны. Он не скакал по родственникам с бала на маскарад, а был занят службой. Это в глазах Софии придавало ему достоинства. Служба — почти священное слово для дворянина того времени — оказалась столь же священной и для девочки, старавшейся подражать отцу. Пройдут годы, и императрица громадной империи будет называть свой труд монарха «службой», а свое место на троне «должностью». В 1787 году во время одной из ссор с Алексеем Григорьевичем Орловым императрица в запальчивости заявила, что «царствуя 25 лет, никогда… по своей должности упущения не сделала»[31].
Христиан Август убежденно исповедовал лютеранство. Того же он требовал и от дочери. София пыталась не разочаровывать его. Однако живой ум девочки часто создавал сложные ситуации при изучении Закона Божьего. «Помню, у меня было несколько споров с моим наставником, — рассказывала она в „Записках“, — из-за которых я чуть не попробовала плети. Первый спор возник оттого, что я находила несправедливым, что Тит, Марк Аврелий и все великие мужи древности, притом очень добродетельные, были осуждены на вечную муку, так как не знали Откровения. Я спорила жарко и настойчиво и поддерживала свое мнение против священника». Пастор Вагнер пожаловался Кардель и хотел, чтобы та употребила розгу, но гувернантка «не имела разрешения на такие доводы. Она лишь сказала мне кротко, что неприлично ребенку упорствовать перед почтенным пастором и что мне следовало подчиниться его мнению», — вспоминала Екатерина. Поскольку София в данном случае понимала, чего от нее требуют, она исполнила приказание.
Второй спор «вращался вокруг того, что предшествовало мирозданию». Любопытная девочка непременно хотела знать, что такое «хаос», а пастор не мог толком объяснить и сердился. В другой раз она вогнала почтенного учителя в краску, добиваясь у него ответа «относительно обрезания». «Никогда я не была довольна тем, что он мне говорил!» — восклицала ученица. Свои споры с пастором София называла «схватками» и подчеркивала позднее, что только Кардель умела ее успокоить. «Бабет была реформатка, а пастор очень убежденный лютеранин… Я уступала только ей: она смеялась исподтишка и уговаривала меня с величайшей кротостью, которой я не могла сопротивляться. Признаюсь, я сохранила на всю жизнь обыкновение уступать только разуму и кротости; на всякий отпор я отвечала отпором»[32].
Споры, возникавшие между Софией и пастором, показывали, что маленькая принцесса близко к сердцу принимала религиозные проблемы. Ей же предлагали сделать вид, что она удовлетворена ответами, и помолчать, то есть пойти на духовный компромисс, который давно уже избрало образованное общество эпохи Просвещения — посещать по воскресеньям церковь, а дома держать под подушкой томик Вольтера.
Впоследствии будет много написано о религиозном индифферентизме Екатерины, которая перешла из лютеранства в православие и нарушила, таким образом, обещание, данное отцу. Однако лютеранские убеждения Софии дали трещину задолго до приезда в Россию. Связано это было с уроками пастора, всякий раз пытавшегося прибегнуть к розге, когда не находилось других аргументов.
«Сей духовный отец чуть не поверг меня в меланхолию, — посмеивалась взрослая Екатерина, — столько наговорил он мне о страшном суде и о том, как трудно спастись. В течение целой осени каждый вечер на закате дня ходила я плакать к окошку. В первые дни никто не заметил моих слез; наконец Бабет Кардель их заметила и захотела узнать причину. Мне было трудно ей в этом признаться, но наконец я ей открыла причину, и у нее хватило здравого смысла, чтоб запретить священнику стращать меня впредь такими ужасами»[33].
И снова заметим: мысль о спасении души живо волновала девочку, София была неравнодушным ребенком, но излишняя строгость ее пугала. Судя по мемуарам, она очень рано нащупала нерв многих религиозных исканий — противоречие между «страхом Божьим» и Любовью. Пастор Вагнер олицетворял первое, Бабет второе. Интуитивно Фикхен потянулась к Любви.
Впрочем, споры с учителем быстро забывались, да и достаточно времени на уроки у Софии не было. Иоганна Елизавета любила развлекаться, а для этого приходилось посещать родню. Благодаря непоседливости матери будущая императрица объездила всю Германию.
Из окна кареты
«Мать, с тех пор как мне пошел восьмой год, обыкновенно брала меня повсюду с собой»[34], — вспоминала Екатерина. Иоганна Елизавета обладала авантюрной жилкой и любила жить при больших дворах. Ей казалось тесно в захолустном Штеттине, где служил муж, а вся скромная обстановка дома, гарнизонный быт и ежедневная необходимость считать каждый пфенниг навевали тоску. Поэтому принцесса много колесила по дорогам Германии, разорванной на множество мелких княжеств.
В те времена принято было ездить в гости с помпой и основательностью. Задержаться где-то меньше недели значило не на шутку обидеть хозяев. Месяц-полгода это еще куда ни шло. «Мать проводила ежегодно несколько месяцев у одной герцогини, которая жила в Брауншвейге, в Гауенгофе», — вспоминала Екатерина. Во всех замках существовали гостевые покои, а в роскошных королевских и герцогских резиденциях, где Софии довелось прожить немало времени, для приезжих отводились целые этажи дворцов, отдельно стоящие флигели и маленькие павильоны. Родню, друзей и знакомых с нетерпением ждали на праздники, заманивали обещаниями прекрасной охоты, веселых балов, обедов и поездок за город. Неторопливая монотонная жизнь в поместьях, отсутствие новостей и других развлечений заставляли хозяев искренне желать, чтобы их посетили гости, или самим снарядить карету с лакеями на запятках, собрать эскорт из берейторов и скороходов и, благословясь, двинуться к соседям.
У состоятельных аристократов проживали и воспитывались их менее обеспеченные родственники, проводя «в гостях» полжизни. Иоганна Елизавета тоже выросла у родных. «Мать была воспитана герцогиней Елизаветой-Софией-Марией Брауншвейг-Люнебургской, ее крестной матерью и родственницей. Та и выдала ее замуж и дала ей приданое», — рассказывала императрица.
София побывала в Берлине, Брауншвейге, Кведлинбурге, Гамбурге, Эйтине, Иевере, Вареле и других местах. Во время этих поездок у нее заводился целый рой новых знакомых, который исчезал так же быстро, как и появлялся, словно его сдувало дорожным ветром. Девочке казалось, что она увидела всех по-настоящему важных и знаменитых людей в Германии от прусского короля Фридриха Великого до вдовы императора Священной Римской империи Карла VI Габсбурга, которую считали «бабушкой всех государей Европы», так как ее внуками и внучками были «Мария-Терезия, императрица Римская, Петр II, император Российский, Елизавета-Христина, королева Прусская, Юлиана-Мария, королева Датская». Есть на что посмотреть восьмилетнему ребенку из гарнизонной глуши!
Девочка оказалась далеко не так хорошо воспитана, как следовало бы принцессе. В 1733 году четырехлетняя София оскорбила прусского короля Фридриха Вильгельма, приезжавшего в Брауншвейг. «Сделав ему реверанс, я, говорят, пошла прямо к матери, которая была рядом с вдовствующей герцогиней Брауншвейгской, ее теткой, и сказала им: „Почему у короля такой короткий костюм? Он ведь достаточно богат, чтоб иметь подлиннее?“ Король захотел узнать, о чем я говорила; пришлось ему сказать; говорят, он посмеялся, но это ему не понравилось»[35].
Судьба словно заранее позаботилась о том, чтобы будущая императрица могла расширить свой кругозор. Девочка увидела многое, в том числе и то, чего, возможно, не должна была видеть. В Вареле она познакомилась с графиней Бентинк, вдовой графа Альденбургского. Эта дама привела Софию в восторг тем, что ездила верхом, «как берейтор», и, оставшись с девочкой наедине, тотчас пустилась танцевать с ней «штирийский танец».
«Я привязалась к ней, эта привязанность не понравилась матери, но еще больше отцу», — сообщала Екатерина. Добропорядочные родители, в отличие от их наивной дочери, сразу поняли, что за дама эта «милейшая графиня Бентинк». «Она была уже в разводе с мужем. Я нашла в ее комнате трехлетнего ребенка, прекрасного, как день; я спросила, кто он такой; она мне сказала, смеясь, что это брат девицы Донеп, которую она имела при себе; другим своим знакомым она говорила без стеснения, что это был ее ребенок и что она имела его от своего скорохода. Иногда она надевала этому ребенку свой чепчик и говорила: „Посмотрите, как он на меня похож!“ …В одном из покоев находился портрет графа Бентинка, который казался очень красивым мужчиной. Графиня говорила, глядя на него: „Если б он не был моим мужем, то я любила бы его до безумия“»[36].
Предусмотрительные родители Софии поспешили покинуть Варель, чтобы, как пишет Екатерина, «вырвать меня из когтей этой женщины». Однако уроки Бентинк не прошли для Софии даром. Маленькая принцесса находила свою новую приятельницу очаровательной. «Да и как могло быть иначе? — рассуждала Екатерина. — Мне было четырнадцать лет; она ездила верхом, танцевала, когда ей вздумается, пела, смеялась, прыгала, как дитя, хотя ей было тогда за тридцать».
Этот пассаж из мемуаров императрицы напоминает другие строки, написанные много лет спустя княгиней E. Р. Дашковой, которая рассказывает о своей первой встрече с великой княгиней и о том неотразимом впечатлении, которое на нее, пятнадцатилетнюю девочку, произвела тридцатилетняя цесаревна. «Очарование, исходившее от нее, — писала Екатерина Романовна, — в особенности когда она хотела привлечь к себе кого-нибудь, было слишком могущественно, чтобы подросток… мог ему противиться»[37]. Сама пережив очарование дружбы с более взрослой женщиной, Екатерина хорошо запомнила силу этого чувства и приемы, которые производят впечатление на юную, еще неопытную душу, а когда понадобилось, смогла блестяще воспользоваться своим опытом.
Уже зрелая Екатерина замечала о своей очаровательной знакомой: «Эта дама нашумела в свете; я думаю, что если б она была мужчиной, это был бы человек с достоинствами, но, как женщина, она слишком пренебрегала тем, что скажут». Неожиданный пассаж в устах императрицы, которую и саму часто упрекали именно за то, что она «как женщина слишком пренебрегала тем, что скажут»!
Бентинк осталась в Вареле, а экипаж принцессы Ангальт-Цербстской покатил дальше. Благодаря путешествиям в Софии рано развилась охота к перемене мест. Погруженная в развлечения мать даже не замечала, что девочка с каждым днем все больше утрачивает естественное чувство дома. Да принцессу Иоганну это и не заботило, а ее дочь готова была принять за дом то место на карте Европы, где странствия наконец остановятся.
Мир, открывавшийся Фикхен из окна дорожной кареты, был полон удивительных вещей. Холодное Балтийское взморье сменяли буковые леса Центральной Германии, а тихие заштатные города — роскошные резиденции королей и курфюрстов. Это был еще только маленький мирок германских земель, но для любознательной девочки он казался огромным. А главное — он постоянно менялся: то дюны, то горы; то мать, то бабушка; то Штеттин, то Берлин… Картины за окном кареты все время мелькали, единственным, что оставалось неизменным, была сама юная путешественница.
Вокруг Софии не обнаруживалось ничего прочного, а ведь маленький, формирующийся человек постоянно нуждается в опоре, уцепившись за которую, он может продолжить свой духовный рост. Поэтому София искала такую опору в себе самой. Поток ранних, ярких впечатлений заставил девочку совершить своего рода бегство — замкнуться во внутреннем мире. Путешествия с матерью стали первым толчком, который понудил Софию самоуглубиться и вдруг открыть, что там, внутри нее, свет ничуть не меньше, чем снаружи.
«Я справлялась, как умела»
И вот привычный уютный немецкий мирок раздвинулся до пределов. Пятнадцатилетняя Фикхен стала невестой Петра Федоровича и была приглашена в Россию. Иным было все, от просторов, открывавшихся за стеклами кареты, до языка и одежды людей, которых увидела юная принцесса. Вдруг оказалось, что ее прежний дом, представлявшийся таким важным и помпезным, — лишь часть чего-то завораживающе огромного. Маленькая путешественница была потрясена и околдована. Она знать не знала, что где-то в глубинах дикой Азии таятся такое богатство и скрытая, дремлющая мощь.
Но прежде чем навеки покинуть Германию, ей предстояло еще раз посетить Берлин и познакомиться с самым замечательным государем того времени — Фридрихом Великим. Он вступил на престол пятью годами ранее и после своего отца «короля-фельдфебеля» Фридриха Вильгельма I казался подданным лучом солнца, наконец пробившимся в их безрадостную жизнь. Еще в 1739 году София, проезжая с матерью из Эйтина в Берлин, стала свидетельницей ликования народа по поводу кончины прежнего монарха. «Прохожие на улицах целовались и поздравляли друг друга… его ненавидели все от мала до велика. Он был строг, груб, жаден и вспыльчив; впрочем, он имел, конечно, большие достоинства как король, но я не думаю, чтобы он был чем-нибудь приятен в своей частной жизни»[38].
Замечание весьма верное. Внешне походя на борова, Фридрих Вильгельм и вел себя, как животное: избивал сына палкой, запрещал ему читать французских писателей, заставил смотреть из дворцового окна на казнь друга… Но именно этот отталкивающий государь вырвал свое небольшое, поднимающееся королевство из ничтожества — создал армию, накопил денег. Его наследник — человек блестяще образованный, тонкий политик, друг Вольтера — вопреки всем ожиданиям, продолжил дело отца. Он добивался для Пруссии достойного места в Европе, и на этом пути дипломатические интриги оказались так же важны, как военные победы.
Одна из них была связана с отправкой к русскому двору в качестве невесты великого князя принцессы Ангальт-Цербстской. Недаром позднее Фридрих II говаривал, что именно он сделал из маленькой немецкой княжны Екатерину Великую. Ее прибытие в Петербург укрепляло «прусскую партию» в окружении императрицы Елизаветы. «Великая княгиня русская, воспитанная и вскормленная в прусских владениях, обязанная королю своим возвышением, не могла вредить ему без неблагодарности», — рассуждал Фридрих в записках мемуарного характера. Последние слова очень показательны. В первой половине царствования Екатерина II выплатила старому берлинскому покровителю свой долг сполна. Но позднее отошла от союза с Пруссией, отсюда и завуалированный упрек в неблагодарности. Впрочем, до этого было еще далеко.
Пока король только пытался построить выгодные отношения с Петербургом: «Из всех соседей Пруссии Российская империя заслуживает преимущественного внимания как соседка наиболее опасная. Она могущественна и близка. Будущим правителям Пруссии также предлежит искать дружбы этих варваров»[39]. Не будем обижаться на Фридриха за циничную откровенность — не было ни одного европейского двора, представители которого в дипломатических документах, а тем паче в частной переписке или воспоминаниях не именовали бы русских «варварами». Еще не наступила Семилетняя война, еще Фридрих не сказал знаменитых слов о противнике: «Это железные люди, их можно убить, но не победить». Однако умный и лишенный предрассудков король с самого начала понимал: «варвары» могущественны, а потому с ними надо считаться. А вот версальскому кабинету, например, такая простая мысль десятилетиями не приходила в голову.
Иметь вес в русских делах значило для Фридриха приобрести союзника на случай общеевропейского конфликта. А таковой был не за горами. Кем станет Петербург? Другом или врагом? Это во многом зависело от приближенных молодой императрицы. Уже сам факт выбора ею в качестве наследника маленького герцога Голштинского много обещал на будущее. Приезд Ангальт-Цербстского семейства только усиливал на севере «друзей» Пруссии. Поэтому король был исключительно ласков к будущей великой княгине. И, кажется, именно он первым поставил на место Иоганну Елизавету.
Есть сведения, что принцесса уже выполняла щекотливые поручения берлинского двора в качестве мелкого дипломатического агента. Ее кочевая жизнь и широчайший круг знакомств этому способствовали. Если так, то Екатерина, сама о том не зная, отразила в мемуарах весьма неприятный момент — домашнее соперничество с матерью чуть не переросло в политическое.
«Смерть покойного короля очень изменила берлинский двор, — вспоминала Екатерина. — В нем все так и дышало удовольствием. Толпа иностранцев наехала туда со всех сторон, и первый карнавал был блестящим»[40]. Праздники чередой сменяли друг друга, но поначалу девочке не удавалось на них взглянуть. «Мать считала неуместным, чтобы я появлялась при дворе или вообще где бы то ни было вне дома». Такое положение не казалось Софии странным, ведь, в конце концов, ее будущее «счастье» пока оставалось для всех тайной — стоило поберечься. Единственным по-настоящему осведомленным лицом, помимо семьи, был «король прусский, через руки которого прошли все пакеты, посланные из России матери», — замечала императрица.
Ничего удивительного, что Фридрих захотел взглянуть на юную путешественницу. И тут Иоганна Елизавета вновь показала себя с лучшей стороны. «Мать сказала, что я больна; он велел пригласить ее два дня спустя на обед к королеве, его супруге, и сам ей сказал взять меня с собой. Мать ему обещала, но в назначенный день она отправилась одна ко двору; король, как только ее увидел, спросил о моем здоровье; мать сказала ему, что я была больна; он сказал ей, что знал, что этого не было; она ему ответила, что я не была одета; он ей возразил, что будет ждать меня до завтра со своим обедом. Мать, наконец, ему сказала, что у меня нет придворного платья. Он пожелал, чтобы одна из его сестер прислала мне одно из таких платьев… Наконец, я появилась ко двору; король встретил меня в передней королевы. Он заговорил со мной и довел меня до покоев королевы. Я робела и смущалась; наконец сели за стол»[41].
Очень показательная сцена. Откровенная ложь принцессы Цербстской, на которой ее ловит Фридрих. Его нежелание обедать, пока не будет доставлена Фикхен: раз нет главной гостьи, не будет и стола. Терпеливое ожидание остальных приглашенных… Почему Иоганна Елизавета не хотела привезти дочь и дважды нарушила прямой приказ короля? Из-за дамского соперничества? Вряд ли. В Берлине она получила инструкции о том, как вести себя при русском дворе, с кем вступать в контакты и чего добиваться. Из дальнейшего повествования будет ясно, как принцесса их исполнила. Пока же ей очень хотелось остаться единственным доверенным лицом. Это повышало ее статус. Дочь мешала и потому оказывалась то «больна», то «неодета».
Фридрих, напротив, изо всех сил старался расширить круг своих «агентов», заполучить не только мать, но и дочку в «друзья» прусской политики, чтобы в случае потери одного доверенного лица воспользоваться вторым. Так и произошло после фактической высылки Иоганны Елизаветы из России. Пока же Фикхен была слишком мала, чтобы снабжать ее серьезными инструкциями, но можно было купить сердце девочки ласковым обращением, оставить у нее теплые воспоминания, очаровать. Именно это и сделал тонкий, галантный Фридрих, сыграв на тщеславии юной принцессы.
Тем же вечером «на балу в оперном доме» София оказалась приглашена за стол короля, в то время как ее мать «ко столу королевы», а отец получил «за одним из столов почетное место хозяина». Таким образом, из всего Ангальт-Цербстского семейства только Фикхен удостоилась чести разделить трапезу с Фридрихом II. Видимо, тот решил посмотреть, как девочка держится без родителей, и подверг ее беспощадной осаде. «Принц Брауншвейгский… постарался поместить меня как раз рядом с королем. Как только я увидела короля своим соседом, я хотела удалиться, но он удержал меня и в течение всего вечера говорил только со мной; он мне наговорил тысячу учтивостей. Я справлялась, как умела».
Фикхен приятно было внимание короля. Самолюбие будущей великой княгини торжествовало, когда ее открыто предпочитали матери. Но она ведать не ведала, что за этим стоит. На пятнадцатом году ее уже рассматривали не только как невесту великого князя, но и как политического игрока, пусть пока и скромного. В те времена люди взрослели рано.
Грустную ноту в рассказ вносит замечание о принце Христиане Августе. Как бы Екатерина ни старалась подчеркнуть, что ему было предоставлено «почетное место хозяина», ее слова не скрадывают реальности: в то время как жена и дочь делили трапезу с монархами, командир небольшого прусского гарнизона сидел «за одним из столов». Софии предстояло стать женой наследника русского престола, Иоганна Елизавета, благодаря своему родству, претендовала на внимание королевы. Он же — просто старый служака, и его дело — муштровать полк в отдаленной крепости, а не беседовать с августейшими особами.
Через несколько дней семейство покинуло Берлин, чтобы, как говорили всем, вернуться домой. Но в Штеттин отправлялся один Христиан Август. О его приезде в Россию не могло быть и речи: Иоганна Елизавета следовала через границу инкогнито, под именем графини Рейнбек, чтобы прежде времени не возбудить ненужного любопытства. «В виду Штеттина отец очень нежно со мной простился, — вспоминала Екатерина. — И тут я видела его в последний раз; я также много плакала»[42].
Глава вторая «ФИЛОСОФ В ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ»
Третьего февраля принцесса Иоганна Елизавета с дочерью достигли Петербурга. Путешественницам удалось задержаться в столице всего на два дня, их ждала Москва — любимый город Елизаветы Петровны. Здесь находились в тот момент двор, сама императрица и великий князь. Екатерина поместила в мемуарах многозначительный эпизод, мимо которого обычно проходят исследователи. Секретарь прусского посольства некто Шривер «бросил моей матери в карету записку, которую мы с любопытством прочли». Она «заключала характеристику всех самых значительных особ двора и… указывала степень фавора разных фаворитов»[43].
«Политиканы передней»
Судя по этой сцене, принцессу Цербстскую уже ждали в столице «друзья прусского короля», которые и заготовили для нее инструкции. Случившееся должно было подсказать Фикхен, что мать вовлечена в некие закулисные интриги. Наша героиня, несмотря на юный возраст, вовсе не была чересчур наивна: она уже знала, что ее приезд в Россию — результат победы одной из группировок в окружении Елизаветы Петровны. В варианте «Записок», предназначенном для Брюс, Екатерина рассказывала о придворной борьбе очень путано и с большими отступлениями. Зато в последней редакции 90-х годов опытная и старая императрица сумела расставить все по своим местам.
«Русский двор был разделен на два больших лагеря, или партии, — писала она. — Во главе первой был вице-канцлер граф Бестужев-Рюмин; его несравненно больше страшились, чем любили; это был чрезвычайный пройдоха, подозрительный, твердый и неустрашимый… властный, враг непримиримый, но друг своих друзей, которых оставлял лишь тогда, когда они повертывались к нему спиной, впрочем, неуживчивый и часто мелочный… Он держался Венского двора, Саксонского и Англии. Приезд Екатерины II (императрица иногда писала о себе в третьем лице. — О. Е.) не доставил ему удовольствия. Это было тайное дело враждебной ему партии; враги графа Бестужева были в большом числе, но он их всех заставлял дрожать. Он имел над ними преимущество своего положения и характера, которое давало ему значительный перевес над политиканами передней. Враждебная Бестужеву партия держалась Франции, Швеции и короля Прусского; маркиз де-ла-Шетарди (французский посланник. — О. Е.) был ее душою, а двор, прибывший из Голштинии, — матадорами; они привлекли графа Лестока, одного из главных деятелей переворота… у него не было недостатка ни в уме, ни в уловках, ни в пронырстве, но он был зол и сердцем черен и гадок… Остальные придворные становились то на ту, то на другую сторону, смотря по своим интересам»[44].
Обратим внимание, как в поздней редакции Екатерина заметно симпатизирует Бестужеву, чья титаническая фигура затмевает соперников. В момент ее приезда он действительно был врагом Ангальт-Цербстского семейства, но с годами сделался другом и защитником великой княгини. Зато временные, минутные союзники либо ушли из жизни цесаревны, либо стали противниками, и потому с брезгливостью названы «политиканами передней».
Однако в 1744 году в схватке за обручальное кольцо сторонники сближения с Австрией потерпели поражение от «друзей прусского короля». Бестужев был глубоко уязвлен и повел непримиримую борьбу против «матадоров». Штеттинская бесприданница застряла у него, как кость в горле. Да и разве мало кандидаток на руку Петра Федоровича он назвал Елизавете, чтобы вот так хвататься за первую встречную?
Еще в 1742 году английский посол Сирил Вейч (Вич) сделал Елизавете предложение о браке наследника с одной из дочерей Георга II. Портрет принцессы был привезен в Петербург и, по слухам, очень понравился Петру. Вставал вопрос и о сватовстве к одной из французских принцесс, дочерей Людовика XV, но отвергнутая в юности этим монархом Елизавета слышать не хотела о подобном союзе. Лично ей импонировала сестра Фридриха II Луиза Ульрика, но последнюю коронованный брат предпочел пока оставить при себе. Рассматривалась и кандидатура датской принцессы, однако императрица опасалась, что такой выбор нарушит европейское равновесие. Наконец, Бестужев проталкивал идею женитьбы наследника на саксонской принцессе Марианне (Марии Анне), дочери польского короля Августа III, поскольку этот альянс символизировал бы союз России, Австрии и Саксонии для сдерживания Франции и Пруссии. Чтобы подкрепить позиции Марианны, отец даже обещал за ней в приданое Курляндию[45].
Желчный Фридрих II писал о позиции Бестужева: «Российский министр, которого подкупность доходила до того, что он продал бы свою повелительницу с аукциона, если б он мог найти на нее достаточно богатого покупателя, ссудил саксонцев за деньги обещанием брачного союза. Король Саксонии заплатил условленную сумму и получил за нее одни слова. Было крайне опасным для государственного блага Пруссии допустить семейный союз между Саксонией и Россией, а с другой стороны казалось возмутительным пожертвовать принцессой королевской крови для устранения саксонки… Из всех немецких принцесс, которые по возрасту своему могли вступить в брак, наиболее пригодной для России и для интересов Пруссии была принцесса Цербстская»[46].
На фоне богатых и влиятельных невест Фикхен выглядела весьма скромно. Однако именно она подходила больше других. Как бы ни хотела Елизавета Петровна поскорее женить племянника и закрепить престол за потомством Петра I, в данном вопросе она действовала с большой осторожностью. Невеста должна была отвечать двум требованиям: во-первых, иметь хорошую родословную, поскольку саму императрицу часто попрекали низким происхождением матери, и, во-вторых, принадлежать к небогатому и невлиятельному семейству, которое согласилось бы на ее переход в православие и не смогло бы в дальнейшем вмешиваться в дела русского императорского дома. Елизавета сказала Бестужеву, что невеста должна происходить «из знатного, но столь маленького дома, чтобы ни иноземные связи его, ни свита, которую она привезет или привлечет с собою, не произвели в русском народе ни шума, ни зависти. Эти условия не соединяет в себе ни одна принцесса в такой степени, как Цербстская, тем более что она и без того уже в родстве с Голштинским домом»[47].
Некогда дядя Софии по матери, Карл, принц-епископ Любекский, считался женихом юной Елизаветы Петровны, но скончался накануне свадьбы от оспы. Государыня сохраняла о нем романтические воспоминания. По случаю своего восшествия на престол она обменялась письмами с Иоганной Елизаветой и послала ей в подарок свой портрет, осыпанный бриллиантами стоимостью в 25 тысяч рублей.
Со своей стороны, Фридрих II постарался переключить внимание Елизаветы Петровны с Ульрики на Софию Августу Фредерику. Чтобы повысить статус Христиана Августа в глазах Елизаветы, король даже произвел его в фельдмаршалы. Позднее он писал, что никогда всерьез не задумывался об отправке собственной сестры в Россию. К этому имелись серьезные препятствия. С одной стороны, принцесса прусского королевского дома не могла сменить веру без ущерба для достоинства своего рода. С другой — выбор невесты означал выбор политического направления, а Елизавета не собиралась раз и навсегда связывать себе руки союзом с Фридрихом и увеличивать прусское влияние при дворе. Ей нужна была кандидатка, которой в случае чего можно пренебречь. Вот почему София подходила идеально. Родовита и бедна. Отец на прусской службе, но сама невеста вовсе не подданная Фридриха II. В каком-то смысле на девочке из Штеттина свет сошелся клином.
В отечественной литературе принято называть Екатерину II «мелкопоместной» и «худородной», что не одно и то же. Действительно, Ангальт-Цербстский дом не располагал обширными владениями, однако будущая императрица обладала генеалогическим древом, уходившим корнями ко временам Карла Великого. Во всяком случае, эта родословная позволила ее отцу претендовать на корону Курляндского герцога[48].
Между тем сам русский императорский дом в то время отнюдь не блистал чистотой крови. Низкое происхождение матери не раз подводило Елизавету. Например, в списке невест для юного короля Людовика XV ее имя стояло вторым, но было отвергнуто именно потому, что дочь Петра родилась до брака и от «подлой простолюдинки»[49]. Французский двор не мог позволить своему королю такого мезальянса. Юная принцесса Ангальт-Цербстская внесла свою лепту в укрепление родословного древа Романовых. Капля ее благородной крови оказалась очень кстати. В окружении незнатной материнской родни Елизаветы Петровны — Скавронских, Гендриковых, Чоглоковых, с их грубыми простонародными привычками, она выглядела настоящей андерсеновской принцессой, способной почувствовать горошину под дюжиной тюфяков.
«Средоточие совершенств»
В Москве София, наконец, увидела императрицу Елизавету — самую красивую коронованную даму своего времени. 9 февраля гостьи прибыли в Анненгофский дворец на берегу Яузы. «Когда мы прошли через все покои, нас ввели в приемную императрицы; она пошла к нам навстречу с порога своей парадной опочивальни. Поистине нельзя было тогда видеть ее в первый раз и не поразиться ее красотой и величественной осанкой. Это была женщина высокого роста, хотя очень полная, но ничуть от этого не терявшая и не испытывавшая ни малейшего стеснения во всех своих движениях; голова ее была также очень красива; на императрице были в этот день огромные фижмы… Ее платье было из серебряного глазета с золотым галуном; на голове у нее было черное перо, воткнутое сбоку и стоящее прямо, а прическа из своих волос со множеством бриллиантов»[50].
Елизавете Петровне в то время уже минуло 35 лет, но она все еще оставалась прекрасной. Можно только подивиться памятливости Екатерины, ухватившей детали — черное перо, прическу из своих волос, множество бриллиантов… Сама София была облачена в «узкое платье без фижм из муара розово-серебристого цвета». В нем она казалась особенно хрупкой рядом с величественной, рослой императрицей. Какими бы трудными ни были впоследствии отношения этих двух женщин, Екатерина на всю жизнь сохранила простоту и непосредственность первого впечатления. Она была заворожена царицей.
Чуть позже великая княгиня побывала на особом маскараде, где дамы наряжались в мужское, а кавалеры — в женское платье. «Безусловно хороша в мужском наряде была только императрица, — вспоминала Екатерина, — так как она была очень высока и немного полна, мужской костюм ей чудесно шел; вся нога у нее была такая красивая, какой никогда я не видела ни у одного мужчины, и удивительно изящная ножка (ступня. — О. E.). Она танцевала в совершенстве и отличалась особой грацией во всем, что делала одинаково в мужском и женском наряде… Как-то на одном из таких балов я смотрела, как она танцует менуэт; когда она кончила, она подошла ко мне. Я позволила себе сказать ей, что счастье женщин, что она не мужчина, и что один ее портрет, написанный в таком виде, мог бы вскружить голову многим женщинам… Она ответила, что если бы она была мужчиной, то я была бы той, которой она дала бы яблоко»[51].
Такой портрет действительно был написан Л. Каравакком. Глядя на него, нельзя не признать, что Екатерина права. Родись ее царственная свекровь кавалером, дамам пришлось бы туго. Однако красота физическая очень редко соединяется с душевными совершенствами. Нрав государыни под пером невестки приобрел отталкивающие черты. В специальной записке «Характеры современников», вынесенной за рамки воспоминаний, Екатерина давала нелицеприятную оценку личных качеств своей предшественницы:
«Императрица Елизавета имела от природы много ума, она была очень весела и до крайности любила удовольствия; я думаю, что у нее было от природы доброе сердце, у нее были возвышенные чувства и много тщеславия; она вообще хотела блистать во всем и служить предметом удивления; я думаю, что ее физическая красота и врожденная лень очень испортили ее природный характер. Красота должна была бы предохранить ее от зависти и соперничества, которое вызывали в ней все женщины, не слишком безобразные; но, напротив того, она была до крайности озабочена тем, чтоб эту красоту не затмила никакая другая; это порождало в ней страшную ревность, толкавшую ее часто на мелочные поступки… Ее лень помешала ей заняться образованием ума… Льстецы и сплетницы довершили дело, внеся столько мелких интересов в частную жизнь этой государыни, что ее каждодневные занятия сделались сплошной цепью капризов, ханжества и распущенности, а так как она не имела ни одного твердого принципа и не была занята ни одним серьезным и солидным делом, то при ее большом уме она впала в такую скуку, что в последние годы своей жизни она не могла найти лучшего средства, чтобы развлечься, как спать, сколько могла; остальное время женщина, специально для этого приставленная, рассказывала ей сказки»[52].
Безжалостная характеристика. Справедливости ради надо сказать, что Елизавета обладала добрым сердцем и много сделала для смягчения нравов в России. Накануне переворота она дала обет перед образом Спасителя никого не казнить и сдержала слово. За ее царствование не был подписан ни один смертный приговор. Современники сравнивали царствование Елизаветы с куда более суровыми временами Анны Иоанновны и естественно находили разительные перемены к лучшему. Искренне православная и русская по складу характера Елизавета была любима подданными. Тем не менее в повседневной жизни государыня нередко вела себя как домашний деспот.
Давая нелестную характеристику своей свекрови, Екатерина, конечно, сгущала краски. Однако сравним ее слова с отзывами иностранных дипломатов. Прусский посланник Аксель фон Мардефельд, вернувшись в конце 1746 года в Берлин после двадцатидвухлетнего пребывания в России, писал Фридриху II:
«Императрица есть средоточие совершенств телесных и умственных, она проницательна, весела, любима народом, манеры имеет любезные и привлекательные… Набожна до суеверности, так что исполняет дотошно все нелегкие и стеснительные обязанности, кои религия ее предписывает, ничем однако же не поступаясь из удовольствий самых чувственных, коим поклоняется с неменьшею страстью… Ревнует сильно к красоте и уму особ царственных, отчего желает зла королеве венгерской (австрийской императрице Марии Терезии. — О. Е.) и цесаревне шведской (сестре прусского короля Ульрике, выданной замуж за наследного принца Швеции Адольфа Фридриха. — О. E.). В довершение всего двулична, легкомысленна и слова не держит. Нерадивость ее и отвращение от труда вообразить невозможно, а канцлер (Бестужев. — О. Е.) из того извлекает пользу, нарочно из терпения выводит донесениями скучными и длинными, так что в конце концов подписывает она все что ни есть, кроме объявления войны и смертных приговоров, ибо страшится всякого кровопролития»[53]. Легко заметить, что первая фраза донесения как бы противостоит всему, сказанному после. Однако это лишь внешнее противоречие. Сначала посланник говорит о впечатлении, которое производит Елизавета своим обликом и приятным обхождением, а затем — о том, что скрыто в глубине ее души.
Преемник Мардефельда Карл Вильгельм Финк фон Финкинштейн годом позже высказывался в том же ключе: «Государыня сия блещет всеми достоинствами внешними; стан высокий и величавый, лицо приятное, грация во всей особе беспредельная сразу ее от всех прочих дам при дворе отличают. Достоинствам сим знает она цену и со всем тщанием их пестует; больше того, чрезвычайно ими гордится и притязует на первенство среди всех особ своего ранга и пола. Ум у нее таков, каков у женщин обычно бывает; проницательность, живость, воображение есть, но без основательности. Сладострастие всецело ею владеет; предается она ему вполне и без меры… Лень, обычная спутница сладострастия, также в характере сей государыни, отчего малое ее усердие к делам и отвращение от трудов проистекают… Гордости и тщеславия в ней много… С тою же любовью богатством хвастать связан вкус ее к пышности и к возведению зданий. Обвиняют ее в скрытности… и глядит она с улыбкою радости на тех, кто более всего ей противен… Благочестие доходит у ней до ханжества самого неумеренного»[54].
Заметим, чем больше портились отношения русского и прусского дворов, тем непривлекательнее становился портрет Елизаветы в донесениях немецких дипломатов. Во всяком случае Финкинштейн категоричнее Мардефельда. А вот секретарь французского посольства Клод де Рюльер, служивший в Петербурге уже в годы союза с Францией, подчеркивал иные качества императрицы: «Зная, как легко производится революция в России, она никогда не полагалась на безопасность носимой ей короны. Она не смела ложиться до рассвета, ибо заговор возвел ее самою на престол во время ночи. Она так боялась ночного нападения, что тщательно приказала отыскать во всем государстве человека, который бы имел тончайший сон, и этот человек… проводил в комнате императрицы все время, которое она спала»[55].
Софии еще только предстояло познать все потаенные глубины психологии своей свекрови. В 1744 году она видела перед собой прекрасную властительницу из сказки: «Хотелось бы все смотреть, не сводя с нее глаз, и только с сожалением их можно было оторвать от нее, так как не находилось никакого предмета, который бы с нею сравнился».
Петербург стоит обедни
Ангальт-Цербстских принцесс поселили во дворце. 10 февраля на первой неделе Великого поста они участвовали в праздниках по случаю дня рождения цесаревича. Елизавета возложила на них ленты ордена Святой Екатерины, что уже было знаком для окружающих — невеста выбрана. Однако честолюбивые планы все еще могли рухнуть. На пути превращения Софии в великую княгиню Екатерину Алексеевну оставалось серьезное препятствие. Прежде чем обвенчаться, она должна была сменить веру.
Сама София отнюдь не готова была к такому обороту событий. Перед расставанием отец вручил ей записку — «Pro Memoria» — нечто вроде благословения и наставления одновременно. Христиан Август настаивал на том, чтобы дочь сохранила свою «природную веру» в неприкосновенности. Девочка обещала: «Умоляю Вас быть уверенным, что Ваши увещевания и советы навечно останутся запечатленными в моем сердце, так же как и семена нашей святой религии останутся в моей душе. Я прошу у Господа ниспослать мне сил, необходимых, чтобы удержаться от искушений»[56].
Однако сразу же по прибытии в Москву принцессе назначили учителя русского языка и наставника в православии. Иоганна Елизавета попыталась заикнуться о том, чтобы ее дочери разрешили остаться лютеранкой по примеру супруги царевича Алексея Петровича принцессы Шарлоты. Но императрица резко пресекла подобные поползновения. Называться «благоверной великой княгиней» могла только православная.
Надо заметить, что мать постарались подготовить к этому еще в Берлине. Фридрих Великий не отличался набожностью и со своими просветительскими взглядами смотрел на переход из конфессии в конфессию как на формальность. Если для Генриха IV Париж стоил мессы, то для будущей Екатерины Петербург стоил обедни. Именно в этом ключе король наставлял прусских дипломатов, аккредитованных в России. Казалось бы, посольство должно было поддерживать сопротивление Софии, но на деле, выполняя инструкции Фридриха, склоняло принцессу к отступничеству.
В этих условиях неуместная неуступчивость Иоганны удивила Мардефельда. «Я недоумеваю лишь относительно следующего обстоятельства: мать думает, или показывает вид, что думает, будто молодая принцесса не решится принять православие», — сообщал он королю. Фридрих вынужден был обратиться к штеттинской комендантше лично: «Мне остается только просить Вас победить в Вашей дочери отвращение к православию». Сама девочка еще колебалась. Мардефельд доносил, что «принцесса часто находится в страшном волнении, плачет и понадобилось даже пригласить к ней лютеранского пастора, дабы хоть несколько успокоить ее». Впрочем, отмечал в конце письма дипломат, «честолюбие берет свое»[57].
С переходом будущей Екатерины II в православие связано несколько устойчивых историографических клише, на которых стоит остановиться. Сложилось мнение, что, коль скоро в родном Штеттине среди учителей Фикхен были и лютеране, и кальвинисты, и даже изредка упоминается некий католический священник из окружения матери, то девочка с ранних лет должна была усвоить себе легкое, поверхностное отношение к религии. Ей ничего не стоило переступить через порог одной конфессии и оказаться в другой. Когда же речь заходит о Восточной Церкви, вдруг обнаруживается, что к плачущей принцессе тайком приглашали пастора, чтобы уговорить ее не упрямиться. Исследователи один за другим повторяют оба утверждения, не находя в них внутреннего противоречия. Между тем либо Софии было все равно (что не подтверждается ни ее мемуарами, ни письмами к отцу, ни донесениями Мардефельда), либо она рыдала.
Прикомандированный к Фикхен епископ Псковский Симон Тодорский — человек образованный, широко мыслящий, несколько лет учившийся в Германии — на фоне полкового пастора Вагнера выглядел настоящим ученым. «Он не ослаблял моей веры, дополнял знание догматов»[58], — писала позднее императрица о Тодорском. И тут нас ожидает еще одно исследовательское клише. Принято свысока посмеиваться над утверждениями в письмах юной Софии к отцу, будто между православием и лютеранством существуют, главным образом, внешние, обрядовые различия. Пышность богослужений, иконы, долгие посты — суть уступка Церкви, которая «видит себя вынужденной к тому грубостью народа». Что же касается догматики, то она близка. Для большинства авторов тут налицо лукавство маленькой принцессы, в которой «честолюбие берет свое». Однако Симон Тодорский, чье мнение повторяла девочка, явно знал христианскую догматику глубже подавляющего числа современных исследователей.
При бросающемся в глаза несоответствии обрядов догматическая сторона действительно не слишком разнилась. Принятое в лютеранстве «Аугсбургское вероисповедание» было объемнее, чем «Никео-Цареградский символ веры» и включало некоторые католические добавления[59]. Недаром сподвижник Мартина Лютера Филипп Меланхтон хлопотал о признании «Аугсбургского вероисповедения» Восточной Церковью. В 1559 году он послал его текст константинопольскому патриарху Иоасафу II, отметив в сопроводительном письме, что «евангелики остались верны догматическим определениям соборов и учению отцов церкви и отреклись только от суеверия и невежества латинских монахов»[60]. Наставляя принцессу, псковский епископ не мог пройти мимо этого красноречивого эпизода. Конечно, из политических соображений Тодорский как мог скрадывал различия. Но, в целом, никто никому не лгал. Фикхен просто излагали основы православного вероучения на понятном ей языке.
Интересно сравнить, как Екатерина сама описывала историю своего перехода в православие в разных редакциях мемуаров. Наиболее полно события изложены в «Записках», посвященных Брюс. В них рассказ о наставлениях Симона Тодорского следует после описания тяжелой болезни. Эти события идут одно за другим, без всякой связи.
«На десятый день нашего приезда в Москву мы должны были пойти обедать к великому князю. Я оделась, и когда уже была готова, со мной сделался сильный озноб; я сказала об этом матери, которая совсем не любила нежностей, но… озноб так усилился, что она первая послала меня лечь. Я разделась, легла в постель, заснула и настолько потеряла сознание, что почти ничего не помню из происходившего в течение двадцати семи дней, пока продолжалась эта ужасная болезнь. Бургав, лейб-медик… признал плеврит; но он не мог убедить мать, чтобы она разрешила пустить мне кровь. И так я оставалась без всякой помощи, если не считать каких-то припарок, которые прикладывали мне на бок, со вторника по субботу». То есть пока императрица Елизавета не вернулась из Троицы в Москву.
«Она… прошла прямо из кареты ко мне в комнаты в сопровождении графа Лестока, графа Разумовского и хирурга этого последнего, по имени Верр. Она села у моего изголовья и держала меня на руках, пока мне пускали кровь; я пришла немного в себя в эту минуту… но несколько минут спустя я снова впала в забытье. Императрица прислала мне после этого кровопускания бриллиантовые серьги и бант стоимостью двадцать тысяч рублей. Мне пускали кровь шестнадцать раз, пока нарыв не лопнул. Наконец, накануне Вербного воскресенья, ночью я выплюнула нарыв».
После болезни София впервые появилась «на публике» 21 апреля, в день своего рождения. Ей минуло пятнадцать, и только после этого, как писала мемуаристка, «императрица и великий князь пожелали, чтобы меня посещал Симон Тодорский, епископ псковский, и чтоб он беседовал со мной о догматах православной церкви. Великий князь сказал мне, что он убедит меня, да и я с самого приезда в империю была глубоко убеждена, что венец небесный не может быть отделен от венца земного. Я слушала псковского епископа с покорностью и никогда ему не противоречила… и мое обращение не стоило ему ни малейшего труда»[61].
Перед нами гладкая, непротиворечивая картина. Екатерина даже упоминает о желании великого князя склонить ее к отказу от лютеранства. Эта важная деталь исчезнет из последующих редакций, где на первый план выступит собственное желание принцессы. Кроме того, в приведенной версии тяжелая болезнь Софии никак не связана с вопросом о вере. Позднее простуда, поставившая Фикхен на край могилы, станет своего рода этапом, важной ступенью в приобщении к русскому языку и православным традициям.
«Мне тогда уже дали троих учителей, — писала императрица в редакции 90-х годов, — одного, Симеона Теодорского, чтобы наставлять меня в православной вере; другого, Василия Ададурова, для русского языка, и Ландэ, балетмейстера для танцев. Чтобы сделать более быстрые успехи в русском языке, я вставала ночью с постели и, пока все спали, заучивала наизусть тетради, которые оставлял мне Ададуров; так как комната моя была теплая, и я вовсе не освоилась с климатом, то я не обувалась»[62].
Само желание Софии поскорее выучить язык не вызывает сомнений. Тогда же «Санкт-Петербургские ведомости» писали: «Молодая принцесса показывает великую охоту к знанию русского языка и на изучение оного ежедневно по нескольку часов употреблять изволит»[63]. Настораживает другое несоответствие: в ранней редакции священник назначен к Екатерине уже после болезни. А в поздней — накануне, вместе с Ададуровым. Такое изменение «показаний» позволило ввести в мемуары целый эпизод с исповедью.
Юную невесту цесаревича лечили придворные медики Бургав, Санхец, Лесток и Верр. Они прописали частые и обильные кровопускания, в результате чего София до крайности обессилела. Эта, столь не вовремя случившаяся болезнь могла стоить ей статуса невесты наследника, но не по годам расчетливая девочка сумела и ее превратить в свой триумф. Когда положение было критическим, мать предложила позвать к больной лютеранского пастора. Однако Екатерина потребовала православного священника, что произвело на императрицу и придворных сильное впечатление.
«Поведение матери во время моей болезни повредило ей во мнении всех. Когда она увидела, что мне очень плохо, она захотела, чтобы ко мне пригласили лютеранского священника… Я ответила: „Зачем же? Пошлите лучше за Симеоном Теодорским, я охотно с ним поговорю“. Его привели ко мне, и он при всех так поговорил со мной, что все были довольны. Это очень подняло меня во мнении императрицы и всего двора»[64].
Камень веры
Позднее Екатерина говела по шесть недель вместе со всем двором, ходила пешком на богомолья, поклонялась святым мощам — в общем, делала все, чтобы окружающие признали ее православной. Более того, с рвением неофита штеттинская принцесса желала отказаться от всего немецкого. После изнуряющих кровопусканий она наивно просила вместо потерянной немецкой перелить ей русскую кровь. Так или иначе, София добилась своего: всего через полтора месяца после приезда окружающие перестали воспринимать ее как «чужую».
Пережитая болезнь имела и другое полезное следствие: София научилась подолгу лежать с закрытыми глазами, притворяясь, будто спит или остается в забытьи. Приставленные к ней женщины расслаблялись и начинали бесконечные пересуды о жизни двора, и слушая их, принцесса узнавала для себя много нового, порой такого, что ни в коем случае не предназначалось для ушей невесты великого князя. Сведения, полученные при помощи этой невинной уловки, тоже помогли принцессе быстрее вжиться в чужую среду.
На первый взгляд понятно, с какой целью в позднейшую редакцию своих воспоминаний императрица ввела сцену разговора с православным священником. Однако есть основания полагать, что она не выдумала ее, а лишь соответствующим образом «обставила». Здесь следует остановиться на одной важной особенности мемуаров Екатерины II. Ни один, даже самый недоброжелательный комментатор не смог поймать нашу героиню на откровенной лжи. Дело в том, что сам феномен обмана воспринимался в XVIII столетии иначе, чем теперь. Мелкая, бытовая ложь не считается современным человеком чем-то важным, не говоря уже о лжи во спасение. Однако два с лишним столетия назад дело обстояло иначе. Ложь называли серьезным грехом и его старались избегать. Недаром Екатерина в разговоре с Алексеем Орловым о начале фавора Потемкина на прямой вопрос отвечала: «Не спрашивай, я солгать не умею». Вот ключевые слова. Человек XVIII века предпочитал умалчивать, а не идти на заведомую ложь.
Источники двухсотлетней давности молчат порой очень красноречиво. И мемуары Екатерины тоже. О чем же умалчивала наша героиня? Был или нет Симон Тодорский ко времени болезни уже официально назначен к Софии в качестве наставника, в сущности не так уж важно. Ведь с самого ее приезда в Россию епископ не мог не начать исподволь склонять невесту великого князя к православию. Тодорский учился в Германии, в городе Галле, был хорошо знаком с догматами лютеранства, ему легко давались подобные разговоры, недаром именно он наставлял Петра Федоровича[65].
Первое, о чем должна была спросить Фикхен, памятуя ее споры с пастором, — это трудность спасения души. Вспомним, как после уроков Вагнера она ходила по вечерам плакать под окошко, размышляя о том, что непременно попадет в ад. Бабет, конечно, запретила строгому лютеранину пугать ребенка, но изгладить след в душе было не так-то легко. Что же касается Тодорского, то он объяснял принцессе учение православной Церкви, согласно которому человек, исповедовавшись и причастившись перед смертью, получал прощение грехов. Однако внезапная гибель, без покаяния и соответствующих обрядов — так называемая «наглая смерть» — ставила спасение души под вопрос.
И вот София слегла. Положение ее было крайне тяжелым, она почти постоянно находилась без чувств и потеряла много крови. Окружающие считали, что ребенок при смерти. Мать пыталась позвать пастора. Лютеране не исповедуются и не причащаются перед уходом из жизни, но получают последние наставления священника. Кроме того, лютеранское и православное причастия — разные вещи. Первое совершается изредка и знаменует собой воспоминание о Тайной вечере. Второе — разрешает от прежних грехов и открывает врата в рай. Вероятнее всего, девочка не просто позвала Тодорского для беседы, а попросила причаститься. Оказавшись на пороге смерти, София сильно испугалась и потянулась к тому, что гарантировало ей спасение души.
После принятия причастия по православному обряду у нее уже не оставалось выбора. Именно так принцессу учили дома: «Я была наставлена в лютеранской вере одним духовным лицом по имени Вагнер, полковым священником у отца, а он часто мне говорил, что до первого причащения каждый христианин может выбрать веру, которая ему покажется наиболее убедительной; я еще не была у причастия и, следовательно, находила, что епископ псковский был прав во всем… Он часто спрашивал меня, не имею ли я сделать ему какие-нибудь возражения, выразить сомнения, но мой ответ был краток и удовлетворял его, потому что решение мое было принято»[66].
Если Фикхен приняла первое причастие еще во время болезни, то по выздоровлении она испугалась, что нарушила слово, данное отцу. Вот тут-то и понадобился пастор, чтобы успокоить и разрешить от обещания Христиану Августу. Можно предположить, что он явился из прусского посольства и тоже выполнял инструкции Фридриха II.
Почему императрица не рассказала в мемуарах о том, как попала в западню собственного страха? Это подорвало бы старательно создаваемый ею образ маленького философа, с самого начала рассчитавшего каждый шаг и добившегося в конце концов короны. На этом пути испуг, колебания, слезы казались лишними, и о них умолчали. В более поздней редакции Екатерина вообще опустила все, что могло хоть как-то свидетельствовать о ее теплом отношении к вере отцов. «Лютеранский обряд» назван «самым суровым и наименее терпимым»[67]. А вот Брюс она без тени колебания рассказывала: «Я берегу еще сейчас немецкую Библию, где подчеркнуты красными чернилами все стихи, которые я знала наизусть»[68]. Из этого, конечно, не следует, что Екатерина до зрелых лет оставалась скрытой лютеранкой. Ей просто приятно было иметь у себя книгу, по которой ее некогда учили читать и из которой задавали первые уроки. В том, что Библия немецкая, императрица не видела ничего худого. Но вот помещать это признание в позднюю редакцию, которая время от времени давалась разным лицам для прочтения, посчитала неуместным.
Ангальт-Цербстские принцессы не рассчитывали получить благословение Христиана Августа. Им пришлось даже не то чтобы обмануть штеттинского коменданта — опять-таки умолчать о происходящем. В письме 5 июля София сообщала отцу, что императрица неожиданно назначила день обращения, так что никак невозможно было предупредить его заранее. Теперь же дело совершилось.
Что испытал «человек прямого и здравого смысла», прочитав эти строки? Можно было выразить неудовольствие, даже поднять скандал, но не исправить ситуацию. Девочка побоялась написать, что ей переменили имя. Она подала дело иначе: императрица благоволила к уже имеющимся именам прибавить имя своей матери. Получалось Екатерина София Августа Фредерика. Но уже следующее письмо Фикхен подписала «Екатерина, Великая Княгиня», и в нем закрепила выгодную трактовку событий: «Вследствие данного мне Вами отеческого благословения, я приняла восточную веру»[69].
«Говорят, я прочла свое исповедание веры, как нельзя лучше, — вспоминала императрица, — говорила громко и внятно и произносила хорошо и правильно; после того, как это было кончено, я видела, что многие из присутствующих заливались слезами и в их числе была императрица; что меня касается, я стойко выдержала, и меня за это похвалили»[70]. Мардефельд донес в Берлин, что принцесса «держалась, как настоящая героиня»[71].
В тот момент для девушки это было просто трудное испытание. Лишь с годами Екатерина начала задумываться о мистическом значении своего выбора. В записке «О предзнаменованиях» она пометила: «В 1744 году 28 июня… я приняла Грекороссийский Православный закон. В 1762 году 28 июня… я приняла всероссийский престол… В сей день… начинается Апостол словами: „Вручаю вам сестру мою Фиву, сущую служительницу“».
«Сердце из воска»
На следующее утро великую княгиню обручили с суженым. 29 июня — день тезоименитства Петра Федоровича — стало для будущего императора роковым. Если восемнадцать лет спустя Екатерина обрела корону как подарок на годовщину перехода в православие, то Петр III потерял власть на собственные именины. Нельзя не усмотреть в этом усмешку судьбы.
Но пока никто не мог заглянуть в грядущее. До свадьбы оставалось чуть более года: по традиции между обручением и венчанием проходил немалый срок. За оставшиеся месяцы невеста должна была освоиться и прижиться. По ее собственным словам, она почувствовала, что «надолго обосновалась в России».
Но отношения нареченной с великим князем складывались далеко не так гладко, как ей хотелось бы. Внешне все выглядело благополучно. Петр Федорович выразил радость по поводу приезда Ангальт-Цербстских принцесс и сделал попытку подружиться с Софией. Во время ее болезни он, по примеру императрицы, часто посещал невесту. Но вскоре оказалось, что его приязнь чисто родственная. «В течение первых десяти дней он был очень занят мною, — вспоминала Екатерина. — …Я молчала и слушала, чем снискала его доверие; помню, он мне сказал, между прочим, что ему больше всего нравится во мне то, что я его троюродная сестра и что в качестве родственника он может говорить со мной по душе».
Юношу можно понять. Он слишком рано лишился отца и матери, был окружен грубыми, придирчивыми гувернерами, а попав в Россию, оказался под бдительным надзором соглядатаев тетки (о последних мы еще поговорим). Соблазн принять невесту и тещу за свою семью был велик.
Нельзя сказать, что София повернулась к брату-жениху спиной и отвергла его дружбу. Напротив, воспитанная в покорности, она была готова стать Петру и товарищем по играм, и наперсником его тайных признаний. Хотя сами эти признания порой коробили ее. «Он… сказал, что влюблен в одну из фрейлин императрицы, которая была удалена тогда от двора, ввиду несчастья ее матери, некоей Лопухиной, сосланной в Сибирь; что ему хотелось бы на ней жениться, но что он покоряется необходимости жениться на мне, потому что его тетка того желает». Речь шла о деле Натальи Федоровны Лопухиной, которую в 1743 году после битья кнутом и урезания языка отправили в ссылку. Ее дочь от первого брака с видным петровским сановником — Прасковья Павловна Ягужинская — действительно получила временное запрещение появляться при дворе, а затем вышла замуж за князя С. В. Гагарина.
Подобные истории не могли обрадовать Софию. «Я слушала, краснея, эти родственные разговоры, благодаря его за скорое доверие, но в глубине души я взирала с удивлением на его неразумие и недостаток суждений о многих вещах»[72]. Фикхен видела в себе «невесту», «молодую особу» и считала, что любовные откровения жениха относительно других дам более чем неуместны. Петр же потянулся к ней именно как к единственному человеку, с которым мог быть чистосердечен.
«Не могу сказать, чтобы он мне нравился или не нравился, — признавалась Екатерина в „Записках“, адресованных Брюс. — Я умела только повиноваться. Дело матери было выдать меня замуж. Но, по правде, я думаю, что русская корона больше мне нравилась, нежели его особа. Ему было тогда шестнадцать лет, он был довольно красив до оспы, но очень мал и совсем ребенок. Он говорил со мной об игрушках… Я слушала его из вежливости и в угоду ему; я часто зевала, не отдавая себе в этом отчета, но я не покидала его… Многие приняли это за настоящую привязанность; но никогда мы не говорили между собою на языке любви: не мне было начинать этот разговор, скромность мне воспретила бы это, если б я даже почувствовала нежность, и в моей душе было достаточно врожденной гордости, чтобы помешать мне сделать первый шаг; что же его касается, то он и не помышлял об этом, и это, правду сказать, не очень-то располагало меня в его пользу; девушки, что ни говори, как бы хорошо воспитаны они ни были, любят нежности и сладкие речи, особенно от тех, от кого они могут их выслушать, не краснея»[73].
Этот рассказ о взаимоотношениях жениха и невесты вполне традиционен. Но есть и другой. В варианте «Записок», адресованном Станиславу Понятовскому и, вероятно, появившемся раньше остальных редакций, на рубеже 1755/56 года, робкие шаги Екатерины и Петра друг к другу описаны иначе. После первой встречи с невестой мальчик пришел в крайнее волнение: «Я ему так понравилась, что он целую ночь от этого не спал, и Брюмер велел ему сказать вслух, что он не хочет никого другого, кроме меня»[74].
Положим, впечатлительный юноша мог не сомкнуть глаз не столько от любовного томления, сколько от наплыва эмоций. Показательно поведение обер-гофмаршала Отто фон Брюмера: он фактически приказывает воспитаннику высказать вслух, при императрице, что выбор сделан. Ведь Ангальт-Цербстские принцессы укрепляли собой голштинскую группировку, выгода для друзей прусского короля была налицо. Но вскоре невеста подтвердила свой первый вывод: «Великий князь любил меня страстно, и все содействовало тому, чтобы мне надеяться на счастливое будущее»[75]. В последующих редакциях проскальзывает отзвук тех ранних отношений: «Великий князь во время моей болезни проявил большое внимание ко мне; когда я стала лучше себя чувствовать, он не изменился ко мне; по-видимому, я ему нравилась»[76].
Что до самой невесты, то она вполне сформировалась и нравственно, и физически для взрослых отношений. Уже к тринадцати годам, по собственному ее признанию, Екатерина была «больше ростом и более развита, чем это бывает обыкновенно в такие годы». Поэтому вскоре после первой встречи с женихом принцесса «привыкла считать себя предназначенной ему… Он был красив, и я так часто слышала о том, что он много обещает, что я долго этому верила»[77].
Как выглядел в тот момент Петр? Педагог великого князя профессор Якоб Штелин записал позднее свои впечатления от только что прибывшего в Россию мальчика: «Очень бледный, слабый и нежного сложения. Его белорусые волосы причесаны на итальянский манер»[78]. Тем не менее Екатерине он понравился.
Когда Екатерина прибыла в Россию, все остались чрезвычайно довольны ее внешностью: «Говорили, что я прекрасна, как день, и поразительно хороша»[79]. Сама она так описывала свою внешность накануне свадьбы: «Я была высока ростом и очень хорошо сложена; следовало быть немного полнее: я была довольно худа. Я любила быть без пудры, волосы мои великолепного каштанового цвета, очень густые и хорошо лежали»[80]. Эти-то волосы и подвели Екатерину.
После болезни девочка очень подурнела и некоторое время не могла претендовать на благосклонное внимание кавалеров. «21 апреля 1744 года, в день моего рождения, я была в состоянии появиться в обществе в первый раз… Я думаю, что не слишком-то были довольны моим видом; я похудела, как скелет, выросла, но лицо мое и черты удлинились; волосы у меня падали, и я была бледна смертельно»[81]. В другом варианте сказано еще откровеннее: «Голова была гладка, как ладонь»[82]. Кстати, выпадение волос — один из признаков отравления, и недаром в литературе не раз высказывалась версия, которую нечем подтвердить, но нельзя и совсем опровергнуть, что нежеланную для ряда придворных группировок невесту постарались убрать.
«Я сама находила, что страшна, как пугало, и не могла узнать себя. Императрица прислала мне в этот день банку румян и приказала нарумяниться»[83]. Никакие косметические ухищрения не могли заменить здоровья, но девочка, к счастью, шла на поправку. Вскоре Елизавета Петровна дала принцессе понять, что та вновь похорошела. А лейб-медик Иоганн Герман Лесток, частый гость салона принцессы Иоганны и друг Шетарди, подбодрил Екатерину, сказав, что шведский посланник Вольфенштиерн находит ее «очень красивой»[84].
Поскольку великий князь не изменил своего отношения к невесте после болезни, то нет оснований говорить, будто временное безобразие девушки его оттолкнуло. Однако вскоре произошел случай, показавший Екатерине пределы «страстных» чувств жениха.
Принцесса Иоганна слишком сблизилась с группировкой маркиза Шетарди и позволила себе нелестные высказывания в адрес императрицы. Ее письма были перлюстрированы Бестужевым и предъявлены Елизавете. Разразился скандал. Нетрудно догадаться, что вице-канцлер метил не столько в мать, сколько в дочь: ведь разоблачение должно было закончиться высылкой обеих Ангальт-Цербстских принцесс. «Как-то после обеда, когда великий князь был у нас в комнате, — вспоминала Екатерина, — императрица вошла внезапно и велела матери идти за ней в другую комнату. Граф Лесток тоже вошел туда; мы с великим князем сели на окно, выжидая. Разговор этот продолжался очень долго, и мы видели, как вышел Лесток;…он подошел к великому князю и ко мне — а мы смеялись — и сказал нам: „этому шумному веселью сейчас конец“; потом, повернувшись ко мне, он сказал: „вам остается только укладываться, вы тотчас отправитесь, чтобы вернуться к себе домой“». Жених с невестой пустились в размышления об увиденном. «Первый рассуждал вслух, я — про себя. Он сказал: „но если ваша мать и виновата, то вы невиновны“, я ему ответила: „долг мой — следовать за матерью и делать то, что она прикажет“. Я увидела ясно, что он покинул бы меня без сожаленья»[85].
Между последней фразой и остальной сценой явно что-то пропущено, поскольку слова Петра вполне доброжелательны, и вывод, который сделала из них Екатерина, не основан на предыдущем тексте. Вероятно, юноша показал, что и он будет покорен воле императрицы. В любовные дела вторглась политика, и Петр, как не раз случится в дальнейшем, тут же спасовал. Отступил от девушки, которая ему, «по-видимому, нравилась».
На первый взгляд кажется, что после первого разочарования София платила ему теми же чувствами: «Ввиду его настроения, он был для меня почти безразличен, но небезразлична была русская корона». В данном случае ключевые слова: «Ввиду его настроения». То есть, если бы Петр приложил хоть малейшее старание привязать к себе принцессу, за ней дело бы не стало. Она охотно разделяла с женихом общие игры, которые поначалу вовсе не были ей в тягость: «Мы с великим князем возились в передней… у нас обоих не было недостатка в ребяческой живости».
Общепринято мнение, что Петр Федорович накануне свадьбы был еще совершенно неразвит в эмоциональном смысле и просто не мог вести себя, как подобает жениху. Ему нужен был товарищ по играм, а не невеста. Поэтому он не вызвал во взрослой, готовой к браку Екатерине теплых чувств. Но из мемуаров последней возникает несколько иная картина. Во-первых, несмотря на явную ребячливость и склонность к куклам, жених признавался невесте в нежных чувствах к другим девушкам. Это оскорбляло Екатерину. Что касается ее самой, то в силу воспитания она была убеждена, что мужей выбирают родители, а ее задача полюбить нареченного, какой ни есть. Ибо браки совершаются на небесах. По природе София была привязчива и всегда с охотой исполняла свои обязанности. Поэтому она готовилась влюбиться в жениха, особенно до оспы, когда мальчик, по ее словам, «был довольно красив». И вот тут Петр огорошил ее тем, что настроен дарить внимание всем, кроме нареченной.
«Великий князь иногда заходил вечером в мои покои, но у него не было никакой охоты приходить туда; он предпочитал играть в куклы у себя; между тем, ему уже исполнилось тогда 17 лет, мне было 16… С наступлением хорошей погоды мы переехали в Летний дворец; там посещения великого князя стали еще реже; признаюсь, этот недостаток внимания и эта холодность с его стороны, так сказать, накануне нашей свадьбы не располагали меня в его пользу, и чем больше приближалось время, тем меньше я скрывала от себя, что, может быть, вступаю в очень неудачный брак; но я имела слишком много гордости и слишком возвышенную душу, чтобы даже давать людям повод догадываться, что я не считаю себя любимой; я слишком ценила самое себя, чтобы думать, что меня презирают. Впрочем, великий князь позволял себе некоторые вольные поступки и разговоры с фрейлинами императрицы, что мне не нравилось, но я отнюдь об этом не говорила, и никто даже не замечал тех душевных волнений, какие я испытывала»[86].
В первые дни после брака, когда молодая тщетно ждала близости, все эти чувства только обострились. Много позже, в письме Г. А. Потемкину под красноречивым названием «Чистосердечная исповедь», наша героина говорила: «Если бы я смолоду в участь получила мужа, которого любить могла, я бы никогда к нему не переменилась»[87]. В редакции же мемуаров, посвященных Брюс, сказано иначе: «Я очень бы любила своего нового супруга, если бы только он захотел или мог быть любезным». Лишь на первый взгляд обе фразы значат одно и то же. На самом деле, в первом случае утверждается, что Петра невозможно было любить. Чему охотно веришь, зная о его характере. Но в том-то и дело, что, едва приехав в Россию, Екатерина еще не познакомилась со всеми «изгибами души» жениха. А потому «очень бы любила» его, если бы он сам не пренебрегал ею. Именно это и сказано задушевной подруге.
Другая девушка, пережив пренебрежение, долго страдала бы и постаралась вызвать у мужа ответное чувство. Наша героиня подумала о себе. Она предприняла усилие, чтобы пресечь нежность к Петру, которая уже начала вить гнездо в ее сердце. «У меня явилась жестокая для него мысль в самые первые дни нашего замужества, — признавалась императрица. — Я сказала себе: если ты полюбишь этого человека, ты будешь несчастнейшим созданием на земле; по характеру, каков у тебя, ты пожелаешь взаимности; этот человек на тебя почти не смотрит, он говорит только о куклах и обращает больше внимания на всякую другую женщину, чем на тебя; ты слишком горда, чтобы поднять шум из-за этого, следовательно, обуздывай себя, пожалуйста, на счет нежностей к этому господину; думай о самой себе, сударыня. Этот первый отпечаток, оттиснутый на сердце из воска, остался у меня».
Неудачный опыт заставил юную Екатерину принять «твердое решение — никогда не любить безгранично того, кто не отплатит мне полной взаимностью; но по закалу, какой имело мое сердце, оно принадлежало бы всецело и без остатка мужу, который любил бы только меня и с которым я не опасалась бы обид… Я всегда смотрела на ревность, сомнение и недоверие, как на величайшее несчастье, и была всегда убеждена, что от мужа зависит быть любимым своей женой, если у последней доброе сердце и мягкий нрав»[88]. Эти слова принадлежат женщине, пережившей много личного горя и не знавшей, что такое счастливый брак. Однако кто из добрых матерей семейств не подписался бы под ними?
Слуга трех господ
Не менее трудными были и отношения Екатерины с матерью. В письмах прусскому королю Иоганна Елизавета старалась показать, что контролирует поведение дочери, между тем у нее и дома-то это не слишком получалось. При всей внешней покорности, послушании, даже угодливости, которых тогда требовали от детей правила хорошего тона, София оставалась при своем мнении по любому вопросу.
Девочка была отлично вышколена. Или лучше — вымуштрована. Недаром в одном из писем Фридриху II принцесса Цербстская называла ее «наш стойкий рекрут». «Дочь моя легко переносит усталость, — хвалилась Иоганна, — как молодой солдат, она презирает опасность… ее восхищает величие всего окружающего»[89]. Но если раньше Фикхен зависела, главным образом, от своей взбалмошной матушки, капризы которой переносила стоически, то теперь круг «господ» расширился, а «слуга» остался по-прежнему один.
После случая с Шетарди Елизавета Петровна стала относиться к принцессе Цербстской с едва скрываемым презрением. Ждали только свадьбы, чтобы после нее удалить Иоганну под благовидным предлогом. Щедроты и милости по отношению к ней закончились. Жена штеттинского коменданта могла откусить себе не в меру болтливый язык, но было уже поздно. Слово — не воробей, как говорят в России.
Екатерина вспоминала, что весной 1744 года, когда великий князь приходил к ней обедать или ужинать, «его приближенные беседовали с матерью, у которой бывало много народу и шли всевозможные пересуды, которые не нравились… графу Бестужеву, коего враги все собирались у нас». В покоях Иоганны Елизаветы сложилось нечто вроде политического салона, где проводили время сторонники одной придворной партии, в то время как представители второй туда не допускались. При общительном характере, красоте и светскости принцессе легко было играть роль гранд-дамы придворного кружка. Штелин назвал ее «прекрасной и умной», отметив, что «императрица Елизавета была ею в первое время совершенно очарована»[90]. Вместо благодарности Ангальт-Цербстская принцесса пустилась изображать из себя «политикана передней». Добром это кончиться не могло, ведь она даже не понимала, в какой игре участвует.
Главным лицом в ее импровизированном салоне оказался бывший французский посланник маркиз Иоахим Жак Тротти де Ла Шетарди, заклятый враг Бестужева. Некогда Франция через него снабдила Елизавету Петровну деньгами на переворот, надеясь подчинить себе русскую внешнюю политику. Посланник ненадолго уехал, чтобы доложить в Париже об успехе. Он покинул елизаветинский двор, осыпанный милостями и уверенный в том, что по возвращении станет руководить делами в Петербурге. «Во время его отсутствия… императрица увидела, что интересы империи отличались от тех, какие в течение недолгого времени имела цесаревна Елизавета», — не без ехидства рассуждала уже зрелая и опытная Екатерина. Ей и самой доведется узнать, что интересы великой княгини отличаются от интересов самодержицы: «Де-ла-Шетарди нашел двери, которые ему были открыты ранее, запертыми; он разобиделся и писал об этом своему двору, не стесняясь ни относительно выражений, ни относительно лиц… он говорил в этом духе и с моей матерью… она смеялась, сама острила и поверяла ему те поводы к неудовольствию, которые, как ей казалось, она имела; между ними шли пересуды, которые не передаются дальше, как это водится между порядочными людьми; де-ла-Шетарди обратил их в сюжеты для депеш своему двору… их вскрыли и разобрали шифр; в них нашли подробности его бесед с матерью»[91].
Бестужев без малейшего стеснения использовал перлюстрацию дипломатической и частной почты как оружие в борьбе со своими врагами. Под его началом в Коллегии иностранных дел служил статский советник Христиан Гольдбах, знаток языков и одаренный математик. Еще в 1742 году он сумел раскрыть шифр, которым пользовался Шетарди[92]. Однако сразу компрометирующие посланника депеши вдело не пошли: вице-канцлер годами копил материалы для своих досье и умел выжидать наиболее удачный момент, чтобы нанести верный удар.
Были и другие каналы. «У графа Бестужева проживают в доме трое секретарей императрицы, — доносил Мардефельд. — Симолин, Иванов и Юберкампф. Последний совместно с почт-директором Ашем все письма, в Петербург прибывающие и из Петербурга отбывающие, распечатывает»[93].
Что же так оскорбило Елизавету в письмах прежнего союзника? Любезный и галантный Шетарди, всегда умевший выглядеть не только другом, но и поклонником, писал на родину о «сладострастной летаргии и плотских утехах», в которые погружена императрица, о ее непостоянстве и «нетвердости мысли», о «ненависти к делам»[94]. Но еще оскорбительнее были высказывания Иоганны Елизаветы, которая позволяла себе обсуждать частную жизнь императрицы. О том, что примерно она говорила, можно узнать из донесений Мардефельда к берлинскому двору. 26 мая 1744 года он писал явно со слов информатора при дворе: «Жена камер-юнкера Лялина… ее величеству донесла, что архимандрит Троицкого монастыря — истинный Геркулес в делах любовных, что ликом схож он с соловьем из Аркадии, да и тайные достоинства красоте не уступят, так что государыня пожелала сама испробовать и нашла, что наперсница рассудила верно, вследствие чего дарована архимандриту звезда ордена св. Андрея Первозванного с брильянтами, а в ней драгоценное изображение, и так высоко он вознесся, что подарено ему двадцать тысяч рублей наличными, хотя деньги здесь величайшая редкость, и почти никому не платят, отчего все стенают»[95].
Такие сплетни служили темой бесед между Шетарди и Ангальт-Цербстской принцессой, а далее передавались в Париж и Берлин. Методичный Бестужев собрал 69 посланий неосторожного француза и, чтобы скандал невозможно было замять, предъявил их не лично Елизавете Петровне, а на заседании Совета в присутствии императрицы. Оскорбление было нанесено публично. Конечно, вице-канцлер рисковал, но азартный игрок, он готовился погибнуть сам, увлекая за собой врагов.
По словам Екатерины, императрица была «доведена до страшного гнева». Шетарди в 24 часа был выслан из России. Принцессе Иоганне пришлось дорого заплатить за колкий язык. Если бы она была русской подданной, Елизавета отправила бы ее вслед за Лопухиной. Но с владетельной княгиней приходилось церемониться. Императрица отчитала неблагодарную гостью и лишила ее расположения. Если раньше комендантша писала мужу, что ее «обслуживают, как королеву»[96], то теперь царица не всегда допускала Иоганну к руке и обходила приглашениями.
«Дурное расположение духа матери происходило отчасти по той причине, что она вовсе не пользовалась благосклонностью императрицы, которая ее часто оскорбляла и унижала, — вспоминала Екатерина. — Кроме того, мать, за которой я обыкновенно следовала, с неудовольствием смотрела на то, что я теперь шла перед ней; я этого избегала всюду, где могла, но в публике это было невозможно; вообще я поставила себе за правило оказывать ей величайшее уважение и наивозможную почтительность, но все это не очень помогало».
Осторожная София очутилась даже не между двух, а между трех огней: Иоганной Елизаветой, женихом и его августейшей тетушкой. Однако, как бы осмотрительно ни вела себя великая княгиня, избежать нагоняев от императрицы она не могла. Роскошный образ жизни при дворе заставлял ее делать долги, о последних же доносили государыне. «Великий князь мне стоил много, потому что был жаден до подарков; дурное настроение матери также легко умиротворялось какой-нибудь вещью, которая ей нравилась, и так как она тогда очень часто сердилась и особенно на меня, то я не пренебрегала открытым мною способом умиротворения»[97].
Бедная девочка! Покупать добрые чувства матери и жениха подарками! Как будто София не заслуживала, чтобы ее любили просто так! Какой бы расчетливой умницей она ни казалась, ее гордость должна была невыносимо страдать от таких отношений.
«Он стал ужасен»
Казалось, «храбрый рекрут» Екатерина прошла уже добрую половину пути до брачного венца. Даже Бестужеву пришлось смириться. Правда, он по-прежнему не целовал руку Иоганне Елизавете, да и на саму невесту наследника поглядывал косо.
А во время ее хвори даже выказал неприличную радость. Но тут его одернула лично Елизавета Петровна. «Если б я даже имела несчастье потерять это дорогое дитя, — сказала она о Екатерине, — то все же саксонской принцессы никогда не возьму»[98].
Вице-канцлер получил прямое, недвусмысленное разъяснение по столь беспокоившему его вопросу. Чтобы вызвать такую отповедь у осторожной, вечно колеблющейся в выборе политической линии императрицы, надо было постараться. Как видно, до Елизаветы довели слова Бестужева: «Посмотрим, могут ли такие брачные союзы заключаться без совета с нами, большими господами этого государства»[99].
И тут неприятный сюрприз преподнес жених. «Осенью великий князь захворал корью, что очень насторожило императрицу и всех, — вспоминала Екатерина. — Эта болезнь значительно способствовала его телесному росту; но ум его был все еще ребяческий; он забавлялся в своей комнате тем, что обучал военному делу своих камердинеров (кажется, и у меня был чин)… Тогда я была поверенной его ребячеств, и… не мне было его исправлять; я не мешала ему ни говорить, ни действовать»[100].
Очень обдуманная, надо заметить, «политика» для девушки, которая старается не настраивать жениха против себя. Однако в любую политику вторгаются непредвиденные обстоятельства: «В декабре месяце 1744 года двор получил приказание готовиться к поездке в Петербург. Великий князь и мы с матерью опять поехали вперед. На половине дороги, прибыв в село Хотилово, великий князь захворал… На следующий день около полудня я вошла с матерью в комнату великого князя и приблизилась к его кровати; тогда доктора великого князя отвели мать в сторону, и минуту спустя она меня позвала, вывела из комнаты, велела запрячь лошадей в карету и уехала со мной… Она мне сказала, что у великого князя оспа»[101]. Диагноз страшный для того времени. По поведению принцессы Иоганны видно, как та испугалась за дочь.
Елизавета Петровна, брезгливая по натуре, страшилась заразы и приказывала увозить больных из царских резиденций при малейшем подозрении на нездоровье. С Петром было иначе: государыня кинулась к племяннику и проводила у его постели дни и ночи. В этом проявились и нерастраченные материнские чувства, и жалость к бедному мальчику-сироте, и… политический страх потерять наследника.
«Ночью после нашего отъезда из Хотилово, — вспоминала Екатерина, — мы встретили императрицу, которая во весь дух ехала из Петербурга к великому князю. Она велела остановить свои сани на большой дороге возле наших и спросила у матери, в каком состоянии великий князь; та ей это сказала, и минуту спустя она поехала в Хотилово, а мы в Петербург. Императрица оставалась с великим князем во все время его болезни и вернулась с ним только по истечении шести недель»[102].
Весьма примечательная подробность. Женщина, более всего боявшаяся за свою красоту, ринулась к несчастному мальчику и сама ухаживала за ним, пока он не поправился. Это был поступок. А еще раньше, во время болезни Софии, у которой тоже поначалу подозревали оспу, императрица храбро прошла к принцессе в комнату, взяла ее на руки и держала, пока девочке отворяли кровь.
Если бы принцесса Иоганна хотела вернуть расположение царицы, ей стоило самой остаться с больным мальчиком, а дочь отослать с фрейлиной Каин в Петербург. Это был бы великодушный шаг. Однако штеттинская комендантша так и не поняла, чем завоевывают симпатии в России. А вот София, похоже, вскоре спохватилась. Она покорствовала матери, но уже досадовала на себя за то, что покинула жениха. Принцесса Цербстская писала мужу, что их дочь была в отчаянии, ее с трудом уговорили уехать из Хотилова, она сама хотела ухаживать за больным[103].
Великая княгиня писала императрице в Хотиловский Ям трогательные письма по-русски, справляясь о здоровье Петра Федоровича. «По правде сказать, они были сочинены Ададуровым, но я их собственноручно переписала», — признавалась Екатерина.
Елизавета не ответила ни на одно, пока наследник не пошел на поправку. Очень характерная деталь. Зачем тратить на Софию время, если еще неизвестно, пригодится ли она в будущем? Зато когда опасность миновала, императрица известила невесту о счастливом окончании болезни ласковым посланием. «Ваше высочество, дорогая моя племянница, — писала она так, словно Екатерина уже была связана с нею узами родства. — Я бесконечно признательна Вашему высочеству за такие приятные послания. Я долго на них не отвечала, так как не была уверена в состоянии здоровья Его высочества, великого князя. Но сегодня я могу заверить Вас, что он, слава Богу, к великой нашей радости, с нами»[104].
Последние слова очень красноречивы. «С нами», то есть вырван из когтей смерти. Однако болезнь оставила страшные следы. И не только внешне: лицо юноши было обезображено. Но имелись и скрытые осложнения. Некоторые исследователи склонны видеть в этой хвори причину импотенции Петра, ведь даже ветряная оспа может иметь печальные последствия для половой системы[105]. Во всяком случае лейб-медики в один голос советовали отложить свадьбу: кто на год, а кто и до 25-летия великого князя.
«В начале февраля императрица вернулась с великим князем из Хотилово… Мы отправились к ней навстречу и увидели ее в большой зале, почти впотьмах, между четырьмя и пятью часами вечера; несмотря на это, я чуть не испугалась при виде великого князя, который очень вырос, но лицом был неузнаваем; все черты его лица огрубели, лицо все еще было распухшее, и несомненно было видно, что он останется с очень заметными следами оспы. Так как ему остригли волосы, на нем был огромный парик, который еще больше его уродовал. Он подошел и спросил, с трудом ли я его узнала. Я пробормотала ему свое приветствие по случаю выздоровления, но в самом деле он стал ужасен»[106]. Впрочем, в другой редакции «Записок» Екатерина уверяла, что жених не заметил ее отвращения: «Если бы я не знала, что это он, я ни за что не узнала бы его; вся кровь моя застыла при виде его и, если бы он был немного более чуток, он не был бы доволен теми чувствами, которые мне внушил»[107].
Старый друг
Важным событием в духовном взрослении Екатерины стала вторая встреча с графом Гюлленборгом, состоявшаяся в Северной столице во время болезни великого князя. «Остальной двор прибыл в Петербург; с ним иностранные министры и между прочими граф Геннингс-Адольф Гюлленборг, которого мы знали в Гамбурге и который приезжал в Москву от шведского двора, чтобы уведомить русский двор о свадьбе наследного принца Шведского с принцессой Прусской Луизой-Ульрикой».
Если во время знакомства с совсем еще юной Софией граф обратил внимание на ее глубокий ум и посоветовал матери заняться образованием ребенка, то при новом столкновении просвещенный вельможа был неприятно удивлен, даже шокирован. Казалось, девушка совсем погрузилась в вихрь придворной жизни. Она ни о чем не думала, кроме танцев, нарядов и драгоценностей.
«Я так любила тогда танцевать, — признавалась Екатерина, — что утром с семи часов до девяти я танцевала под предлогом, что беру уроки балетных танцев у Ландэ, который был всеобщим учителем и при дворе, и в городе; потом в четыре часа после обеда Ландэ опять возвращался, и я танцевала под предлогом репетиций до шести, затем я одевалась к маскараду. Где снова танцевала часть ночи»[108].
При роскошном дворе великой княгине полагалось вести роскошную жизнь. Ее платья, украшения и даже долги служили подтверждением высокого статуса. Юная Екатерина придумала своего рода философию долгов — обоснование собственной расточительности. «Я была тогда так щедра, что если кто хвалил мне что-нибудь, то мне казалось стыдно ему этого не подарить… Однажды приобретя эту привычку, я уже не бросала ее до самого восшествия на престол… Эти подарки вытекали из твердого принципа, из врожденной расточительности и презрения к богатству, на которое я никогда иначе не смотрела, как на средство доставить себе то, что нам нравится»[109]. Еще до замужества великая княгиня промотала 17 тысяч рублей, причем ей казалось, что она едва сводит концы с концами. «Я должна была одеваться богато, — вспоминала Екатерина. — …Я приехала в Россию с очень скудным гардеробом. Если у меня бывало три-четыре платья, это уже был предел возможного, и это при дворе, где платья менялись по три раза в день; дюжина рубашек составляла все мое белье; я пользовалась простынями матери».
Конечно, ее высочеству нужны были деньги на обзаведение. А кроме того — на покупку сердец: «Мне сказали, что в России любят подарки и что щедростью приобретаешь друзей и станешь всем приятной»[110]. Но самое главное — она должна была сделаться, как все: тратить по-русски, одеваться со здешней расточительностью, плясать до упаду: «Дамы тогда были заняты только нарядами, и роскошь была доведена до того, что меняли туалет по крайней мере два раза в день; императрица сама чрезвычайно любила наряды и почти никогда не надевала два раза одного и того же платья, но меняла их несколько раз в день; вот с этим примером все и сообразовывались: игра и туалет наполняли день. Я, ставившая себе за правило нравиться людям, с какими мне приходилось жить, усваивала их образ действий, их манеру; я хотела быть русской, чтобы русские меня любили; мне было 15 лет, наряды не могут не нравиться в этом возрасте».
Екатерина как бы оправдывается. Не только принятие православия и изучение языка делало ее «русской». Важно было перенять стиль жизни, манеру поведения окружающих, пусть даже эта манера не вызывала одобрения у нее самой. И тут старый друг не вовремя подоспел со своими нравоучениями. «Граф Гюлленборг, видя, что я с головой окунулась во все причуды двора, и заметив во мне, вероятно, больше благоразумия в Гамбурге, чем он усматривал, как ему думалось, в Петербурге, сказал мне однажды, что он удивляется поразительной перемене, которую он находит во мне: „Каким образом“, сказал он, „ваша душа, которая была сильной и мощной в Гамбурге, поддается расслабляющему влиянию двора, полного роскоши и удовольствия? Вы думаете только о нарядах; обратитесь снова к врожденному складу вашего ума; ваш гений рожден для великих подвигов, а вы пускаетесь во все эти ребячества“».
Конечно, образ жизни, который вела великая княгиня, менее всего располагал к самоуглублению и серьезным занятиям. Но Екатерина не захотела этого признать. Как водится, она спорила, не соглашалась с упреками и уверяла, будто собеседник не знает ее характера. Даже предложила написать для него нечто вроде анализа своих качеств: «Он принял это предложение, и на следующий день я набросала сочинение, которое озаглавила: Набросок начерно характера философа в пятнадцать лет — титул, который графу Гюлленборгу угодно было мне дать».
Впоследствии императрица очень гордилась своей запиской: «Я нашла снова эту бумагу в 1757 году; признаюсь, я была поражена, что в пятнадцатилетием возрасте я уже обладала большим знанием всех изгибов и тайников моей души; я увидела, что сочинение это было глубоко обдумано, и что в 1757 году я ни одного слова не нашла прибавить к нему, и что через тринадцать лет я также в себе самой ничего не открыла, чего бы я уже не знала в пятнадцатилетием возрасте, я дала эту бумагу… графу Гюлленборгу; он продержал ее несколько дней и возвратил, сопроводив запиской, в которой представлял мне все опасности, каким я подвергалась ввиду моего характера».
В чем, собственно, заключался предмет спора? Екатерина была твердо убеждена, что упреки графа хоть и справедливы, да не ко времени. Ее природный ум проявился как раз в том, что она попыталась слиться с новой средой обитания. Не выделяться, стать «своей». Пусть не в хорошем, так хоть в расхожем смысле слова. Гюлленборг же призывал ее к твердости и философии, тогда как все вокруг думали о платьях. Девушка попыталась доказать, что в ее поведении как раз и заключена житейская мудрость. Надо уметь применяться к обстоятельствам.
На фоне такого жизненного практицизма позиция вельможи кажется негибкой. Однако и за Гюлленборгом была своя правда. Как человек опытный, он понял то, о чем пока не догадывалась юная Екатерина. Ум и характер, как шило в мешке, не утаить. Граф заранее знал: как бы ни старалась великая княгиня, ей не удастся полностью раствориться в придворном мирке. Она не станет одной из множества дам, бестолково щебечущих о нарядах. Нечто важное всегда будет выделять ее. Елизаветинские кумушки не признают Софию «своей» до конца. Обширный ум, знания, жизненные принципы неизбежно сделают цесаревну белой вороной. Вскоре Екатерину раскусят, а раскусив, выплюнут за пределы «своего круга». Тогда она окажется одна. Что станет делать молодая особа, отвергнутая обществом, если ее способности останутся в небрежении?
Надо признать, что проницательный Гюлленборг как в воду глядел. Именно такое будущее и ждало великую княгиню. Во что превращается человек с недюжинным умом, погрязший в мелочных интересах, Екатерина сама видела на примере Елизаветы Петровны. И нашу героиню могла ждать подобная участь. Недаром граф после продолжительного разговора обронил: «Как жаль, что вы выходите замуж». Допустим, важный вельможа был чуточку влюблен в принцессу-умницу, а потому не захотел разъяснить ей смысл своих прощальных слов. Но главное, он ясно видел — брак должен стать тем рубежом, за которым образование Софии прекратится. Какими бы благими намерениями она ни руководствовалась, семья и недалекое окружение сузят ее жизненные интересы до предела.
Бог ссудил иначе. Обстоятельства сложились так, что вскоре после свадьбы Екатерина очутилась в уединении и тогда от скуки вспомнила о книгах, которые присоветовал ей мудрый Гюлленборг. «Готов держать пари, что у вас не было и книги в руках с тех пор, как вы в России», — с упреком сказал граф при встрече. «Он довольно верно отгадал, — признавалась Екатерина, — но и в Германии-то я читала почти лишь то, что меня заставляли. Тогда я его спросила, какую книгу советует он мне читать; он мне рекомендовал три: во-первых „Жизнь знаменитых мужей“ Плутарха, во-вторых, „Жизнь Цицерона“, в-третьих, „Причины величия и упадка Римской республики“ Монтескье. Я… велела их отыскать; я нашла на немецком языке „Жизнь Цицерона“, из которой прочла пару страниц; потом мне принесли „Причины величия и упадка Римской республики“; я начала читать, эта книга заставила меня задуматься; но я не могла читать последовательно, это заставило меня зевать, но я сказала: вот хорошая книга, и бросила ее, чтобы вернуться к нарядам»[111].
Порой кажется, что Екатерина откровенна в «Записках» до безжалостности. Однако простодушие, с каким она повествует о движениях своей души, на поверку оказывается одной из форм самоанализа. В данном случае императрица отмечала, во-первых, что образ жизни не позволял ей читать последовательно, а во-вторых, что книги были не по возрасту. Бросается в глаза, что Гюлленборг посоветовал цесаревне сочинения «на вырост». Сначала они показались ей скучноваты. Но через пару лет и Плутарх, и Тацит, и Монтескье стали в самый раз. Великая княгиня даже приказала доставить себе каталог библиотеки Академии наук и ее книжной лавки[112].
«Простыни из камердука»
С весны 1745 года начались приготовления к пышной великокняжеской свадьбе. Торжества должны были превзойти все прежние события подобного уровня. Елизавета Петровна особенно заботилась о том, чтобы церемониал по роскоши не уступал версальскому, а по утонченности этикета — венскому. Она специально послала за описаниями королевских бракосочетаний в разные страны и особым указом повелела вельможам приобретать новые экипажи и шить великолепные наряды для себя и жен. Чиновники первых четырех классов получили жалованье авансом, чтобы иметь случай потратить его на туалеты и подарки молодым[113].
Все эти новости бурно обсуждались в тесном дамском мирке елизаветинского двора, а также в светелке великой княгини, где невесту окружали восемь молоденьких бойких горничных. Вороха дорогих тканей, кружев, тончайшего белья, лент, россыпи булавок, гребней, коробочек с пудрой и румянами наполняли комнаты. Было отчего разгореться глазам и радостно забиться сердцу. Но нет. «Чем больше приближался день моей свадьбы, тем я становилась печальнее, — признавалась Екатерина, — и очень часто я, бывало, плакала, сама не зная, почему… Я с отвращением слышала, как упоминали этот день, и мне не доставляли удовольствия, говоря о нем»[114].
После болезни Петра великая княгиня начала испытывать чувство брезгливости по отношению к жениху. Свадьба пугала и отталкивала ее, хотя о физической стороне жизни супругов она в тот момент еще ничего не знала. Было принято, чтобы мать перед венчанием просветила дочь на сей счет. Наивность хорошо воспитанной девушки простиралась до того, что последняя не имела понятия о том, чем мужчины отличаются от женщин. Однажды у Екатерины даже вышел по этому поводу спор. «К Петрову дню весь двор вернулся из Петергофа в город, — вспоминала она. — Накануне этого праздника мне вздумалось уложить всех своих дам и также горничных в своей спальне. Для этого я велела постлать на полу постель всей компании, и вот таким образом мы провели ночь, но прежде чем заснуть, поднялся в нашей компании великий спор о разнице обоих полов. Думаю, большинство из нас было в величайшем неведении; что меня касается, то могу поклясться, что хотя мне уже исполнилось 16 лет, но я совершенно не знала, в чем состояла эта разница… я обещала моим женщинам спросить об этом на следующий день у матери… Я действительно задала матери несколько вопросов, и она меня выбранила».
Даже на пороге свадьбы Иоганна Елизавета посчитала любопытство дочери неприличным. Лишь в канун венчания, 21 августа, принцесса удосужилась поговорить с девушкой: «Вечером мать пришла ко мне и имела со мной очень длинный и дружеский разговор: она мне много проповедовала о моих будущих обязанностях, мы немного поплакали и расстались очень нежно». Екатерина не пишет, что была удивлена или смущена материнскими откровениями. Скорее всего, она принимала их как данность и чувствовала себя готовой к исполнению долга.
А вот Петру Федоровичу не с кем было доверительно побеседовать о своих «будущих обязанностях». Старых наставников — Брюммера и Бехгольца — он ненавидел и не принял бы от них советов. Елизавета Петровна не позаботилась поручить столь щекотливое дело, как просвещение великого князя, хотя бы лейб-медику. Оставались только слуги да лакеи, которые наговорили юноше кучу грубостей, дерзостей и сальностей о том, как нужно вести себя с женой, чтобы прослыть настоящим мужчиной. Простодушный жених при первой же встрече вывалил все это невесте. Нетрудно угадать ее реакцию.
«Старые камердинеры, любимцы великого князя, боясь, вероятно, моего будущего влияния, часто говорили ему о том, как надо обходиться со своею женою, — вспоминала Екатерина. — Румберг, старый шведский драгун, говорил ему, что его жена не смеет дохнуть при нем, ни вмешиваться в его дела, и что если она только захочет открыть рот, он приказывает ей замолчать, что он хозяин в доме, и что стыдно мужу позволять жене руководить собою, как дурачком. Великий князь по природе умел скрывать свои тайны, как пушка свой выстрел, и когда у него бывало что-нибудь на уме или на сердце, он прежде всего спешил рассказать это тем, с кем привык говорить, не разбирая, кому это говорит, а потому Его императорское высочество сам рассказал мне с места все эти разговоры при первом случае, когда меня увидел; он всегда простодушно воображал, что все согласны с его мнением и что нет ничего более естественного. Я отнюдь не доверила этого кому бы то ни было, но не переставала серьезно задумываться над ожидавшей меня судьбой»[115].
Наступило утро 21 августа. Невеста была очень напряжена: недаром она запомнила малейшие заминки и несоответствия в день, когда счастливые люди стараются закрыть глаза на неизбежные шероховатости. Как чувствовал себя жених, мы не знаем, но из его дальнейшего поведения видно, что и он был не в своей тарелке. Елизавета надела на голову невесты бриллиантовую корону и велела выбрать столько драгоценностей, сколько сама Екатерина захочет. Подвенечное платье из серебристого глазета, расшитое серебром по всем швам, было невероятной тяжести. К двенадцати туалет невесты был закончен (начался он в восемь, а встала девушка в шесть), и только в это время в соседнюю комнату привели великого князя, чтобы одеть его.
Около трех часов дня под пушечную пальбу императрица с новобрачными в открытой карете поехала в церковь Казанской Божьей Матери. Там состоялось венчание. «Во время проповеди… графиня Авдотья Ивановна Чернышева, которая стояла позади нас… подошла к великому князю и сказала ему что-то на ухо; я услышала, как он ей сказал: „Убирайтесь, какой вздор“, и после этого он подошел ко мне и рассказал, что она его просила не поворачивать головы, пока он будет стоять перед священником, потому что тот, кто из нас двоих первый повернет голову, умрет первый, и что она не хочет, чтобы это был он. Я нашла этот комплимент не особенно вежливым в день свадьбы, но не подала виду». Очевидно, Петр попытался перекинуть мостик между собой и новобрачной и тут же сморозил бестактность. В ответ Екатерина сжалась еще сильнее.
Торжественный обед начался около шести в старом Зимнем дворце. Под балдахином восседала императрица, по правую руку от нее — жених, по левую — невеста. От увесистых каменьев великокняжеской короны у Екатерины разболелась голова, и она стала просить разрешения снять ее хотя бы до бала. Это также сочли дурным предзнаменованием: молодая, не вынеся тяжести венца, хотела расстаться с ним. Елизавета разрешила, но с крайним неудовольствием.
Бал, на котором танцевали только полонезы, торжественные танцы-шествия, занял всего час. Дальше императрица сама проводила молодых в их покои. Дамы раздели Екатерину и уложили в постель. Все удалились от новобрачной между девятью и десятью часами.
Наступил роковой момент. «Я оставалась одна больше двух часов, не зная, что мне следует делать. Нужно ли встать или следовало оставаться в постели? Наконец Крузе, моя новая камер-фрау, вошла и сказала мне очень весело, что великий князь ждет своего ужина, который скоро подадут. Его императорское высочество, хорошо поужинав, пришел спать, и когда он лег, он завел со мной разговор о том, какое удовольствие испытал бы один из его камердинеров, если бы увидел нас вдвоем в постели. После этого он заснул и проспал очень спокойно до следующего дня».
Оскорбительная сцена. Но рассмотрим ее внимательнее. Точно так же, как Екатерина боялась прихода Петра, сам великий князь всячески оттягивал свой выход на сцену. Заказал ужин, долго сидел внизу. Вероятно, кто-то из камердинеров подбадривал его и уговаривал отправиться к жене. А когда молодой супруг все-таки решился войти в спальню и попытался заигрывать с новобрачной, он сделал это, как всегда, неловко и грубо. Так как Екатерина ничего не отвечала — а что тут ответишь? — юноша смутился и предпочел не продолжать осаду.
И через четверть века голос Екатерины звучит обиженно. Как и следовало ожидать, она дурно провела ночь. Нервы были напряжены, белье взмокло и облепило тело, едва забрезживший рассвет резал глаза. «Простыни из камердука, на которых я лежала, показались мне летом столь неудобны, что я очень плохо спала… Когда рассвело, дневной свет мне показался очень неприятным в постели без занавесок, поставленной против окна, хотя и убранной с большим великолепием розовым бархатом, вышитым серебром».
Когда на следующее утро молодую захотели расспросить о событиях брачной ночи, ей нечем было похвастаться. «И в этом положении дело оставалось в течение девяти лет без малейшего изменения»[116], — заключала рассказ императрица. Последние слова очень красноречивы. Долгие годы брак оставался «незавершенным».
«Безучастный зритель»
Праздники продолжались десять дней, но коль скоро они не принесли радости, молодые чувствовали себя, как на иголках. А сразу за торжествами для Екатерины настало время расстаться с матерью. Сложись у Иоганны Елизаветы добрые отношения с императрицей, и она могла бы задержаться, чего, без сомнения, хотела, ведь жила она, как любила: при большом дворе и на чужие деньги. Не важно, что муж из Штеттина уже несколько раз торопил супругу с возвращением и даже официально запросил императрицу, когда его дражайшую половину отпустят домой. Елизавета с достоинством ответила, что как только состоится свадьба, княгиня Иоганна отбудет на родину.
Суетную принцессу Цербстскую уже едва терпели. Казалось бы, у великой княгини, которая с трудом балансировала между императрицей, мужем и матерью, расставание с последней должно было вызвать облегчение. Ведь Иоганна Елизавета буквально на каждом шагу подставляла дочь под удар. Однако Екатерина тосковала. Она уже успела осознать, в какую ловушку попала, и вдруг спохватилась. Единственный близкий и родной человек покидал ее. «После окончания праздников начали говорить об отъезде матери, — писала наша героиня. — Со свадьбы мое самое большое удовольствие было быть с нею, я старательно искала случая к этому, тем более что мой домашний уголок далеко не был приятен. У великого князя все были какие-то ребячества, он вечно играл в военные игры… Мать приходила иногда провести у меня вечер, и тогда я бы много дала, чтобы иметь возможность уехать с нею из России»[117].
Грустное признание. Но была еще одна причина для печали, о которой Екатерина не говорила. Иоганна Елизавета оставляла дочери все свои прежние политические связи и обязательства. До сих пор она аккумулировала их вокруг своей персоны, принимая на себя недовольство императрицы, естественное в подобном случае. Дочь могла оставаться в стороне. Таким образом, вспыльчивая, легкомысленная, неуживчивая мать до поры до времени защищала девочку.
Теперь положение менялось. Екатерина не имела больше возможности прятаться за спиной матери, она, как умела, должна была заменить ее в группе противников Бестужева, связанных с Пруссией. А это неизбежно вызывало на голову великой княгини гнев императрицы. Из «интересного ребенка» наша героиня превращалась в политическую фигуру и очень скоро ощутила на себе перемену отношения чуткой и подозрительной Елизаветы Петровны.
Могла ли ситуация сложиться иначе, а жизнь супруги великого князя потечь без участия в большой политике? Вряд ли. Прибыв в Россию, она должна была выполнять негласные обязательства, принятые не ею, но за ее счет. Об этом красноречиво свидетельствует письмо, отправленное юной Екатериной из Москвы сразу после принятия православия. «Государь, — обращалась она к Фридриху II, — я вполне чувствую участие Вашего величества в новом положении, которое я только что заняла, чтобы забыть должное за то благодарение Вашему величеству; примите же его здесь, государь, и будьте уверены, что я сочту его славным для себя только тогда, когда буду иметь случай убедить Вас в своей признательности и преданности»[118]. Это письмо-вексель, долговая расписка. Наша героиня сознавала свое политическое положение очень ясно для пятнадцатилетней девочки. Ее слова перекликаются с фразой-упреком из мемуаров Фридриха о том, что великая княгиня, всем обязанная королю, «не могла вредить ему без неблагодарности».
«Во всем этом я была зрителем, очень безучастным, очень осторожным и почти равнодушным», — писала Екатерина. Малейшее раздражение Елизаветы Петровны могло обернуться для нее неприятностями. Чутко улавливая настроения тех, от кого она зависела, великая княгиня старалась держаться от «политиканов передней» подальше. Это был способ самозащиты. «Я обходилась со всеми, как могла лучше, — вспоминала она, — и прилагала старание приобрести дружбу или, по крайней мере, уменьшить недружелюбие тех, которых могла только заподозрить в недоброжелательном ко мне отношении; я не выказывала склонности ни к одной из сторон, ни во что не вмешивалась, имела всегда спокойный вид, была очень предупредительна, внимательна и вежлива со всеми и так как я от природы была очень весела, то замечала с удовольствием, что с каждым днем я все больше приобретала расположение общества, которое считало меня ребенком интересным и не лишенным ума. Я выказывала большое почтение матери, безграничную покорность императрице, отменное уважение великому князю».
Эти пассажи повторяются в мемуарах императрицы из страницы в страницу. Она точно не замечает, что рассказы о ее не в меру разумном, «политичном», поведении способны вызвать упреки в хитрости и неискренности. «Я больше, чем когда-либо, старалась приобрести привязанность всех вообще, от мала до велика; я никем не пренебрегала со своей стороны и поставила себе за правило считать, что мне все нужны»[119]. О чем так упорно толкует Екатерина? Что пытается объяснить?
Оказавшись при елизаветинском дворе, буквально кипевшем интригами, имея таких сильных врагов, как Бестужев, наша героиня могла в любой момент оступиться, быть высланной за принадлежность к той или иной партии. Она, как канатоходец, прошла над пропастью и позднее не без гордости рассказывала, какие противовесы использовала, балансируя на краю бездны. Сначала ей показалось, что можно ни в чем не принимать участия и, таким образом, не вызывать гнева Елизаветы Петровны.
Такое поведение на первых порах дало добрые плоды. Государыня почувствовала нежность к великой княгине и называла ее «драгоценным дитя». Однако всякому расположению есть граница. При подозрительности и обидчивости императрицы «кредит», как тогда говорили, было легко подорвать. Внешним знаком для отъезда принцессы Иоганны стала присылка ей 60 тысяч рублей на оплату долгов. Таким образом, назойливой гостье указывали на дверь. Но беда состояла в том, что реальный долг принцессы на 70 тысяч превышал подарок государыни. Эти деньги остались на ее дочери и положили основание тем немалым долгам, которые наделала сама Екатерина.
«Мать уехала, задаренная, как и вся ее свита, — вспоминала та. — Мы с великим князем проводили ее до Красного Села, я много плакала, и чтобы не усиливать моих слез, мать уехала, не простившись со мной».
«Шептались, что она сослана»
После отъезда принцессы Цербстской декорации вокруг ее дочери сменились столь стремительно, что у той захватило дыхание. Она не сразу поняла, что произошло, а когда начала догадываться, собственное положение представилось ей еще более мрачным.
Вернувшись из Красного Села, Екатерина не нашла в своих комнатах особенно полюбившейся ей горничной Марии Петровны Жуковой. Остальные девицы сидели с «удрученным и убитым видом». На вопрос, где их товарка, великой княгине сказали, будто мать Жуковой занемогла и послала за дочерью во время обеда. Ничего особенного в этом не было, но когда на другой день великая княгиня вновь осведомилась о горничной, ей ответили, что Жукова дома не ночевала. На глазах у «комнатных женщин» были слезы, но добиться у них ничего путного, пока они сидели вместе, Екатерина не смогла. Лишь одна из девиц «частным образом», наедине поведала цесаревне, что за Жуковой явился сержант гвардии и «кабинетский курьер» и что та, выходя, страшно побледнела.
«Шептались, что она сослана, — вспоминала Екатерина, — что им запрещено говорить мне об этом… подозревали, что это потому что я к ней была привязана и ее отличала. Я была очень изумлена и очень опечалена. Мне было очень жалостно видеть человека несчастным единственно потому, что я к нему была расположена; отъезд матери, которым я была опечалена, помог мне скрыть это второе горе… Я открылась великому князю, он тоже пожалел об этой девушке, которая была весела и умнее других».
Заметим, Екатерина повела себя совсем не так, как человек, не знающий за собой никакой вины. Она не отправилась сразу же к императрице выяснять, что случилось. Напротив: «Я никому ни слова не сказала», кроме Петра Федоровича. И это тоже показательно. Если бы Жукова была замешана в какой-нибудь легкомысленной истории, связанной с великой княгиней, та предпочла бы не посвящать мужа. Здесь ситуация иная. Великокняжеская чета выступает в союзе. Оба были заинтересованы в преданной горничной поумнее других.
Елизавета Петровна сама посчитала нужным поставить точки над «i», правда, от этого ситуация только еще больше запуталась. На следующий день Петр и Екатерина переехали из Летнего дворца в Зимний, где встретились с тетушкой. Буквально с порога своей парадной опочивальни «она стала поносить Жукову, говоря, что у нее было две любовные истории, что моя мать при последнем свидании… убедительно просила Ее величество удалить эту девушку от меня… Ее императорское величество говорила с такой горячностью и гневом, что была совсем красная, с горящими глазами».
Екатерина, приученная выслушивать упреки молча, ни слова не возражала. Однако внутренне выстраивала линию защиты. Во-первых, она не имела ни малейшего понятия о поведении Жуковой: горничную приставили к ней всего полгода назад по приказанию самой императрицы. Во-вторых, она «отличала и любила эту девушку не чрезмерно, без влечения и склонности, а единственно потому, что она была весела и менее других глупа и, по правде говоря, очень невинна». В-третьих, великой княгине было сомнительно, чтобы ее вспыльчивая мать, начинавшая нещадно браниться при всяком удобном случае, сохранила бы в тайне нерасположение к Жуковой, тогда как ей стоило лишь запретить дочери отличать эту девушку. «Я в силу привычки ей повиноваться, наверное, посбавила бы пылу», — заключала Екатерина.
Словом, великая княгиня не поверила в истинность упреков Елизаветы Петровны. «Опыт научил меня быть настороже относительно того, что высказывала эта государыня в гневе, — с горечью замечала она. — …Опыт меня научил, что единственным преступлением этой девушки было мое расположение к ней и ее привязанность ко мне. Последствия оправдали эти предположения: все, кого только могли заподозрить в том же, подвергались ссылке или отставке в течение восемнадцати лет, а число их было немалое»[120].
Ситуация кажется очень странной. Буквально в один день милость сменилась гневом. Доброе расположение — откровенной слежкой. Неужели ждали только отъезда матери великой княгини, чтобы сбросить маски? Конечно, нет. Но отъезд знаменовал собой перемену положения самой Екатерины — отныне она занимала в отношении «голштинских матадоров» место принцессы Иоганны. Очень чувствительная к малейшей опасности Елизавета Петровна прекрасно это понимала. Ласковое отношение не меняло сути происходящего: каждый шаг великокняжеской четы должен был контролироваться.
То, что не все действия государыни диктуются сердцем, Екатерина поняла зимой 1746 года, когда в столицу пришло известие о смерти свергнутой правительницы Анны Леопольдовны, «скончавшейся в Холмогорах от горячки, вслед за последними родами». «Императрица очень плакала, узнав эту новость, — вспоминала Екатерина. — Она приказала, чтобы тело было перевезено в Петербург для торжественных похорон. Приблизительно на второй неделе Великого поста тело прибыло и было поставлено в Александро-Невской лавре. Императрица поехала туда и взяла меня с собой в карету; она много плакала во время всей церемонии»[121].
О чем плакала Елизавета? По некоторым свидетельствам, она любила и свою племянницу правительницу Анну Леопольдовну, и ее годовалого сына. Но родственная любовь одно, а логика развития политических событий — другое. Претендуя на корону, кузины стали противницами. Дочь Петра выиграла. Внучка Ивана проиграла.
Этот пример должен был на многое открыть Екатерине глаза: в царской семье невозможна ни бескорыстная любовь, ни безграничное доверие. Наличие наследника — тем более женатого, а стало быть, совершеннолетнего в полном смысле слова, — с одной стороны, стабилизировало власть императрицы, с другой — служило источником постоянной угрозы. Отсюда то всплески доброго, человеческого чувства Елизаветы, то резкие, порой грубые действия, державшие великокняжескую чету в постоянном напряжении и удалении от большого двора, под неусыпным надзором специально приставленных лиц.
Соглядатайство и доносительство вменялось прислуге в прямую и едва ли не священную обязанность. На следующий день после свадьбы, вспоминала Екатерина, «я нашла в своих покоях Крузе, сестру старшей камер-фрау императрицы, которая поместила ее ко мне в качестве старшей камер-фрау… Я заметила, что эта женщина приводила в ужас всех остальных моих женщин, потому что, когда я хотела приблизиться к одной из них, чтобы по обыкновению поговорить с ней, она мне сказала: „Бога ради не подходите ко мне, нам запрещено говорить с вами вполголоса“». Веселому мирку в окружении великой княгини настал конец.
В течение нескольких недель после свадьбы от великокняжеской четы удалили практически всех, кто перед тем близко общался с Петром и Екатериной. Первой стала графиня Румянцева, получившая повеление вернуться «жить к себе домой с мужем и детьми». Ей на дверь указали буквально на третий день торжества. Дольше продержались старые обер-камергеры цесаревича Брюммер и Бехгольц, их уволили в конце зимы. Это могло радовать или раздражать самих молодоженов, ведь они питали привязанность далеко не к каждому в своей свите. Важно другое — полностью сменился круг лиц, окружавших наследника с супругой. Завоевывать расположение, искать друзей, покупать преданность надо было заново. Та же Румянцева уже была задарена Екатериной: «Ко мне приставили самую расточительную женщину в России, графиню Румянцеву, которая всегда была окружена купцами, ежедневно представляла мне массу вещей, которые советовала брать у этих купцов, и которые я часто брала лишь за тем, чтобы отдать ей, так как ей этого очень хотелось»[122]. Зная о подобной практике, Елизавета, по всей видимости, посчитала графиню уже ненадежной.
То же самое можно сказать и о Жуковой. Екатерина охотно одаривала эту девушку, рассчитывая на ее услуги. Если графиня Румянцева была слишком знатная дама, чтобы обвинить ее в вымогательстве у молоденькой великой княгини, то по отношению к Марии Петровне именно так и поступили. После ареста горничной у цесаревны потребовали список вещей, которые она подарила Жуковой. Он впечатлял. 33 предмета дамского гардероба: юбки, корсеты, белье, шлафроки, кофты. А кроме них, два позолоченных образа с драгоценными камнями, два золотых перстня и одно золотое кольцо[123]. Конечно, список Румянцевой был бы куда больше. Но о нем не спросили. Если Елизавета и гневалась на расточительную графиню, то свои чувства выразила иначе, чем с Жуковой: увольнением дамы от молодого двора.
А вот с горничной можно было не церемониться. Ее взяли под стражу, да не одну, а с матерью и сестрой. Арестанток отвезли в Москву, где содержали в дворцовом селе Покровском. Любопытно, что императрица не приказала девушке вернуть подарки. Ведь сама Екатерина характеризовала их как добровольные презенты. Мы уже познакомились с ее философией: отдавать все, что приглянется, и тем располагать к себе людей. И цесаревна, и горничная были заинтересованы друг в друге, поэтому нельзя назвать Екатерину «жертвой» жадной прислуги: она понимала, что делает. А вот жертвой гнева императрицы можно. Этот гнев касался обеих — и хозяйки, и служанки. Одной в вину вменялся подкуп, другой — вымогательство.
Если удаление Румянцевой только обрадовало Екатерину, то к судьбе Жуковой она не могла остаться равнодушной. Великая княгиня отправила своего камердинера Тимофея Евреинова с деньгами для пострадавшей, но ту уже выслали вместе с матерью в Москву. Тогда цесаревна попыталась передать деньги через брата Жуковой — гвардейского сержанта. Однако и тот накануне был спешно переведен в один из армейских полевых полков. Мы видим, что пострадала не одна девушка, а все ее семейство. «В настоящее время мне трудно найти всему этому сколько-нибудь уважительную причину, — рассуждала императрица. — Мне кажется, что это значит зря делать зло из прихоти, без малейшего основания и даже без повода».
Между тем основание было: убирая из столицы не только преданную горничную, но и ее родню, выкорчевывали сразу кружок людей, к которым Екатерина в случае надобности могла обратиться. Неудача с деньгами не заставила великую княгиню опустить руки. Она взялась подыскать Жуковой приличную партию. «Мне предложили одного, гвардии сержанта, дворянина, имевшего некоторое состояние, по имени Травина: он поехал в Москву, чтобы на ней (на Жуковой. — О. Е.) жениться, если ей понравится; она приняла его предложение; его сделали поручиком в одном полевом полку; как только императрица это узнала, она сослала их в Астрахань. Этому преследованию еще труднее найти объяснения»[124].
И здесь не согласимся с Екатериной: объяснение весьма простое. Елизавета очень не хотела, чтобы кто-то получал милости из рук великой княгини. Ведь тем самым супруга наследника проявляла себя как сильный и влиятельный покровитель. Ее расположения начинали искать. Заступничество и устройство чужих дел создавало для цесаревны приверженцев. Напротив, если придворные видели, что все близкие великокняжеской чете люди подвергаются гонениям, они начинали избегать Петра и Екатерину. Последние теряли опору.
За последующие восемнадцать лет «ротации» окружения наследника и его супруги производились неоднократно. Видимо, их считали наиболее действенным способом устранить цесаревича с женой от какой бы то ни было политической активности. Чуть ли не поместить под домашний арест. Случай с Жуковой помог Екатерине понять, что она окружена преданными предателями — марионетками в руках ее царственной свекрови.
Глава третья «ЦАРСТВОВАТЬ ИЛИ ПОГИБНУТЬ»
Трудно было представить себе человека, менее подходившего для того, чтоб занять трон Петра I, чем его внук. Петр III был сыном младшей дочери великого реформатора Анны и голштинского герцога Карла Фридриха. В три месяца мальчик потерял мать, а в 11 лет — отца. Его воспитывали жестокие и жадные придворные — О. Ф. Брюмер и Ф. В. Бехгольц. Запугиванием, побоями и унизительными наказаниями они довели болезненного нервного ребенка почти до идиотизма. Тайком мальчик пристрастился заливать горе крепким пивом и ко времени приезда в Россию уже был законченным пьяницей.
Взойдя на престол, бездетная Елизавета Петровна сделала племянника своим наследником. В январе 1742 года Питер Ульрих был привезен из Киля и крещен под именем Петра Федоровича. Никто не поинтересовался, какого мнения о произошедшем сам мальчик. Между тем упрямый и впечатлительный ребенок болезненно переживал перемены в своей судьбе. По отцовской линии он имел права на шведскую корону. Поэтому дома его учили шведскому языку, истории и географии этой страны, воспитывали в строгой лютеранской вере. Мальчик с младых ногтей привык считать Россию врагом и во время игр солдатики в синих шведских мундирах всегда «одерживали верх» над солдатиками в зеленых русских…
Придворные врачи уговаривали императрицу повременить с браком семнадцатилетнего юноши из-за его слабого физического развития. В противном случае семейная жизнь могла обернуться для молодых только обоюдным горем. Так и случилось. Петр долгое время не мог исполнять супружеский долг и вымещал злобу на жене. «В Петергофе он забавлялся, обучая меня военным упражнениям, — позднее вспоминала она, — благодаря его заботам, я до сих пор умею исполнять все ружейные приемы с точностью самого опытного гренадера»[125].
Человек от природы не злой, скорее легкомысленный и не задумывавшийся над чужими чувствами, Петр был подвержен внезапным приступам садистской жестокости. Мог повесить крысу за съеденного крахмального солдатика или на глазах у жены забить собаку арапником[126]. Конечно, подобные сцены не укрепляли семью. С годами супруги всё более отдалялись друг от друга. Их характеры не были сходны ни в чем.
Муж, которого не было
Много лет спустя, в 1774 году, Екатерина писала г-же Бьельке о принцессе Елизавете Шарлоте Ольденбургской, просватанной за герцога Карла Зюдерманландского, брата шведского короля: «Я думаю, что будущая герцогиня Сюдерманландская похожа на стольких других девушек ее возраста: она в четырнадцать лет в восторге, что выходит замуж, а в двадцать будет очень жалеть, что вышла»[127]. В этих строках сквозит грустная ирония. Ведь и сама императрица побывала в роли четырнадцатилетней «счастливой невесты», которая в двадцать лет уже жалела о замужестве.
Действительно, Екатерине было о чем сожалеть. Нелюбимый, недалекий муж, жестокий и беспамятливый, как злой ребенок. Ревнивая к чужой красоте и успеху императрица Елизавета Петровна, оказавшаяся суровой свекровью. И полное внутреннее одиночество. Вот результат честолюбивых устремлений принцессы Софии Августы Фредерики. Казалось, поставив на карту свою судьбу, согласившись выйти замуж за человека, начавшего вызывать у нее отвращение еще до свадьбы, она проиграла.
Удивительно, но в «Записках» ни разу не прорывается такой естественный мотив: ах, почему я не осталась дома, в Германии? Почему не вышла замуж за милого дядю, который пылко любил меня? Ничего подобного молодой даме даже не приходило в голову. Напротив, когда она рассказывает об ухаживаниях дяди, то с досадой называет их «происшествием, которое чуть было не перечеркнуло все честолюбивые планы».
Нельзя сказать, что Екатерина переживала свое горе неглубоко, однако в «Записках» она скорее констатировала факт тяжелого душевного состояния, чем углублялась в его анализ. Цесаревна здраво установила источник неприятностей и решала, как ей развеяться, раз уж нельзя устранить главную причину горестей. В то время при русском дворе в моде были маскарады, где мужчины исполняли роли дам и наоборот. «Мне случилось раз на одном из таких балов упасть очень забавно», — сообщает великая княгиня. Екатерина танцевала с камер-юнкером Сиверсом, который когда-то увидел ее в Берлине лохматой и рассерженной. Сиверс отличался высоким ростом и на повороте сшиб своими фижмами графиню Гендрикову. «Он запутался в своем длинном платье, которое так раскачивалось, что мы все трое оказались на полу… ни один не мог встать, не роняя двух других»[128]. Кажется, что, нарисовав эту сцену, пожилая императрица продолжала весело хихикать. И подобными описаниями пестрят страницы ее «Записок». Так горевала Екатерина или нет? Неужели вся молодость великой княгини — это сплошной смех сквозь слезы?
«Регулярно в течение нескольких месяцев и в определенное время у меня являлось желание плакать и видеть все в черном цвете, — рассказывала она о первых годах замужества. — Кроме того, у меня была тогда, или мне так казалось, очень слабая грудь; я была еще очень худа; я очень скоро поняла, что это желание плакать без видимой причины происходило или от слабости, или от расположения к ипохондрии. Я приписывала это тому ужасному образу жизни, который нас заставляли вести»[129].
На нервной почве у Екатерины развилась ранняя форма чахотки, началось кровохарканье. Ей пустили кровь, и тем все лечение закончилось. Великая княгиня должна была сама позаботиться о себе, чтобы не сойти в могилу. Какой же рецепт от ипохондрии она выбрала? Нет возможности изменить приказание императрицы, предписавшей великокняжеской чете почти полное уединение. Нельзя избежать посещений мужа. Но можно… укрепить слабую грудь и, наконец, избавиться от немодной тогда худобы. И молодая дама начинает с аппетитом кушать, поправляя плохое настроение шедеврами дворцовой кухни. Если ей отказывают в обществе умных собеседников, так хоть не лишают обеда!
Далее последовали верховые прогулки в окрестностях загородных дворцов, во время которых Екатерина предпочитала ездить по-мужски. Все-таки образ «очаровательной графини Бентинк» оставил в душе Екатерины неизгладимое впечатление. «Я больше всего пристрастилась к верховой езде»[130], — рассказывает она. Великая княгиня даже придумала седло, на котором можно было сидеть и по-дамски, и по-мужски. Пока молодая женщина находилась на виду, она восседала верхом, как подобает даме, но чуть только ее лошадь скрывалась за деревьями, Екатерина перекидывала ногу и скакала во весь опор, не боясь упасть. Одинокие поездки по лесу с ружьем за плечами успокаивали великую княгиню.
Всеми покинутая, ежеминутно унижаемая то слежкой, то открытым пренебрежением императрицы и двора, Екатерина поддерживала себя несбыточной мечтой. «Я увидела и поняла, — писала она о муже, — что он мало ценит народ, над которым ему суждено было царствовать, что он держался лютеранства, что он не любил своих приближенных и что он был очень ребячлив… Сердце не предвещало мне счастья: одно честолюбие меня поддерживало».
Честолюбие Екатерины иногда принимало пугающие размеры. Когда Елизавета Петровна еще до свадьбы спросила ее, что девочка желает посмотреть в Петербурге, будущая великая княгиня ответила: «Ваше величество, я хотела бы проехать той дорогой, которой проехали вы 25 ноября 1742 года». После вступления Екатерины на престол ее слова стали трактовать как предчувствие великой судьбы. «В глубине души моей было не знаю что такое, ни на минуту не оставлявшее мне сомнения, что рано или поздно я добьюсь того, что сделаюсь самодержавною русскою императрицею», — писала она много лет спустя[131].
И снова обратим внимание: Екатерина находит поддержку не вне, а внутри себя самой. Подчеркнем и еще один момент: приобретение полной власти для нее, человека, не имевшего никаких прав на престол, было возможно только при условии смерти мужа. Таким образом, великая княгиня уже заранее рисовала картины будущего без Петра. Привыкнуть к этой мысли было нетрудно, поскольку супруг то вешал крыс, то держал борзых собак за ширмой в спальне, то поднимал жену среди ночи и заставлял упражняться в ружейных приемах.
Во время войны со Швецией в 1789 году уже пожилая Екатерина в ответ на слова о возможной сдаче Петербурга с усмешкой заметила, что она еще не забыла уроков покойного супруга, отлично владеет ружьем и сама встанет во главе последнего каре преображенцев, чтобы защитить столицу. В 60 лет императрица могла пошутить под канонаду шведских и русских пушек, от которой сотрясались стекла в Зимнем дворце. Но в 21 год, босой, в одной рубашке и с ружьем на плече ей явно было не до смеха.
Вот что шепотом передавали из уст в уста придворные. Канцлер А. П. Бестужев от Екатерины «сведал, что она с супругом своим всю ночь занимается экзерсицею ружьем, что они стоят попеременно у дверей, что ей занятие это весьма наскучило, да и руки и плечи болят у нее от ружья. Она просила его сделать ей благодеяние, уговорить великого князя, супруга ее, чтоб он оставил ее в покое, не заставлял бы по ночам обучаться ружейной экзерсиции, что она не смеет доложить об этом, страшась тем прогневать ее величество»[132].
Тягостный абсурд происходящего изводил молодую женщину. Однако на фоне других забав супруга эта казалась даже безобидной. «Утром, днем и очень поздно ночью великий князь с редкой настойчивостью дрессировал свору собак, которую сильными ударами бича и криками, как кричат охотники, заставлял гоняться из одного конца своих двух комнат… в другой, — продолжает повествование Екатерина, — тех же собак, которые уставали или отставали, очень строго наказывал, это заставляло их визжать еще больше… Слыша раз, как страшно и очень долго визжала какая-то несчастная собака, я открыла дверь… и увидела, что великий князь держит в воздухе за ошейник одну из своих собак… Это был бедный маленький Шарло английской породы, и великий князь бил эту несчастную собачонку толстой ручкой своего кнута; я вступилась за бедное животное, но это только удвоило удары; не будучи в состоянии выносить это зрелище, которое показалось мне жестоким, я удалилась со слезами на глазах к себе в комнату. Вообще слезы и крики вместо того, чтобы внушать жалость великому князю, только сердили его; жалость была чувством тяжелым и даже невыносимым для его души»[133].
Судя по нервной неуравновешенности и диким выходкам, Петр Федорович отличался явной склонностью к садизму, хотя Екатерина в мемуарах этого прямо не говорит. Приступы жестокости иногда встречаются у людей с половыми отклонениями. К несчастью, Петр не мог осуществлять свои супружеские обязанности. О чем сообщали своим дворам иностранные дипломаты: «Великий князь был не способен иметь детей от препятствия, устраняемого у восточных народов обрезанием, но которое он считал неизлечимым»[134].
Бессильную ярость Петр выплескивал на беззащитную жену, которая поневоле знала его «позорную» тайну. К чести молодой дамы она никому ни слова не сказала о недуге мужа за все первые девять лет супружества, хотя признание избавило бы ее от нападок императрицы. Ведь в отсутствии наследника винили сначала именно великую княгиню. По окончании одного из балов Екатерине передали следующий выговор императрицы: «Ее Величество… гневалась на меня за то, что, будучи замужем четыре года, не имела детей, что вина в этом была исключительно на мне, что, очевидно, у меня в телосложении был скрытый недостаток, о котором никто не знал, и что поэтому она пришлет мне повивальную бабку, чтобы меня осмотреть»[135].
Страсти по наследнику
Тайна открылась только тогда, когда императрица Елизавета, устав ждать внука, приказала врачу освидетельствовать великокняжескую чету. Заключение доктора потрясло императрицу. «Пораженная сею вестью, как громовым ударом, Елизавета казалась онемевшею, долго не могла вымолвить слова. Наконец зарыдала»[136].
Оставаясь девственницей в течение многих лет после брака, Екатерина подвергалась постоянным нападкам со стороны императрицы и ее приближенных. Неустойчивая психика молодой девушки испытала сильный удар. Ко времени приезда в Россию пятнадцатилетняя София уже полностью сформировалась и воспринимала себя как женщина накануне брака. Что же ждало Екатерину за порогом спальни? Муж, играющий в солдатиков. Кукол Петр Федорович прятал в постели своей жены. «Часто я над этим смеялась, но еще чаще это меня изводило и беспокоило, — рассказывала Екатерина, — так как вся кровать была полна куклами и игрушками, иногда очень тяжелыми»[137].
Такое поведение супруга больно било по самолюбию. Сразу возникал вопрос: может быть, муж отказывается от жены, потому что жена не слишком хороша? Именно этим вопросом и задались Елизавета Петровна и ее ближайшее окружение, в течение девяти лет пристрастно искавшие недостатки великой княгини. Подобное отношение Екатерина сносила молча. Еще очень молоденькая и, естественно, пока не слишком уверенная в своих достоинствах, великая княгиня все же попыталась доказать, что она не такая, как о ней говорят. Доказать хотя бы самой себе.
Появился и первый роман, пока эпистолярный, с Захаром Григорьевичем Чернышевым. Его участники так боялись раскрытая своей тайны, что после быстрого разрыва Чернышев, не желая уничтожать адресованные ему записки великой княгини, замуровал их в шкатулке в стену колокольни в родном селе Воронежской губернии, где они и пролежали около ста лет. Цесаревна обладала бойким пером. «Я люблю Вас чересчур, — писала она предмету своей страсти. — …Никто на свете не может меня излечить, будьте уверены»; «Я не желала бы рая без Вас»; «Я буду любить Вас, буду жить только для Вас»[138].
Вероятно, дальше взаимных комплиментов и мелких уловок с передачей записок дело не пошло, но уже в этом проявилось неукротимое желание Екатерины нравиться, ради которого она рисковала, зная, что ей запрещено писать кому бы то ни было и даже иметь письменные принадлежности. Иллюзию куртуазной игры необходимо было поддержать: ведь если она нравится одному, второму, третьему, значит, не правы ее муж и Елизавета, значит, плоха не она. Доказательство этого стало для Екатерины важнейшим шагом на пути к самоутверждению. Впереди великую княгиню ждала болезненная пощечина, которая, однако, не остановила молодую женщину.
Узнав о причине бесплодия великокняжеской четы, Елизавета Петровна вынуждена была принимать срочные меры для обеспечения престолонаследия. Как умудренная житейским опытом женщина, она выбрала сразу два пути решения проблемы на тот случай, если один не принесет успеха. Императрица согласилась на операцию для цесаревича Петра Федоровича и одновременно через надзиравшую за Екатериной графиню Марью Чоглокову приказала великой княгине подыскать достойного кандидата на роль отца ее будущего ребенка.
Таким кандидатом стал молодой камергер Сергей Васильевич Салтыков, один из наиболее красивых кавалеров петербургского двора, недавно женившийся на фрейлине Матрене Павловне Балк. Их брак казался счастливым. Никаких внешних причин для сближения Екатерины и Салтыкова не было.
Однако Сергей имел одно важное преимущество перед многими кандидатами — он состоял в очень близком родстве с царствующей фамилией: все потомство царя Ивана Алексеевича (рано скончавшегося брата Петра I) по женской линии происходило из рода Салтыковых. Важно отметить, что и второй предложенный великой княгине кавалер — Лев Нарышкин — тоже являлся родственником августейшего семейства: Нарышкиной была мать Петра I Наталья Кирилловна. Видимо, Елизавете Нарышкин казался предпочтительнее, так как он представлял родню ветви императора Петра I и самой ныне здравствующей государыни, а не царя Ивана, царицы Прасковьи, императрицы Анны Ивановны и правительницы Анны Леопольдовны. Чоглокова была раздосадована, услышав, что Екатерина в таком важном деле предпочитает поступать по сердечной прихоти. Но великая княгиня остановила свой выбор на Сергее.
Молодой камергер получил от Алексея Петровича Бестужева строжайшие указания и при поддержке Чоглоковой начал осаду цесаревны. Канцлер нашел в Сергее способного ученика, схватывавшего все на лету и не стеснявшегося в средствах. Подкуп слуг, лесть «тюремщикам» Екатерины, разыгрывание пламенной страсти — все пошло в ход. «По части интриг он был настоящий бес», — признается императрица в мемуарах. По прошествии многих лет она давала Салтыкову трезвую, но лишенную гнева характеристику. «У него не было недостатка ни в уме, ни в том складе познаний, манер и приемов, какой дает большой свет и особенно двор. Ему было 26 лет; вообще и по рождению, и по многим другим качествам это был кавалер выдающийся; свои недостатки он умел скрывать: самыми большими из них были склонность к интриге и отсутствие строгих правил; но они тогда еще не развернулись на моих глазах».
Так писала умудренная опытом сорокалетняя дама. А в двадцать с небольшим Екатерине казалось, что Салтыков искренне влюблен в нее. «Я спросила его: на что же он надеется? — вспоминала она. — Тогда он стал рисовать мне столь же пленительную, сколь полную страсти картину счастья, на какое он рассчитывал. „А ваша жена, на которой вы женились по страсти два года назад?“ Тогда он стал мне говорить, что не все то золото, что блестит, и что он дорого расплачивается за миг ослепления… Мне было его жаль. К несчастью, я продолжала его слушать»[139].
В это самое время, наконец, поправился Петр Федорович, что, естественно, уже не могло сильно обрадовать великую княгиню. В донесении французского резидента Луи де Шампо, отправленном в Париж в 1758 году, утверждается, что именно Сергей склонил цесаревича к операции. «Салтыков тот час же начал искать средства, чтоб побудить великого князя… дать наследников… Он устроил ужин с особами, которые очень нравились великому князю, и в минуту веселья все соединились для того, чтобы получить от князя согласие. В то же время вошел Бургав (медик Петра Федоровича. — О. Е.) с хирургами, и в минуту операция была сделана вполне удачно… Много говорили… что эта операция была только хитростью, употребленной с тем, чтобы замаскировать событие, автором которого желали бы видеть великого князя»[140].
Вероятно, Екатерина сначала и сама точно не знала, кто являлся настоящим отцом ее ребенка. В мемуарах она так ловко запутывала читателя между описаниями беременностей и выкидышей, что выявить из текста истину практически невозможно. Лишь с возрастом в сыне нашей героини Павле столь явно проявились черты, объединявшие его с Петром III, что сомнений не осталось. Петр Федорович передал мальчику многое из своей крайней психической неуравновешенности, скользившей буквально на грани нервного заболевания. К несчастью, и отцу, и сыну она стоила жизни.
Однако в 1754 году почти все русские придворные и иностранные дипломаты были уверены, что честь обеспечения престолонаследия принадлежит Салтыкову. Вскоре после рождения Павла Сергей Васильевич спешно был направлен с дипломатической миссией в Швецию. Никакие усилия великой княгини не помогли задержать возлюбленного в Петербурге. Канцлер Бестужев преподал ей горький урок: «Ваше высочество, государи не должны любить. Вам угодно было, потребно было, чтоб Салтыков Вашему высочеству служил. Он выполнил поручение по предназначению, ныне польза службы всемилостивейшей Вашей императрицы требует, чтобы он служил в качестве посла в Швеции. Высочайшая воля августейшей монархини для всех и для каждого есть священный закон»[141].
Открытие потрясло цесаревну. Оказалось, что не только она была вынуждена выполнять приказ императрицы. Милый Сергей не любил ее, а лишь делал вид, по августейшему повелению. Екатерина вновь оказалась немила и нежеланна. Внутреннее опустошение, нервный срыв и как результат долгого и мучительного издевательства — серьезный психический комплекс женской неполноценности, оставшийся с великой княгиней на всю жизнь. Отныне для Екатерины стало необходимым постоянно доказывать свою привлекательность, причем не череде сменяющихся возлюбленных, а самой себе.
«Сердечное паломничество»
Впоследствии императрица прекрасно осознавала болезненную сторону подобного поведения и прямо признавалась в этом человеку, которому абсолютно доверяла. В 1774 году в письме Григорию Александровичу Потемкину, озаглавленном «Чистосердечная исповедь», она откровенно называла свое состояние «пороком»: «Бог видит, что не от распутства, к которому никакой склонности не имею, и если б я в участь получила с молода мужа, которого бы любить могла, я бы вечно к нему не переменилась, беда та, что сердце мое не хочет быть ни на час охотно без любви… статься может, что подобная диспозиция сердца более есть порок, нежели добродетель, но напрасно я сие к тебе пишу, ибо после того возлюбишь ли?.. А если хочешь на век меня к себе привязать, то покажи мне столько же дружбы, как и любви, а наипаче люби и говори правду»[142].
Потемкин оказался достаточно душевно щедрым человеком, чтобы понять произошедшее и принять женщину, которая в сущности ничего не могла ему гарантировать, а когда их близость оборвалась, — простить и продолжать в течение всей жизни искренне жалеть ее.
Не получив «в участь» мужа, которого можно было бы любить, Екатерина искала любовь, где только возможно. Современная американская исследовательница Изабель де Мадариага назвала это состояние императрицы «духовным странствием» или «сердечным паломничеством»[143].
Удача улыбнулась Екатерине со Станиславом Понятовским. Очаровательный польский дипломат увлекся веселой и раскованной в общении великой княгиней. Для Станислава это была первая любовь, осветившая и искалечившая всю его дальнейшую жизнь, а также судьбу его страны — Речи Посполитой, королем которой он впоследствии стал, опираясь на поддержку России и наивно надеясь получить после коронации согласие Екатерины на брак с ним. «Более всего меня занимала мысль, — писал Понятовский о событиях 1764 года, — что если я стану королем, императрица рано или поздно могла бы решиться выйти за меня замуж, в то время как, если я им не стану, этого не случится уже никогда»[144].
Для великой княгини, по ее собственному признанию, оказалось необыкновенно важно сорвать цветок первого, еще незапятнанного чувства и получить первые доказательства поклонения. В этом романе Екатерина солировала и веселилась от души. На страницах ее мемуаров много места отведено описанию хитроумных уловок, позволявших влюбленным видеться наедине, крадя часы свиданий под самым носом у приставленных к великой княгине придворных дам и прислуги.
Казалось, радость переполняет Екатерину до краев. Стась был не просто красив, нежен, образован и податлив, как воск в ее пальцах, он обладал еще и тем невыразимым польским шармом, который сводит с ума детей севера, как неверная, зыбкая красота духов вод и лесов сводит с ума простых смертных. Они могут подарить своим возлюбленным всё, кроме постоянства. Нет, бедный Стась не изменил великой княгине. Он поступил хуже.
Однажды Петр Федорович приказал своим слугам подкараулить и схватить Понятовского в Петергофском парке после того, как тот несколько часов провел у цесаревны. «Некоторое время мы все двигались по дороге, ведущей к морю. Я решил, что мне конец, — рассказывает дипломат. — Но на самом берегу мы свернули направо… Там великий князь… в самых недвусмысленных выражениях спросил меня, спал ли я с его женой»[145]. Понятовский все отрицал, и через некоторое время его отпустили.
Через свою фрейлину, любовницу Петра Елизавету Воронцову, Екатерина попыталась замять дело. Казалось, наследник успокоился и даже назначил час для примирения. Понятовский отправился в Монплезир, прихватив с собой на всякий случай Льва Нарышкина и Ксаверия Браницкого. «И вот уже великий князь с самым благодушным видом идет мне навстречу, приговаривая:
— Ну не безумец ли ты! Что стоило своевременно признаться? Никакой чепухи бы не было… Раз мы теперь добрые друзья, здесь явно еще кого-то не хватает!..
Он направился в комнату своей жены, вытащил ее, как я потом узнал, из постели, дал натянуть чулки, но не туфли, накинуть платье из батавской ткани без нижней юбки, и в этом наряде привел ее к нам… Затем мы, все шестеро, принялись болтать, хохотать, устраивать тысячи мелких шалостей, используя находившийся в этой комнате фонтан — так, словно мы не ведали никаких забот. Расстались мы лишь около четырех часов утра»[146].
Так что же собственно сделал очаровательный Стась? Ничего. В том-то и беда, что милый польский дипломат позволил у себя на глазах оскорбить Екатерину, вытащив ее полураздетой из постели, и повел себя так, будто ничего не произошло. Более того, даже обрадовался, что из-за хорошего расположения духа Петра Федоровича им с великой княгиней не грозят неприятности. Видимо, Понятовский так до конца жизни и не понял, что именно тогда погубил себя в глазах Екатерины, иначе он не поместил бы эту сцену в свои мемуары.
Зато великая княгиня очень хорошо поняла произошедшее. Она подыграла развязному мужу и его любовнице, тоже сделала вид, что вполне довольна, и тем избежала крупного скандала, но осталась внутренне уязвлена. Ее неотразимый варшавский рыцарь оказался человеком слабым и трусливым. Хотя роман Екатерины с Понятовским продолжался еще некоторое время, великая княгиня уже осознавала, что одно преклонение ее не удовлетворяет. Она искала силы. Не только физической, но и душевной. Пусть грубой, зато надежной, как камень. Силы, которая не позволила бы втоптать ее в грязь.
Эту силу ей подарил Григорий Григорьевич Орлов, которого цесаревна сама нашла и выбрала, как только карета с «горячо любимым Стасем» покинула Петербург, направляясь в Варшаву. В то самое время, когда Екатерина молча переживала свое разочарование в Понятовском, она из пересудов фрейлин узнала, что в аналогичных обстоятельствах не все ведут себя, как Понятовский.
Орлов был адъютантом президента Военной коллегии фельдмаршала графа Петра Ивановича Шувалова и увлекся его любовницей княгиней Еленой Куракиной. «В круг обязанностей Григория Орлова входило разносить любовные записки, — сообщает секретарь французского посольства Мари-Даниэль Корберон, хорошо знакомый с придворными сплетнями того времени. — Но Орлов был слишком молод, чтоб исполнять в данном случае роль наперсника, а княгиня слишком опытна, чтобы пропустить незамеченными счастливые достоинства Орлова. Она сделала его своим любовником и поздравила себя с этим выбором. Юный адъютант был молод, красив и силен. В нем уже замечались задатки твердого и своеобразного характера, который вполне определился впоследствии и который с того времени он начал смело выказывать. Граф Петр требовал прекращения свиданий с Куракиной. Орлов не желал дать подобного обещания. На него одели оковы, но и это не смогло сломить его упорства. В наказание за строптивость его отправили на войну с Германией»[147].
Екатерина справедливо предположила, что если ради мимолетного увлечения Куракиной Григорий Григорьевич не побоялся оков, то ради нее он вполне может рискнуть головой. По здравом размышлении великая княгиня пришла к выводу, что Орлов слишком хорош для вторых ролей. Его дело — освобождать принцесс, а не тратить время на прислугу.
Выбор Григория Григорьевича, героя Семилетней войны, кумира столичных гвардейцев, определялся во многом и чисто политическим расчетом. Екатерина уже завоевала себе такое положение в обществе, при котором на нее смотрели как на единственную надежду удержать неуравновешенного мужа в рамках в случае смерти императрицы Елизаветы. Теперь она нуждалась в серьезной военной опоре. Такую опору великой княгине могли обеспечить братья Орловы, являвшиеся признанными вожаками столичной гвардейской молодежи. Коротко знавший Григория еще по совместной армейской службе в Кёнигсберге Андрей Тимофеевич Болотов описывает впечатление, которое тот производил на офицеров: «Он и тогда имел во всем характере своем столь много хорошего и привлекательного, что нельзя было его никому не любить»[148]. Когда Орлов и Болотов вновь встретились в Петербурге, Григорий, по словам приятеля, «был тогда уже очень и очень коротко знаком государыне императрице… и набирал для нее и для производства замышленного… переворота» подходящих людей[149]. Так в сердце Екатерины вместе с любовью вошел трезвый расчет.
«На ролях английской шпионки»
Однако Орлов появился в окружении великой княгини уже после того, как над ее головой, как волна, прошло дело канцлера Бестужева-Рюмина. Некогда враг Екатерины, старый царедворец с годами все больше задумывался, что ожидает его после вступления на престол племянника Елизаветы. Перспективы были неутешительны, и Алексей Петрович постепенно пришел к выводу, что для него выгодно сблизиться с супругой наследника и через нее влиять на будущего монарха. Сергей Салтыков был ставленником канцлера, и именно благодаря ему произошло примирение Екатерины с некогда ненавистным противником.
Позднее Бестужев покровительствовал Понятовскому, поддерживая через красавца поляка связь с английским послом сэром Чарльзом Уильямсом. Британский дипломат был втянут в интригу канцлера, рассчитывая, что вскоре Елизавета Петровна скончается, а ее наследники, главным образом Екатерина, сумеют переориентировать русскую внешнюю политику в выгодном для Лондона направлении. На поддержку своих «друзей» в Петербурге Уильямс потратил громадные средства. Они казались вложенными с умом.
С весны 1756 года здоровье Елизаветы начало резко ухудшаться. «Придворные передавали друг другу на ухо, что эти недомогания Ее императорского величества были более серьезны, чем думали», — сообщала Екатерина. Письма великой княгини к Уильямсу лета — зимы 1756 года рисуют картину нетерпеливого ожидания скорой развязки. «Я занята теперь тем, что набираю, устраиваю и подготавливаю все, что необходимо для события, которого вы желаете; в голове у меня хаос интриг и переговоров»[150], — писала она 11 августа.
Уильямс не без оснований подозревал, что императрица по наущению Шуваловых могла провозгласить своим преемником внука — маленького царевича Павла, а его родителей выслать за границу. «Пусть даже захотят нас удалить или связать нам руки, — 9 августа отвечала на опасения посла Екатерина, — это должно совершиться в 2–3 часа, одни они (Шуваловы. — О. Е.) этого сделать не смогут, а нет почти ни одного офицера, который не был бы подготовлен, и если только я не упущу необходимых предосторожностей, чтобы быть предупрежденною своевременно, это будет уже моя вина, если над нами восторжествуют»[151].
Уильямс не забывал внушать Екатерине вместе с решимостью заполучить власть мысли о традиционности союза России и Англии «со времен Иоанна Васильевича» Грозного. Реакция молодой женщины была весьма показательна. «Иоанн Васильевич хотел уехать в Англию, — писала она, — но я не намерена просить убежища у английского короля, потому что решилась или царствовать, или погибнуть». Последняя мысль рефреном повторяется в ее посланиях к корреспонденту. 12 августа, вспоминая, как шведский риксдаг ограничил власть Адольфа Фридриха, она заметила: «Вина будет на моей стороне, если возьмут верх над нами. Но будьте убеждены, что я не сыграю спокойной и слабой роли шведского короля, и что я буду царствовать или погибну»[152].
Такая отвага восхищала дипломата. «Я всегда буду больше любить Екатерину, чем императрицу»[153], — признавался он в одном из августовских писем. Иными словами: душевные качества притягательнее, чем блеск короны.
Екатерина была убеждена, что даже если Шуваловы вынудят больную императрицу подписать манифест о смене наследника, нерешительная Елизавета не станет его обнародовать. Только после ее кончины документ будет прочитан над телом, а этому можно помешать. «Когда я получаю безошибочное известие о наступлении агонии, — писала великая княгиня Уильямсу 18 августа, — я иду прямо в комнату моего сына, если встречу Алексея Разумовского, то оставлю его подле маленького Павла, если же нет, то возьму ребенка в свою комнату, в ту же минуту посылаю доверенного человека дать знать пяти офицерам гвардии, из которых каждый приведет ко мне 50 солдат, и эти солдаты будут слушаться только великого князя или меня. В то же время я посылаю за Бестужевым, Апраксиным и Ливеном, а сама иду в комнату умирающей, где заставляю присягнуть капитана гвардии и оставляю его при себе. Если замечу малейшее движение, то овладею Шуваловыми»[154].
Судя по письмам, Екатерине действительно удалось мобилизовать сторонников. Она уверяла, что договорилась с гетманом Кириллом Разумовским, своим давним другом и подполковником Измайловского полка, который мог поддержать их с великим князем. Такие решительные заявления должны были укрепить уверенность посла в скорой развязке драмы. Однако Елизавета «все хромала», как выразилась великая княгиня в письме 30 августа. И никак не приближалась к отверстому гробу.
25 сентября за ужином императрица заявила, будто ей полегче, а сама между тем «не могла сказать трех слов без кашля и одышки, и если она не считает нас глухими и слепыми, то нельзя было говорить, что она этими болезнями не страдает. Меня это прямо смешит. Рассказываю это и вам — все же это утешение для тех, кто не имеет лучшего»[155]. 4 октября: «Вчера среди дня случились три головокружения или обморока. Она боится и сама очень пугается, плачет, огорчается, и когда спрашивают у нее, отчего, она отвечает, что боится потерять зрение. Бывают моменты, когда она забывается и не узнает тех, которые окружают ее… Она однако волочится к столу, чтобы могли сказать, что видели ее, но в действительности ей очень плохо»[156]. Наконец 10 декабря: «Императрица все в том же состоянии: вся вздутая, кашляющая и без дыхания, с болями в нижней части тела». Повторенная в письме дипломату злая шутка Понятовского о Елизавете: «Ох, эта колода! Она просто выводит нас из терпения! Умерла бы она скорее!»[157] — должна была доказать единство мыслей и чувств корреспондентов.
Говоря о переписке Екатерины с британским послом, исследователи неизменно спотыкаются о два вопроса. Особый цинизм будущей императрицы в отношении больной, умирающей женщины. И факт государственной измены. Продажа информации за деньги. Подготовка государственного переворота.
В зрелые годы, уже занимая престол, Екатерина, вероятно, дорого бы дала, чтобы отказаться от писем сэру Чарльзу. И не только потому, что выступала в них, как выразился Я. Л. Барсков, «на ролях английской шпионки»[158]. Но и потому, что никому неприятно заглядывать в такое зеркало.
Отношения с Елизаветой были очень непростыми. Когда императрица шла на поводу у своего сердца, она обнаруживала и доброту, и сострадательность. Но когда политический расчет брал верх, дочь Петра становилась черствой и невосприимчивой к страданиям близких. Держала великокняжескую чету едва не под арестом, удаляла всех, кто мог им понравиться, отнимала у молодой женщины одного возлюбленного за другим, забрала сына.
Наверное, Екатерина считала, что ей не за что благодарить свекровь. Но существуют чувства, пробивающиеся помимо воли. В «Записках» среди множества придирчиво зафиксированных нападок и оскорблений Елизаветы наша героиня отчего-то столь же скрупулезно отмечала те случаи, когда императрица хвалила ее: была довольна нарядом, восхитилась ловкостью верховой езды, выразила солидарность по поводу поведения великого князя. Казалось бы, если Елизавета настолько неприятный человек, то ее мнение не должно ничего значить для великой княгини. Однако это не так. Екатерина точно копила крупинки добрых слов, запоминала их и, как ни странно, гордилась ими.
Правда состоит в том, что Екатерина хотела быть любимой Елизаветой, угождать ей, нравиться. Это соответствовало ее характеру. Точно так же как Елизавета в своем простосердечии все-таки любила племянников. Но… развитая подозрительность одной венценосной женщины и столь же развитая гордость второй несказанно отдалили их друг от друга.
К моменту тяжкой болезни императрицы невестка уже так настрадалась от грубого вмешательства в свою жизнь, что не могла жалеть Елизавету. Хуже того — издевалась над умирающей и не делала из своего отношения тайны. Ее сердце очерствело. Устав плакать, она начала смеяться — цинично и зло.
Каковы были реальные намерения великой княгини? Екатерина не осмеливалась посягать на власть Елизаветы. Все действия приурочивались к кончине августейшей тетки — к моменту передачи короны. Последняя могла уйти из неумелых рук Петра Федоровича. Цесаревна намеревалась защитить его право на престол — если надо, то и с привлечением гвардии. Пока она действовала в интересах мужа, намереваясь править через него.
Поддержка войск и вельмож дорого стоила. Средства претендентам обычно предоставлялись из-за границы в надежде на изменение внешнеполитического курса. Иностранные дворы всегда стремились покупать расположение наследников, а заодно и нужные сведения. Елизавета взошла на престол на французские деньги, руководимая Шетарди, которому обещала прекратить войну России со Швецией. Сын Екатерины Павел за долгое царствование матери сближался то с одним, то с другим двором, получая займы, и наконец обрел постоянных союзников в Пруссии. В этом ряду сотрудничество нашей героини с британским послом — не исключение, а правило.
Сам факт получения субсидии не удивителен в обстановке, где брали все, от горничных до государыни. «Деньги, которые причитаются сему двору, — писал сэр Чарльз 4 июля 1755 года, — попадут, несомненно, в приватную шкатулку императрицы; ныне у нее большая нужда в средствах… Я попытаюсь при помощи тех малых средств, испрошенных мною у короля, полностью предать сей двор в руки Его величества». Заблуждение сэра Чарльза старательно поддерживали русские вельможи.
«Великий канцлер в самых убедительных выражениях заверил меня, что всякое увеличение первоначальной выплаты… желательно и породит у Ее императорского величества как бы чувство личной обязанности, — продолжал дипломат 11 августа. — …Сумма около пятнадцати тысяч фунтов стерлингов для личных трат императрицы произведет самое благоприятное воздействие… Ежели до сих пор покупалось русское войско, то указанная выше сумма должна купить саму императрицу»[159].
Оскорбительные слова. Они заставляют задуматься о месте России в тогдашнем концерте европейских держав. Когда Елизавета Петровна разорвала «Субсидную конвенцию» с Англией, она немедленно затребовала финансовую компенсацию с нового союзника — Франции[160]. Самые видные члены правительства получали пенсионы сразу от нескольких держав, более того — настаивали на взятках за услуги. Показательно обращение М. И. Воронцова к сэру Уильямсу. Будучи одним из главных сторонников сближения с Францией, он не постеснялся потребовать от Англии денег, суля перемену своей позиции. «Эмиссар Воронцова сказал мне, что… я ни разу не обращался к вице-канцлеру надлежащим образом, — доносил в Лондон сэр Чарльз, — что дом, который он строит в городе, был начат на английские деньги, но уж пять или шесть лет не может быть завершен, поелику сие также должно произойти за счет английских средств… Ежели не дам денег я, дадут другие, и, насколько ему известно, господин Дуглас (французский резидент. — О. Е.) уже немало раздал их многим особам»[161].
В таких обстоятельствах наша героиня могла приобрести политические добродетели только из прочитанных книг. Она, конечно, знала, что нехорошо брать деньги у иностранной державы, как знала, что предосудительно иметь любовников. Но эти знания никак не пересекались с реальностью.
С самого приезда в Россию в Екатерине видели политическую интриганку. Положение обязывало. Ни минуты наша героиня не была вольна в своем выборе. Тот, кто поддерживал — прусский ли король, дядя ли из Швеции, — являлся покровителем, на которого следовало ориентироваться. Поэтому в сближении с британским послом не было ничего нравственно нового. Набирая политический вес, Екатерина поднималась из состояния пешки. Для нее важно было стать самой сильной фигурой на шахматной доске.
Зададимся вопросом: насколько предоставленные великой княгиней сведения повредили России? Через нее становилось известно о состоянии здоровья Елизаветы. По тем временам это была государственная тайна, и наша героиня понимала, чем рискует, разглашая ее. Кроме того, Екатерина вместе с Бестужевым сделали всё возможное, чтобы сначала отсрочить отправку фельдмаршала Степана Федоровича Апраксина к войскам, назначенным для войны с Пруссией, а потом затянуть подготовку к походу. Объективно это было выгодно Пруссии и крайне вредило союзникам — Австрии и Франции. Что касается России, то Елизавета была недовольна медлительностью фельдмаршала, а солдаты ставили за него свечки.
Сама Екатерина считала, что Бестужев, противодействуя Франции и пытаясь удержать союз с Англией, поступает «патриотически». Переписка с Уильямсом прервалась прежде, чем сведения сугубо военного характера стали попадать в руки нашей героини. Однако, участвуя в подобных интригах, она играла с огнем. Внезапное падение канцлера больно ударило по положению посла, привело к спешному отъезду Понятовского и поставило великую княгиню на грань высылки из России.
Дело Бестужева
В начале сентября 1757 года у дверей церкви в Царском Селе при большом стечении народа, пришедшего из окрестных деревень на праздничную обедню, императрица внезапно упала в обморок. Он был необычайно глубок и продолжителен, так что многие из придворных подумали, будто недалек смертный час Елизаветы[162]. Впрочем, подобные обмороки повторялись у Ее величества регулярно с 1749 года, когда она, поехав в подмосковное село Перово в гости к Алексею Разумовскому, лишилась чувств на празднике, устроенном в ее честь. Из-за слабости Елизавету тогда несли в Москву на руках. «Она была высокого роста, собою прекрасная, мужественная и очень дородная, — писала мемуаристка Е. П. Янькова, — а кушала она немало и каждое блюдо запивала глотком сладкого вина; сказывают, она особенно любила токайское; ну, не мудрено, что при ее полноте кровь приливала к голове, и с ней делались обмороки, так что в конце ужина ее иногда уносили из-за стола в опочивальню»[163].
Припадок, произошедший осенью 1757 года, выглядел слишком долгим. Пропал пульс, казалось, что Елизавета не дышит. В этих условиях канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин решил действовать быстро. Он уже два года назад составил проект манифеста, согласно которому великий князь Петр Федорович хотя и провозглашался императором, но не становился самодержавным монархом, — его жена Екатерина Алексеевна должна была занять при нем место соправительницы. Поскольку при дворе ходили упорные слухи о желании Елизаветы сделать внучатого племянника Павла наследником «мимо» родителей, а последних выслать в Германию, то план Бестужева должен был помешать такому развитию событий. Неспособность же Петра управлять самостоятельно казалась многим вельможам секретом Полишинеля.
Самому себе канцлер прочил роль первого министра с неограниченными полномочиями, он намеревался возглавить важнейшие коллегии и все гвардейские полки. Позднее Екатерина вспоминала: «Он много раз исправлял и давал переписывать свой проект, изменял его, дополнял, сокращал, и, казалось, был им очень занят. Правду сказать, я смотрела на этот проект как на бредни, как на приманку, с которою старик хотел войти ко мне в доверие; я однако не поддавалась на эту приманку, но так как дело было неспешное, то я не хотела противоречить упрямому старику»[164].
Дело приспело осенью 1757 года, и «упрямый старик» своей неуместной активностью едва не поставил Екатерину на край гибели. Существует версия, что канцлер направил письмо своему старинному другу фельдмаршалу С. Ф. Апраксину, командовавшему русскими войсками на театре военных действий с Пруссией. Он сообщал о близкой кончине императрицы и просил подкрепить его войсками в Петербурге. Своим назначением Апраксин был обязан именно Бестужеву, и теперь канцлер рассчитывал, что командующий будет действовать в его пользу.
Апраксин дал русским войскам приказ отступать из Пруссии. Однако, вопреки ожиданиям, Елизавета оправилась от припадка. Внезапная ретирада ее армии вызвала у императрицы подозрения. Командующий был отозван и в январе 1758 года допрошен начальником Тайной канцелярии А. И. Шуваловым. Среди прочих ему были заданы вопросы о его связях с Бестужевым и переписке с великой княгиней Екатериной. 14 февраля 1758 года Бестужев был арестован на заседании Конференции при высочайшем дворе[165]. К счастью для себя, он успел уничтожить все бумаги и до конца отрицал существование у него каких-либо планов на случай кончины государыни. По словам Екатерины, «императрице представили, что слава ее страдает от влияния Бестужева. Она приказала собрать в тот же вечер конференцию и призвать туда великого канцлера». Чуя неладное, Алексей Петрович сказался больным. «Тогда назвали эту болезнь неповиновением и послали сказать, чтобы он пришел без промедления. Он пришел, и его арестовали в полном собрании конференции, сложили с него все должности, лишили всех чинов и орденов, между тем как ни единая душа не могла обстоятельно изложить, за какие преступления или злодеяния так всего лишили первое лицо в империи»[166].
В сущности, никаких улик против канцлера не имелось. Добыть их рассчитывали, захватив его бумаги и хорошенько допросив самого. «Предупрежденный о приближающейся буре, Бестужев просмотрел свои бумаги, сжег все, что считал нужным, и был уверен в собственной неуязвимости, — писал хорошо осведомленный о подробностях Понятовский. — …Он не выказал ни страха, ни гнева, и на протяжении нескольких недель казался не только спокойным, но почти веселым — все его речи, его поведение свидетельствовали об этом; он даже угрожал своим врагам отомстить им в будущем»[167].
Именно Станислав Понятовский сообщил Екатерине страшную новость: «Человек никогда не остается без помощи… Вчера вечером граф Бестужев был арестован и лишен чинов и должностей, и с ним вместе арестованы ваш ювелир Бернарди, Елагин и Ададуров». Перечисленные лица входили в близкое окружение великой княгини. Через Бернарди Екатерина передавала записки канцлеру и Понятовскому. Ададуров был ее старым учителем русского языка и сохранил с ученицей самые теплые отношения. Елагин — адъютант Алексея Разумовского, также преданный Екатерине.
Имена пострадавших дали нашей героине понять, что вокруг нее затягивается петля. «Я так и остолбенела, читая эти строки, — признавалась она, — и прочтя их, сказала себе, что нельзя обманывать себя тем, будто это дело не касается меня ближе, чем кажется»[168]. Ей было чего бояться. Да, Бестужев уничтожил все компрометирующие бумаги. Однако сам Алексей Петрович или кто-то из его приближенных, взятых по делу, могли не выдержать давления и сообщить роковые для великой княгини сведения. Из тех вопросов, которые задавались канцлеру на следствии, хорошо видно, что Елизавету более всего интересовала роль невестки. Создается впечатление, что дело Апраксина, быстро перетекшее в дело Бестужева, должно было превратиться в дело Екатерины.
27 февраля Алексею Петровичу было сказано, что императрица очень недовольна его прежними ответами и видит в них запирательство. Если он продолжит в том же духе, его направят в крепость и поступят «как с крайним злодеем». Это был прозрачный намек на пытку. Но Бестужева не удалось запугать. «Говорят, что Бестужев весьма мужественно переносит свое несчастье, — доносил в Лондон 30 марта новый английский посол Роберт Кейт, — и не дает никакого повода представить недоброжелателям своим какие-либо против него свидетельства»[169].
Вопросы, предлагавшиеся канцлеру, сосредоточивали его внимание на личности Екатерины. «Для чего он предпочтительно искал милости у великой княгини, а не так много у великого князя, и скрыл от ее императорского величества такую корреспонденцию, о которой по должности и верности донести надлежало?» Канцлер нимало не смутился. «У великой княгини милости не искал… — отвечал он, — ибо тогда великая княгиня была предана королю прусскому… но как с год тому времени переменила ее высочество совсем свое мнение и возненавидела короля прусского… то канцлер побуждал… дабы она и великого князя на такие ж с ее императорским величеством согласные мнения привела, о чем великая княгиня и трудилась».
Бестужев был виноват с ног до головы. Удивительны те спокойствие и уверенность, с которыми он, защищая себя, отводил упреки от Екатерины. Однако его сдержанность порождала еще большее недоверие. За строкой протоколов заметна воля августейшей следовательницы, снова и снова возвращавшей канцлера к главному пункту обвинений.
«Через кого ты сведал, что великая княгиня вдруг свои мысли переменила и возненавидела короля прусского… и что за причина для такой скоропостижной перемены?…Надлежит тебе показать, в чем точно состояла сия переписка (с Екатериной. — О. E.), где теперь все сии письма, для чего пересылаемы они были не прямым каналом… буде сжег, то для чего?»
Особый пункт расспросов касался Петра Федоровича. «Его высочеству великому князю говорил ты, что ежели его высочество не перестанет таков быть, каков он есть, то ты другие меры против него возьмешь; имеешь явственно изъяснить, какие ты хотел в великом князе перемены и какие другие меры принять думал».
Последний вопрос отсылал Бестужева прямо к проекту о соправительстве Екатерины. Однако все варианты проекта были уничтожены. На руках у следствия не имелось ни одного уличающего документа. Оставалось уповать только на признания обвиняемых. Поэтому перехваченная записка канцлера Екатерине, посланная из-под ареста, вызвала такой интерес.
«Советуешь ты великой княгине поступать смело и бодро с твердостью, присовокупляя, что подозрениями ничего доказать неможно. Нельзя тебе не признаться, что сии последние слова особенно весьма много значат и великой важности суть». Алексей Петрович опять не признался. Опытный политик, он понимал, что лучше держаться одной линии. Стоит показать колебания, и его разорвут. Поэтому арестант отвечал: «Великой княгине поступать смело… я советовал, но только для того, что письма ее к фельдмаршалу Апраксину ничего предосудительного в себе не содержали»[170].
Дошло до того, что Бестужеву в качестве улики предъявили найденную у него при обыске золотую табакерку с портретом великой княгини. Канцлер смело заявил, что получил ее в подарок от самой Екатерины на одном из куртагов незадолго до ареста. Что из этого следовало? Ничего. Можно ли было на основании презента судить бывшего министра? Подобные безделушки имелись у многих, они и делались специально для раздачи.
Алексей Петрович не позволил схватить свою ученицу за руку. Однако Елизавета напала на верный след. Из протоколов видно, что участие Екатерины в политических делах вменялось в преступление не только ей самой, но тем сановникам, которые соблазнились близостью с малым двором.
«С величайшей искренностью»
Дело неумолимо шло к развязке, и на время Елизавета взяла паузу — ей необходимо было расчистить поле для игры, то есть убрать защитника Екатерины Бестужева и получить веские улики против невестки. Это удалось только наполовину: канцлера больше не было рядом с нашей героиней, но и компрометирующие материалы в руки следствия не попали. Елизавете пришлось начинать партию без козырей.
Поэтому она и не спешила с выяснением отношений. Напротив, был пущен слух, будто великую княгиню вот-вот вышлют из России. Вероятно, Елизавету устроил бы вариант, при котором, не предпринимая никаких решительных шагов, она могла бы держать невестку под угрозой подобной участи и тем заставить ее вести себя потише. Однако Екатерина перехватила инициативу, она сама написала императрице письмо с просьбой отпустить ее на родину.
«Я… сделала его насколько могла трогательным. Я начала с того, что благодарила ее за все милости… которыми она меня осыпала… говоря, что, к несчастью, события доказали, что я их не заслуживаю, потому что только навлекла на себя ненависть великого князя и явную немилость Ее императорского величества, что, видя свое несчастье… я ее убедительно прошу положить конец моим несчастьям, отослав меня к моим родителям… что так как я не вижу своих детей, хотя и живу с ними в одном доме, то для меня становится безразличным, быть ли в том же месте, где они, или в нескольких стах верстах от них; что я знаю, что она окружает их заботами, которые превосходят те, какие мои слабые способности позволили бы мне им оказывать»[171].
Письмо было вручено главе Тайной канцелярии Александру Ивановичу Шувалову для передачи императрице. Затем цесаревна уединилась в своих покоях и начала демонстративно чахнуть. 18 апреля Кейт доносил: «Дела великой княгини нехороши. Однако говорят, будто фаворит Шувалов прислал ей письмо с уверениями в том, что императрица скоро примет ее, и ежели Ее высочество изволит хоть немного повиниться, то все будет забыто»[172]. Поверила ли наша героиня этому обещанию? Скорее всего, нет. В мемуарах она о нем не упомянула. Что значило «немного повиниться»? Самой дать на себя показания, которых не добились от Бестужева?
Только благодаря помощи духовника Елизаветы, дяди одной из камер-юнгфер Екатерины, ей удалось выпросить свидание. Через племянницу тот посоветовал опальной великой княгине сказаться больной и просить исповеди, «чтобы он мог передать императрице все, что услышит из собственных моих уст»[173]. Цесаревна так и сделала.
Ни одного из участников сцены не смутило предполагаемое проникновение государыни в тайну исповеди. Понятно, что степень чистосердечия Екатерины обусловливалась степенью бесцеремонности свекрови. Но именно свидание со священником возымело действие. На следующую же ночь после разговора императрица призвала невестку. «Решение мое было принято, я смотрела на мою высылку или невысылку очень философски; я нашлась бы в любом положении», — рассуждала Екатерина.
13 апреля «около половины второго ночи» Александр Шувалов провел великую княгиню к императрице, избегая лишних глаз. В передних и коридорах не было ни души. У входа в галерею наша героиня увидела, что великий князь промелькнул впереди и скрылся в другой двери. «Когда я сказалась больной с опасностью жизни, он не пришел ко мне и не прислал спросить, как я себя чувствую, — вспоминала она. — …Я после узнала, что в этот самый день он обещал Елизавете Воронцовой жениться на ней, если я умру, и что оба очень радовались моему состоянию».
Наконец великую княгиню впустили в покои Елизаветы. «Как только я увидела императрицу, я бросилась перед ней на колени и стала со слезами очень настойчиво просить отослать меня к моим родным. Императрица захотела поднять меня, но я осталась у ее ног. Она показалась мне более печальной, нежели гневной, и сказала мне со слезами на глазах: „Как вы хотите, чтобы я вас отослала? Не забудьте, что у вас есть дети“. Я ей ответила: „Мои дети на ваших руках, и лучше этого ничего для них не может быть“».
Елизавета посчитала нужным укрепить свои позиции кавалерией на флангах и засадным полком. В комнате находились великий князь и Александр Шувалов, а в отдалении за ширмами — фаворит Иван Шувалов. Это не изобличало твердости. Елизавета нуждалась в поддержке, хотя бы моральной. А вот нашей героине неоткуда было черпать силы, кроме самое себя.
Императрица спросила, как объяснить причины ее высылки обществу. «Вы скажите о причинах, которыми я навлекала на себя вашу немилость и ненависть великого князя», — смиренно отвечала великая княгиня. «Чем же вы будете жить у ваших родных?» — «Тем, чем жила прежде». Разговор пока не касался главного. В золотом тазу на туалетном столике лежали сложенные письма. Екатерина сразу догадалась, что это ее послания Апраксину. «Императрица снова подошла ко мне и сказала: „…Вы чрезвычайно горды… Вы воображаете, что никого нет умнее вас“». Ответ Екатерины был исполнен грустной иронии: «Ничто больше не могло бы меня в этом разуверить, как мое настоящее положение».
Елизавета заколебалась, но предприняла над собой усилие, строго сказав невестке: «Вы вмешиваетесь во многие вещи, которые вас не касаются; я не посмела бы делать того же во времена императрицы Анны. Как, например, вы посмели посылать приказания фельдмаршалу Апраксину?.. Ваши письма тут, в этом тазу… Вам запрещено писать».
Задумаемся на мгновение: что такое для человека, читающего и пишущего, не писать? Примерно то же, что для Петра Федоровича сидеть без скрипки и солдатиков. А для Елизаветы без новых платьев. Позднее Екатерина признавалась, что не может видеть стопы чистой бумаги, чтобы тут же не намарать на ней чего-нибудь. Тем не менее она смиренно умоляла простить ее за нарушение запрета, но решительно отперлась от длительной переписки. Было всего три письма. Одно поздравляло с рождением сына, другое с новым годом, третье… В третьем-то «я просила его следовать вашим приказаниям». Елизавета не поверила и постаралась взять великую княгиню на испуг: «Бестужев говорит, что было много других». — «Он лжет». — «Я велю его пытать». Екатерина не позволила выказать колебания и ответила, «что в ее полной власти делать то, что она найдет нужным».
Беседа продолжалась полтора часа. Императрица ходила взад и вперед по комнате, обращалась ко всем присутствующим. «Великий князь проявил во время этого разговора много желчи, неприязни и даже раздражения». Но так как он обнаружил «много горячности», то «ум и проницательность императрицы» постепенно склонились на сторону невестки. Под конец она сказала Екатерине вполголоса: «Мне надо будет многое еще вам сказать; но я не могу говорить, потому что не хочу ссорить вас еще больше». Невестка сразу догадалась, что истинная причина — чужие уши. «Я… была сердечно тронута, — вспоминала великая княгиня, — и сказала ей также очень тихо: „И я также не могу говорить, хотя мне чрезвычайно хочется открыть вам свое сердце и душу“… То, что я сказала, произвело на нее очень сильное впечатление. У нее показались на глазах слезы, и чтобы скрыть, что она взволнована, она нас отпустила»[174].
Содержание разговора мы знаем главным образом из «Записок» Екатерины. В реальности и слова, и акценты могли быть иными. Но общий смысл передан верно, о чем свидетельствуют донесения иностранных дипломатов, не пропустивших такую интересную тему, как скандал в царской семье.
28 апреля Кейт писал о Екатерине: «Говорят, что четыре дня назад (24 апреля по новому стилю. — О. Е.) виделась она с императрицей, и после горячих упреков с одной стороны и умаливаний с другой Ее императорское высочество пала на колени перед императрицей и сказала, что, поелику имеет она несчастье, несмотря на свою невинность, навлечь на себя опалу и вместе с оной самые оскорбительные унижения, каковые вкупе с семейными ее неурядицами делают жизнь ее слишком уж тяжелой, ей остается только просить Ее величество явить милость и отпустить ее на весь остаток дней обратно к матери. Великая княгиня заверяла Ее величество, что ежели почитает она за благо ради интересов Империи взять для великого князя другую супругу, ни сама она, никто иной из их семейства не окажут сему ни малейшего препятствия.
Говорят, будто императрица была весьма тронута таковым рассуждением и уже говорила с великой княгиней намного ласковее, входя в малейшие подробности куда внимательнее и сочувственнее, чего давно с нею не бывало. Ее императорское высочество стала жаловаться на жестокость великого князя, при сем присутствовавшего, коему императрица сделала знак попридержать язык и сказала, что намерена поговорить с нею наедине в самое ближайшее время… а сердце у нее мягкое и доброе. Есть надежда, что сия аудиенция приведет к примирению, и все того искренне желают, ибо у великой княгини множество друзей среди наипервейших особ двора»[175].
Обещанного второго свидания Екатерина ждала полтора месяца. 23 мая Екатерине внезапно разрешили навестить детей. Внешне это было знаком благоволения, что и позволило придворным сделать вывод: гроза миновала. Однако на деле милость императрицы оказалась только предлогом для того, чтобы невестка могла незаметно войти из комнат малышей в смежные покои Елизаветы. «Я застала ее совсем одну, и на этот раз в комнате не было ширм, — вспоминала Екатерина, — следовательно и она, и я, мы могли говорить на свободе».
Елизавета снова повторила вопрос о письмах Апраксину. Действительно ли их было только три? «Я ей поклялась в этом с величайшей искренностью… Затем она стала у меня расспрашивать подробности об образе жизни великого князя…»[176] На этом «Записки» Екатерины обрываются.
Много ли утаила наша героиня о последнем разговоре с Елизаветой? Во всяком случае, он и правда прошел без свидетелей. Возможно, был затронут вопрос о Павле. По уверениям Уильямса, ему стало известно, будто во время первого свидания Александр Шувалов намекнул императрице на обстоятельстве. рождения мальчика. Сама великая княгиня об этом не пишет. В ответ на дерзкую речь Елизавета якобы воскликнула: «Придержи язык, негодяй! Я знаю, о чем ты говоришь, ты хочешь наврать, будто он незаконнорожденный, но если и так, то он не первый у нас в семье»[177]. Кого имела в виду государыня, трудно сказать. Во всяком случае, не самое себя — рожденную до брака родителей — ведь она, хоть и считалась бастардом, все же была плоть от плоти Петра Великого. Но судьба внука должна была ее живо беспокоить. К какой-то, неведомой для нас договоренности они с Екатериной пришли, потому что уже к 30 мая их отношения выглядели для сторонних наблюдателей безоблачными. «В воскресенье вечером императрица впервые со дня моего приезда появилась на куртаге. Она довольно долго задержалась возле великой княгини у карточного стола и много с нею разговаривала с тоном веселости и сердечности»[178], — доносил Кейт.
«Неоцененный друг»
О том, в каком одиночестве оказалась наша героиня, не в последнюю очередь свидетельствует ее дружба с Екатериной Романовной Дашковой, третьей из племянниц нового канцлера Михаила Илларионовича Воронцова. Их взаимная приязнь зародилась зимой 1759 года и обычно трактуется как интеллектуальное притяжение двух изголодавшихся по утонченным беседам душ.
«Во всей России едва ли отыщется друг более достойный Вас»; «Заклинаю, продолжайте любить меня! Будьте уверены, что моя пламенная дружба никогда не изменит Вашему сочувствию»; «Я люблю, уважаю, благодарю Вас, и надеюсь, что Вы не усомнитесь в истинности этих чувств»; «Прости, мой неоцененный друг!»[179] Это строки из записок великой княгини к Дашковой начала 1762 года.
В мемуарах Екатерина Романовна писала, что в те времена во всей России не было женщин, кроме нее и цесаревны, занимавшихся «серьезным чтением», то есть глотавших тома Бейля, Монтескье и Вольтера. В этих условиях сама собой отпадала проблема приблизительного равенства возраста. Круг людей со сходными интеллектуальными потребностями был столь узок, что духовная близость заменяла возрастные интересы, и юная Дашкова легче общалась с тридцатилетней великой княгиней, чем с собственными сестрами Марией и Елизаветой или другими придворными девушками-сверстницами.
«В ту же зиму великий князь, впоследствии император Петр III, и великая княгиня, справедливо названная Екатериной Великой, приехали к нам провести вечер и поужинать, — вспоминала Дашкова. — Иностранцы обрисовали меня ей с большим пристрастием; она была убеждена, что я все свое время посвящаю чтению и занятиям… Мы почувствовали взаимное влечение друг к другу… Великая княгиня осыпала меня своими милостями и пленяла меня своим разговором… Этот длинный вечер, в течение которого она говорила почти исключительно со мной, промелькнул для меня как одна минута»[180].
Самой мемуаристке казалось, что такое внимание объяснялось исключительно заинтересованностью гостьи в диалоге с умной собеседницей. Однако была и другая сторона монеты. Приезд великокняжеской четы в дом нового канцлера состоялся в опасное и шаткое время. 9 января прошел последний допрос Бестужева, но приговор пока не оглашали. Еще вчера сильная своими политическими связями и покровительством цесаревна оказалась одна. Некоторое время она фактически находилась под домашним арестом. Посещение Воронцова — победителя в схватке с прежним союзником Екатерины — знаменовало внешнее примирение супругов, состоявшееся по требованию августейшей тетки. Екатерине было позволено появляться в свете, но лишь у приятных Елизавете Петровне людей.
Попав к Воронцовым и оказавшись в окружении враждебного клана, великая княгиня чувствовала себя неуютно, с ней почти никто не говорил, и она — чтобы не потерять лицо — вынуждена была целый вечер поддерживать бесконечный диалоге младшей племянницей канцлера. К счастью для цесаревны, ее собеседница обнаружила глубокий ум и начитанность. Обеим не было скучно, и Екатерина приложила все усилия, чтобы удержать возле себя ничего не подозревавшую девушку. Если бы юная Воронцова покинула ее в этот вечер, наша героиня осталась бы сидеть одна, ловя на себе недоброжелательные взгляды собравшихся.
В час встречи со своей будущей подругой великая княгиня находилась в точке абсолютного падения. Обаяние, ум, заинтересованность, любезность — вот оружие, которое она снова пустила в ход, чтобы завоевать себе сторонников. «Очарование, исходившее от нее, в особенности когда она хотела привлечь к себе кого-нибудь, было слишком могущественно, чтобы подросток, которому не было и пятнадцати лет, мог ему противиться»[181], — писала Дашкова.
Такое поведение скоро дало плоды. Первое восхождение заняло у Екатерины более десяти лет, второе — всего три года. Исследователи часто задаются вопросом, зачем юная и восторженная девица Воронцова понадобилась тридцатилетней, далекой от наивности цесаревне. И обычно отвечают, что при подготовке переворота Екатерине не помешала бы природная русская княгиня, дочь сенатора, племянница канцлера[182]. На наш взгляд, расчет был более конкретным. Екатерина обзавелась «своим человеком» во враждебном клане. Она уже содержала на жалованье фаворитку мужа. Но это не могло считаться надежной гарантией от происков «Романовны». Любовница питала надежду стать законной супругой великого князя. Об их планах следовало знать из первых рук. Сестра претендентки подходила как нельзя лучше. Из мемуаров Дашковой видно, что Петр Федорович благоволил к ней, хотя и считал «маленькой дурочкой». В ее присутствии говорилось много такого, о чем полезно было бы знать нашей героине.
Когда в июне 1761 года Дашкова вернулась в Петербург после пребывания в Москве у родни мужа, ее дружеские отношения с великой княгиней восстановились, что не понравилось Петру Федоровичу. Во время первого же посещения Ораниенбаума наследник сказал ей: «Если вы хотите здесь жить, вы должны приезжать каждый день, и я желаю, чтобы вы были больше со мной, чем с великой княгиней».
Живя в Ораниенбауме, на приволье, наследник задавал свои любимые праздники в летних лагерях, где много курили, пили пиво, говорили по-немецки и играли в кампи. «Как это времяпрепровождение отличалось от тех часов, которые мы проводили у великой княгини, где царили приличие, тонкий вкус и ум! — восклицала Дашкова. — Ее императорское высочество относилась ко мне с возрастающим дружелюбием; зато и мы с мужем с каждым днем все сильнее и сильнее привязывались к этой женщине, столь выдающейся по своему уму, по своим познаниям, и по величию и смелости своих мыслей»[183].
В одной из автобиографических зарисовок наша героиня так описывала Дашкову этого времени: «Она была младшей сестрой любовницы Петра III и 19 лет от роду, более красивая, чем ее сестра, которая была очень дурна. Если в их наружности вовсе не было сходства, то их умы разнились еще более: младшая с большим умом соединяла и большой смысл; много прилежания и чтения, много предупредительности по отношению к Екатерине[184] привязывали ее к ней сердцем, душою и умом. Так как она совсем не скрывала этой привязанности и думала, что судьба ее родины связана с личностью этой государыни, то вследствие этого она говорила всюду о своих чувствах, что бесконечно вредило ей у ее сестры и даже у Петра III»[185].
Раз в неделю Екатерине позволялось навещать царевича Павла, который оставался с бабушкой-императрицей в столице. «В те дни, когда она знала, что я нахожусь в Ораниенбауме, — отмечала Дашкова, — она на обратном пути из Петергофа останавливалась у нашего дома, приглашала меня в свою карету и увозила к себе; я с ней проводила остаток вечера. В тех случаях, когда она сама не ездила в Ораниенбаум, она меня извещала об этом письмом, и таким образом между великой княгиней и мной завязалась переписка и установились доверчивые отношения, составлявшие мое счастье»[186].
Вслед за обменом книгами и журналами подруги перешли к весьма неосторожному обмену мыслями, которые носили явный отпечаток государственных планов. «Вы ни слова не сказали в последнем письме о моей рукописи, — обижалась в одной из записок Екатерина. — Я понимаю ваше молчание, но вы совершенно ошибаетесь, если думаете, что я боюсь доверить ее вам. Нет, любезная княгиня, я замедлила ее посылкой лишь потому, что хотела закончить статью под заглавием „О различии духовенства и парламента“ …Пожалуйста, не кажите ее никому и возвратите мне, как можно скорее. То же самое обещаюсь сделать с вашим сочинением и книгой»[187].
Сама Дашкова тоже направляла подруге заметки, касающиеся «общественного блага», правда не подписывая их, то ли из скромности, то ли из осторожности. Впрочем, Екатерина отлично понимала, кто автор понравившихся ей политических пассажей, и не скупилась на похвалы: «Возвращаю вам и манускрипт, и книгу. За первый я очень благодарна вам. В нем весьма много ума, и мне хотелось бы знать имя автора. Я с удовольствием бы желала иметь копию с этой записки… Это истинное сокровище для тех, кто принимает близко к сердцу общественные интересы»[188].
Документы, о которых говорили подруги в переписке, не сохранились. Однако нетрудно догадаться, чему они были посвящены. Рюльер, неплохо знакомый с обстановкой в доме канцлера Воронцова, сообщал о его младшей племяннице: «Она видела тут всех иностранных министров, но с 15-ти лет желала разговаривать только с республиканскими. Она явно роптала против русского деспотизма и изъявляла желание жить в Голландии, в которой хвалила гражданскую свободу и терпимость вероисповедания. Страсть ее к славе еще более обнаруживалась… Молодая княгиня с презрением смотрела на безобразную жизнь своей сестры и всякий день проводила у великой княгини. Обе они чувствовали равное отвращение к деспотизму, который всегда был предметом их разговора, а потому она и думала, что нашла страстно любимые ею чувствования в повелительнице ее отечества»[189].
Обмениваясь планами будущих преобразований, наши дамы пустились в весьма опасную игру. Первой свою оплошность заметила Екатерина. В случае ознакомления с ее рукописями третьего заинтересованного лица, например канцлера Воронцова, великой княгине грозили крупные неприятности. Она сама дала врагам материал, на основе которого можно было осуществить ее высылку. Поэтому, допустив неосторожный шаг, Екатерина испугалась.
«Несколько слов о моем писании, — обращалась она к Дашковой. — Послушайте, милая княгиня, я серьезно рассержусь на Вас, если Вы покажете кому-нибудь мою рукопись, исключительно Вам одной доверенную. На этот раз я не делаю исключения даже в Вашу пользу, особенно в силу того убеждения, что жизнь наша не в нашей воле. Вы знаете, как я верю Вашей искренности; скажите же мне по правде, неужели Вы с этой целью продержали мои листки целые три дня, что можно было прочесть не более как в полчаса. Пожалуйста, возвратите их мне немедленно, ибо я начинаю беспокоиться, зная по опыту, что в моем положении всякая безделица может породить самые неблагоприятные последствия»[190].
Рассуждения Екатерины о «разнице церкви и парламента», посланные Дашковой и с таким трудом возвращенные назад, не сохранились. Речь могла идти о нецелесообразности предоставления духовенству мест в гипотетическом парламенте, как это и произошло в Уложенной комиссии 1767 года, когда только две категории населения не получили возможности направить депутатов: крепостные крестьяне и священнослужители. Тогда правительство Екатерины II опасалось, что после секуляризации церковных земель обиженное духовенство попытается в Комиссии оказать подобной политике открытое сопротивление.
«Не созрелая вещь»
Орлов и Дашкова появились в окружении Екатерины почти одновременно и предназначались ею для общего дела, хотя и не знали друг о друге. Рюльер замечал: «Сии-то были две тайные связи, которые императрица про себя сохраняла, и как они друг другу были неизвестны, то она управляла в одно время двумя партиями и никогда их не соединяла, надеясь одною возмутить гвардию, а другою восстановить вельмож [против Петра]»[191].
То, что молодая княгиня не ведала о гвардейских сторонниках своего обожаемого друга, не значит, будто наследник ни о чем не догадывался. Одна из часто мелькающих на страницах исследований сцена из мемуаров Дашковой говорит об обратном. Во время званого обеда на 80 персон, где присутствовала и Екатерина, наследник «под влиянием вина и прусской солдатчины» позволил себе угрозу, ясную очень немногим.
«Великий князь стал говорить про конногвардейца Челищева, у которого была интрига с графиней Гендриковой, племянницей императрицы Елизаветы… Он сказал, что для примера следовало бы отрубить Челищеву голову, дабы другие офицеры не смели ухаживать за… родственницами государыни». О ком говорил Петр? Уж явно не о Челищеве с Гендриковой.
И тут Дашкова подтолкнула беседу к крайне опасному вопросу. «Я никогда не слышала, — заявила она, — чтобы взаимная любовь влекла за собой такое деспотическое и страшное наказание…
— Вы еще ребенок, — ответил великий князь, — и не понимаете, что когда имеешь слабость не наказывать смертью людей, достойных ее, то неминуемо водворяются неповиновение и всевозможные беспорядки…
— Сознаюсь… что я действительно ничего в этом не понимаю, но я чувствую и знаю, что Ваше высочество забыли, что императрица, Ваша августейшая тетка, еще жива»[192].
Для мемуаристки диалог с Петром шел о смертной казни как юридическом феномене. А вот цесаревна поняла подоплеку брошенных мужем слов иначе. Недаром она на следующий день хвалила стойкость подруги и отзывалась о ней «самым лестным образом».
Обратим внимание на последний аккорд диалога с наследником: «Ваша августейшая тетка еще жива». То был солидарный вздох множества сердец. Дашкова высказала мнение собравшихся. С каждым днем здоровье Елизаветы становилось все хуже, она почти не выходила, и страх нового царствования проявлялся подданными уже открыто. Однако прежде, чем душа Елизаветы отлетела, вокруг ее постели разгорелся последний акт борьбы, связанный с наследованием престола. 23 июля 1761 года французский посол Луи-Огюст Бретейль сообщал в Париж: «Уже несколько дней назад императрица причинила всему двору особое беспокойство: у нее был истерический приступ и конвульсии, которые привели к потере сознания на несколько часов. Она пришла в себя, но лежит. Расстройство здоровья этой государыни очевидно»[193].
Всю осень 1761 года Елизавета провела в Царском Селе, с ней неотлучно находился только Иван Шувалов, который, как мог, утешал и ободрял больную возлюбленную. Наблюдатели отмечали, что дочь Петра «никогда не помирится с мыслью о смерти и не в состоянии будет подумать о каких-либо дальновидных соответствующих этому распоряжениях»[194]. А предстояло еще составить завещание.
К концу царствования отношения императрицы с племянником были безнадежно испорчены. Австрийский посол Мерси д’Аржанто писал: «Постоянное неудовольствие… причиняет ей поведение великого князя и его нерасположение к великой княгине, так что императрица уже три месяца не говорит с ним и не хочет иметь никаких сношений… Она попеременно предается страху, унынию и крайней подозрительности»[195]. В то же время все дипломаты обращали внимание на искреннюю любовь, которую августейшая бабушка проявляла к маленькому царевичу Павлу. Секретарь датского посольства Андреас Шумахер отмечал «сильное неудовольствие государыни странным поведением ее своенравного и малопослушного племянника и нежную, почти материнскую заботу, с какой она воспитывала юного принца Павла Петровича. Он постоянно находился в ее комнатах и под ее присмотром и должен был ее повсюду сопровождать. Его так отличали перед родителями, что их это серьезно уязвляло, а думающей публике давало повод для разных умозаключений»[196].
О планах передачи короны юному Павлу писали многие современники. Позднее Екатерина утверждала, будто августейшая свекровь намеревалась «взять сына его (Петра Федоровича. — О. Е.) семилетнего и мне поручить управление»[197], но это оказалось «не по вкусу» Шуваловым, и они отговорили императрицу от подобного шага.
Скорее всего, умирающая и сама имела причины не доверять Екатерине. Вряд ли она была готова передать ей всю полноту власти. Шумахер справедливо замечал: «Я… нисколько не сомневаюсь, что императрица Елизавета должна была назначить своим наследником юного великого князя. Но поскольку государыне не слишком приятна была личность великой княгини, матери этого принца, можно утверждать почти наверняка, что регентство не было возложено на нее одну — право контролировать и утверждать [решения] предоставлялось, по-видимому, Сенату». Забегая вперед скажем, что такое устройство как нельзя более отвечало устремлениям воспитателя царевича Павла Никиты Ивановича Панина, известного своими проектами ограничения самодержавия в пользу Сената и Государственного совета. «Императрица слишком хорошо знала направление мыслей этой принцессы, — продолжал Шумахер, — которое слишком часто вызывало подозрения, чтобы вручить в ее руки неограниченную власть. С большой уверенностью можно было предсказать, что она воспользуется такой властью исключительно к своей собственной выгоде»[198].
Подобные убеждения были в дипломатических кругах общими. Составляя в 1759 году для парижского начальства «Мемуар» о России, Шарль де Эон утверждал: если Елизавета Петровна проживет достаточно долго, чтобы воспитать Павла, «то завещание будет не в пользу отца». Последний, по отзыву тайного агента, «лицом дурен и… не без сумасшедшинки». Что же касается Екатерины, то ее красота, таланты и образованность «омрачены только сердечными увлечениями». «Я верю в ее смелость, и, по суждению моему, у нее достанет характера предпринять смелое дело, не страшась грядущих последствий»[199].
Планы по передаче короны Павлу созрели в кругу Шуваловых. Кроткий фаворит и его двоюродные братья задолго до решающих событий начали оказывать Екатерине и Петру Федоровичу знаки внимания. Еще в июле 1758 года французский посланник Поль Лопиталь доносил в Париж: «Иван Шувалов полностью перебрался на сторону молодого двора». Летом 1759 года дипломат сделал вывод: «Этот фаворит хотел бы играть при великой княгине такую роль, что и при императрице»[200]. Однако кузены склонялись в пользу царевича. Еще до дела Бестужева, в 1756 году, Петр Шувалов добился от Елизаветы разрешения создать отдельный 30-тысячный корпус, названный сначала Запасным, а потом Обсервационным. Шувалов стал его командующим. Это воинское подразделение было в полном смысле слова отдельной армией, так как не подчинялось главнокомандующему[201]. В случае необходимости корпус мог поддержать наследника при восшествии на престол.
Шумахер сообщал: «От меня не укрылись симпатии генерал-фельдцейхмейстера Петра Шувалова к этому государю (Петру Федоровичу. — О. E.). Я достаточно уверенно осмеливаюсь утверждать, что корпус из 30 000 человек, сформированный этим графом, названный его именем и подчинявшийся только его приказам, был предназначен, главным образом, для того, чтобы обеспечить передачу российского трона великому князю Петру Федоровичу в случае, если кому-либо вздумается этому воспрепятствовать»[202].
Возможно, регентство при малолетнем Павле улыбалось Ивану Ивановичу больше. Однако без кузена — этого решительного, напористого и хищного человека — он действовать не мог, ведь у кроткого фаворита не было рычагов ни в армии, ни в гвардии. Есть все основания полагать, что при развитии сюжета по худшему варианту гвардия и корпус Шувалова могли столкнуться.
Желательно было избежать вооруженного выяснения отношений. В этих условиях горячий энтузиазм и торопливость Дашковой могли только повредить делу. Сгорая от нетерпения, княгиня сама решила разузнать у Екатерины ее планы. «20 января, в полночь, я поднялась с постели, завернулась в теплую шубу и отправилась в деревянный дворец на Мойке, где тогда жила Екатерина… „При настоящем порядке вещей, — сказала я, — когда императрица стоит на краю гроба, я не могу больше выносить мысли о той неизвестности, которая ожидает Вас… Неужели нет никаких средств против грозящей опасности, которая мрачной тучей висит над Вашей головой?.. Есть ли у Вас какой-нибудь план, какая-нибудь предосторожность для Вашего спасения? Благоволите ли Вы дать приказания и уполномочить меня распоряжением?“ Великая княгиня, заплакав, прижала мою руку к своему сердцу. „…C полной откровенностью, по истине объявляю Вам, что я не имею никакого плана…“ — „В таком случае, — сказала я, — Ваши друзья должны действовать за Вас“»[203]. Княгиня фактически просила будущую императрицу перепоручить ей объединение сторонников и организацию переворота. Екатерина повела себя осторожно, не сказав ни «да», ни «нет».
Опасаясь раскрыть заговор, который только-только завязывался, Екатерина отказала и настойчивому предложению мужа подруги: «При самой кончине Государыни Императрицы Елизаветы Петровны прислал ко мне князь Михаил Иванович Дашков, тогдашний капитан гвардии, сказать: „Повели, и мы тебя возведем на престол“. Я приказала ему сказать: „Бога ради, не начинайте вздор… ваше предприятие есть ранновременная и не созрелая вещь“»[204].
В декабрьские дни 1761 года наша героиня не чувствовала себя готовой к решительным действиям. Отчасти виной тому стала очередная беременность, которую на этот раз тщательно скрывали. 11 апреля 1762 года Екатерина тайно родила от Григория Орлова сына, который был назван Алексеем и впоследствии получил фамилию Бобринский. Но приближавшееся материнство вряд ли явилось главным препятствием на пути к перевороту. Скорее всего, великая княгиня действительно считала дело «не созрелым». Характер Петра был известен сравнительно узкому кругу царедворцев. Следовало повременить, дав подданным в полной мере насладиться поведением нового монарха, и тем самым обрести еще большую поддержку общества.
Кроме того, имелась возможность решить дело мирно, сугубо келейными, дворцовыми методами. В заметке о кончине Елизаветы невестка писала, что незадолго до роковой развязки Иван Шувалов пытался посоветоваться с Паниным по поводу престолонаследия. «Фаворит… быв убежден воплем множества людей, которые не любили и опасалися Петра III, за несколько дней до кончины Ее императорского величества… клал намерение переменить наследство, в чем адресовал к Никите Ивановичу Панину, спрося, что он думает и как бы то делать». По словам Ивана Ивановича, «иные клонятся, отказав и выслав из России великого князя Петра с супругою, сделать правление именем их сына Павла Петровича, которому был тогда седьмой год… Другие хотят выслать лишь отца и оставить мать с сыном, и что все в том единодушно думают, что великий князь Петр Федорович не способен [править] и что, кроме бедства, Россия не имеет ждать».
Опытный дипломат Никита Иванович повел себя очень осторожно. Он заявил, «что все сии проекты суть способы к междоусобной погибели, что в одном критическом часу того переменить без мятежа и бедственных следствий не можно, что двадцать лет всеми клятвами утверждено»[205]. После чего воспитатель Павла уведомил великую княгиню о разговоре.
К тому времени Никита Иванович был уже состоявшимся политиком со своими облюбованными и выношенными проектами. Екатерина быстро почувствовала в воспитателе сына лишь временного союзника, склонного играть самостоятельную роль. Впервые он попытался сделать это в дни переговоров с фаворитом.
5 января 1762 года Бретейль доносил в Париж: «Когда императрица Елизавета в конце декабря сделалась больной, при ее дворе возникли две партии. Одна — Шуваловых — стремилась к тому, чтобы не допустить воцарения великого князя и, отправив его в Голштинию, провозгласить юного великого князя Павла Петровича его преемником, поставив великую княгиню во главе Регентского совета, руководителями коего рассчитывали стать Шуваловы. Другая — Воронцовых, — возглавляемая Романом, братом канцлера и отцом фрейлины Воронцовой, любовницы великого князя, желала, чтобы великий князь развелся со своей женой, признал бы своего сына внебрачным и женился на фрейлине Воронцовой… Если бы императрица умерла сразу же, то все эти противоречивые мнения породили бы всеобщий беспорядок и повлекли бы за собой весьма неприятные последствия для России. Но императрица проболела несколько дней, в течение которых русские разделились, и Панин взялся за то, чтобы примирить обе партии». Никита Иванович решил возвести на трон Петра Федоровича, ограничив его свободу при помощи Сената и Синода.
Под давлением Панина великий князь якобы пошел на попятную и заявил, что «он никогда не думал разводиться и вступать в брак с фрейлиной Воронцовой, добавив: „Я обещал этой девушке жениться на ней не ранее, чем умрет великая княгиня“»[206]. Однако вскоре Панину пришлось разувериться в податливости наследника. Отношение Петра лично к Никите Ивановичу ярко проявилось в эпизоде, описанном датским послом Ассебургом со слов самого воспитателя: «Приблизительно за сутки до кончины Елизаветы Петровны, когда она была уже в беспамятстве и агонии, у постели ее находился Петр вместе с врачом государыни и с Паниным, которому было разрешено входить в комнату умирающей. Петр сказал врачу: „Лишь бы только скончалась государыня, вы увидите, как я расправлюсь с датчанами… Они станут воевать со мною на французский манер, а я — на прусский“ и т. д. Окончив эту речь, обращенную ко врачу, Петр повернулся к Панину и спросил его: „А ты что думаешь о том, что я сейчас говорил?“ Панин ответил: „Государь, я не понял, в чем дело. Я думал о горестном положении императрицы“. „А вот дай срок! — воскликнул Петр… — Скоро я тебе ототкну уши и научу получше слушать“»[207].
Удивляет откровенная враждебность Петра Федоровича к воспитателю Павла. Вероятно, переговоры, во время которых его заставили отказаться от излюбленного плана женитьбы на Воронцовой, разозлили великого князя. Панин не был смелым человеком, после такой сцены он предпочел затаиться и не предпринимать никаких действий.
Тогда же на сторону законного наследника окончательно перебрался фаворит. Шумахер был убежден, что завещание все-таки существовало. «Достойные доверия, знающие люди утверждали, что императрица Елизавета и впрямь велела составить завещание и подписала его собственноручно, в котором она назначала своим наследником юного великого князя Павла Петровича в обход его отца, а мать и супругу — великую княгиню — регентшей на время его малолетства. Однако после смерти государыни камергер Иван Иванович Шувалов, вместо того, чтобы распечатать и огласить это завещание в присутствии Сената, изъял его из шкатулки императрицы и вручил великому князю. Тот же якобы немедленно, не читая, бросил его в горящий камин»[208].
Возможно, в связи с этими слухами Екатерина характеризовала Ивана Ивановича Шувалова в письме Понятовскому как «самого низкого и трусливого из людей»[209]. Как бы то ни было, но Елизавета не «переменила наследства». Бретейль сообщал 11 января 1762 года о последних минутах государыни: «Императрица призвала к себе великого князя и великую княгиню. Первому советовала она быть добрым к подданным и стараться снискать любовь их. Она заклинала его жить в согласии с супругою и, наконец, много говорила о нежных своих чувствах к молодому великому князю и сказала отцу оного, что желала бы в знак несомнительной с его стороны к ней признательности, дабы лелеял он сего дитятю. Как говорят, великий князь все сие ей обещал»[210].
Глава четвертая РЕАЛИЗОВАННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Ни одно из обещаний, данных Елизавете Петровне на смертном одре, молодой император выполнять не собирался. И окружающие отдавали себе в этом отчет. Нового государя боялись еще до прихода к власти. Со слов Панина Ассебург нарисовал обстановку при русском дворе: «Когда она (Елизавета. — О. Е.) скончалась, общая печаль до того всеми овладела, что довольно было взглянуть друг на друга, и слезы лились у всех из глаз… Она всем желала добра и делала его сколько могла при своей беспечности… Потому неудивительно, что общество, видя в Петре III человека жестокого… с горем узнало о кончине столь доброй государыни»[211].
Что же вменялось наследнику в вину? Любопытные сведения об этом передавал в Париж Фавье: «Он курит табак, пьет пиво и водку, что вовсе не совпадает с изящными приемами двора. Зато вполне согласно с нравами не только массы народа, но и русского дворянства, духовенства и военного класса. Удивительно, что нация осмеливается порицать в одном только великом князе образ жизни, который так свойственен северному климату и так согласен не только с примером Петра Великого, но и с установившимися в России обычаями»[212].
Перед нами парадокс. Петра III терпеть не могли именно за те качества, которые присущи народу в целом. И не только потому, что частный человек имеет возможность их прятать, а глава государства, находясь на виду, обнаруживает во всем безобразии. Это было бы половиной беды. За внуком Петра Великого не признавали права на национальные пороки. У деда они уравновешивались гениальностью. Петру Федоровичу нечего было предъявить взамен. Наличие у него замашек предка воспринималось как нечто несообразное. Гротеск. Карикатура. Тем более обидная, что нарисована иностранцем.
От «своего» потерпели бы и не такое. От чужака не приняли ни хорошего, ни плохого: ни мира с Пруссией, ни благодеяний дворянству, ни попыток предложить весьма здравые реформационные шаги. Все в равной мере казалось дурно.
История краткого — всего полгода — царствования Петра III как будто полна альтернатив. Иные авторы полагают, что, проживи бедный император дольше, и, как знать… возможно, он создал бы в России гражданское общество, отменил крепостное право, провел реформы, достойные деда, и в конечном счете направил по лучшему руслу течение отечественной истории, избежав отдаленных трагедий. Но, увы. Гражданское общество не создается одним указом — даже самым милостивым, — для этого нужны годы труда. Труд этот лег на Екатерину и оказался неблагодарным. О крестьянском вопросе Петр не задумывался всерьез. Во всяком случае источники законодательного характера свидетельствуют, что для него крепостное право было чем-то незыблемым[213]. Слабое здоровье молодого императора, расшатанное разгульной жизнью, не позволяло надеяться на долгое царствование. Если Петр Федорович хотел что-то изменить, то должен был действовать быстро.
Он и действовал быстро. Вернее, торопливо. Хватался сразу за все и уже в следующую минуту переходил к другому предмету. «Главная ошибка этого государя, — писал Шумахер, — состояла в том, что он брался за слишком многие и к тому же слишком трудные дела, не взвесив своих сил, которых явно было недостаточно»[214]. За 186 дней царствования Петр издал 192 законодательных акта (манифесты, сенатские и именные указы и т. д.), иными словами они появлялись ежедневно, а иногда по несколько штук в день. Уже в первую неделю самостоятельного царствования, до 31 декабря 1761 года, император успел подписать пять указов[215].
Если предположить, что Петр III сознавал, как мало ему отпущено, то станут понятны и поспешность в работе, и безудержное стремление наслаждаться женщинами, вином, парадами, музыкой — всем, что составляло для него жизнь. Это Екатерина пришла в Россию всерьез и надолго. А ее муж, как мотылек, готовился вот-вот отлететь. Потому Петр взахлеб упивался властью и спешил осуществить назревшие, на его взгляд, преобразования.
По верному замечанию А. Б. Каменского, главные реформы заняли у молодого императора всего три дня: 18 февраля был подписан указ о вольности дворянства, 19-го — о секуляризации церковных земель, 21-го — о ликвидации Тайной канцелярии[216]. Государю некогда было вдаваться в детали, продумывать и взвешивать каждый шаг, каждое слово в новых законах. Он реализовывал преобразования вчерне. И очень спешил.
Важно было успеть заключить мир с Пруссией, отнять у Дании Шлезвиг, развестись с Екатериной и жениться на любимой женщине, признать сына незаконным, обзавестись настоящими наследниками… За исключением первого пункта, на остальное не хватило времени.
И все же следует признать, что история дала Петру III шанс. Полгода — вполне достаточный срок для того, чтобы продемонстрировать и свою программу, и методы, которыми правитель намерен добиваться поставленных целей. Вот почему мы считаем краткое царствование племянника Елизаветы реализованной альтернативой. Ему удалось показать, что нового он намерен сделать и как будет действовать. Эта программа и эти методы представляют большой интерес для историков.
«Не смешной Арлекин»
Елизавета Петровна скончалась в Рождество, в три часа пополудни. По словам нашей героини, она осталась у тела, а ее супруг тотчас вышел, чтобы показаться членам собранной для этого Конференции. Оттуда он послал к жене одного из своих приближенных — генерал-поручика и президента Камер-коллегии Алексея Петровича Мельгунова — сказать, чтобы она не покидала усопшей. «Я из сего… заключила, что владычествующая фракция опасается моей инфлуенции»[217], — писала Екатерина. Новую императрицу сразу постарались оттеснить от императора — он один направился в Конференцию, один представился гвардейским полкам. Словом, вел себя так, словно законной супруги нет.
Штелин, говоря о первых шагах своего венценосного ученика, даже не упомянул о Екатерине, хотя поименно перечислил всех членов Комиссии траурного церемониала[218]. Такое умолчание знаменательно. Единственная сфера, где молодой государыне позволено было проявить себя, — это погребение августейшей тетки. Сама Екатерина весьма гордилась исполнением порученной работы: «Я ни во что не вступалась, окромя похорон покойной государыни, по которым траурной комиссии велено было мне докладываться, что я и исполнила со всяким радением, в чем я и заслужила похвалу от всех»[219].
Екатерина понимала, как выиграет в общественном мнении, если окажет покойной государыне надлежащие почести. Одновременно она подчеркивала неприличное поведение супруга: «Тело императрицы Елизаветы Петровны едва успели убрать и положить на кровать с балдахином, как гоф-маршал ко мне пришел с повесткою, что будет в галерее (то есть комнаты через три от усопшего тела) ужин, для которого поведено быть в светлом богатом платье… Погодя несколько пришли от государя мне сказать, чтоб я шла в церковь… Я нашла, что тут все собраны для присяги, после которой отпели, вместо панихиды, благодарственный молебен; потом митрополит новгородский Сеченов говорил речь государю. Сей был вне себя от радости и оной нимало не скрывал, и имел совершенно позорное поведение, кривляясь всячески и не произнося окроме вздорных речей, не соответствующих ни сану, ни обстоятельствам, представляя более не смешного Арлекина, нежели иного чего, требуя однако всякое почтение».
Сравним это описание со словами из донесения Бретейля от 11 января 1762 года: «Преобладающее число людей испытывало к будущему императору ненависть и презрение, однако слабость и страх взяли верх. Все дрожали и поспешили с изъявлениями покорности еще до того, как императрица закрыла глаза»[220].
Дашкова описала впечатление, которое произвело на нее посещение дворца вскоре после кончины Елизаветы: «Мне казалось, что я попала в маскарад. На всех были другие мундиры; даже старик князь Трубецкой был затянут в мундире, в ботфортах со шпорами»[221]. Ни слова о дурном поведении воспитанника не проронил Штелин. Вот его описание присяги: «Когда… великий князь как наследник престола принял поздравление от всех призванных к двору сенаторов, генералов и прочих чиновников, тогда он велел гвардейским полкам выстроиться на дворцовой площади, объехал их уже при наступлении ночи и принял от них приветствие и присягу. Полки выражали свою радость беспрерывным ура своему новому полковнику и императору и говорили громко: „Слава Богу! Наконец, после стольких женщин, которые управляли Россией, у нас теперь опять мужчина императором!“»[222].
Совсем иначе поведение солдат описала Дашкова. Она сказалась больной и не поехала во дворец в первые дни после смерти Елизаветы Петровны. «Я могу засвидетельствовать как очевидец, — сообщала княгиня, — что гвардейские полки (из них Семеновский и Измайловский пошли мимо наших окон), идя во дворец присягать новому императору, были печальны, подавлены и не имели радостного вида… Солдаты говорили все вместе, но каким-то глухим голосом, порождавшим сдержанный и зловещий ропот, внушавший такое беспокойство и отчаяние, что я была бы рада убежать за сто верст от своего дома, чтобы его не слышать»[223].
Дашкову легко обвинить в пристрастии. Однако и Штелин далек от точности. Слова, которые он привел, говорились не в день восшествия Петра III на престол, не по поводу присяги и далеко не всеми гвардейцами (что важно ввиду грядущих событий). В письме Фридриху II 15 мая 1762 года император рассказывал, как еще в бытность великим князем он слышал от солдат своего полка: «Дай Бог, чтобы вы скорее были нашим государем, чтобы нам не быть под владычеством женщины»[224]. А что еще шеф мог услышать от нижних чинов, желавших заслужить его благосклонность? Вероятно, ученик не раз хвастался перед профессором подобными отзывами, слова запомнились и позднее были помещены Штелином в мемуары.
В реальности обстановка была намного сложнее. Не зря вокруг дворца сразу же по кончине Елизаветы Петровны расставили двойные караулы. Шумахер сообщал: «Все было спокойно, если не считать того, что при дворе как будто опасались каких-то волнений. Еще за 24 часа до смерти императрицы были поставлены под ружье все гвардейские полки. Закрылись кабаки. По всем улицам рассеялись сильные конные и пешие патрули. На площадях расставлены пикеты, стража при дворце удвоена. Под окнами нового императора разместили многочисленную артиллерию (не забудем, что ее начальником был П. И. Шувалов. — О. E.). Она стояла там долго, пока не рассеялись опасения, и лишь по прошествии восьми дней ее убрали»[225].
Слова датского дипломата подтверждала Екатерина, добавив любопытный факт: «В сие же время случились великие морозы; караульня же была мала и тесна, так что не помещались люди, и многие из солдат оставались на дворе. Сие обстоятельство в них произвело, да и в публике роптание»[226]. То был лишь отдаленный гул будущего недовольства. Однако сами по себе усиленные караулы очень показательны. Стало быть, сторонники Петра опасались сопротивления. И были к нему готовы. Екатерина благоразумно отложила решительные действия до того момента, когда супруг почувствует себя в безопасности и расслабится. Ее с первой минуты постарались изолировать у гроба покойной императрицы, а появления на публике побаивались. Вот почему рассказу нашей героини о похоронных хлопотах стоит верить. А старательному умолчанию о ее роли при погребении в «Записках» Штелина — нет. Молодая императрица была именно там, где могла в этот момент заработать политические дивиденды. Вернее, сумела превратить скромное место на задворках новой придворной жизни в пьедестал.
«Императрица завоевывает все умы, — доносил Бретейль 15 февраля. — Никто более, чем она, не изъявляет усердия в исполнении заупокойных обрядов по усопшей государыне, кои в греческой религии многочисленны и исполнены суеверий, чему она, несомненно, про себя и смеется, но духовенство и народ весьма довольны ее поведением»[227].
Когда 25 января тело Елизаветы Петровны повезли из дворца в Петропавловскую крепость, Петр выкинул новое коленце. «Император в сей день был чрезмерно весел, — вспоминала Екатерина, — и посреди церемонии сей траурной сделал себе забаву: нарочно отстанет от везущего тело одра, пустя оного вперед сажен тридцать, потом изо всей силы добежит». Отчего камергеры, несшие шлейф траурной епанчи государя, выпустили его из рук. «И как ветром ее раздувало, то сие Петру III пуще забавно стало, и он повторил несколько раз сию шутку». Остальная процессия вынуждена была остановиться, поджидать отставших, ряды смешались, торжественная мрачность нарушилась. «О непристойном поведении сем произошли многие разговоры не в пользу особе императора»[228].
С этого дня толки о «безрассудных его поступках» перестали быть достоянием узкого круга придворных. Перенос тела видело множество зевак, и поступки нового монарха, мягко говоря, их удивили. Далеко не одни вельможи присутствовали и на ужине, состоявшемся в ночь после кончины Елизаветы. Описывая его, Екатерина не пожалела красок: «Стол поставлен был в куртажной галерее персон на полтораста и более, и галерея набита была зрителями. Многие, не нашед места за ужином, ходили так же около стола, в том числе Иван Иванович Шувалов… У Ивана же Ивановича Шувалова, хотя знаки отчаяния были на щеке, ибо видно было, как пяти пальцами кожа содрана была, но тут, за столом Петра III стоял, шутил и смеялся с ним… Множество дам также ужинали: многие из них так, как и я, были с расплаканными глазами, а многие из них тот же день, не быв в дружбе, между собою помирились»[229].
Наша героиня тонко поняла настроение окружающих: о Елизавете жалели, Петра боялись или презирали, ей же за общие со всеми слезы были благодарны. А вот Шувалов явно проиграл. У Петра не нашлось для вчерашнего фаворита места за столом. Более того, он сразу после смерти Елизаветы ухитрился нанести вельможе чувствительную обиду. «Удивительным был… поступок императора по отношению к камергеру Ивану Ивановичу Шувалову, — писал Шумахер. — Он вменил ему в вину, что тот сразу после кончины императрицы представил Петра дворцовой страже и отрекомендовал в качестве их будущего императора. Как будто-де не было ясно само собой, что внук Петра I и в течение многих лет официальный наследник престола должен принять власть вслед за императрицей Елизаветой!»[230]
В отличие от Петра Федоровича, Шуваловы понимали, что ситуация для подданных вовсе не так однозначна, как кажется на первый взгляд. Гвардейцам следует сказать, кто именно принял власть. Что и было сделано, но задело нового монарха. Впрочем, Петр зла не держал. Отругав Ивана Ивановича и не посадив его за стол, он тем не менее шутил с ним. А позднее, по отзыву Штелина, снизошел до дружеских утешений. Однажды, когда речь зашла о покойной Елизавете, у камергера невольно потекли слезы. «Выбрось из головы, Иван Иванович, чем была тебе императрица, — сказал ему Петр, — и будь уверен, что ты, ради ее памяти, найдешь и во мне друга»[231].
Профессору эта сцена показалась трогательной. А вот самому Шувалову должна была причинить боль. Ведь он ни при каких условиях не мог «выбросить из головы», чем была ему Елизавета. Задевая прежнего фаворита, император отталкивал от себя сильную придворную группировку. Мало того, что теперь Шуваловы должны были уступить первенство Воронцовым. Их ожидал полный уход со сцены. После смерти Петра Ивановича, которому император устроил великолепные похороны, более никто из клана не имел влияния на государя. Из союзников они стали просто слугами. Такое не забывают.
«Сии страдальцы»
Екатерине оставалось пока только ждать. Будущее представлялось ей в самых безрадостных тонах. «Тело императрицы еще обмывали, — сообщала она, — когда мне пришли сказать, что генерал-прокурор князь Шаховской отставлен по его прошению, а обер-прокурор сенатский Александр Иванович Глебов пожалован генерал-прокурором. То есть слывущий честнейшим тогда человеком отставлен, а бездельником слывущий и от уголовного следствия спасенный Петром Шуваловым сделан на его место генерал-прокурором»[232].
Назначенный вместо Я. П. Шаховского Глебов действительно не отличался чистотой рук, и связанные с его именем финансовые скандалы были хорошо известны. В 1760 году, служа генерал-кригскомиссаром, то есть отвечая за снабжение армии, он предложил производить перевод денег для русских войск за границу через английских купцов. Такая операция была чрезвычайно выгодна британской торговой диаспоре в Петербурге и тем чиновникам, которые ее обеспечили, так как часть суммы оседала на руках посредников. Дело остановил Шаховской, как «вредное для казны»[233]. Между тем наследник имел в происходящем свой интерес, поскольку близко сошелся с английскими купцами и брал у них взаймы.
Кроме того, Глебов занимался винным откупом в Иркутской провинции, где позволил себе громадные злоупотребления: иркутские купцы были разорены поборами. Обвиненных в незаконном винокурении брали под стражу и допрашивали с пристрастием, пока несчастные не откупались. Так, некий Бегович, заплатив 30 тысяч рублей, умер под пыткой. Жители Иркутска подали жалобу, Елизавета Петровна назначила следственную комиссию, но Глебова прикрыл П. И. Шувалов[234].
Именно Глебов, вероятно, не без санкции покровителя, заранее составил Манифест о кончине Елизаветы и вступлении на престол Петра III. Человек одаренный, сметливый, но безнравственный, он стал создателем многих важных бумаг нового царствования. Однако назначение генерал-прокурором — блюстителем законности — чиновника с подмоченной репутацией уже настраивало подданных на грядущее неправосудие. По русской пословице, поставили волка овец стеречь.
Такой поступок вкупе с характером нового императора не сулил добра. И тут Петр III удивил подданных, начав царствование с амнистии.
Освобождение бывших опальных происходило и при правительнице Анне Леопольдовне, и при вступлении на престол добросердечной Елизаветы. Однако петровская амнистия поражала именно по контрасту с характером нового государя — от него ждали жестокостей, а он оказывал милость. И это выбивало почву из-под ног его критиков.
Даже недоброжелательные к Петру Федоровичу дипломаты хвалили великодушие молодого государя. «Надо отдать ему справедливость в том, что его поведение по отношению к своим подданным заслуживает похвал, — писал 11 января 1762 года Бретейль. — Никто из придворных, близких к императрице, не пострадал и не был сослан в Сибирь. Мне не известны даже случаи ареста кого бы то ни было»[235]. Еще более восторгался Кейт, которому Петр III оказывал явное предпочтение перед другими послами. «Его императорское величество являет до сего дня во всех отношениях и делах своего правления толико мудрости и достоинства, кои не оставляют желать ничего лучшего, — писал британец 12 января. — Милостей, им дарованных, удостоились по большей части вполне заслуживающие их особы. Никто никоим образом не обижен, а то малое число, кои потеряли должности, уволены с наименьшим для них утеснением». Конечно, донесения, отправлявшиеся официальным путем, дипломаты писали с учетом перлюстрации, но Кейт и в дальнейшем крайне доброжелательно отзывался о Петре. Он позволил себе малую толику критики в его адрес только после переворота в большом письме, посвященном событиям 28 июня… Пока же все, что делал новый государь, было хорошо.
Амнистия относилась к числу бесспорно добрых начинаний. Уже вечером после кончины Елизаветы ее наследник приказал освободить Лестока, вскоре ко двору возвратились Миних и герцог Бирон. «Граф Лесток в свои семьдесят четыре года, из коих четырнадцать лет провел он в тюрьме и ссылке, обладает живостью молодого человека, — сообщал 12 февраля Кейт. — …Герцог Курляндский и супруга его возвращены из ссылки. Он явился ко двору в голубой ленте ордена Св. Андрея, пожалованной ему императором, который удостоил особого своего внимания все его семейство. Вчера после полудня я был у… фельдмаршала Миниха, который только что приехал в отменном здравии и ничуть не повредившихся умственных способностях, хотя и провел он более двадцати лет в ссылке, а вернее тюрьме»[236].
Надо признать, что на первых порах инициатива постоянно оставалась в руках у нового монарха, вернее у тех, кто подсказывал ему удачные шаги. Однако не следует думать, будто амнистий было так уж много. Ведь елизаветинское царствование отнюдь не изобиловало опальными. Еще С. М. Соловьев указывал на сложности в оценке числа амнистированных, поскольку перед самой кончиной Елизавета даровала свободу семнадцати тысячам преступников. Они, без сомнения, смешались с новой волной отпущенных на волю и часто принимались иностранными авторами за представителей собственно петровской амнистии. Около пятнадцати тысяч ссыльных находились в Сибири за корчемство, но и их освободила еще Елизавета. К моменту восшествия Екатерины II на престол в тюрьмах оставались около восьми тысяч колодников[237]. Если учесть, что в 1740-х годах прусские дипломаты сообщали Фридриху II о сорока тысячах преступников, которых императрица употребляла в работы, не желая прибегать к смертной казни, то напрашивается вывод, что число прощенных Петром III уголовников не могло быть особенно велико.
Характерно, что среди возвращенных из ссылки не оказалось канцлера Бестужева. Своих врагов Петр помнил хорошо. «Он подозревает его в тайном соумышлении с его супругой против него, — писал Штелин об ученике, — и ссылается в этом на покойную императрицу, которая предостерегала от него». Подданные же заметили, что из всех опальных прощения не удостоился единственный русский. Будь Петр дальновиднее, он не допустил бы подобного промаха. Но государь даже не задумался об этой тонкости. Его иностранное окружение тоже.
Штелин с умилением писал: «Император примиряет герцога Курляндского с фельдмаршалом Минихом: при первом их свидании при дворе они целуются, пожимают друг другу руки и должны обещать императору, что забудут… что было прежде между ними»[238]. Встреча старых врагов, готовых обняться на глазах государя, не оставила равнодушным и Кейта: «Сколь трогательно было видеть двух знаменитых мужей, переживших тяжкие и долгие несчастья и явившихся вновь в преклонных уже летах к тому самому двору, где когда-то играли они столь выдающиеся роли, да еще встретившихся друг с другом через долгие годы с таковым любезным обхождением и без какой-либо обоюдной враждебности, которая послужила когда-то причиною всех их несчастий»[239]. Однако утрата власти, двадцать лет ссылки и унижений — возможно ли такое забыть? Рюльер нарисовал психологически точную картину «примирения» между давними врагами: «С того момента как Миних связал Бирона, оспаривая у него верховную власть, в первый раз увиделись они в веселой и шумной толпе, окружавшей Петра III, и государь, созвав их, убеждал выпить вместе». В тот момент, когда старики подняли бокалы, императора отозвали, он осушил свой стакан и отошел. «Долговременные враги остались один против другого со стаканами в руках, не говоря ни слова, устремив глаза в ту сторону, куда скрылся император, и думая, что он о них забыл, пристально смотрели друг на друга, измеряли себя глазами и, отдав обратно полные стаканы, обратились друг к другу спиною»[240].
Каждый из «столпов» минувших царствований льстил себя надеждой сыграть роль при новом государе, зацепиться, оказаться нужным. На первых порах Бирону повезло меньше, чем Миниху. Судьба его герцогства была решена: Петр хотел отнять Курляндию у принца Саксонского дома и передать своему дяде Георгу. При первой встрече он сказал Бирону: «Утешьтесь и будьте уверены, что вы будете мною довольны. Если вы и не останетесь герцогом Курляндским, то все-таки будете хорошо пристроены».
Штелин без задней мысли передал простоту разговора императора с Бироном. То была простота хуже воровства. Судьба Миниха сложилась иначе. 79-летний фельдмаршал поставил своей целью сблизиться с Петром Федоровичем и остаться в его свите. Ему это удалось. «Видит батальон гвардии, идущий мимо его окон на часы, — записал профессор, — и марширующий по новому образцу, и, полный удивления, говорит: „Ей-богу, это для меня новость! Я никогда этого не мог достигнуть!“ При первом посещении делает императору комплимент этим признанием. Император берет его с собой в парад, где он дивится еще более»[241]. Нехитрый путь к августейшему сердцу! Победитель турок уверяет, что ему за всю жизнь не удалось добиться того, чего за месяц достиг молодой фрунтоман. А старый профессор записывает слова льстеца как искреннюю похвалу. Кто кого дурачит?
Кроме желания снова пробиться наверх, каждый из опальных хотел получить назад конфискованные богатства, что не всегда удавалось. Петр «возвратил из Сибири толпу тех несчастных, которыми в продолжение стольких лет старались населить ее пустыни, — писал Рюльер, — и его двор представлял редкое зрелище… Потеряв все во время несчастья, сии страдальцы требовали возвращения своих имуществ; им показывали огромные магазины, где, по обыкновению сей земли, хранились отобранные у них вещи — печальные остатки разрушенного благосостояния… В пыли искали они драгоценных своих приборов, бриллиантовых знаков отличия, даров, какими сами цари платили некогда им за верность, и часто после бесполезных исканий они узнавали их у любимцев последнего царствования»[242].
Имелись в виду не только приближенные Елизаветы, но и разом появившиеся многочисленные фавориты самого Петра III. Взаимные претензии семейств на драгоценности, столовое серебро, мебель, кареты, когда-то принадлежавшие одним и оказавшиеся в руках у других, порождали распри и дух постоянного беспокойства. А ведь были еще и земли… С этими дрязгами стороны обращались к императору. Он же не знал, как решать подобные дела. Дополнительная нервозность придворных, упреки и имущественные препирательства стали побочным эффектом такой, казалось бы, беспроигрышной меры, как амнистия. Петр об этом не подумал. А следовало бы.
«Разве вы были крепостные?»
Через три недели по кончине Елизаветы Петровны молодая императрица как обычно направлялась к телу слушать панихиду. В передней ей встретился князь Михаил Дашков, плакавший от радости. На расспросы он отвечал: «Государь достоин, дабы ему воздвигли штатую золотую; он всему дворянству дал вольность». Екатерина удивилась: «Разве вы были крепостные и вас продавали доныне?» В чем же эта вольность, недоумевала она. «И вышло, что в том, чтобы служить или не служить по воле всякого. Сие и прежде было, ибо шли в отставку».
Наша героиня лукавила. Она прекрасно поняла, что произошло. То был громовой удар. Одним указом Петр купил дворянские сердца. Муж ее подруги, еще недавно предлагавший возвести великую княгиню на престол, теперь рыдал от умиления и благословлял императора. Если самые верные колебались, что же остальные? Сторонникам Екатерины подрезали крылья. «У всех дворян велика была радость о данном дозволении служить или не служить, и на тот час совершенно позабыли, что предки их службою приобрели почести и имение, которым пользуются»[243], — с упреком заключала императрица.
Манифест о вольности дворянства 18 февраля 1762 года — ключевой акт царствования Петра III. Он открывал новую эпоху в жизни благородного сословия, пускал по иному руслу российское законодательство, которое отныне и на протяжении ста лет решало задачу «раскрепощения» различных социальных групп. И, наконец, ломал старую систему взаимных обязательств, в которой пребывали все слои русского общества по отношению друг к другу.
Эта «стройная неволя» распределяла тяжесть служения на всех. Долгие годы она во многом обеспечивала само существование страны в трудных хозяйственных условиях и в окружении хищных соседей. При том напряжении сил, которое характерно для Московского царства, дворянин обязан был служить столько, тогда и там, сколько, когда и где прикажет государь. Это был ратный труд, исключительно тяжелый и опасный, если принять во внимание постоянные войны. В награду дворянин получал земельный оклад — поместья с работавшими в них людьми. Крестьяне, в свою очередь, служили барину, коль скоро тот отдавал жизнь царю.
При этом важно помнить, что государь осознавался как верховный и единственный подлинный хозяин земли, все остальные на тех или иных условиях удерживали ее за собой. Поместья оставались у дворянского рода до тех пор, пока на царской службе на смену деду приходил отец, а отцу сын. Такая система при всех издержках — злоупотреблениях бар и крестьянских бунтах — воспринималась жителями страны как справедливая.
Разрыв одного из звеньев цепи грозил привести к нарушению всей совокупности обязательств. Раз дворянин ничего не должен царю, то крестьянин — дворянину. Но в таком случае, чья земля? Каждый отвечал на вопрос по-своему. Долговременное удерживание владений в одних руках приводило к тому, что помещики начинали считать землю своей собственностью. При этом сами они находились в вечной службе: не имели права распоряжаться собой, ехать куда хотят, оставаться дома, выбирать место и срок службы. В известном смысле дворянин был закрепощен за государем также, как крестьянин за дворянином.
В 1714 году «Указом о единонаследии» Петр I уравнял в правах боярскую вотчину, передававшуюся аристократами по наследству, и дворянское поместье, получаемое за службу. Тем самым был сделан шаг к превращению русского служилого слоя в благородное сословие по европейскому образцу, располагавшее землей на правах собственности. Однако служба оставалась по-прежнему пожизненной. Если офицер становился стар, увечен, болен, то его могли перевести с военной на гражданскую, отправить в провинцию, но продолжали использовать до последнего вздоха.
В таких условиях подчас некому было приглядывать за хозяйством, и постепенно дворяне выторговывали себе послабления. При Анне Иоанновне в 1736 году срок службы сократился до 25 лет. Обычай записывать в полк грудных младенцев, так часто высмеиваемый в отечественной литературе, имел целью не только выпустить недоросля из родительского гнезда уже офицером, но и дать ему возможность вернуться домой не глубоким стариком, а мужчиной средних лет, способным обзавестись семьей и заняться имением.
В царствование Елизаветы дворянство уже в голос роптало на свое подневольное положение и желало иметь те же права, которые отличали благородное сословие европейских стран. Проекты зрели и в недрах семейств Воронцовых и Шуваловых, но медлительная императрица не решилась их одобрить. Вместе с тем Елизавета и не «зажимала» дворянство так, как могла бы, а потому положение казалось терпимым — де-факто дворяне пользовались правами, каких не имели де-юре.
Со вступлением на престол нового монарха ситуация изменилась. Приближенные боялись его крутого нрава, и настало время зафиксировать в законе права, которые он мог нарушить. Это и было искомое ограничение власти Петра III некими «формами», только не в сфере управления, а в области социальных привилегий. И пришло оно не через Никиту Панина и Сенат, а посредством «дворовых» ухищрений было навязано молодому монарху семейством фаворитки.
Два совершенно разных источника называют имя отца Елизаветы Воронцовой — Романа Илларионовича — как главного подателя мысли. «Воронцов и генерал-прокурор (Глебов. — О. Е.) думали великое дело делать, доложа государю, дабы дать волю дворянству»[244], — писала Екатерина.
Князь М. М. Щербатов в памфлете «О повреждении нравов в России» нарисовал картину, способную обесценить и не такой важный документ, как Манифест о вольности дворянства. Он тоже поминал Романа Воронцова, хотя называл другого исполнителя — Дмитрия Васильевича Волкова. «Примечательна для России сия ночь, — писал памфлетист. — …Петр Третий, дабы скрыть от графини Елисаветы Романовны, что он всю ночь будет веселиться с новопривозной [дамой], сказал при ней Волкову, что он имеет с ним всю ночь препроводить в исполнении известного им важного дела в рассуждении благоустройства государства. Ночь пришла, государь пошел веселиться с княгинею Куракиною, сказав Волкову, чтобы он к завтрею какое знатное узаконение написал, и был заперт в пустую комнату с дацкою собакою. Волков, не зная ни причины, ни намерения государского, не знал, о чем зачать писать, а писать надобно. Но как он был человек догадливый, то вспомнил нередкие вытвержения государю от графа Романа Ларионовича Воронцова о вольности дворянства, седши, написал манифест о сем. По утру его из заключения выпустили, и манифест был государем опробован и обнародован»[245].
После такой карикатуры отпадает всякое желание воспринимать законодательный акт серьезно. Однако прежде всего напомним, что Щербатов писал памфлет, а значит, намеренно приводил слышанные им анекдоты, в резких чертах рисующие царствование Петра. Во-вторых, никто не заставлял императора на другой день после куртуазного приключения подписывать столь важный документ, если его содержание не было предварительно согласовано. И наконец, Петр заявил о желании даровать русскому дворянству новые права еще за месяц до обнародования Манифеста —17 января 1762 года.
«В прошлый вторник, — писал Кейт, — явился он с великою пышностью в Сенат и объявил, что отныне дворянство российское свободно и во всем уравнивается с дворянством всей Европы, в том числе и касательно военной службы, в каковую может поступать по собственному своему желанию без какого-либо принуждения… Нетрудно представить, с каким удивлением и восторгом воспринята была неожиданная сия милость»[246].
Именно в Сенате от лица всех собравшихся Глебов предложил отлить в честь императора золотую статую, но тот благоразумно отказался.
Манифест заложил основу тому, что позднее можно было бы назвать гражданскими правами. Пока они касались одного сословия и впечатляли только на фоне прежней пустоты. В Манифесте подчеркивалось, что в прежние, варварские, времена дворян приходилось принуждать к исполнению обязанностей силой. Теперь же успехи просвещения сделали благородное сословие столь сознательным, что оно само будет добровольно содействовать государству. В мирное время офицеры могли выходить в отставку, испросив разрешение императора. Не достигшим офицерского чина полагалось отслужить 12 лет, после чего они также получали право оставлять службу. Вводился свободный выезд за границу при условии возвращения по первому требованию. В противном случае эмигрантам угрожали конфискацией имений. Перечисленные права провозглашались вечными, соблюдение их вменялось в обязанности преемникам Петра III.
Исследователи единодушны, признавая, что Манифест был далек от совершенства, написан торопливо, на скорую руку и с юридической точки зрения оставлял желать много лучшего. Одни называют автором проекта Глебова, другие Волкова. Но куда важнее для нашей темы, что у Манифеста имелся протограф, не принадлежавший царствованию Петра III. Он возник в недрах елизаветинского двора и не был реализован, как многое другое.
А. Б. Каменский справедливо обратил внимание на то, что еще с 1754 года в России работала комиссия по составлению нового Уложения. Ее создали по инициативе Петра Шувалова, идеи которого легли в основу проекта Уложения. В последнем уже имелись те нормы, которые позднее были зафиксированы Манифестом 18 февраля 1762 года[247]. Как один из ближайших сотрудников Шувалова новый генерал-прокурор Глебов не мог пройти мимо такого сокровища и проталкивал идеи бывшего покровителя вкупе со своими собственными. Несомненно и влияние клана Воронцовых, человеком которых был Волков. Однако в Манифест оказались не включены особенно близкие этому семейству требования — монопольное право дворянства владеть землей с крепостными и свобода от телесных наказаний. Поэтому следует согласиться с И. де Мадариагой, считавшей, что текст нового закона стал компромиссным[248].
Молодой государь спешил дать ход всему, с чем так долго медлила его тетка. Он противопоставлял свою решительность ее колебаниям и бездействию. Манифест стал первым, многообещающим шагом на этом пути. Не оценить такой дар дворянство не могло. Только Екатерина и Щербатов, обычно ни в чем не согласные друг с другом, не считали, что ломка старой системы безусловно хороша. Князь исходил из того, что все с течением времени «повреждается», древняя простота нравов исчезает, знатность заменяется выслугой, а нововведения только разлагают организм державы. Екатерина видела картину иначе. Манифест, подписанный Петром, не учитывал государственного интереса. Он был чисто дворянским — помещики приобретали все права и отказывались от любых обязанностей.
Со стороны власти — голая уступка без малейшей выгоды. Елизавета не зря медлила с принятием подобного проекта. Она взвешивала, прикидывала, вела мысленный торг. Петр подмахнул сразу. Да, ему можно было отлить золотую статую, но это не отменяло очевидного факта: целая система взаимных обязательств, которыми были связаны сословия, пришла в движение. Наименьшее, что из этого могло получиться, — новые волнения крестьян.
Они не заставили себя долго ждать. Среди крепостных распространились слухи, будто свобода дворян означает и свободу земледельцев. В июне правительственные войска подавили бунты в Тверском и Клинском уездах. 19 июня император обратился к подданным с новым Манифестом: «С великим гневом и негодованием уведомились мы, что некоторых помещиков крестьяне, будучи прельщены и ослеплены рассеянными от непотребных людей ложными слухами, отложились от должного помещикам своим повиновения… Мы твердо уверены, что такие ложные слухи сами собой истребятся»[249]. Помещикам было обещано «ненарушимо сохранять» их «имения и владения», а крестьянам предписывалось «безмолвное повиновение». Тем не менее при восшествии Екатерины на престол «заводские и монастырские крестьяне… были в явном непослушании властей, и к ним начали присоединяться местами и помещичьи». Действия последних во многом и были спровоцированы «ложными слухами»[250].
«Русские старшего поколения, — доносил Бретейль, — не одобряют того, что так радует молодежь. Они считают, что дворяне будут злоупотреблять свободой больше, чем ранее они злоупотребляли своей властью над крепостными, и что малейшее волнение в империи превратит ее в Польшу»[251]. Одним из тех, кто высказывал резкое недовольство новым законом, был отец А. В. Суворова — генерал-поручик Василий Иванович Суворов, принявший участие в перевороте на стороне Екатерины и наделенный ее большим личным доверием.
Даже самых образованных и по-европейски мыслящих вельмож прежнего царствования пугала перспектива широкого оттока дворян со службы в отставку. В проекте «Фундаментальных законов», который Иван Шувалов подал Елизавете, речь шла о двадцати шести годах службы, считая от начала действительной — то есть не ранее реального поступления недоросля в полк[252]. Предоставление дворянам абсолютного права служить или не служить грозило массовым уходом офицеров и чиновников и, как следствие, коллапсом государственного аппарата. В нем просто некому стало бы работать. Грядущее отчасти подтвердило печальные прогнозы — на 1762–1763 годы пал пик увольнений из армии. Екатерине пришлось очень постараться, чтобы выправить положение и снова сделать службу престижной. А потому она кипела и негодовала: при издании Манифеста следовало действовать крайне осторожно, постепенно, шаг за шагом освобождая места и принимая на службу новых кандидатов. Но постепенно Петр не умел…
«Ненавистное выражение»
Всего через три дня после первого Петр нанес супруге и сторонникам ее прихода к власти второй сокрушительный удар. 21 февраля 1762 года была упразднена Тайная канцелярия — ненавистный сыск, который даже не в насмешку именовали инквизицией. На этот раз в основу указа не было положено прежних «наработок» елизаветинского правительства. Однако и назвать его совсем новым, внезапно зародившимся в голове молодого императора нельзя. Тайная канцелярия вызывала общий страх, раздражение и желание поскорее избавиться от нее. Уничтожая подобный орган, государь мог вызвать только новый всплеск любви.
«Император… оказывает величайшие услуги всему своему народу, — доносил Кейт. — Последним указом он упразднил Тайную канцелярию, иначе говоря государственную инквизицию. Сие есть вожделеннейшее благо, какового могла бы только желать сия нация»[253].
Был ли этот шаг со стороны Петра продиктован дальновидным стремлением завоевать сердца подданных? Вряд ли. Ведь он каждый день совершал множество поступков, способных по капле истощить самую горячую привязанность. Скорее, его собственные чувства к Тайной канцелярии были солидарны с чувствами остального общества. В бытность великим князем Петр долгие годы оставался под надзором, о нем наушничали и доносили государыне. Штелин свидетельствовал, что его ученик говорил о Тайной канцелярии с неприязнью еще будучи наследником. На этот раз Екатерина подтверждала слова профессора: инквизиция вызывала у великокняжеской четы отвращение, и потому им трудно было сблизиться с Александром Шуваловым после его назначения к малому двору.
Решение уничтожить тайный сыск, ведавший делами об «оскорблении величества», измене и бунте, было во многом чисто эмоциональным, искренним. И потому особенно дорогим. Как и предшествующий Манифест, новый начинался ссылкой на варварские нравы, побудившие Петра Великого создать грозный орган. Но теперь, констатировалось в законе, надобность в нем отпала. «Как Тайная канцелярия всегда оставалась в своей силе, то злым, подлым и бездельным людям подавался способ» безнаказанно клеветать на ближнего, «обносить своих начальников и неприятелей», а действительно виновным новыми измышлениями оттягивать «заслуженные ими казни и наказания». «Тайная розыскных дел канцелярия уничтожается отныне навсегда, — говорилось в Манифесте, — а дела оной имеют быть взяты в Сенат, но за печатью к вечному забвению в архив положатся».
Трудно не оценить значение подобного указа. Не столько политическое, сколько нравственное. Он менял климат в обществе, открыто порицал доносительство, называл вещи своими именами. И хотя для усвоения урока потребовались годы стабильного, «кроткого», как тогда говорили, царствования, уважение монархом законов — все же шаг был сделан. «Ненавистное выражение, а именно „слово и дело“, не долженствует отныне значить ничего, и мы запрещаем: не употреблять оного никому»[254].
Тем не менее донос по важным государственным преступлениям не уничтожался вовсе. Доноситель должен был обратиться «в ближайшее судебное место или к ближайшему же воинскому командиру». Сведения передавались письменно, за исключением тех случаев, когда доноситель был неграмотен. Если его рассказ оказывался ложью, доносителя два дня держали под арестом на хлебе и воде, затем отпускали. Подобной мягкости прежняя система не знала. Подчас в Тайной канцелярии содержались и истец, и оговоренный, и свидетели. Раз попав в тенета запутанного следствия, никто не мог поручиться, что выйдет потом на волю.
Однако политический сыск не упразднялся полностью. Персонал канцелярии переводился в особый департамент Сената с отделением в Москве[255]. Вместо самостоятельной Тайной канцелярии возникала подчиненная Сенату Тайная экспедиция. Ее создание провозглашалось, но в реальности она была сформирована уже после смерти Петра III. И вот здесь мы натыкаемся на очень важный факт, мимо которого пройти нельзя. При действующей Тайной канцелярии, каким бы отталкивающим и малоэффективным учреждением она ни была (большинство доносов, по мнению исследователей, совершалось в пьяном виде и имело целью сведение личных счетов[256]), Елизавета Петровна царствовала спокойно, а немногие попытки свергнуть ее постигла неудача. Петр III, упразднив систему, не удержался на троне более полугода. Крайне наивно полагать, будто монарх мог сохранить корону только при помощи репрессивного аппарата и доносительства. Но полицейский сектор — важная часть государственной машины. В том числе в виде тайной полиции, функции которой не совпадают с функциями полиции гражданской. Передавая дела ненавистной канцелярии в Сенат, Петр как будто понимал это и не прощался с тайным сыском вовсе. Но любая перестройка в жизни учреждения на время парализует его деятельность. Благодаря этому сложилась крайне благоприятная для заговорщиков ситуация. Мятеж против императора зрел почти открыто.
Однако сразу после провозглашения двух важнейших манифестов в обществе всколыхнулась волна благодарности к молодому государю, и Петру просто некого было опасаться. «Ныне все дела исполняются быстрее, нежели прежде, — доносил Кейт 26 января. — Император сам во все вникает и в большинстве случаев делает необходимые распоряжения, выслушав суждения департаментских начальников»[257].
Штелин не уставал умиляться на ученика: «Каждое утро он вставал в семь часов и во время одевания отдавал генерал- и флигель-адъютантам свои повеления на целый день. В 8 часов сидел в своем кабинете, и тогда к нему являлись с докладами сперва генерал-прокурор Сената, и так один за другим президенты Адмиралтейской и Военной коллегий: он разрешал и подписывал их доклады до 11 часов. Тогда отправлялся он на дворцовую площадь на смотр парада при смене гвардии, а оттуда в час к обеду. Почти каждый день по утрам приходила к нему в кабинет императрица, но к обеду никогда. При обеденном столе его участвовали… лица, с которыми он хотел подробно говорить»[258].
Описание Штелина выглядит настораживающе гладким. Что в нем опущено? Обратим внимание: Екатерина никогда не оставалась к обеду. По ее словам, муж вставал из-за стола «без ног» и «без языка». Это суждение подтверждается многими свидетелями. Например, А. Т. Болотовым, в тот момент полицейским чиновником, часто посещавшим дворец: «Не успеют бывало сесть за стол, как загремят рюмки и покалы и столь прилежно, что, ставши из-за стола, сделаются иногда все как маленькие ребяточки, и начнут шуметь, кричать, хохотать, говорить нескладицы и несообразности сущие… у иного наконец и сил не было выйтить и сесть в линею, а гренадеры выносили туда на руках своих»[259]. Это высказывание незаинтересованного лица мало чем отличается от слов пристрастного Бретейля, доносившего 18 января: «Император ведет самый постыдный образ жизни. Целые вечера просиживает он за трубкой и кружкой пива, иногда до пяти или шести часов утра, и почти всегда мертвецки пьян»[260].
Таким образом, во второй половине дня Петр работать уже не мог. Почти каждый вечер он посещал театр, потом уединялся с женщинами. А утром трудился с 8 до 11 — три часа. Затем два часа тратил на параде. Подобную работу сложно назвать «неутомимой». Следует признать, что распорядок дня, нарисованный профессором, изобилует белыми пятнами как раз там, где должна была бы помещаться негативная информация.
Однако без дополнительной «порции» времени, потраченного на государственные дела, невозможно объяснить интенсивный график работы правительства. Судя по числу законодательных актов, оно трудилось, как в лихорадке. Январь — 39 принятых законов, февраль — 23, март — 35, апрель — 32, май — 33, июнь 25[261]. А ведь были еще и устные распоряжения, и вал сугубо делопроизводственных бумаг, связанных с пожалованиями и решением имущественных вопросов. Казалось бы, такая нагрузка говорит сама за себя. Ведь Петр должен был хотя бы прочитывать то, что подписывал.
Ларчик открывался просто. Учрежденный в мае Совет при императоре получил право публиковать указы от имени Петра III[262]. Позволим себе предположить, что основной удар законодательной деятельности приняли на себя сановники, вошедшие в этот орган и еще прежде подготавливавшие для государя проекты реформ.
Сложилась любопытная ситуация: пьяным императора наблюдали только приближенные, а февральские благодеяния были налицо. «Так как все видели, как был неутомим этот молодой монарх в самых важных делах, — заключал Штелин, — как быстро и заботливо он действовал с утра и почти целый день в первые месяцы своего правления… то возлагали великую надежду на его царствование и все вообще полюбили его».
На таком фоне у Екатерины почти не оставалось шансов. Недаром в первое время она была крайне подавлена. На второй день царствования, когда ей сказали, что отправлены курьеры за ссыльными и в Берлин, она ответила только: «Дела поспешно идут»[263].
«Православными владычествовать восхотел»
Дела двигались действительно быстро, и вскоре картина резко изменилась. Император совершил искомый промах. Между первым и вторым знаменательными манифестами поместился сенатский указ 19 февраля о секуляризации церковных земель. Этот акт весьма осмотрительно исходил не от императора, а от высшего правительственного органа и как бы завершал начинание Елизаветы 1757 года.
Непосредственным разработчиком указа стал Глебов, которому не откажешь в политической осторожности. Он сумел не подставить имя государя под удар критики, а, напротив, прикрыть авторитетом благочестивой тетушки. Причем поместил закон в обрамлении двух важнейших актов, которыми Петр даровал подданным новые свободы, а не отнимал имущество. На волне общей благодарности указ не вызвал особых толков, ибо дело было далеко не новое и, как все понимали, неизбежное.
Церковь обладала большими земельными богатствами, на которые время от времени пытались посягнуть и Петр I, и Анна Иоанновна, и даже богобоязненная Елизавета. Благо поводы имелись в изобилии. С середины XVIII века монастырские крестьяне находились в беспрестанных волнениях и успешно действовали даже против правительственных войск. На снаряжение военных экспедиций против церковных крестьян тратились немалые средства. К концу царствования Елизаветы сложилась ситуация, когда самостоятельно удерживать за собой земли монастыри не могли, а правительство готово было этим воспользоваться. Истощенная казна требовала пополнения, особенно в годы Семилетней войны, когда содержание армии за границей влетало в копеечку.
30 сентября 1757 года Елизавета Петровна на заседании Конференции распорядилась: назначить в церковные имения офицеров-управителей; приравнять повинности монастырских крестьян к повинностям крестьян помещичьих (первые были выше); ввести штатное содержание монастырей — установить для каждой обители определенное число монахов и отпускаемых на них средств; взыскивать с духовных вотчин деньги на содержание отставных офицеров и солдат и учредить на эти деньги инвалидные дома[264].
По сути это была программа секуляризации. В позднейших документах и Петра III, и Екатерины II содержались сходные требования. Но Елизавета не перевела монастырские и архиерейские земли в казну, а только изъяла их из управления Церкви. Указом 19 февраля дело было доведено до логического конца. Создавалось специальное учреждение — Коллегия экономии — для управления бывшими церковными имениями. В сами имения отправились государственные управляющие. Крестьяне (более двух миллионов душ) освобождались от барщины и обязаны были платить казенный оброк. В их владении оказалась земельная запашка, на которой они прежде работали в пользу монастырей, что существенно увеличило размер наделов. Само по себе это улучшало положение земледельцев, а разбогатевшие могли свободнее записываться в купцы и перебираться в города[265].
Штелин подчеркивал прямую связь между замыслами Петра I и секуляризацией, к которой приступил его ученик: «Император… трудится над проектом Петра Великого об отобрании монастырских поместий и о назначении особенно Экономической коллегии для управления ими. Генерал-прокурор Александр Иванович Глебов сочиняет об этом Манифест… Он берет этот Манифест к себе в кабинет, чтобы еще рассмотреть его и дополнить замечаниями»[266].
Если бы Петр Федорович ограничился документом, сочиненным для него Глебовым, то при известном ропоте духовенства он все-таки не вызвал бы религиозной ненависти населения. Но молодой император не мог не перегнуть палку. Секуляризация земель превратилась в изъятие церковных ценностей. Армейские офицеры, присылавшиеся управляющими, врывались в монашеские кельи и дома священников и забирали оттуда ценности — золотые сосуды, кресты с драгоценными камнями, оклады богослужебных книг… 15 апреля последовал указ, запрещавший подобную практику[267]. Но она уже успела серьезно разозлить население.
Теперь каждый шаг государя в духовной сфере воспринимался как заведомое зло. Если 9 марта Кейт сообщал вполне нейтральные сведения: «Император присоединил к коронным землям монастырские владения, а взамен назначил для архиепископов и игуменов определенное жалование с присовокуплением денег на содержание монахов», — то к началу мая британскому послу пришлось признать, что Петр возбудил «превеликое неудовольствие по всей империи». А 7 июня он уточнял: «Жалобы по поводу объединения коронных и монастырских земель всё усиливаются, особливо после того, как император повелел брать в военную службу сыновей священников. Все духовенство, и белое, и монахи, единодушны в своем недовольстве»[268].
Не было ни одного слоя в духовенстве, который новый государь не обидел бы чем-нибудь. У крупных иерархов забрали земли, сельские батюшки испугались солдатчины для детей, столичным священникам запретили устраивать домовые церкви в богатых усадьбах, чем лишили серьезного дохода. А ведь все эти люди имели возможность возмущать прихожан на проповедях.
Рюльер отлично разобрался в ситуации: «Петр III приближал свое падение поступками, в основании своем добрыми; они были гибельны для него по его безвременной торопливости и впоследствии совершены с успехом и славою его супругою… Небесполезно было для блага государства отнять у духовенства несметные богатства, и Екатерина, по смерти его, привлекши на свою сторону некоторых главнейших [иерархов] и одарив их особенными пансионами… без труда осуществила сию опасную реформу. Но Петр III своенравием чистого деспотизма, приказав сие исполнить, возмутил суеверный народ и духовенство… Оно возбуждало их (прихожан. — О. Е.) к мятежу и льстило их молитвами и отпущением грехов»[269].
И. де Мадариага справедливо замечает, что молодой император, будто нарочно, стремился отвратить от себя целые влиятельные социальные группы[270]. Мемуары Болотова показывают, что в обществе намерения Петра воспринимались однозначно как желание заменить православие лютеранством: «Он вознамерился было переменить совершенно религию нашу, к которой оказывал особенное презрение. Он призвал первоприсутствующего [Святейшего синода] архиерея новгородского Дмитрия Сеченова и приказал ему, чтобы в церквях оставлены были иконы только Спасителя и Богородицы, а других бы не было, также, чтоб священники обрили бороды и носили платье, как иностранные пасторы. Нельзя изобразить, как изумился этому приказанию архиепископ Дмитрий… и, усматривая ясно, что государь имел намерение переменить православие на лютеранство, он принужден был объявить волю государеву знатнейшему духовенству, и хотя дело на этом до времени остановилось, однако произвело во всем духовенстве сильное неудовольствие, содействовавшее потом очень много перевороту»[271].
Об этом приказе сообщил в Версаль в шифрованном донесении 28 мая Бретейль[272]. Архиепископ осудил намерения царя, ему пригрозили ссылкой в Сибирь и даже удалили на время из столицы, но вскоре вновь вернули, чтобы не вызвать волнений в народе[273]. Любопытно, что все эти меры Штелин назвал «веротерпимостью»[274].
Однако не стоит думать, что все шаги Петра в духовной сфере клонились к оскорблению православных. Напротив, начал он действительно с просвещенческих мер веротерпимости: 7 февраля, еще до секуляризации, последовал сенатский же указ «О защите раскольников от чинимых им обид и притеснений». Штрафы, взимаемые со старообрядцев, снизились, им стало гораздо легче возвращаться в Россию[275]. Этот акт предварял екатерининскую политику в данной сфере.
Из записей Штелина видно, что император часто присутствовал на богослужениях в католических и лютеранских храмах. Были выделены средства на строительство кирхи. Последнее разозлило петербуржцев. Шумахер сообщал: «Император самым чувствительным образом задел духовенство, конфискуя церковное имущество… Когда же наконец распространился слух, что император собирается сделать лейб-гвардией несколько своих голштинских полков и один прусский и выстроить для них в Санкт-Петербурге лютеранскую кирху напротив русской церкви св. Исаакия, сломанной за ее ветхостью, то их (гвардейцев. — О. Е.) ненависть к нему достигла крайности»[276].
Здесь уже все недовольства слились воедино: церковь ломают, кирху строят, русских в гвардии заменяют немцами… Создается впечатление, что единственные, к кому Петр не желал быть веротерпим, — его православные подданные. А. Б. Каменский точно заметил: «Символом всего того, что он так не любил в России, стала для Петра III православная церковь»[277].
Таким образом, наследник Елизаветы не принимал самую сердцевину своей новой родины, ее душу. А значит, не мог быть принят сам. Шутовство и кривляние императора в храме воспринималось прихожанами как признак одержимости. Строить рожи, глядя на иконы, а потом приказать вынести их — достойное деяние для православного царя!
Настораживал и упорный отказ от миропомазания. По христианскому учению, через миропомазание на правителя нисходят особые дары Святого Духа, поэтому миропомазание вовсе не тождественно коронации и в глазах верующих не может быть заменено ею. Петр считал такой подход суеверием, а в результате не признавался значительным числом подданных как в полной мере законный государь. Недаром Екатерина приняла миропомазание в первый же день переворота — 28 июня, после присяги полков.
Петр отвергал значение обрядности. Здесь, как и во многом другом, ему дурную службу сослужил пример Фридриха II. Последний тоже не принял миропомазания перед коронацией. Чем вызвал осуждение со стороны благочестивой Елизаветы Петровны.
Кроме того, Фридрих был известным масоном. В частности, он являлся великим мастером ложи «Трех Глобусов», которой подчинялась ложа «Трех Корон» в Кёнигсберге, куда вступили многие русские офицеры. Таинственная атмосфера, в которой проводились орденские работы, внушала сторонним наблюдателям подозрения. Поэтому Петру III очень повредили слухи о масонской ложе, заседавшей в Ораниенбауме. По некоторым данным, император оказался посвящен еще за границей, то есть совсем мальчиком. Ложа «Постоянство», членом которой был также Д. В. Волков, находилась в загородной резиденции и, вероятно, совпадала с иностранной петербургской ложей под тем же названием[278]. Подражая своему кумиру, Петр III объявил себя покровителем «вольных каменщиков», подарил «Постоянству» дом в Петербурге и сам руководил масонскими работами[279]. Нетрудно догадаться, сколько толков это вызывало у простонародья.
25 июня 1762 года, всего за три дня до переворота, вышел новый императорский указ, уравнивавший в правах все религии[280]. В отличие от предыдущих — сенатских — этот акт имел более высокий статус, поскольку был издан самим государем. Подобный шаг в просвещенческом ключе можно было бы назвать проявлением веротерпимости, если бы не волна религиозного озлобления, которую он вызвал и которую нетрудно было предвидеть. Религиозная сфера, наряду с национальной, — одна из самых чувствительных. В ней легко наломать дров из самых лучших побуждений. Но трудно потом потушить взаимную вражду.
Петр попытался лишить православие, исповедуемое подавляющим большинством жителей страны, господствующего положения. Вернее, издал соответствующий указ, исполнить который в реальности было невозможно. Именно о таком поведении мужа Екатерина писала в Манифесте 6 июля: «Он возмечтал о своей власти монаршей, якобы она не от Бога… Не имев, как видно, он в сердце своем следов Веры Православной Греческой (хотя в том довольно и наставляем был), коснулся перво всего древнее православие в народе искоренить своим самовластием… Потом начал уже помышлять о разорении самих церквей, и уже некоторые и повелел было разорить самим делом… И сим образом православными владычествовать восхотел, начав истреблять страх Божий»[281].
Так Петр Федорович постепенно стал в глазах подданных «врагом рода человеческого», а благочестивая императрица — защитницей веры.
«Царство безумия»
Особое раздражение подданных вызвал приезд многочисленных родственников Петра III. Позднее, когда Екатерина II станет императрицей, она не пригласит в Петербург никого из своей родни. Было неразумно лишний раз напоминать об иностранном происхождении, а пример покойного мужа выглядел слишком красноречиво.
Буквально на другой день по восшествии Петр послал курьера за своим двоюродным дядей принцем Георгом Людвигом Голштинским, генералом прусской армии. Молодой император прочил его в герцоги Курляндские. Когда-то именно Георг Людвиг сватался к юной Екатерине. Ныне принц был женат, имел маленького сына, отличался крутым нравом и чисто семейной склонностью к фрунту. Петр проявлял к нему чрезвычайную привязанность: ведь этот человек досконально изучил прусскую школу муштры. Штелин, склонный в дурных поступках ученика видеть стороннее влияние, отмечал, что после приезда принца Георга Петр стал меньше заниматься государственными делами, слишком много времени «употребляя на военное дело, в особенности на его внешнюю сторону: перемену формы гвардейских и полевых полков»[282].
Принц Георг был пожалован в фельдмаршалы и полковники лейб-гвардии Конного полка с содержанием 48 тысяч в год. Его дурное обращение с подчиненными немало способствовало перевороту. Другой дядя Петер Август Фридрих Голштейн-Бокский также получил фельдмаршальский чин и стал генерал-губернатором Петербурга, командовавшим всеми полевыми и гарнизонными полками, расквартированными в столице, Финляндии, Ревеле, Эстляндии и Нарве[283]. Кроме мужской половины Голштинского дома, имелась и женская, которую Петр также спешил облагодетельствовать. «В новом дворце император поместил молодую принцессу Голштейн-Бок, дочь фельдмаршала, — писал Штелин, — …она получила орден Св. Екатерины, также и молодая вдова… принца Карла Голштейн-Бок… и еще супруга принца Георгия. Остальные принцессы и родственницы Голштинского дома, жившие тогда в Кёнигсберге… должны были также получить пенсию, но это не исполнилось по случаю его (Петра. — О. Е.) кратковременного царствования».
Эти люди плотным кольцом окружили молодого императора, оттесняя тех из русских советников, кто на первых порах поддерживал Петра. Они претендовали на влияние и крупные денежные пожалования, а сам государь охотно шел им навстречу. Многочисленные дядья, их жены и дети создавали у Петра иллюзию долгожданной семьи, огромной фамилии. Теперь он мог им благодетельствовать, выступать в роли сильного и щедрого покровителя.
А ведь в России были лица, которые со своей стороны претендовали на роль «семьи императора». Речь идет о родственниках его официальной фаворитки. Поначалу Петр сделал Воронцовым щедрые дары: благодаря супруге канцлера — двоюродной сестре покойной государыни — он именовал их родственниками императрицы, то есть подчеркивал близость к августейшей фамилии. Отец фаворитки Роман Илларионович получил графский титул. Воронцовы заметно потеснили Шуваловых и готовились, после брака императора с Елизаветой Романовной, навсегда утвердить за собой первенствующее место.
Петр поначалу поощрял эти надежды. Во время первого же приезда Дашковой ко двору 30 декабря 1761 года он сообщил ей, что намерен сделать ее сестру императрицей. «Когда я вошла в гостиную, — вспоминала княгиня, — Петр III сказал мне нечто, что относилось к моей сестре и было так нелепо, что мне не хочется повторять его слова. Я притворилась, что не поняла их»[284]. Однако государь был слишком ветрен и влюбчив, чтобы долго наделять одну Елизавету Романовну своим вниманием, когда все женщины двора были к его услугам. Он не отказывался от женитьбы, но считал себя вправе повеселиться на стороне. «Император еще более умножил знаки внимания к девице Воронцовой, — доносил 11 января Бретейль. — Он назначил ее старшей фрейлиной, у нее собственные апартаменты во дворце и она пользуется всевозможными отличиями… Императрица оказалась в прежестоком положении и подвергается ничуть не скрываемому дурному обращению. Она с превеликим трудом переносит таковое отношение к ней императора и надменность девицы Воронцовой».
Последняя уже примеряла корону, как вдруг… «Порыв ревности девицы Воронцовой за ужином у великого канцлера, — сообщал Бретейль 15 февраля, — послужил причиной для ссоры ее с государем в присутствии многочисленных особ и самой императрицы. Желчность упреков сей девицы вкупе с выпитым вином настолько рассердили императора, что он в два часа ночи велел препроводить ее в дом отца. Пока исполняли сей приказ, к нему опять возвратилась вся нежность его чувствований, и в пять часов все было уже снова спокойно. Однако четыре дня назад случилась еще более жаркая сцена при таких выражениях с обеих сторон, каковые и на наших рынках редко услышишь. Досада императора не проходит, равно как и знаки его внимания к девице Шаликовой, тоже придворной фрейлине»[285].
Минутную неверность императора еще можно было перенести. Но каждая новая пассия метила в фаворитки и всячески подчеркивала оказанное ей внимание. Щербатов нарисовал характерную сценку. «Княгиня Елена Степановна Куракина была привождена к нему (Петру III. — О. Е.) на ночь Львом Александровичем Нарышкиным, и… бесстыдство ее было таково, что когда по ночевании он ее отвозил домой по утру рано и хотел, для сохранения чести ее, и более чтобы не учинилось известно сие графине Елизавете Романовне, закрывши гардины ехать, она, напротив того, открывая гардины, хотела всем показать, что она с государем ночь провела»[286].
Такие сцены, конечно, не прибавляли спокойствия дворцовой жизни и не укрепляли положение клана Воронцовых. В любую минуту фаворитка из-за своей необузданной ревности могла потерять благоволение государя. Видимо, родные объяснили девице, что в надежде на будущее полезнее смириться с мимолетными изменами императора. Судя по поведению «Романовны» в летних резиденциях, куда Петр уезжал в окружении целого букета красавиц, она научилась сдерживаться и даже стала чем-то вроде предводительницы этого летучего отряда. Первой, но не единственной из любовниц.
Тем временем у родных дела складывались совсем не так хорошо, как мечталось. Да, Петр давал Воронцовым ответственные поручения. Так, Роман Илларионович возглавил комиссию по составлению нового Уложения, но неизменно встречал здравые возражения императора при попытке внести в проект пункты о монополии дворянства на владение землей и содержание промышленных предприятий[287]. Брат фаворитки Александр Романович был назначен полномочным министром в Лондон. По дороге молодой камергер должен был заехать в Пруссию, и царь писал Фридриху II: «Он умен и полон усердия и доброй воли, и я думаю, что он сделает все, чтобы хорошо исполнить мои приказания»[288]. Вот ключевое слово. Петр хотел приказывать, а не советоваться.
Хитрец-канцлер, хворавший, пока Елизавета была при смерти, вернулся ко двору только 8 января. Когда переход власти в руки Петра совершился без ожидавшихся эксцессов, в болезни Михаила Илларионовича наступил «спасительный перелом»[289]. Однако тут ему предстояло узнать о курьере, которого император отправил в Берлин еще 25 декабря, едва Елизавета испустила дух. Старый дипломат был потрясен, он попытался отговорить Петра от немедленного мира с Пруссией, но, видимо, с самого начала не уповал на успех. «Сегодня хозяин — император, — сказал он Бретейлю 11 января, — и… мне неизвестны его затаенные взгляды и намерения… Поверьте, если я сохраню мой пост, то сделаю все для блага наших дружеских отношений»[290].
Слова, слова… Воронцов как никто другой понимал катастрофичность царского шага для международного авторитета России. Но желание не потерять должность заставило его смириться. Щербатов в насмешку писал, что «тихой обычай» не позволял Михаилу Илларионовичу «оказывать разум»[291]. Именно эта «тихость» характера и помогла канцлеру остаться на плаву. Однако в связи с пропрусскими шагами императора он попал в очень сложное положение.
20 мая, вместо Конференции при высочайшем дворе, был создан Совет, первое заседание которого состоялось через четыре дня. Его членами стали оба голштинских принца, дяди императора, Миних, старик Трубецкой (тот самый, кого Дашкова застала затянутым в военную форму), канцлер Воронцов, генерал-фельдцейхмейстер Вильбоа, князь Волконский, Мельгунов и Волков.
Любопытно, что в состав Совета не вошли ни Глебов, ни Иван Шувалов. Хотя последний и сосредоточил в своих руках управление сухопутным, морским и артиллерийским шляхетскими корпусами, одновременно оставаясь куратором Московского университета — то есть исполнял роль министра просвещения, тем не менее он претендовал на большее со своим проектом «Фундаментальных законов».
Но время и для Шуваловых, и для Воронцовых было упущено. Наблюдатели отмечали, что в окружении Петра все большее место занимали люди пустые, мало кому известные и не сведущие в делах. Император тяготился теми, кому был обязан. Новые друзья буквально закружили его в вихре развлечений, оторвав от работы и заслонив собой тех вельмож, кто на первых порах подстраховывал молодого монарха. «Доброму императору не хватало умных и верных советников, — рассуждал Шумахер, — а если и было сколько-нибудь таких, что желали добра ему и стране и имели достаточно мужества, чтобы ясно объявить ему последствия его непродуманных действий, то их советы выслушивались редко и еще реже им следовали, если это не совпадало с настроениями императора. Его всегда окружали молодые, легкомысленные и неопытные люди, равнодушные к судьбе страны, о которой они к тому же не имели понятия, и не знавшие другой цели, как устроить собственное счастье за общий счет. Честь их государя была им совершенно безразлична, но их советам, никогда не противоречащим его склонностям, император всегда оказывал предпочтение перед мнением заслуженных и порядочных людей»[292].
Одним из таких безголовых приятелей был шталмейстер Нарышкин, чьи слова Екатерина привела как бы в насмешку над мужем: «Это царство безумия, все наше время уходит наеду, питье и на то, чтобы творить сумасбродства»[293].
Уже после переворота Кейт доносил: «К сожалению, отвращение его (Петра. — О. Е.) отдел вследствие дурного влияния недостойных фаворитов привело к всеобщему расстройству. Ошибочно почитая себя любимым всей нацией за совершенные им при восшествии на престол великие благодеяния, впал он в пагубные для него беспечность и нерадение… Непрестанный вихрь и суета вкупе с лестью низменных куртизанов до некоторой степени повредили его рассудок»[294].
Как же согласовать множество вышедших законодательных актов с «непрестанным вихрем» развлечений, в который был погружен Петр, по уверениям даже самых доброжелательных к нему лиц? За два дня до переворота — 26 июня — государь подписал 14 указов, весьма разных по содержанию, отмечает А. С. Мыльников. Его «стремительная законодательная деятельность… оборвалась буквально на полуслове — ни о каком ее спаде говорить нет оснований»[295]. Действительно, количество появлявшихся ежемесячно указов стабильно. Но не качество. После февральского «залпа» правительство занималось в основном частными делами, откликаясь на повседневные запросы. О направлении дополнительных рабочих в Адмиралтейство, о кладбищах Немецкой слободы в Москве, о запрете строить деревянные дома в центре Петербурга. То есть тем, что во времена министерств назовут «трясянкой» или «вермишелью».
Таких дел исключительно много при каждом государе, но они далеко не всегда оформляются указами. Иногда было бы достаточно распоряжения, записанного в журнал. Зачем же понадобилось повышать делопроизводственный статус подобных решений? Как мы уже говорили, Совет получил право публиковать от имени Петра III указы по второстепенным вопросам. Так и набрались многочисленные «законодательные акты» о праздношатающихся солдатских женках и ремонтных работах по Московскому тракту. Раньше этим занялся бы Сенат. Но с 1 июня ему было запрещено обнародовать указы без утверждения государя. Первый шаг вел к сосредоточению всей власти в узком кругу приближенных императора. Второй был наступлением на права высшего государственного учреждения. В Совете главную роль быстро стал играть Волков — наиболее одаренный и расторопный из чиновников этого органа. По удачному выражению Миниха, Волков «водил рукой и был ушами государя»: «то, с чем соглашался Волков, и составляло образ правления при императоре Петре III»[296].
Екатерина писала об этом человеке: «Про сего Никита Иванович Панин… говорил, что сей Мельгунову и Шуваловым голову сломит; про него тогда думали, что главу имеет необыкновенную, но оказалось после, что хотя был быстр и красноречив, но ветрен до крайности, и понеже писал хорошо, то более писывал, а мало действовал, а любил пить и веселиться»[297]. Но именно такой характер подходил к нравам императора — золотое перо и удалой собутыльник. Волков сумел потеснить Глебова, слишком плотно связанного с Шуваловыми. Запрещение Сенату самостоятельно издавать указы было серьезным ударом по положению генерал-прокурора. В то же время Совет, где всем заправлял Волков, получил от Петра возможность бесконтрольно пользоваться августейшим именем.
Такой шаг был небесполезен ввиду чаемого отъезда императора на театр военных действий с Данией. Но прежде, например, при Петре I, в подобных случаях правление сосредоточивалось в руках Сената. Перенося тяжесть решения дел на Совет, Петр III показывал, что не доверяет почтенным сановникам.
Отсюда проистекали обиды, и в конце концов высший государственный орган поддержал Екатерину.
Оттеснение от реальной власти двух виднейших кланов и — шире — отказ от опоры на Сенат имели самые пагубные последствия для Петра. Пока он подписывал проекты, выработанные опытными советниками, его популярности ничто не грозило. Стоило императору сойти с проторенной дороги, и государственная телега забуксовала.
«Найдите денег, где хотите»
Одной из важных причин переворота была финансовая. Ее обычно забывают указать в списке претензий к новому монарху. Куда более броские — измена православию, мир с врагом, оскорбление бранной славы России — затмевают скучный меркантильный интерес. Но как-никак жалованье хотел получать каждый чиновник и офицер, а любая торговка на рынке желала, чтобы ей платили полновесной монетой.
В момент смерти Елизаветы Петровны финансы страны находились в плачевном положении. Казна была опустошена войной, займы потрачены. Армии не плачено более чем за полгода. В записке «О собственном царствовании» Екатерина вспоминала: «Блаженной памяти государыня… во время Семилетней войны искала занять два миллиона рублей в Голландии, но охотников на тот заем не явилось, следовательно кредита или доверия к России не существовало»[298].
Если стабильно царствовавшей 20 лет монархине не одолжили денег, то ее племянник, едва взошедший на престол и начавший с разрыва международных обязательств, тем более не вызывал доверия. Займов не предвиделось. Однако был иной способ. Заехав однажды в Петропавловскую крепость, император осмотрел Монетный двор и, увидев чеканку новых рублей, воскликнул: «Эта фабрика мне нравится более многих других! Если б она прежде принадлежала мне, то я умел бы ею воспользоваться»[299].
На первых порах кое-какие средства у государя все-таки были, благодаря нежданному «наследству» тетки. В последние годы у Елизаветы развились странные склонности: она копила и припрятывала драгоценности, золото, деньги. После ее смерти в кабинете нашли 600 пудов серебра, 67 пудов золота, 1,5 миллиона империалов и на два миллиона неотчеканенной монеты, всего денег от трех до четырех миллионов рублей. Таким образом, замечает Е. В. Анисимов, в кабинете императрицы воюющей уже пять лет державы лежали средства годового бюджета[300].
Но она считала их как бы не государственными, а своими собственными.
Екатерина по этому поводу писала: «В конце своей жизни императрица Елисавета скопила, сколько могла, и держала свои деньги при себе, не употребляя их ни на какие нужды империи; последняя нуждалась во всем, почти никому не платили. Петр III поступал приблизительно так же. Когда у них просили на нужды государства, они гневались, отвечая: „Найдите денег, где хотите, а отложенные — наши“. Он, как и его тетка, отделял свой личный интерес от интереса империи». Между тем, «армия была в Пруссии и платы не хватало уже восемь месяцев; цена хлеба в Петербурге поднялась вдвойне против обычной стоимости»[301].
Необходимы были срочные меры. Из записок Штелина видно, как император, на первых порах щедрой рукой раздававший пожалования, начал испытывать нехватку наличных средств. В канун Пасхи, 6 апреля, двор переселился в новый Зимний дворец. Встретив государя, пришедшего как бы «инкогнито», архитектор Бартоломео Растрелли вручил ему «план всего дворцового строения». Петр забрал чертежи и уже в своих покоях сказал свите: «Я должен подарить что-нибудь Растрелли. Но деньги мне самому теперь нужны. Я знаю, что сделаю, и это будет для него приятнее денег. Я дам ему свой голштинский орден». Задуманный молодым государем поход против Дании потребовал бы больших средств, а потому с зодчим он хотел «разделаться честно, не тратя денег»[302].
Еще в январе, благодаря смене генерал-прокурора Сената, удалось запустить проект П. И. Шувалова, который двумя годами ранее не прошел из-за противодействия Я. П. Шаховского. Будучи начальником экспедиции по переделке медных денег, Шувалов предлагал перечеканить всю медную монету так, чтобы из пуда выходило не 16 рублей, а 32. После чего всю полученную сумму пустить на займы по 4 процента под залог недвижимого имущества, главным образом имений. Идея привлекла сенаторов, но Шаховской добился личной аудиенции у Елизаветы Петровны и постарался доказать ей: мелковесная дешевая монета вызовет в стране инфляцию. В результате императрица не утвердила проект Петра Шувалова[303].
Теперь к идее решили вернуться. 17 января последовал указ о чеканке новой, облегченной монеты. Не следует путать процесс облегчения медных денег с выпуском тогда же новых серебряных монет. Появление серебряного рубля с профилем взошедшего на престол монарха лучше любых манифестов оповещало жителей громадной страны о важной перемене. С этими серебряными рублями была связана курьезная история. «Художник, долженствовавший вырезать новые монеты, — писал Рюльер, — представил рисунок императору. Сохраняя главные черты его лица, старались их облагородить. Лавровая ветвь небрежно украшала длинные локоны распущенных волос. Он, бросив рисунок, вскричал: „Я буду похож на французского короля!“ Он хотел непременно видеть себя во всем натуральном безобразии, в солдатской прическе и столь неприличном величию престола образе, что сии монеты сделались предметом посмеяния и, расходясь по всей империи, произвели первый подрыв народного почтения»[304].
Француз, без сомнения, пристрастен, тем более что оказался задет его повелитель. Но Петр действительно выглядел на рублях очень просто: с длинной косицей, прилизанными волосами, вытянутым вперед носом и маленьким, скошенным подбородком. «Враг всякой представительности», как называл его Фавье, он и здесь не изменил себе, не пожелав даже на портрете превратиться в некое мифологическое существо. Любопытная деталь: отказавшись подражать Людовику XV, Петр фактически скопировал облик своего кумира Фридриха II с прусских серебряных денег.
Однако королям — в лавровых они венках или «в натуральном безобразии» — очень нужны те самые монеты, на которых они могли бы оттиснуть свой профиль. Кое-какие средства должны были дать откупа. Екатерина вспоминала: «Почти все отрасли торговли были отданы частным людям в монополии. Таможни всей империи Сенатом даны были на откуп за два миллиона»[305]. Купцы Шемякин и Савва Яковлев обратились в Сенат с просьбой отдать им таможенные сборы на откуп сроком на 10 лет, что и было сделано. Однако тут же император распорядился вывозить беспрепятственно хлеб из всех портов, собирая половинную пошлину. Второй шаг был и разумнее, и полезнее для развития торговли, чем первый. Но купцы, вступившие в сделку с государством, оказались внакладе, поскольку их августейший партнер поменял правила в ходе игры. Вряд ли это могло вызвать к нему доверие у крупных дельцов. Рассчитывать на долгосрочные проекты с государством становилось невыгодно.
23 мая Сенат поставил Петра в известность о состоянии казны. Это была умная попытка без навязчивых уговоров, одними цифрами объяснить невозможность новой войны. Доход состоял из 15 350 636 рублей. Расход — 16 502 660 рублей. На войско шло 10 418 747 рублей. Наличные расходы государя — в «комнату его величества» — 1 150 000 рублей. На содержание двора — 603 333 рубля. На нужды Малороссии непосредственно в руки гетману 98 147 рублей. На чрезвычайные расходы, включающие покрытие прежних долгов — 4 232 432 рубля. Таким образом, дефицит бюджета составлял 1 152 023 рубля. Сенаторы возлагали надежду, что сборы с винных откупов, соляных промыслов, налог с черносошных крестьян, которые в тот момент полностью шли на содержание заграничной армии, вернутся в отечество и недостаток будет восполнен[306]. Прозрачнее намекнуть невозможно.
Но в том-то и беда, что Петр не собирался отзывать войско из Европы. Напротив, для приведения его в лучшую боевую готовность перед новой войной требовались дополнительные средства. Не случайно еще в начале мая Сенату пришлось отложить на неопределенный срок давно задуманное строительство канала от Рыбной слободы до реки Волхов. Тогда же, 7 мая, Сенат принял решение, чтобы поступавшие в казну серебряные ефимки (иоахимс-талеры) в оборот не выдавались. Они переплавлялись в отечественные монеты и оседали в казне, «ради умножения серебра в государстве»[307]. Благородный металл требовалось скопить и придерживать. Шумахер сообщал, что для войны с Данией планировалось «прибегнуть к сокращению обращения серебряной монеты при удвоении медной и удержанию двух третей жалования у всех гражданских служащих»[308]. Последнее не имело большого значения, так как денег и так не платили.
11 мая император, впервые после Петра I, приказал остановить каменное строительство и любые денежные раздачи «сверх штатной суммы». Причиной было названо «великое число доставляемых к армии» денег[309]. После такого заявления даже слепой должен был понять, что Россия вновь вступает в войну.
Вместо серебра подданным предлагалась не то что медь — бумага. 25 мая последовал именной указ императора об учреждении банка. «…Не перестаем мы помышлять, — было сказано в документе, — о изобретении легчайшего и надежнейшего средства хождение медных денег облегчить и в самой коммерции удобным и полезным сделать. Учреждение знатного государственного банка, в котором бы все и каждый по мере своего капитала… за умеренные проценты пользоваться могли, и хождение банковых билетов представилось тотчас яко самое лучшее и многими в Европе примерами изведанное средство». В банк было положено сначала два миллиона, а в течение трех лет государь сулил положить еще три.
Надлежало «наделать как наискорее банковых билетов на пять миллионов рублей на разные суммы, а именно на 10, 50, 100, 500 и 1000». Эти билеты направлялись в правительственные учреждения, «откуда наибольшая выдача денег бывает», чтобы их «употребляли в расход как самые наличные деньги, ибо мы хотим и сим повелеваем, чтобы сии билеты и в самом деле за наличную монету ходили». Государь обнадеживал подданных, что банк в любую минуту и без всякой проволочки будет обменивать бумажные деньги на серебро и медь, а последние — на билеты «на равную сумму». Но для того чтобы жители страны согласились на подобный шаг и понесли свои капиталы в банк, требовалось большое доверие к государству. А его не было.
Точно так же, как царь «надул» купцов, взявших таможенные сборы на откуп, он мог поступить с теми, кто поместил в банк полновесную монету, а получил бумажные билеты. Даже в сравнительно благополучное царствование Екатерины II, все-таки сумевшей внедрить бумажные деньги, курсы серебра, меди и банковских билетов были различны. Они колебались в зависимости от войны и мира, неурожая, засухи, и в худшие времена при расчетах 15 копеек серебра «променивались» на один бумажный рубль. Устанавливать же равенство серебряного рубля бумажному, как это было сделано в указе 25 мая, значило либо сильно обольщаться, либо стремиться к отъему благородного металла у населения. Последнее намерение указ просто выбалтывал в заключительных строках: «Передел медных денег в легчайшую монету из тяжелой по прежнему плану неотменно продолжать, но вновь из меди не делать и оной в казну не брать, а велеть, чтоб заводчики отпускали оной больше за море и продавали на ефимки»[310]. Итак, государство не хотело принимать налоги медью. По крайней мере, владельцы крупных предприятий должны были позаботиться об обмене ее за границей на серебряные деньги, кои и привезти в отечество. Хлопотное, не всегда прибыльное и неудобное к исполнению силами самих «заводчиков» дело.
Как и во многих других случаях, от учреждения банка Петр ждал только добра. Он показывал личный пример, поместив пять миллионов и «оставляя времени великую от банка всему государству пользу дать чувствовать». Но поначалу сама мысль о появлении бумажных денег, вместо привычных, могла вызвать подозрение о подлоге и обмане. По иронии судьбы первые билеты появились как раз в канун переворота и часть их была употреблена на раздачу жалованья гвардейцам. В письме 2 июля из Ропши Алексей Орлов сообщал Екатерине: «У нас здесь было много смеха над гренадерами от червонных: когда они у меня брали, иные просили для того, что не видывали, и опять их отдавали, думая, что они ничего не стоят»[311].
Екатерине пришлось попотеть, чтобы выправить ситуацию. «Монетный двор со времен царя Алексея Михайловича считал денег в обращении сто миллионов, из которых сорок почти вышли из империи вон… Шестьдесят миллионов рублей, кои остались в империи, были двенадцати разных весов, серебряные от 82 пробы до 63, медные от сорока рублей с пуда до 32 рублей в пуде»[312]. Вскоре после коронации Монетный двор получил приказ всю серебряную монету перелить по 72-й пробе, которая была «менее способна к вывозу и подделке». А медную — по 16 рублей из пуда, на чем в свое время и настаивал Шаховской.
«Ваши выгоды — мои выгоды»
«Его проекты, более или менее обдуманные, состояли в том, чтобы начать войну с Данией за Шлезвиг, переменить веру, разойтись с женой, жениться на любовнице, вступить в союз с прусским королем, которого он называл своим господином и которому собирался принести присягу», — писала Екатерина о муже. На фоне начатых Петром реформ ее перечисление выглядит крайне скудным.
Но императрица не зря употребила словосочетание «его проекты» и прибавила: «более или менее обдуманные». Так она провела грань между собственными начинаниями государя и идеями, подсказанными со стороны. Нащупала болевую точку политики супруга — там, где начиналась личная самодеятельность монарха, кончалась любовь общества. «Дурное мнение, какое имели о нем, привело к тому, что объясняли в дурную сторону и то немногое, что он сделал полезного»[313].
Венцом деятельности Петра III было его «миротворчество». Выход из Семилетней войны, заключение союза с Пруссией, переориентация внешней политики России и подготовка нападения на Данию — эти шаги настолько броски, что, говоря о причинах переворота, авторы нередко ограничиваются рассказом именно о них. И недаром. Разрыв Петербурга с альянсом противников Фридриха II в мгновение ока изменил расклад сил в Европе, сделав побежденного едва ли не победителем. А экстравагантная манера нового императора вести переговоры заставила задуматься о его здравомыслии.
Между тем Петр Федорович, как всегда, хотел лишь добра. Война с Фридрихом II была тяжелой, а тезис о ее пользе для страны весьма спорным. Казалось так естественно прекратить кровопролитие и протянуть противнику руку. Тем более когда противник уже повержен. Этот жест самому императору представлялся рыцарством. Советникам и иностранным дипломатам — безумием.
Россия одержала победу, ее войска заняли большие территории, которыми предстояло или пожертвовать, получив контрибуцию, как настаивали союзники, или присоединить к империи, как хотела Елизавета. И в том, и в другом случае выгода была очевидна — контрибуция спасла бы казну от банкротства, а размен земель с Польшей привел бы в состав империи огромные православные территории.
От всего этого Петр III благородно отказался. Для того чтобы понять утраченные перспективы, стоит познакомиться с докладной запиской Фавье о планах России, относящейся к последним месяцам царствования Елизаветы. «Камергер Шувалов взял на себя сделать первый приступ к императрице, — доносил дипломат. — …Он представил ей, что целое королевство, присоединенное к ее обширным владениям, увековечит ее славу гораздо прочнее всех подвигов ее войск». Честолюбивые братья Шуваловы доказывали, что «покорение Пруссии даст возможность окончательно поработить Польшу; что город Данциг тогда будет существовать только по милости России. Запертый… со всех сторон близкими соседствами русских войск, он под самым ничтожным предлогом может сделаться их добычей. Или же… его легко можно будет обложить контрибуцией… Таким образом был бы приведен в исполнение любимый план Петра Великого… Раскидываясь все дальше и дальше вдоль Балтийского моря, была бы достигнута еще и другая цель этого великого императора — касательно флота и торговли».
Однако Шуваловы встретили оппонента в лице старого дипломата, сенатора и члена Конференции Ивана Ивановича Неплюева, который долгие годы прослужил резидентом в Стамбуле и хорошо знал южное направление внешней политики. Он считал, что прусские земли куда выгоднее было бы обменять на «польскую Россию». «Польша тем самым была бы совсем заперта со стороны Украины, и это сильно затруднило бы ее сношение с Турцией… К русской державе таким образом было бы присоединено несколько отрезанных от нее провинций»[314]. Со своей стороны отметим, что в случае осуществления этого плана отпала бы перспектива разделов Польши. Елизавета мирным путем приобрела бы все, что позднее Екатерина II получила вооруженной рукой.
Ни одна из названных возможностей не заинтересовала Петра III. Он действовал с ошеломляющим бескорыстием. 25 декабря 1761 года, когда тело Елизаветы в прямом смысле слова не успело остыть, Петр отправил к Фридриху II в Бреславль своего любимца камергера Андрея Гудовича, чтобы немедленно заключить перемирие и начать переговоры. Бретейль с большим опозданием, лишь 18 января, узнал о случившемся. До этого канцлер Воронцов просто не знал, как сообщить союзникам новость. В письме, «как меня уверяли, — доносил французский министр, — речь шла о желании возобновить давний союз и согласие России с Пруссией… Господин Кейт дал паспорта русскому посланцу, который отправился в Берлин прямо из дома английского министра»[315].
Роль британского дипломата, которого разозленный французский коллега стал именовать «министром-фаворитом», действительно велика. Как союзник Берлина Лондон должен был приветствовать разрыв Петербургом обязательств перед Парижем и Веной. До приезда в русскую столицу эмиссаров Фридриха II английские дипломаты оказались в привилегированном положении. Петр с ближайшими друзьями посещал дом Кейта, где курил трубки и пил пиво. Английский посол единственным из членов дипломатического корпуса удостоился чести ужинать у фаворитки Елизаветы Воронцовой. Сам Кейт не без удовольствия писал о своих почти приятельских отношениях с молодым государем:
«После обеда император, который всегда удостаивал меня милостивого своего обращения, подошел ко мне и сказал на ухо, что теперь я должен быть доволен им, поелику вчера вечером послал он курьеров ко всем корпусам своей армии с приказанием не продвигаться более в прусских владениях и прекратить все враждебные действия… К ордеру сему присовокуплена была инструкция, уполномочивавшая генералов заключить перемирие, ежели пруссаки предложат таковое… Генерал Чернышев получил особливый ордер отделиться от австрийского корпуса»[316].
Приезд Гудовича застал Фридриха II врасплох. Король находился на грани полного разгрома, и смерть такого непримиримого врага, как Елизавета Петровна, была для него манной небесной. Но несчастья приучили прусского монарха не обольщаться, и хотя он предполагал, что новый царь пойдет ему навстречу, однако его притязания были очень скромны. В инструкции своему эмиссару полковнику Бернгарду Гольцу, посланному в Петербург с миссией мира, король писал: «Доброе расположение русского императора позволяет надеяться, что условия [мира] не будут тяжки… 1) Они (русские. — О. Е.) предложат… возвратить нам Померанию, но захотят удержать Пруссию или навсегда, или до заключения общего мира. На последнее вы соглашайтесь. Но 2) если они захотят оставить за собой Пруссию навсегда, то пусть они вознаградят меня с другой стороны». То есть отдадут земли, равные владениям Бранденбургского дома. Король сам указал в инструкции желанный куш — Силезию. Таким образом, поставленный в трудное положение Фридрих готов был пожертвовать, ради заключения мира, половиной королевства.
Полцарства за договор! Однако вскоре оказалось, что Петр мыслит иными категориями. «На каком основании можно было предположить, что переговоры в Петербурге примут благоприятный оборот? — рассуждал король. — Дворы версальский и венский гарантировали Пруссию покойной императрице; русские спокойно владели ею; молодой государь, вступивший на престол, откажется ли сам собою от завоевания?…Для кого и для чего, по какому побуждению? Все эти трудные вопросы наполняли дух неизвестностью. Но исход дела был более счастлив, чем можно было ожидать… Оказалось, что Петр III имел превосходное сердце и такие благородные и возвышенные чувства, каких обыкновенно не бывает у государей. Удовлетворяя всем желаниям короля (Фридрих писал о себе в третьем лице. — О. E.), он пошел даже далее того, что можно было ожидать»[317].
Уже 29 декабря 1761 года были отпущены все прусские пленные, 12 февраля появилась официальная декларация о намерениях России, а 18 февраля последовал прямо-таки донкихотский шаг — иностранным послам в Петербурге была вручена декларация, призывавшая их дворы по примеру России установить в Европе общий мир и отказаться от любых завоеваний. Годами Фридрих II не желал вернуть Австрии отторгнутые территории, но теперь все державы-победительницы в Семилетней войне должны были, подобно России, не претендовать на прусские земли. Это было поистине благородство за чужой счет.
Нельзя отказать Фридриху II в знании человеческих душ. Он прекрасно выбрал посланца к будущему союзнику. 26-летний Гольц, адъютант короля и камергер, красивый и общительный малый, был прусской копией Гудовича. Вероятно, король присмотрелся к эмиссару Петра и понял, какие люди тому нравятся. Гольц годился не только для переговоров, но мог на дружеской ноге войти в близкое окружение русского монарха. Фридрих угадал. Без Гольца не обходились ни пирушки Петра III, ни загородные путешествия, включая последнее в Петергоф.
21 февраля новый посланник прибыл в Петербург, а через три дня получил официальную аудиенцию. Прием, оказанный ему, мог вызвать зависть более опытных коллег. Гольц только открыл рот, чтобы выговорить поздравления с восшествием на престол и заверить в дружеских чувствах своего повелителя, а Петр уже сошел с трона, обнял посланца и осыпал его любезностями. После аудиенции Гольц удостоился долгого разговора, причем последний происходил в церкви во время обедни, но Петр не следил за службой. Он расспрашивал камергера о своем кумире и о прусской армии, входя в тончайшие подробности, знаниями которых поразил Гольца. Петр помнил названия всех полков, имена их шефов в четырех «поколениях», основной офицерский состав. Если бы подобный интерес он проявил к собственным войскам, возможно, его участь была бы иной.
Гольц провел в обществе молодого царя весь день. Они обедали вместе под портретом Фридриха II, на пальце Петра красовался перстень с изображением кумира, а сам государь рассказывал, сколько бед претерпел от тетки за преданность Пруссии. 2 марта император предложил посланнику, чтобы король сам сочинил проект мирного договора. В ответ Фридрих писал: «Ваше величество превзошли все мои ожидания… Вы хотите, чтобы я послал Вам проект мира… но я вполне полагаюсь на Вашу дружбу. Располагайте, как хотите, я подпишу все: Ваши выгоды — мои выгоды, у меня нет никаких других»[318]. Король понял характер своего партнера: не требуя ничего и отдавая себя полностью в руки Петра, он играл на благородстве будущего союзника.
Получив такое послание, император рассыпался в самых искренних заверениях: «Я был бы величайшим ничтожеством, если бы, имея союзником благороднейшего государя в Европе, не постарался сделать все на свете, чтобы доказать ему, что он не доверился лжецу… Гольц мне говорил, что Ваше величество желали бы… чтобы я Вам обеспечил Силезию и графство Глац и, кроме того, все завоевания, которые Вы можете сделать у Австрии… Я очень этому рад и согласен на все. Но, со своей стороны, я бы желал, чтобы Вы соизволили сделать то же относительно датских владений, обеспечив мне Голштинию со всем потерянным мною в Шлезвиге, другую половину датской Голштинии в вознаграждение за столько лет неправого пользования ею… Предположим, что они (датчане. — О. Е.) меня принудят воевать; тогда я просил бы Ваше величество… обеспечить мне завоевания, которые я бы сделал в Дании, чтобы мы могли заключить прочный и славный мир для моей Голштинской династии. Я уверен, что Вы этому никак не станете противиться, будучи… истинным немецким патриотом»[319].
Сначала Фридрих думал, что «дела голштинские так же близки сердцу императора, как дела русские». Однако вскоре он понял, что первые совершенно затмевают вторые, Петр не может соразмерить величины, Россия представляется ему громадным, ненужным и обременительным довеском к милой маленькой родине. Точнее, ей отводилась роль инструмента, с помощью которого Шлезвиг возвращался в состав герцогства.
При этом император был глубоко убежден, что именно русские под данные станут презирать его, если он не отправится на войну с Данией за родовые владения. «А что бы подумали эти же русские обо мне, — писал он Фридриху 15 мая, — видя, что я остаюсь дома во время войны в родной стране?.. Они бы всю жизнь упрекали меня в низкой трусости, от чего, конечно, я бы умер с горести, так как был бы единственным государем моего дома, оставшимся сидеть во время войны, начатой за возвращение неправильно отобранного у его предков»[320].
Подобный пассаж наводит на мысль о неадекватном восприятии Петром окружающей реальности. По сведениям более чем доброжелательного Кейта, именно предстоящее нападение на Данию стало катализатором переворота: «Противу сей войны была вся нация, поелику вовлекалась она от сего в новые расходы и новые опасности ради завоевания герцогства Шлезвигского, каковое почитали здесь совершенно ничтожным и ненужным для России, тем паче что император уже пожертвовал ради своей приязни к королю Прусскому завоеваниями российской армии, весьма для империи существенными»[321].
Английскому дипломату вторил Шумахер: «Из всех причин недовольства самой важной было решение о войне против Дании. В только что закончившейся войне нация потеряла так много людей и истратила столько денег, что новый набор рекрутов уже не прошел бы без ущерба для сельского хозяйства… Нация устала от войн вообще, но с особым отвращением относилась к предстоящей, которую пришлось бы вести при нехватке провианта, магазейнов, крепостей, флота и денег в столь удаленных краях из-за чужих, не касавшихся России интересов, против державы, жившей с незапамятных времен в добрососедстве с Россией»[322].
По сведениям Шумахера, «министры, генералитет», «военный совет, к которому пригласили канцлера графа Воронцова», и даже прусский король — все уговаривали императора отказаться от конфликта. В мае Совет передал на высочайшее имя записку, в которой просил отсрочить боевые действия хотя бы до весны следующего года. Ее подписали оба голштинских дяди государя, Миних, Трубецкой, Воронцов, Вильбоа, Волконский, Мельгунов и Волков — то есть правительство в полном составе. Однако несмотря на столь ясно выраженное желание подданных, Петр был уверен, будто его станут презирать, не начни он войну. 1 марта появился рескрипт об отношениях с Данией, в котором император потребовал от соседей вернуть Шлезвиг. В тот же день Адмиралтейство получило приказ вооружить весь имеющийся флот для похода[323]. Кажется, что Петр сам шел навстречу своей гибели. Именно 28 июня, в день переворота, русский посланник в Копенгагене вручил Дании ноту об объявлении войны…
Между тем в правительстве Петра не было человека, который не предостерегал бы государя от рокового шага. Среди советников молодого государя практически все понимали, что сепаратные переговоры с противником подрывают международный авторитет страны, возросший за годы Семилетней войны. 29 января Воронцов прямо писал императору: «Генеральные дела Европы в такую теперь кризу пришли»[324]. Недовольство выказывали не только канцлер, но и Мельгунов с Волковым.
24 апреля с Пруссией был подписан мирный трактат, за которым 8 июня последовал договор о союзе. Секретарь французского посольства Лоран Беранже доносил в Париж о праздновании мира: «Мы видели российского монарха, утопшего в вине и лишившегося употребления ног и языка. С превеликим трудом, как заправский пьяница, бормотал он прусскому посланнику: „Пьем здоровье короля, нашего повелителя. Он сделал мне честь, доверив целый полк; надеюсь, у него не будет повода прогнать меня в отставку. Заверьте его, стоит ему только приказать, и я пойду войной против самого ада со всей моей империей“»[325].
Раздражение французов можно понять. Есть сведения, что Франция и сама стремилась к сепаратному миру с Пруссией, но измену Петербурга приняла крайне болезненно. Барометром падения веса России на международной арене стал отказ союзников использовать императорский титул по отношению к русскому государю. Этого титула Россия добивалась четверть века, он служил внешним выражением статуса державы. С мая 1762 года во французских дипломатических документах и в периодической печати вместо «император» начали писать «царь». Петр с крайним негодованием принял демарш Версаля, но на войне как на войне. Рычаги давления на брошенных союзников у Петербурга отсутствовали.
Глава пятая ЗАГОВОР
Екатерина привела слова одного из своих сторонников ЧП. Б. Пассека о Петре III: «У этого государя нет более жестокого врага, чем он сам, потому что он не пренебрег ничем из всего, что могло ему повредить»[326]. В этом отзыве есть резон, ибо для грядущего переворота император сделал едва ли не больше, чем заговорщики. Он создал политическую ситуацию, а его противники лишь воспользовались ею. Причем среди врагов Петра непримиримых было не так уж и много, основная масса оказалась просто раздражена его поведением.
Такой конец полугодового пребывания у власти тем более странен, что направление реформ было избрано Петром верно.
Император дал ход давно назревшим преобразованиям и даже во внешней политике — ахиллесовой пяте его царствования — союз с Пруссией в перспективе сулил много выгод. Но воспользоваться ими сумела Екатерина II, как и плодами других преобразований мужа. Важно отметить последовательность, даже преемственность их действий. На словах всячески открещиваясь от нелепых предприятий мужа, наша героиня двинулась в ту же сторону, умело обходя препятствия, о которые споткнулся ее предшественник.
Значит, выбора у монархов не было. Они занялись решением насущных проблем, и последние подтолкнули их к близким шагам. В тогдашней русской действительности оказалось важнее не что, а как делать. На одной и той же дороге можно забрести в грязь, а можно благополучно пройти по бровке, не замочив сапог. При единстве стратегии разные полководцы используют разную тактику.
Именно тактически начинания Петра вели к гибели. Страдая, как и многие представители его дома, страстью контролировать мельчайшие проявления государственной жизни, император блокировал работу Сената и сосредоточил управление в руках сравнительно узкого Совета. Результатом мог стать только коллапс правительственной деятельности, так как Совет должен был захлебнуться от вала документов.
Избрав средством оживления торговли бумажные деньги, Петр, вместо того чтобы обеспечить их серебром, скопил благородный металл у себя и фактически вывел его из оборота. Это грозило крахом финансовой системы России.
Новая война только приблизила бы страшную развязку. Вчерашние союзники — Франция и Австрия — силой вещей оказывались противниками. А измотанная и обескровленная армия Фридриха II мало чем смогла бы помочь.
Вот почему заговор против Петра III стал не только заговором близких к Екатерине II лиц, желавших простой замены фигуры на троне. Это был в широком смысле слова заговор «обеспокоенных граждан», испугавшихся за судьбу страны. Если бы наша героиня не приняла участия в мятеже, он произошел бы сам собой, с другими персонажами и, возможно, с иными результатами. Но взрыва было не избежать. Императрица и ее сторонники, давно готовившиеся к захвату власти, сумели аккумулировать вокруг себя общее недовольство и встать во главе него. В их лице потенциальные мятежники получили готовый центр. Но наивно предполагать, будто узкая группа «друзей Екатерины» могла вызвать такую волну возмущения, которая захлестнула Петербург в июне 1762 года, накануне новой войны. В свержении Петра III были заинтересованы самые влиятельные слои тогдашнего общества: духовенство, армейское офицерство, гвардия, столичное чиновничество и даже заметная часть двора. В таких условиях наша героиня могла либо стать надеждой оппозиции, либо самоустраниться и разделить участь мужа. Она выбрала первое.
«Скоро сойдет в могилу»
В сущности у Екатерины не было выхода. Тучи сгустились над ее головой настолько, что гроза могла разразиться в любую минуту. С первого дня новый император показал супруге ее место — как можно дальше от него и от власти. 11 января Бретейль доносил своему кабинету: «В день принесения поздравлений императрица выглядела до крайности удрученной. Уже очевидно, что она не будет иметь никакого влияния, и мне известно о ее намерении вооружиться философским терпением. Однако для характера ее жанр сей отнюдь не свойственен». Французский дипломат считал Екатерину слишком пылким и темпераментным человеком, чтобы примириться с унижениями.
Последних было достаточно. Ни о каком внешнем соблюдении уважения к супруге речи не шло. Встретив однажды во дворце Иеремию Позье, шедшего от императрицы, Петр настрого запретил ювелиру принимать от нее заказы. Садовнику в Петергофе государь не разрешил отпускать жене любимые фрукты[327]. Такие мелочные поступки были в характере Петра. Они проявлялись и подругам поводам. Штелин описал случай, как на прогулке в Летнем саду императору встретился француз, не поприветствовавший его поклоном. Петр приказал адъютанту догнать наглеца, «влепить ему в спину палашом 20 фуктелей и сказать: „Так его величество учит вежливости невоспитанных французов“»[328]. В этот момент уже было ясно, что Франция окажет Дании военную помощь. Император собирался скрестить с французами клинки на поле боя, а вышло — выдрал одного невежу да выслал из столицы французскую оперную труппу…
18 января Бретейль продолжал: «Императрица находится в самом жестоком положении, с нею обходятся с явным презрением. Она неравнодушно переносит обращение императора и высокомерие Воронцовой. Трудно себе представить, чтоб Екатерина (я знаю ее отважность и страстность) рано или поздно не приняла какой-нибудь крайней меры. Я знаю друзей, которые стараются ее успокоить, но, если она потребует, они пожертвуют всем для нее»[329].
Любопытно сравнивать донесения французского и английского дипломатов. Если Бретейль постоянно торопился, забегал вперед и старался угадать развитие событий, то Кейт, напротив, заметно отставал. «По-видимому, с императрицей пока еще не слишком советуются, — неохотно отвечал он на запрос из Лондона 30 января, — кредит ее не столь уж велик. А племянница канцлера графиня Елизавета Воронцова в дела совершенно не вмешивается»[330].
Вывод напрашивался сам собой: обращаться следует лично к императору, как поступал Кейт. Но в это время политическая ситуация в Англии изменилась. Одержав победы в Индии и Северной Америке, Лондон желал заключить выгодный мир и тяготился союзом с проигравшим. Новое правительство графа Дж. С. Бюта (Бьюта) отказало Фридриху II в субсидиях. Русскому послу князю А. М. Голицыну в Лондоне дали понять, что теперь Англия «охотно бы согласилась» на «удержание» Россией «Прусской провинции»[331]. Но время было упущено. В Петербурге дули новые ветры. Сообразно с ними медлительный тугодум Кейт упрямо держался курса на союз с Фридрихом II. Он понимал, что его отношения с Петром III безоблачны лишь до тех пор, пока Британия поддерживает Пруссию. Это обстоятельство следует помнить, читая доброжелательные отзывы посла об императоре и сталкиваясь с его нежеланием вступать в контакт с Екатериной. Бретейль еще в середине февраля констатировал: «Императрица завоевывает все умы». А Кейт 19 марта внушал своему кабинету: «Императрица имеет теперь лишь малое влияние. Всем ныне ведомо, что с ней не только не советуются по делам государственным, но даже партикулярным, и обращения к Ее величеству суть далеко не лучшие из способов добиться в чем-либо успеха»[332]. Видимо, начальство настойчиво советовало послу наладить прежние дружеские отношения.
В словах дипломатов противоречие только внешнее. Умы Екатерина завоевывала в обществе, тогда как августейший супруг оставался с ней холоден и враждебен. «Не в ее природе забывать угрозу императора заключить ее в монастырь, как Петр Великий заключил свою первую жену, — рассуждал Бретейль 15 февраля. — Все это вместе с ежедневными унижениями должно страшно волновать женщину с такою сильною природою и должно вырваться при первом удобном случае»[333].
После похорон свекрови императрица, казалось, отдалилась от всего. Ссылаясь на недомогание, она предпочитала оставаться в своих покоях и не показываться на глаза мужу, чтобы не навлекать на себя его гнев. «День рождения императора праздновался с изрядной пышностью, — доносил Кейт 23 февраля. — Императрица на сем торжестве не присутствовала». Скупой налетали, касавшиеся нашей героини, Штелин в марте отметил: «Весь этот месяц императрица не выходила по причине боли в ноге и других болезней»[334]. О нездоровье Екатерины знали при дворе и приписывали его глубокой тоске. «Императрица сильно предается горю и мрачным мыслям, — сообщал 14 апреля Бретейль. — Люди, ее видящие, говорят, что она неузнаваема, что она чахнет и скоро сойдет в могилу. Уже три недели как у нее не прекращается скрытая горячка»[335].
Шел последний месяц беременности Екатерины. 11 апреля она произвела на свет сына. Роды были тайными. Чтобы отвлечь внимание императора, преданный камердинер нашей героини Василий Шкурин поджег собственный дом на другом конце города. Петр III обожал пожары, не пропускал ни одного, всегда приезжал и распоряжался их тушением. Поэтому толпа придворных во главе с самодержцем отправилась поглазеть на пламя, а Екатерина разрешилась от бремени. Мальчик получил имя Алексея Бобринского и первые годы жизни провел в семье Шкуриных.
Любопытно, знал ли Петр о случившемся? Есть косвенные сведения, позволяющие предположить, что связь жены с Орловым не была для него тайной. «Однажды за ужином, — сообщал Штелин, — читали императору список генералам и полковникам, которых должно было произвесть. …Когда дошла очередь до тогдашнего генерал-майора Орлова, он громко закричал: „Вычеркнуть, вычеркнуть! Я не хочу иметь у себя в службе генерала, которого били крестьяне“». К сказанному профессор добавил: «Генерал Орлов при императрице Елизавете был послан… за Москву, против бунтующих крестьян, или монастыря, к которому они принадлежали… Они напали на его батальон и обратили его в бегство, а его самого прибили до полусмерти и заперли в тесный хлев»[336]. Речь шла об отце знаменитых братьев — Григории Ивановиче Орлове. Но последний скончался еще в 1746 году, следовательно, никак не мог попасть в список, который императору зачитывали за столом. Вероятно, разговор о генерал-майоре, побитом крестьянами, возник в связи с новыми производствами, и Петр III сказал профессору, что вот, де, у него не будет таких никчемных генералов, как у тетки. За давностью лет детали забылись, и Штелин передал беседу не во всем верно. Но факт налицо — государь пренебрежительно отзывался о семействе и намекал, что Орловым от него чинов не видать. Между тем следующий чин Григория Григорьевича был именно полковничьим, а начиная с этого чина государь подписывал все назначения лично.
«Не восхотел объявить его наследником»
В манифесте 13 июля Екатерина II писала о муже: «Презрел он законы естественные и гражданские: ибо имея он единого Богом дарованного Нам Сына, Великого Князя Павла Петровича, при самом вступлении на Всероссийский Престол, не восхотел объявить его наследником престола… а вознамерился… Отечество в чужие руки отдать… Мы с оскорблением сердца то в намерении его примечали, но еще не чаяли, чтобы так далеко гонение его к Нам и Сыну Нашему любезнейшему… простиралося… на погибель Нашу собственную и Наследника Нашего истребление»[337].
Что здесь правда? Петр III официально не признал Павла наследником, а в частных беседах не признавал его и своим сыном. Ни в манифесте о вступлении на престол, ни в присяге новому императору имя Павла не упоминалось. Крест целовали нынешнему государю и «по высочайшей его воле избранным и определяемым наследникам». Петр действовал в полном согласии с законодательством своего деда, провозгласившего, что император сам может избирать себе преемника. Однако по настоянию духовенства имя мальчика было включено в молитву за здравие императорской семьи, читавшуюся в церквях, но только как цесаревича, а не наследника престола[338].
Такой поступок в отношении сына говорил о многом. Ведь речь шла об официальных документах. Остальное — сведения из дипломатических источников. Вездесущий Бретейль писал 15 февраля: «Со дня своего воцарения император всего один раз видел сына своего. Многие не усомнятся в том, что, ежели родится у него дитя мужского пола от какой-нибудь любовницы, он непременно женится на ней, а ребенка сделает своим наследником. Однако те выражения, коими публично наградила его девица Воронцова во время их ссоры, весьма успокоительны в сем отношении».
Вероятно, хлебнув лишку, «Романовна» высказала в лицо любовнику горькую правду о его способностях. Несмотря на долгую связь, у Воронцовой не было от Петра детей, о других побочных младенцах императора тоже не известно. Такое положение заставило бы здравомыслящего государя дорожить имеющимся наследником. Но Петр, будучи человеком импульсивным, игнорировал препятствия на своем пути. Он страстно хотел развязаться с Екатериной и смотрел на признание сына незаконным как на средство достижения этой цели.
Через месяц, 14 апреля, Бретейль снова вернулся к больной для императорской семьи теме: «Вам должно быть уже известно, что истинным отцом молодого великого князя является г-н Салтыков, коего царь возвратил сразу же после восшествия на престол и весьма милостиво с ним обошелся. Говорят, что по приезде Салтыкова из Парижа император неоднократно и подолгу беседовал с ним у себя в кабинете. И, как полагают приближенные царицы, старался вынудить у него признание в благосклонности к нему Екатерины»[339]. Считается, что Салтыков отклонил требования императора.
Рюльер передавал по этому поводу: «Он (Петр. — О. Е.) вызвал из чужих стран графа Салтыкова… и принуждал его объявить себя публично отцом великого князя, решившись, казалось, не признавать сего ребенка… Известнее всего то, что он хотел даровать свободу несчастному Иоанну (свергнутому Ивану Антоновичу. — О. E.), признать его наследником престола, что… приказал он привезти его в ближайшую к Петербургу крепость и посещал его в тюрьме»[340]. На первый взгляд абсурдность идеи очевидна. Но еще пару месяцев назад выход России из коалиции, возврат Фридриху II завоеванных владений и союз с ним показались бы абсурдом любому здравомыслящему человеку.
22 марта молодой император отправился в Шлиссельбург, чтобы лично повидать Ивана Антоновича, и взял с собой… Екатерину. Надо думать, она весьма неохотно покинула свои покои за две с половиной недели до родин, когда внешний вид женщины, сколько ни затягивайся в корсет и ни надевай широкие платья, выдавал ее с головой. Встреча с узником проходила в глубочайшей тайне. Почему Петр взял с собой жену? Объяснение А. Б. Каменского: «Поездка в Шлиссельбург была совместной, ведь речь шла о сугубо семейном, династическом деле»[341], — не кажется достаточным. Император всячески подчеркивал, что Екатерина — уже не часть его семьи. И вдруг привлек ее к делу, о котором не сказал даже дяде, принцу Георгу[342].
Следует помнить, что, как и многие люди с нервными расстройствами, Петр мог быть удивительно скрытен, хитер и склонен к символическим жестам. Без лишних слов он демонстрировал Екатерине крепость. То была недвусмысленная угроза. Что же до Ивана Антоновича, то решение вопроса с престолонаследием, если принять версию Рюльера, — на грани гениальности. Многолетний страх перед Брауншвейгским домом, интриги иностранных дворов, тайные терзания о законности прав узника — все уходило в прошлое. Петр сам около двадцати лет прожил при Елизавете почти под стражей. Что мешало ему столь же пристально наблюдать за другим человеком?
Такую перспективу можно было бы рассмотреть, окажись бедный узник в здравом уме. Но пленный принц не производил впечатление вменяемого. Кейт, с которым Петр поделился своими впечатлениями, доносил 16 апреля: «Император видел Ивана и нашел его уже сложившимся мужчиной, однако же с поврежденным рассудком. Разговор его странен и беспорядочен, и между прочими словами сказал он, что сам он отнюдь не тот, за кого его почитают, что настоящий принц уже давно взят на небо, но тем не менее намерен он защищать права той особы, чье имя ему приписывают»[343].
Что касается Екатерины, то, взяв ее с собой, Петр показывал жене: без наследника он не останется, даже если у него лично и не будет детей.
Все сказанное отнюдь не означает, что к маленькому Павлу венценосный отец относился плохо. Первое время после восшествия на престол он просто не помышлял о нем. Но Панин не оставлял стараний обратить внимание императора на своего воспитанника. Ему это удалось. «Петр III был совершенно равнодушен к великому князю Павлу и никогда его не видел, — писала Дашкова, — зато маленький князь каждый день виделся с матерью… Панин… попросил принца Георгия Голштейн-Готторпского и другого принца Голштинского предложить государю присутствовать при экзамене великого князя. Император склонился только на их усиленные просьбы, ссылаясь на то, что он ничего не поймет в экзамене. По окончании испытания император громко сказал своим дядям: „Кажется, этот мальчуган знает больше нас с вами“»[344].
Видимо, экзамен действительно произвел на Петра впечатление, поскольку на следующий день он пожелал наградить Панина. Император дал Никите Ивановичу гражданский чин действительного тайного советника, а в указе по этому случаю отозвался о ребенке с заметным чувством: «Воспитание нашего сына великого князя Павла Петровича… такой важный пост, от которого много зависит будущее благосостояние Отечества… наипаче в такое время, когда нежное его высочества сердце и дарованный от Бога разум и понятия питаемы быть имеют»[345].
Из текста вроде бы следует, что «будущее Отечества» соединено с Павлом, но наследником мальчик опять не назван. Вряд ли стоит обольщаться и сценой из «Записок» Штелина: «Навещает великого князя Павла Петровича, целует его и говорит: „Пусть пока он останется под прежним своим надзором, но я скоро сделаю другое распоряжение и постараюсь, чтобы он получил другое, лучшее воспитание (военное), вместо женского“»[346].
Эта зарисовка тоже не говорит о намерении императора сделать сына наследником. Дав мальчику военное воспитание, вовсе не обязательно надевать на него корону. Применительно к Ивану Антоновичу австрийский посол граф Мерси д’Аржанто писал 14 апреля, что государь нисколько не заботится «о его мнимых правах на русский престол, потому что он, император, сумеет заставить его выбросить все подобные мысли из головы; если же найдет в поименованном принце природные способности, то употребит его с пользой на военную службу»[347]. Такую же судьбу Петр мог готовить и Павлу.
«На немецкий образец»
Повисший в воздухе вопрос о наследнике, как и промедление с коронацией давали богатую пищу для неблагоприятных толков и в конечном счете расшатывали власть молодого монарха. Одной из причин переворота было неумение наладить контакт с гвардией. Той самой силой, которая на протяжении четверти века держала судьбу престола в своих руках.
Следует помнить, что недовольство армейских и гвардейских слоев — суть разные вещи. В первом случае, лишив войска надежды на щедрые пожалования после контрибуции, Петр залез армии в карман. Однако он совершил и давно ожидаемые шаги, которые не могли не обрадовать офицерский корпус. Император отодвинул на второй план елизаветинских назначенцев, людей придворных, штатских, ничего не понимавших в войне. Вместо них командование получили представители молодого поколения, хорошо показавшие себя в минувших сражениях. Так, Захару Чернышеву, герою взятия Берлина, император поручил присоединиться с корпусом к войскам Фридриха II, чтобы оказать тому помощь против австрийцев. Командующим армией против Дании был назначен П. А. Румянцев, истинный виновник победы при Гросс-Егерсдорфе. За собой на серьезные должности они должны были потянуть способных молодых офицеров среднего звена. Этому обстоятельству можно было только радоваться.
В армии, как и везде, Петр портил свою репутацию сам. Ведь подчинение вчерашним побежденным унижало русских. Нужен был большой такт, чтобы не задевать их самолюбия. Фридрих II им обладал, недаром он устроил в Потсдаме прекрасный прием для Румянцева, с маневрами в его честь и совершенно очаровал будущего фельдмаршала. А вот император был начисто лишен способности понимать чужие чувства. Раз он восхищался Пруссией, то как другие могли не делать того же?
27 апреля 1762 года Петр писал королю: «Я повелел генералу Чернышеву… подойти к вашей армии с 15 000 правильного войска и тысячью казаков, приказав, по мере возможности, исполнять приказания вашего величества. Это лучший наш генерал после Румянцева… Но если бы Чернышев и ничего не умел, он бы не мог дурно воевать под предводительством такого великого генерала, как ваше величество»[348]. Захар Григорьевич недолго продержался в чести. Щербатов писал: «Чернышев, при бывшей пробы российской и прусской взятой в плен артиллерии, за то, что старался доказать, что российская артиллерия лутче услужена, не получил за сие андреевской ленты, которые тогда щедро были раздаваемы»[349].
Знаменитые «шуваловские» гаубицы действительно и стреляли дальше, и взрывались реже. Но Петр не желал признавать очевидного и тем обижал подданных. «В шуме праздников и даже в самом коротком обхождении с русскими, — писал Рюльер, — он явно обнаруживал к ним свое презрение беспрестанными насмешками»[350]. Шумахер даже не замечал, как режут ухо его слова о благих начинаниях ученика: «Рассматривает все сословия в государстве и имеет намерение поручить составить проект, как поднять мещанское сословие в городах России, чтоб оно было поставлено на немецкую ногу… Разослать немецких ремесленников по русским городам, чтоб они… обучали русских мальчиков и заставляли их работать на немецкий образец… Послать в Германию, Голландию и Англию несколько даровитых купеческих сыновей, чтоб изучить бухгалтерию и коммерцию и устроить русские конторы на иностранный образец»[351].
Все эти начинания были и своевременны, и полезны. Приток европейских специалистов в Россию при Екатерине II несказанно возрос, государство тратило большие суммы на содержание пансионеров за границей и перенос на русскую почву западных технологий. Эти шаги воспринимались обществом как продолжение курса Петра I и вызывали похвалу. Почему же отвергались начинания внука великого преобразователя? Что он делал не так?
Рискнем сказать: то, что Екатерина предпринимала для блага России, совершалось Петром из презрения к ней. И это все замечали. Императрица умела щадить национальное самолюбие, ей были за это благодарны. Рюльер привел полулегендарное свидетельство о попытке молодого императора одним наскоком изменить «варварское» отечественное законодательство. То, над чем Екатерина работала 34 года, потребовало от ее мужа совсем простого шага. Он взял кодекс Фридриха II и прислал в Сенат. «Был приказ руководствоваться им во всей России. Но по невежеству переводчиков или по необразованности русского языка, бедного выражениями в юридических понятиях, ни один сенатор не понимал сего творения, и русские в тщетном опыте сем видели только явное презрение к своим обыкновениям и слепую привязанность к чужеземным правам»[352].
В шагах Петра проглядывало какое-то поспешное насилие. Характерно стремление императора заменить названия коренных русских полков. Прежде они именовались по городам страны, теперь — по именам шефов, в значительной части немцев. Так разрывалась связь с землей, неприятной для Петра. Его армия пестрела не только другой формой, но и откликалась на другой язык. Чисто психологически государю так было уютнее. Что до остальных, то кто спрашивал их мнения? У многих имелись и более приземленные поводы для неудовольствия.
«Фельдмаршалы и прочие генералы, которые были вместе полковниками, подполковниками и майорами гвардейских полков, должны были лично командовать своим полком, когда при дворе сменялась стража, и стоять перед фронтом во время парада, — сообщал Штелин. — Это исполняли: фельдмаршалы граф Миних, князь Никита Юрьевич Трубецкой, гетман граф Разумовский и другие, которые до этого… не только не брали в руки эспадрона, но и не учились новой экзерциции… Каждый из них держит у себя в доме молодого офицера… и раза по три-четыре в день берет у него уроки»[353]. Большинство таких «полковников» были людьми придворными, носившими списочные чины. Их до крайности обременяла повседневная служба. А император не мог отказать себе в удовольствии поиздеваться на плацу над толстыми, старыми генералами или молодыми, но совершенно негодными к строю, такими, например, как гетман Разумовский, вызывавший особый смех Петра[354].
Показателен случай с Иваном Шуваловым. 24 апреля Петр назначил его «главноначальствующим» Шляхетского корпуса. Эта должность предусматривала участие в экзерцициях. Старинный приятель Шувалова И. Г. Чернышев писал бывшему фавориту: «Простите, любезный друг, я все смеюсь, лишь только представлю вас в гетрах, как вы ходите командовать всем корпусом и громче всех кричите: на караул!»[355]
А. Т. Болотов описал забавную сценку, раз увиденную им на улице: «Шел тут строем деташемент гвардии, разряженный, распудренный и одетый в новые тогдашние мундиры, и маршировал церемонию. Но ничто меня так не поразило, как идущий перед первым взводом низенький и толстенький старичок с своим эспадроном и в мундире, унизанном золотыми нашивками… „Это что за человек?“ — спросил я. „Как! Разве вы не узнали? Это князь Никита Юрьевич Трубецкой!“ — „Как же это? Я считал его дряхлым и так болезнью ног отягощенным… что он за тем и во дворец, и в Сенат по несколько недель не ездил…“ „О! — отвечали мне. — Это было во время оно; а ныне… больные, и не больные… поднимают ножки и топчут грязь, как солдаты“[356].
„Зачем и куда нас ведут?“
Казалось, император с такой преобладающей склонностью к военным маневрам — тренировочным лагерям, игрушечным крепостям, учебной пальбе, парадам, разводам, караулам — должен был стать любимцем гвардии. Однако в реальности дело обстояло иначе.
Гвардия оказалась той частью войска, которая раньше всех, на своей шкуре почувствовала руку нового самодержца. Штелин приписывал ученику следующие слова: „Еще будучи великим князем называл он янычарами гвардейских солдат, живущих на одном месте в казармах с женами и детьми, и говорил: „Они только блокируют резиденцию, не способны ни к какому труду, ни к военной экзерциции и всегда опасны для правительства““[357].
Справедливость этого мнения подтверждают многие наблюдатели. Шумахер писал о гвардейцах: „В правление императрицы Елизаветы они привыкли к безделью. Их боеготовность была очень низкой, за последние двадцать лет они совершенно разленились, так что их скорее стоит рассматривать как простых обывателей, чем как солдат. По большей части они владели собственными домами, и лишь немногие из них не приторговывали, не занимались разведением скота, или еще каким-нибудь выгодным делом. И этих-то изнеженных людей Петр III стал заставлять со всей мыслимой строгостью разучивать прусские военные упражнения. При этом он обращался с пропускавшими занятия офицерами почти столь же сурово, как и с простыми солдатами. Этих же последних он часто лично наказывал собственною тростью из-за малейших упущений в строю“[358]. Ассебург добавлял: „Случалось, что на ежедневных учениях солдаты падали от изнеможения, и Петр приказывал их убирать, а на их место ставить других“[359]. Как не вспомнить игрушечных солдатиков?
Если бы не эти отзывы, слова Екатерины II о рукоприкладстве мужа на парадах можно было бы счесть очередным „преувеличением“: „Часто случалось, что этот государь ходил смотреть на караул и там бил солдат или зрителей, или же творил сумасбродства со своим негром или со своими любимцами, и это — зачастую в присутствии бесчисленной толпы народа“[360].
Пример „сумасбродства“ привела княгиня Дашкова. Негра звали Нарциссом и однажды во время учений Измайловского полка он подрался с полковым профосом (экзекутором). Сперва эта сцена позабавила императора, но когда ему сказали, с кем произошла потасовка, Петр крайне огорчился. „Нарцисс потерян для нас! — воскликнул он. — …Уж ни один военный не может терпеть его в своем обществе, так как тот, к кому прикоснулся профос, опозорен навсегда“. Шеф полка Кирилл Разумовский в шутку предложил накрыть негра полковым знаменем и тем смыть с него позор. Идея так понравилась государю, что тот расцеловал гетмана. Во время „очистительного обряда“ Петр приказал уколоть негра пикой, „которой заканчивалось знамя, чтобы он кровью смыл свой позор. Нарцисс кричал и бранился, а офицеры испытывали настоящие муки, не дерзая смеяться, так как император смотрел на эту шутовскую сцену“ совершенно серьезно[361].
Можно сказать, что княгиня слишком строга и придает простой шалости больше значения, чем та заслуживала. Но дело в несовпадении реакции государя и окружающих на одни и те же события. В психологическом барьере, который существовал между Петром и подданными. Впрочем, „невероятные выходки“ императора далеко не всегда были столь безобидны. Дашкова привела случай, произошедший с ее мужем.
„Однажды, в первой половине января, утром, в то время как гвардейские роты шли во дворец и на вахтпарад и на смену караула, императору представилось, что рота, которой командовал князь, не развернулась в должном порядке. Он подбежал к моему мужу, как настоящий капрал, и сделал ему замечание. Князь… ответил с такой горячностью и энергией, что император, который о дуэли имел понятие прусских офицеров, счел себя, по-видимому, в опасности и удалился так же поспешно, как и подбежал“[362].
Как видим, Петр не был готов к тому, что офицер станет себя защищать. Слово „дуэль“ возникло неслучайно. Пытаясь „подтянуть“ гвардию, похожим образом будут себя вести и Павел I, и его сыновья великие князья Константин, Николай и Михаил, распекавшие подчиненных и, случалось, замахивавшиеся на них то эспадроном, то шпагой. Это не раз ставило царевичей на грань дуэли. Но во времена Петра III европейские понятия о дворянской чести в России еще только формировались.
Вернемся к Шумахеру. „Вместо удобных мундиров, которые действительно им шли, он велел пошить им короткие и тесные, на тогдашний прусский манер, — писал датчанин о приказах императора по гвардии. — Офицерам новые мундиры обходились чрезвычайно дорого из-за золотого шитья“. а рядовым слишком узкая, тесная форма мешала обращаться с ружьями». Новую форму не ругал только ленивый. Даже Штелин не смог обойти этого больного момента: «Когда он уничтожил мундиры гвардейских полков, существовавшие со времен Петра Великого, и заменил их короткими прусскими кафтанами, ввел белые узкие брюки, тогда гвардейские солдаты и с ними многие офицеры начали тайно роптать и дозволили подбить себя к возмущению»[363].
Конечно, причиной переворота стали не белые штаны, а целая совокупность неудобств и раздражающих нововведений. Роль привилегированных полков Петр решил отдать своим голштинским войскам, увеличив их за счет иностранных подданных. Вербовщиков направили в Лифляндию и Эстляндию, где им было приказано выбирать солдат не из русских подданных. Другие поехали в Малороссию, имея предписание не вербовать православных украинцев, а искать волохов (молдован) и поляков[364]. Конечно, у Петра не было ни малейших оснований доверять русским. Но он действовал слишком демонстративно.
Самой ненадежной частью гвардии Петр считал Лейб-кампанию — своего рода гвардию в гвардии, созданную Елизаветой Петровной в память о перевороте 1741 года. Эти преданные покойной императрице и обласканные ею люди были особенно недовольны. В 1758 году Екатерина рассчитывала на них. Петр этого не забыл. Лейб-кампания была распущена, и, по верному замечанию Мадариаги, ее солдаты сеяли теперь недовольство в других полках[365].
Ропот мог продолжаться долго и даже постепенно сойти на нет, если бы Петр сам не поднес спичку к пороховому погребу. Гвардии предстояло покинуть Петербург и двинуться в Германию. Не стоило оставлять в столице войска, склонные к мятежу. Но каким-то роковым образом совершенно правильные шаги императора вели его к гибели.
Г. Р. Державин, служивший в Преображенском полку, вспоминал, что накануне переворота «один пьяный из его сотоварищей солдат, вышед на галерею, зачал говорить, что когда выйдет полк в Ямскую (разумеется… поход в Данию), то мы спросим, зачем и куда нас ведут, оставя нашу матушку Государыню, которой мы рады служить»[366]. Таким образом, гвардейцы были готовы начать мятеж на марше.
«Больно было все то видеть»
Состояние подданных хорошо передал Болотов, негодовавший на императора, но не примкнувший к заговорщикам. Андрею Тимофеевичу приходилось в числе других адъютантов бывать во дворце и наблюдать государя во время «пиршеств» с «итальянскими театральными певицами, актрисами, вкупе с их толмачами», где тот разговаривал «въявь, обо всем и даже о самых величайших таинствах и делах государственных». «Голос у него был очень громкий, скоросый и неприятный, и было в нем нечто особое, что отличало его от прочих голосов, [так] что можно было слышать издалека, — писал мемуарист. — …Скоро дошло до того, что мы желали уже, чтобы таковые разговоры до нашего слуха и не достигали; ибо как редко стали уже мы заставать государя трезвым и в полном уме… а чаще уже до обеда несколько бутылок аглицкого пива… опорожнившим… Он говаривал такой вздор и такие нескладицы, что при слушании оных обливалось даже сердце кровью от стыда перед иностранными министрами, видящими и слышащими то и, бессомненно, смеющимися внутренно… Бывало, вся душа так поражается, что бежал бы неоглядно от зрелища такового: так больно было все то видеть и слышать».
Однажды Болотову пришлось наблюдать, как пьяные гости императора, выйдя на балкон, а оттуда в сад, начали играть на усыпанной песком площадке. «Ну все прыгать на одной ножке, а другие согнутым коленом толкать своих товарищей» под зад. И это на глазах у «табуна» трезвых «адъютантов и ординарцев». «А по сему судите, каково ж нам было… видеть первейших государственных людей, украшенных орденами и звездами, вдруг спрыгивающих, толкающихся и друг друга наземь валяющих». Стыд, жгучий стыд за происходящее стал одним из катализаторов переворота. «Отваживались публично и без всякого опасения… судить все дела и поступки государевы. Всем нам тяжелый народный ропот и всеобщее час от часу увеличивающееся неудовольствие на государя было известно… Нередко, сошедшись на досуге, все вместе говаривали мы о тогдашних обстоятельствах и начали опасаться, чтоб не сделалось вскоре бунта… от огорченной до крайности гвардии»[367].
Те же разговоры шли и в кругу друзей князя Дашкова. Екатерина Романовна не раз выражала возмущение происходящим, молодые офицеры соглашались с ней, называли своих приятелей, думавших так же. В конце концов, отважившись на прямое объяснение с Паниным, племянница назвала ему всего несколько фамилий: «двое Рославлевых, Ласунский, Пассек, Бредихин, Баскаков, Хитрово, князь Барятинский и Орловы» — и уже этим несказанно напугала осторожного вельможу.
С. М. Соловьев заметил: «Дашкова постоянно употребляет слово заговор, но из ее рассказа прямо выходит, что заговора не было, а был один разговор»[368]. Это не совсем верно даже для княгини, которую императрица около полугода не осведомляла об усилиях своих сторонников в гвардии. Заговору действий предшествовал заговор мнений. Последний — видимая часть айсберга. Что под водой, не всякому дано знать. При возбуждении же недовольства Екатерина Романовна была крайне полезна своими неосторожными речами и прямолинейными оценками.
Настоящий комплот зрел под рукой императрицы и ее эмиссаров Орловых. Нет никаких оснований сомневаться, что нити сходились к Екатерине. Уже после переворота она с заметным раздражением писала Понятовскому о Дашковой: «Хотя она (княгиня. — О. Е.) и заявляет, что все, что произошло со мной, прошло через ее руки, не следует забывать, что заговорщики были связаны со мной в течение шести месяцев, и задолго до того, как она узнала их имена»[369].
В одной из редакций воспоминаний наша героиня писала: «Образовались различные партии, которые думали помочь бедствиям своей родины; каждая из этих партий обращалась к ней (Екатерина говорила о себе в третьем лице. — О. Е.) в отдельности и одни совершенно не знали других. Она их выслушивала, не отнимала у них всякой надежды, но просила подождать… Видя, однако, что дела идут все хуже, императрица дала знать различным партиям, что пришло время соединиться и подумать о средствах»[370].
Понятовскому Екатерина сообщала: «Мы были уверены в поддержке многих офицеров гвардии. Все нити были в руках братьев Орловых», людей «исключительно решительных» и «любимых солдатами». «Умы гвардейцев были подготовлены в последние дни, в заговоре участвовало от тридцати до сорока офицеров и более десяти тысяч рядовых. За три недели не нашлось ни одного предателя. Все были разделены на четыре изолированные фракции, вместе собирались только их руководители, чтобы получить распоряжения, а подлинный план действий был в руках троих братьев»[371].
Только при благосклонном невнимании полиции можно было проводить безнаказанную агитацию в городе. Поэтому старый, еще кёнигсбергский приятель Орлова — Болотов, флигель-адъютант генерал-полицмейстера Н. А. Корфа, мог послужить мятежникам глазами и ушами в окружении своего начальника. Весной Григорий встретился с Болотовым в доме Корфа и стал старательно зазывать знакомца к себе на Мойку. Однако Андрей Тимофеевич всякий раз отговаривался.
А вот Корф — «генерал наш» — напротив, принял Орлова и, «поцеловав его, взял за руку и повел его к себе в кабинет и пробыл там с ним более часа. Что они говорили, я уже не знаю, — писал Болотов, — а видел только, что генерал унял его у себя обедать, говорил и обходился с ним дружески». Есть основания думать, что начальник полиции, лично не входя в заговор, покрывал его участников. Какое-то время Петр III благоволил к Корфу, но в мае охладел, и тот оказался почти в немилости. Он попытался переметнуться на сторону Екатерины, часто бывал у нее в покоях[372].
Болотов был одним из немногих, кого позвали в заговор, а он отказался. Зато другие прямо-таки рвались в число мятежников. Так, молодой вахмистр Конной гвардии Григорий Потемкин, ординарец принца Георга, едва услышав от своего товарища Д. Л. Бабарыкина, что того пытается завербовать родственник, прапорщик Преображенского полка Михаил Баскаков, «тотчас попросил познакомить его с Баскаковым и, не медля, пристал к заговору». Кстати, сам Бабарыкин, так же как и Болотов, «почел для себя неприличным согласиться на предложение», зная «образ жизни Орловых»[373]. Каждый выбирал свой путь.
Порой борьба разворачивалась даже за участие в заговоре рядовых солдат. Алексей Орлов, взявшийся уговаривать Преображенского гренадера Андрея Стволова, получил в ответ, что он-де Стволов ни в какой заговор не пойдет, если не получит знака лично от государыни. Условились, что во время гулянья в саду Летнего дворца Екатерина подаст преображенцу руку. «У меня руку все целовали, — вспоминала наша героиня. — Он стоял в аллее у моста, а как скоро, поравнявшись с ним, дала ему руку, то, поцеловав, полились у него в три ручья слезы, и я, оторопев, отошла»[374].
Рюльер рассказывал ту же историю несколько по-иному: «Однажды, проходя темною галерею, караульный отдал ей честь ружьем; она спросила, почему он ее узнал? Он ответил в русском, несколько восточном вкусе: „Кто тебя не узнает, матушка наша? Ты освещаешь все места, которыми проходишь“. Она выслала ему золотую монету, и поверенный ее склонил его в свою партию»[375]. Впрочем, может быть, это был другой солдат. Поцелуй ли руки, милостивое ли обращение, золотая ли монетка — а десять тысяч нижних чинов — не пустяк.
«Фракции»
После родов Екатерина посчитала нужным выйти из тени. 21-го числа «день рождения Ее императорского величества отпразднован с поздравлениями, — писал Штелин. — Большой стол в покоях императрицы. Вечером концерт, на котором играл Его императорское величество в продолжение 3 часов без перерыва»[376]. Профессор упустил любопытную деталь: на празднике в покоях мужа Екатерина «так и не появилась»[377]. Зато на это обратили внимание иностранные послы. Государыня приняла поздравления днем, на своей половине.
Впервые за три с половиной месяца, прошедшие с кончины Елизаветы, супруга Петра III открыто проявила враждебность по отношению к мужу. «Я не хочу совершенно отказываться от независимости, без которой нет характера»[378], — писала она Дашковой.
Апрель стал временем активизации действий заговорщиков. До этого княгиня, по собственному признанию, редко виделась с офицерами, друзьями мужа. Лишь в середине весны она «нашла нужным узнать настроение войск и петербургского общества»[379]. 24 апреля был подписан трактат о мире с Пруссией. Час для агитации пробил.
О группе Дашковой Шумахер писал: «Они устраивали совещания на квартире у юной, еще не достигшей двадцатилетнего возраста княгини… Эта небольшая и маловлиятельная партия привлекла на свою сторону, главным образом благодаря усилиям братьев Орловых, три роты Измайловского полка, которые высказались в пользу императрицы Екатерины. Замысел состоял в том, чтобы 2 июня старого стиля, когда император должен был прибыть в Петербург, поджечь крыло нового дворца. В подобных случаях император развивал чрезвычайную деятельность, и пожар должен был заманить его туда. В поднявшейся суматохе главные заговорщики под предлогом спасения императора поспешили бы на место пожара, окружили Петра III, пронзили его ударом в спину и бросили тело в одну из объятых пламенем комнат. После этого следовало объявить тотчас о гибели императора при несчастном случае и провозгласить открыто императрицу правительницей»[380].
Рюльер приписывал сторонникам Дашковой не менее кровожадные планы: «Если бы желали убийства, тотчас было бы исполнено, и гвардии капитан Пассек лежал бы у ног императрицы, прося только ее согласия, чтобы среди белого дня в виду целой гвардии поразить императора. Сей человек и некто Баскаков, его единомышленник, стерегли его (Петра III. — О. Е.) дважды подле того самого пустого домика, который прежде всего Петр Великий приказал построить на островах… Это была уединенная прогулка, куда Петр III хаживал иногда по вечерам со своей любезною, и где сии безумцы стерегли его из собственного подвига. Отборная шайка заговорщиков под руководством графа Панина осмотрела его комнаты, спальню, постель и все ведущие к нему двери. Положено было в одну из следующих ночей ворваться туда силою, если можно, увезти; будет сопротивляться, заколоть и созвать государственные чины, чтобы отречению его дать законный вид»[381].
Медлительного Никиту Ивановича трудновато представить во главе «шайки» заговорщиков, осматривающим место грядущего преступления. А Екатерина Романовна, такой как предстает в мемуарах, мало напоминала образ, годом позднее нарисованный английским послом лордом Д. Г. Бёкингхэмширом: «Если бы когда-либо обсуждалась участь покойного императора, ее голос неоспоримо осудил бы его, если бы не нашлось руки для выполнения приговора, она взялась бы за это»[382].
Мы привели эти свидетельства для того, чтобы показать: в первое время после переворота в дипломатической среде вовсе не исключали причастности представителей вельможной группировки к устранению Петра. Но на этапе складывания заговора до роковой развязки было еще далеко.
Дашкова не ограничилась одной «узкой маловлиятельной партией». Она попыталась вовлечь в комплот людей солидных, которые, как оказалось в дальнейшем, и сами предпринимали кое-какие действия в пользу императрицы. Панин, несмотря на пожалованный чин и внешнее благоволение Петра, серьезно задумывался о своем будущем. Видимо, государь действительно хотел поменять систему воспитания сына на военную. Это значило, что Никита Иванович должен расстаться с местом воспитателя потенциального наследника. 30 марта Гольц доносил Фридриху II, что император планирует послать Панина в Стокгольм, чтобы провести переговоры о включении Швеции в мирный договор между Россией и Пруссией[383]. Швеция нужна была Петру как союзник против Дании, и он всерьез рассчитывал на ее флот. Мало того что подобная миссия была крайне неприятна Никите Ивановичу, поскольку противоречила всему, что он делал прежде в Стокгольме как посол. Она еще и отрывала его от Павла. Между тем именно возможность представлять интересы цесаревича давала Панину большой политический вес.
Никита Иванович не любил торопиться и долгое время лишь обдумывал ситуацию. В отличие от него Дашкова обожала забегать вперед. С апреля Екатерина Романовна, чувствуя накалявшуюся атмосферу, начала формировать свою группу. Сперва все заинтересованные лица таились друг от друга. Однако долго скрывать что-либо в гвардейской среде, где действовали вербовщики из обеих партий, было трудно. Рано или поздно «друзья-офицеры» Дашковой должны были столкнуться со сторонниками Орловых.
«Княгиня, уверенная в расположении знатных, испытывала солдат, — писал Рюльер. — Орлов, уверенный в солдатах, испытывал вельмож. Оба, не зная друг друга, встретились в казармах и посмотрели друг на друга с беспокойным любопытством. Императрица… посчитала за нужное соединить обе стороны»[384]. Конечно, встреча произошла не в казармах. Явление там княгини Дашковой выглядело бы крайне неприличным. Есть сведения, что вожди заговора сходились в доме банкира Кнутсена на Морской улице, в доме Орловых на Мойке и на Зеленом мосту через Мойку[385], который упомянут и у Дашковой.
К июню братание гвардейских «фракций» уже произошло, потому что в разговоре с Паниным княгиня упомянула не только свою компанию, но и Орловых. При этом ей представлялось, что именно ее друзья вовлекли братьев в дело. «Он стоял за соблюдение законности и за содействие Сената», — писала Дашкова о дяде.
«— Конечно, это было бы прекрасно, — ответила я, но время не терпит. Я согласна с вами, что императрица не имеет прав на престол и по закону следовало бы провозгласить императором ее сына, а государыню объявить регентшей до его совершеннолетия; но вы должны принять во внимание, что из ста человек девяносто девять понимают низложение государя только в смысле полного переворота…
Словом, я убедилась, что моему дяде при всем его мужестве не хватает решимости»[386].
Это описание не противоречит собственному рассказу Панина в беседе с Ассебургом. «Неудовольствие особенно распространилось между солдатами, и гвардия громко роптала на него (Петра III. — О. E.). За несколько недель до переворота Панин вынужден был вступить с ними в объяснения и обещать перемену, лишь бы воспрепятствовать немедленному взрыву раздражения… Знал ли о том Петр или нет, только он действовал по-прежнему, что и побудило Панина за четыре недели до переворота озаботиться предоставлением престола другому лицу, без пролития крови и не причиняя несчастия многим лицам»[387].
Ту же дату — за четыре недели до переворота — но уже не в отношении Панина, а в отношении самой Дашковой называла Екатерина в письме Понятовскому: «Только олухи могли ввести ее в курс того, что было известно им самим — а это были в сущности лишь очень немногие обстоятельства… От княгини Дашковой приходилось скрывать все каналы тайной связи со мной в течение пяти месяцев, а последние четыре недели ей сообщали лишь минимально возможные сведения»[388]. Отзыв императрицы подтверждается ее записками к подруге, в которых она старалась отговорить последнюю от визитов: «Я считаю крайней глупостью бросаться, очертя голову, в руки врагов. Если мои друзья не могут безопасно видеть меня, я хотела бы лучше лишить себя удовольствия встречаться с ними, чем приносить их в жертву»[389].
Итак, главные участники заговора узнали о существовании друг друга только за месяц до решающих событий. При этом Дашкова сыграла важную роль медиатора между гвардейскими заговорщиками и вельможами. Родство с Паниным позволяло ей действовать, не привлекая особого внимания. Результат был не совсем во вкусе императрицы. «Мой дядя воображал, что будет царствовать его воспитанник, следуя законам и формам шведской монархии», — писала княгиня.
Но Панин при всей видимой нерешительности был человеком опытным и искушенным в интригах. Во время первого же разговора ему удалось, что называется, «перевербовать» Екатерину Романовну и сделать ее сторонницей своего плана по возведению на престол Павла Петровича. Княгиня даже дала ему слово поговорить об этом с гвардейцами. «Я взяла с моего дяди обещание, что он никому из заговорщиков не обмолвится ни словом о провозглашении императором великого князя, потому что подобное предложение, исходя от него, воспитателя великого князя, могло вызвать некоторое недоверие. Я обещала ему в свою очередь самой переговорить с ними об этом; меня не могли заподозрить в корысти, вследствие того, что все знали мою искреннюю и непоколебимую привязанность к императрице. Я действительно предложила заговорщикам провозгласить великого князя императором, но Провидению не угодно было, чтобы удался наш самый благоразумный план»[390].
Подобная шаткая позиция и сделала Дашкову ненадежной в глазах основной группы заговорщиков. Екатерина не слишком доверяла Панину да и вообще своим сторонникам из числа придворных. Этому ее научил горький опыт опалы Бестужева. В 1758 году ни Алексей, ни Кирилл Разумовские, в отличие от Бестужева, не пострадали. Но гетман пережил немалый страх. Он не шел на сближение с заговорщиками, хотя молодые офицеры из группы Дашковой предприняли для этого немалые усилия. «Два брата Рославлевы, один майор, другой капитан Измайловского полка, и Ласунский, капитан того же полка, имели большое влияние на графа; они каждый день бывали у него на самой дружеской ноге, но не надеялись заставить его действовать в нашем смысле. Я посоветовала им каждый день сперва неопределенно, затем и более подробно говорить ему о слухах, носившихся по Петербургу на счет готовящегося большого заговора и переворота… Когда же наш план созреет полностью, они откроются ему и дадут ему чувствовать, что он… рискует менее, если станет во главе своего полка и будет действовать за одно с ними»[391]. Не рассчитывая на одних друзей-офицеров, Екатерина Романовна прибегла еще и к посредничеству Панина.
Уже накануне переворота в 10 часов вечера заговорщики из гвардейской группы, не уверенные в содействии гетмана, явились к нему с прямым требованием принять участие в перевороте и даже угрожали арестом в случае отказа. «Ближе к вечеру Николай Рославлев, премьер-майор Измайловского полка, собрал свой полк и раскрыл солдатам собственные замыслы, — писал Шумахер. — …Весь полк тот час же единодушно высказался за императрицу Екатерину. Тогда указанный майор вместе с лейтенантом Алексеем Орловым около 10 часов вечера отправились к гетману… Они объявили ему единогласное мнение подчиненного ему полка и самым твердым образом потребовали ответить, присоединится ли он к ним или нет… Если он, вопреки их надеждам, откажется, его тот час задержат и содержать под арестом его будет его же собственная охрана… Поэтому он тот час же вышел к собранному полку… и выразил свое удовлетворение принятым ими решением»[392].
Датский дипломат не знал, что Орловы уже побывали у гетмана, и к 10 часам вечера Кирилл Григорьевич успел распорядиться о печатании в подведомственной ему типографии Академии наук Манифеста о восшествии Екатерины на престол. Как говорится, старый друг лучше новых двух. Помимо симпатии к Екатерине у Кирилла Григорьевича, как и у Панина, имелись личные причины примкнуть к заговору. То, что император издевался над ним на плацу — еще полбеды. Но Петр захотел передать гетманство своему любимцу Андрею Гудовичу[393], а это значило потерю очень высокого положения и очень солидного дохода. Сохранился забавный анекдот о том, что Разумовский не вышел для встречи к Григорию Орлову, крикнув через дверь: «Что тут говорить? Тут делать надо».
Императрица очень осторожно упоминала о разногласиях в стане ее сторонников. «Не все были одинакового мнения: одни хотели, чтобы это совершилось в пользу его (Петра III. — О. Е.) сына, другие — в пользу его жены»[394]. О «других» мы наслышаны. А вот среди первых сама Екатерина упоминала только воспитателя Павла. «Панин хотел, чтобы переворот состоялся в пользу моего сына, — сообщала она Понятовскому, — но они (Орловы. — О. Е.) категорически на это не соглашались»[395]. Что касается Дашковой, то в переписке с Екатериной она проявляла такую же шаткость позиции, как и в разговоре с дядей. Это видно из ответа императрицы: «Вы охотно освобождаете меня от обязательства в пользу моего сына; чувствую всю вашу доброту»[396]. Вопрос о том, кто наденет корону, пока для заговорщиков оставался открыт.
Презренный металл
Переворот, как и любое дело, требовал денег. Эта мысль почему-то вызывает стыдливое неприятие у одних ученых и злорадное торжество других: подкуп солдат — первый признак неискренности их намерений, вместо патриотических чувств — звонкая монета. Между тем гвардия уже полгода не получала жалованья, но должна была на что-то жить. Если об этом не подумал император, то подумали его противники.
Вельможных сторонников Екатерина могла соблазнить, посулив более высокое положение. «Значительные особы убеждались по тайным с нею связям, что они были бы гораздо важнее во время ее правления»[397], — замечал Рюльер. Что касается простых солдат, то им нужен был хлеб насущный. У французских авторов, писавших по горячим следам о «петербургской революции», мелькают сообщения, будто государыня «раздала золото, деньги и драгоценности, которыми обладала»[398]. Прусский посланник Гольц в конце августа 1762 года доносил Фридриху II, что «Панин… давно уже снабжал императрицу суммами, которые были употреблены на подготовление великого события»[399], то есть переворота.
Кроме того, Екатерине удалось устроить Орлова на должность цалмейстера (казначея) при генерал-фельдцейхмейстере (командующем артиллерией). Сначала шефом Григория был П. И. Шувалов, а после его смерти — генерал-лейтенант Александр Никитич Вильбоа. Некогда он состоял камер-юнкером при малом дворе, но был удален на военную службу, поскольку великокняжеская чета его отличала. Теперь Екатерине пригодилась старая дружба. Хотя Вильбоа примкнул к императрице только в день переворота, он, как и многие, догадывался о том, что готовится в городе. Без его благожелательного невмешательства Орлов вряд ли смог бы свободно распоряжаться артиллерийской казной.
Негодование служивых против Петра Федоровича только усиливалось тем, что материальную помощь они получали не от законного государя, а от его жены. 25 июня, за три дня до переворота, французский поверенный в делах Беранже доносил в Версаль: «Весьма ощущается недостаток в средствах. Никто не получает причитающегося ему жалования, и ропот недовольства возрастает с каждым днем… Уверяют, что мятежный дух распространился уже до Казани. Но это не мешает царю находиться в самой надежной безопасности. Он проводит время в Ораниенбауме, окруженный своими солдатами, дает балы и посещает оперные представления. С ним самые красивые женщины, мужей которых я вижу грустно прогуливающимися в городских садах»[400].
Обратим внимание на последнюю деталь. 28 июня окажется, что многие мужья — офицеры, чиновники и придворные — примкнули к Екатерине, а их жены находятся в свите Петра III. Бедняжкам пришлось пережить и плавание в Кронштадт, и угрозы императора сделать их заложницами, чтобы заставить взбунтовавшихся супругов сложить оружие… И такие причины бывают у переворотов.
Вернемся к презренному металлу. Екатерина ясно сознавала нехватку денег. По старой привычке первым, к кому она обратилась за помощью, был британский посол. Уже после переворота, 6 июля, Гольц узнал об этом и донес в Берлин Фридриху II: «Кейт в начале своего пребывания здесь давал государыне взаймы, в надежде, что это поможет ему быть главным липом при перемене правления; впоследствии он увидел, что это ник чему не привело. Со смерти покойной императрицы к Кейту прибегали еще раз, чтобы получить от него еще некоторое количество денег; но он отказал… так как он уже присмотрелся и видел, как мало влияния государыня имела на своего супруга. Теперь он не может похвалиться, что государыня на него за это не сердится»[401].
Однако британское посольство было не единственным, кто отказал Екатерине в помощи. Несмотря на симпатию, которую наша героиня вызывала у Бретейля, французские дипломаты тоже не верили в ее «кредитоспособность». Это тем более странно, что посланник постоянно фиксировал рост недовольства Петром, популярность его жены и не скрывал перед начальством возможность «крайних мер», на которые готовы друзья императрицы. Тем не менее, когда Екатерина обратилась к нему за субсидией, он уклонился от ответа. Более того — поспешно уехал из Петербурга.
Формально Бретейль испросил отпуск. 3 июня он вручил канцлеру письмо, сообщавшее об отлучке. И тут его посетил Джованни Микеле Одар, управляющий имениями Екатерины и ее доверенное лицо. Одар намекнул Бретейлю на грядущие перемены, которые могут быть очень выгодны Франции ввиду разрыва нынешнего правительства с союзниками. И попросил финансовой помощи. Памятуя о печальной участи маркиза де Ла Шетарди, Бретейль проявил осторожность и отделался туманными обещаниями. Накануне отъезда Одар посетил его вновь.
«Императрица, — заявил посланец, — поручила мне доверить вам, что побуждаемая самыми верными своими подданными и доведенная до отчаяния обращением с ней супруга, она решилась на все, чтобы положить этому конец. Не зная, когда ей удастся исполнить свое мужественное решение и какие затруднения представятся ей на пути, она спрашивает вас, может ли король помочь ей шестьюдесятью тысячами рублей, если у вас есть кредит в Петербурге и вы можете вручить эту сумму лицу, которое передаст ее императрице в обмен на расписку»[402].
Бретейль заколебался. Он не хотел, чтобы его впутывали в заговор, и заявил, что Людовик XV не вмешивается во внутренние дела чужих государств. Это было ложью, опровергаемой хотя бы примером Шетарди. Бретейль сказал, что ему необходимо получить разрешение короля на выдачу такой крупной суммы, но для этого потребуется документ с просьбой о предоставлении денег. Пусть он будет ни к чему не обязывающим, но написанным рукой императрицы. Например: «Я поручила подателю этой записки пожелать вам счастливого пути и попросить вас сделать несколько небольших закупок, которые прошу вас доставить мне как можно скорее»[403].
Если приведенный рассказ и не может быть проверен в деталях, то сам факт просьбы о помощи и отказ в ней подтверждаются упреками, которые герцог Шуазель позднее сделал Бретейлю за отъезд из Петербурга и неучастие в тамошних делах. Поведи себя посланник иначе, и влияние Парижа на русский кабинет было бы возвращено.
Но молодой дипломат испугался. Он не верил в успех переворота и боялся оставаться в России. Его близкие контакты с императрицей после раскрытия заговора показались бы подозрительными. 15 июня Бретейль покинул Петербург, а накануне нанес официальный визит Екатерине, чтобы засвидетельствовать свое почтение. На глазах у приближенных императрица не могла говорить о волновавшем ее предмете, тем не менее она передала Бретейлю письмо для Станислава Понятовского, так как посланник ехал через Варшаву. После возвращения из дворца Бретейль записал: «Она мужественна душой и разумом, она любима и уважаема всеми в такой же степени, как царь ненавидим и презираем»[404].
Бретейль оставил дела на Беранже, не пояснив тому суть контактов с Одаром. Когда доверенное лицо императрицы явилось, секретарь посольства был удивлен визитом. Но еще больше он поразился, прочитав собственноручную записку Екатерины: «Покупка, которую мы хотели сделать, будет, несомненно, сделана, но гораздо дешевле; нет более надобности в других деньгах»[405]. Это был отказ от сотрудничества. В отличие от посланника, императрица не допускала сомнения в успехе.
«Хитрый человек»
Остановимся на личности Одара. Уроженец Пьемонта, он родился около 1719 года и приехал в Россию в конце царствования Елизаветы Петровны. По протекции канцлера Воронцова был определен в чине надворного советника в Коммерц-коллегию и в 1761 году подал на рассмотрение два мемуара: один с обзором российской коммерции в целом, другой — о правилах конфискации товаров в случае банкротства. Эти сочинения Одар представил племяннице канцлера Дашковой, о чем свидетельствует сопроводительное письмо, полное самых лестных выражений[406].
Рюльер осмелился называть Одара наперсником Екатерины Романовны, склонившим молодую женщину отдаться Панину, чтобы вовлечь того в заговор. «Тщетно княгиня, в которую он (Панин. — О. Е.) был страстно влюблен, расставляла ему свои сети. Она подогревала его страсть, но была непоколебима, полагая среди прочих причин тесную связь, которую имела с ним мать ее, что она была дочь этого любовника. Пьемонтец по имени Одар, хранитель их тайны, убедил сию женщину отложить всякое сомнение и даже пожертвовать [будущим] ребенком»[407].
Этот пассаж вызвал волну негодования Дашковой. «В числе иностранцев, прибывших в Россию, — писала она, — был один пьемонтец, по имени Одар, которому покровительствовал канцлер, доставивший ему место советника Коммерц-коллегии. Я познакомилась с ним; он был образованный, тонкий, хитрый и живой человек уже не первой молодости. Вскоре он нашел, что занимаемое им место ему не подходило, так как он не знал ни продуктов, ни водяных сообщений и т. д., и попросил меня похлопотать, чтобы императрица взяла его в свой штат; я поговорила о нем с государыней, совсем не знавшей его, предполагая, что она может сделать его своим секретарем, но она ответила мне, что переписывается только с родными, так что ей секретарь не нужен… Мне, однако, удалось уговорить императрицу взять его к себе на службу и поручить ему улучшить земли, которые Петр III только что дал ей в удел, и устроить на них фабрики… Он не был близким мне человеком и не имел на меня никакого влияния; я его даже мало видела, а в последние три недели перед переворотом, когда все налаживалось для этого счастливого события, я его не видела ни разу. Я просто хотела дать ему кусок хлеба и приятное положение, но советов его не спрашивала, и он, конечно, имел бы еще меньше успеха у меня, если бы посмел уговаривать меня отдаться моему дяде, графу Панину»[408].
Рассказ княгини примечателен уже потому, что каждая его строка вызывает вопрос и нуждается в комментарии. Неясно, почему племянница канцлера взялась хлопотать за едва знакомого человека. Разве что ее убедил дядя, покровительствовавший советнику. Воронцов хотел пристроить Одара при великой княгине. Лучше всего в качестве секретаря, что и озвучила племянница. Екатерина отнеслась к идее настороженно. Ей не нужен был соглядатай, при случае способный проследить контакты госпожи и порыться в ее бумагах. Поэтому она отклонила просьбу. Но совсем не исполнить желание Дашковой значило обидеть подругу. Надо знать настойчивость на грани бестактности, которую проявляла Екатерина Романовна, когда бралась кого-нибудь пристраивать. В записках императрицы, обращенных к Дашковой, имя Одара вскользь упомянуто трижды, и всякий раз Екатерина ссылалась на какую-нибудь помеху, препятствовавшую ей заняться делом пьемонтца, пока наконец не сдалась: «С голоду он при мне не умрет». В мае 1762 года наша героиня приняла протеже подруги управляющим одного из имений.
Прекрасно чувствовавший политическую конъюнктуру, Одар быстро стал из человека канцлера человеком Екатерины. Такие метаморфозы случались в окружении императрицы. Характеристика нравственных качеств Одара совпадают у Дашковой и Рюльера. Француз приписывал ему такие слова: «Я родился бедным; видя, что ничто так не уважается в свете, как деньги, я хочу их иметь, сего же вечера я готов для них зажечь дворец; с деньгами я уеду в свое отечество и буду такой же честный человек, как и другой»[409]. С такими взглядами «тонкий, хитрый, живой человек», видимо, догадался, что служить Екатерине выгоднее. Позднее Бретейль утверждал, что заслуги Одара «перед императрицей были велики, но сам он жадный и наглый проходимец»[410].
С. М. Соловьев считал, что наша героиня использовала Одара для тайных сношений со своими сторонниками, как когда-то, в 1758 году, использовала итальянского «бриллиантщика» Бернарди, передававшего ее записки Бестужеву и Понятовскому[411].
Княгиня утверждала, что не виделась с Одаром в последние три недели перед переворотом. Как раз тогда, когда он по поручению Екатерины посещал Бретейля. Позднее, уже рассказывая о возмущении в столице, Рюльер добавлял: «Без мер, принятых пьемонтцем Одаром, и известных только ему и княгине Дашковой, все было бы потеряно»[412]. Мерси д’Аржанто и Беранже в донесениях назвали Одара «секретарем» и «опорой заговора». В чем же состояла его заслуга? После неудачи с Бретейлем он обратился к представителям английской торговой колонии и, вместо шестидесяти тысяч у французского короля, занял сто тысяч у купца Фельтена[413].
Эта оборотистость и заставила Екатерину впоследствии очень ценить Одара. После переворота она назначила его библиотекарем своего кабинета. 13 июля Беранже доносил в Версаль: «Он вовсе не богат и, размышляя на вершине удачи о переменчивости фортуны, говорил мне позавчера, что желал бы обеспечить себе покой, поместив в венецианский или генуэзский банк столько, чтобы жить в приятствии, как философ»[414].
В июле 1762 года пьемонтец отправился в Италию за семьей, получив тысячу рублей на дорогу. В Архиве внешней политики сохранились его письма Панину и Дашковой, изученные А. Ф. Строевым, специалистом по литературе эпохи Просвещения. Близко связанный с вельможной партией, Одар сознавал изменение веса своих покровителей при дворе. Княгиня настаивала на его скорейшем приезде — видимо, он укреплял ряды панинской группировки. Но пьемонтец не торопился, ощущая шаткость ситуации в России. «Дайте мне окончить карьеру так, как Бог ссудил», — едва ли не с раздражением отвечал советник корреспондентке. В октябре 1762 года он писал молодой женщине из Вены о неких грядущих «превратностях судьбы», которые ее ожидают: «Вы напрасно тщитесь быть философом. Боюсь, как бы философия ваша не оказалась глупостью в данном случае». Нельзя не признать прозорливости пьемонтца. До опалы Дашковой оставался один шаг.
В феврале 1763 года Одар все-таки вернулся в Россию, был назначен членом комиссии для рассмотрения торговли, получил от Екатерины II 30 тысяч рублей и каменный дом в Петербурге, который немедленно сдал супругам Дашковым. Денег ему явно не хватало, и он стал осведомителем французского и саксонского посланников. Есть свидетельства, что Одар знал о заговоре Хитрово и был одним из доносителей, перейдя от Панина под крыло Орловых.
26 июня 1764 года, накануне заговора Мировича, Одар покинул Петербург, выхлопотав бессрочный отпуск. Перед отъездом он беседовал с Беранже, которому, в частности, сказал: «Императрица окружена предателями, поведение ее безрассудно, поездка, в которую она отправляется — каприз, который может ей дорого обойтись». И снова «хитрый человек» оказался прав, стоило Екатерине отбыть в путешествие в Лифляндию, как произошла трагическая попытка освободить Ивана Антоновича, приведшая к гибели узника. По свидетельству саксонского посланника графа И. Г. фон Сакена, Одар перед отъездом проклинал бывших покровителей Панина и Дашкову[415]. Закономерно предположить, что он имел сведения о грядущем возмущении и предпочел заблаговременно скрыться.
В 1764 году Одар поселился в Сардинии, купил небольшое графство де Сент-Ань, но через девять лет погиб от удара шаровой молнии. «Даже если это была рука Провидения», рассуждал Дж. Казанова, уверенный, что пьемонтец «свил нить всего заговора», то никак «не ангела-хранителя Российской империи, мстившая за Петра III», ибо тот, останься жив, «причинил бы тысячи бедствий»[416].
«Я не доверяю русским»
Приготовления заговорщиков не могли не вызывать беспокойства у тех, кто догадывался, куда клонится дело. Самые далекие от комплота люди ощущали накаленную обстановку. Придворный ювелир Иеремия Позье, однажды присутствуя на ужине в Ораниенбауме и наблюдая за поведением императора, с тревогой сказал своей соседке, супруге канцлера Анне Карловне Воронцовой: «Я очень боюсь, как бы не случилось чего-нибудь ужасного». В ответ почтенная дама залилась слезами: «Я имею повод быть еще менее спокойна, чем вы»[417].
Одной из причин, по которым императрица боялась доверять Дашковой слишком много сведений, была близкая дружба княгини с Кейтом. «Этот почтенный старец, — писала Екатерина Романовна, — любил меня как родную дочь… Он часто говорил в интимном кругу, что император точно намеренно старается навлечь на себя всеобщее неудовольствие, а может быть, и презрение… Однажды он мне сообщил, что в городе распространились слухи, что в гвардии готовится бунт и что главной причиной его была нелепая война с Данией. Я спросила, не называют ли имен главарей.
— Нет, — ответил он, — и я думаю, что их вовсе нет; офицеры и генералы не могут иметь ничего против войны, которая даст им возможность отличиться. Вероятно, все кончится тем, что сошлют в Сибирь нескольких лиц да солдат накажут розгами»[418].
Оба приведенных разговора относились к началу июня 1762 года. До развязки оставалось совсем немного. Надо отдать Кейту должное, он все-таки передавал в Лондон тревожную информацию. Если в конце апреля посол доносил о «влиянии недостойных фаворитов, кои, к несчастью, окружают государя», то 6 июня высказался прямо: «Ныне Его величество попал в руки наихудших людей»[419]. Позднее даже Гольц признавал, что именно принц Георг, дядя императора, «много споспешествовал к возбуждению народной ненависти против немцев и ускорил падение своего повелителя», чему помогло «дурное обращение этого принца с… войском»[420]. Штелин же заявлял, что «до прибытия… принца Георгия»[421] его ученик вызывал в обществе большую любовь.
Эти рассуждения очень любопытны, так как показывают восприятие Петра III окружающими. В глазах близких он представал добрым, но слабым человеком, поминутно подпадавшим под дурное влияние. Петра точно тянуло к «наихудшим из людей», ему нравилось, когда они управляли им. Ведь потакать дурным склонностям всегда легче, чем подчиняться дисциплине и здравым рекомендациям.
В этом смысле исключительно интересна переписка русского императора с Фридрихом II. Она показывает, что Петр был готов облагодетельствовать кумира, но не прислушаться к его советам, если те шли вразрез с желаниями самого государя. Даже на расстоянии Фридрих чувствовал накалявшуюся атмосферу. Двадцатью годами ранее, в декабре 1741 года, он писал по поводу переворота, возведшего на престол Елизавету Петровну: «Единственное, что может встревожить тех, кто ставит на Россию, есть мысль, что гвардейцы русские, постепенно войдя в роль римской преторианской гвардии, пристрастятся к перемене своих государей, отчего никто на добрые отношения с Россией полагаться не сможет, ибо во всякую минуту ожидать придется нового переворота»[422]. Теперь предстояло подтвердить эту мысль на практике. Доверенные лица короля Гольц и прибывший ему на помощь флигель-адъютант Фридрих Вильгельм Шверин доносили об обширном заговоре, зревшем под боком у беспечного императора. «Первый и самый опасный человек здесь, — писал Шверин 8 апреля, — это Иван Иванович Шувалов, фаворит покойной императрицы. Этот человек, живущий интригами, хотя внутренне и ненавидим императором, однако так хорошо умел уладить свои дела… что государь поручил ему Кадетский корпус и главный надзор за дворцом — должности, которые делают пребывание его в столице необходимым… Я готов прозакладывать что угодно, что у него страшные планы в голове. Второй из этих вредных людей есть генерал Мельгунов… Император совершенно ему доверился, а между тем этот человек вместе… с Волковым — самые главные его враги и ждут только первого удобного случая, чтоб лишить его престола. Я пространно говорил об этом с императором и даже назвал имена опасных лиц, но Его величество отвечал, что… он дал им столько занятий, что у них нет досуга думать о заговорах»[423].
Над предупреждением Шверина относительно Шувалова принято потешаться. Однако, может быть, параллельно вызревало два заговора, об одном из которых мы почти ничего не знаем.
Фридрих счел долгом лично объясниться с Петром. «Ваше императорское величество спросите меня, во что я вмешиваюсь, и будете правы, — писал он 1 мая. — …Признаюсь, что мне было бы весьма желательно, чтобы Вы были уже коронованы, так как эта торжественная церемония внушает сильное почтение народу, привыкшему видеть своих государей коронованными. Скажу откровенно Вашему величеству: я не доверяю русским. Всякая другая нация благословляла бы небо, имея государя, обладающего столь дивными качествами… но сознают ли русские это счастье? Не могла ли бы низкая продажность нескольких частных лиц побудить их к образованию заговора или устройству возмущения в пользу брауншвейгских принцев… Пусть Ваше императорское величество на один момент допустит, что какой-либо несчастный мятежник замыслит во время Вашего отсутствия посадить на трон Ивана, устроить при помощи иностранных денег заговор с целью освободить из тюрьмы этого Ивана и взбунтует войска… Мысль эта привела меня в содрогание, когда пришла в голову»[424].
Петр ответил 15 мая: «Ваше величество думаете, что ради народа я должен бы короноваться прежде своего отъезда в армию. На это я принужден сказать Вам, что так как эта война почти еще в начале, то именно поэтому я не вижу никакой возможности короноваться раньше с тою пышностью, к которой русские привыкли. Я бы не мог совершить это, так как еще ничего не готово, и наскоро здесь ничего не найдешь. Принц Иван у меня под строгой стражей, и, если бы русские хотели мне зла, они бы давно могли его сделать, видя, что я не берегусь, предаваясь всегда Божьей воле, хожу по улице пешком, чему Гольц свидетель. Могу вас уверить, что, когда умеешь обращаться с ними, можно на них положиться»[425].
Страшные слова. До переворота осталось менее двух недель.
Впрочем, не стоит слишком обольщаться на счет простодушия императора. С легкомыслием он всегда сочетал подозрительность. Поэтому при встрече сказал Шувалову: «Прусский король мне пишет, что ни один из подозрительных мне людей не должен оставаться в Петербурге в мое отсутствие». Вслед за чем прислал к Ивану Ивановичу Мельгунова с приказом следовать за ним в армию волонтером[426].
После переворота Фридрих II с раздражением писал Гольцу: «Лица, на которых смотрели как на заговорщиков, менее всего были замешаны в заговоре. Настоящие заговорщики работали молча и тщательно скрываясь от публики»[427]. Позволим себе одно предположение. Когда-то в Кёнигсберге Шверин был очень дружен с Орловым. Встретившись в Петербурге, приятели, вероятно, возобновили добрые отношения. Григорий мог стать тем человеком, который пустил наблюдателей прусского короля по ложному следу или переключил их внимание с императрицы на недовольных вельмож в окружении Петра III.
«Да здравствует царко Петр Федорович!»
В самом начале 1762 года герцог Шуазель из Парижа советовал французскому послу вести себя с Петром III, «как с больным ребенком, стараясь ничем не раздражать его». Судя по письмам, именно так держался по отношению к корреспонденту Фридрих II. Только потакая императору, можно было чего-то добиться. Заверения в самой чистосердечной дружбе соединялись с потоками лести, с которой король явно не боялся переборщить.
«В то время как меня преследует вся Европа, в Вас нахожу я друга, — писал он 20 марта, — нахожу в Вас государя, у которого сердце истинно немецкое, который не хочет способствовать тому, чтобы Германия была отдана в рабство австрийскому дому и который протягивает мне руку помощи, когда я нахожусь почти без средств»[428].
Первые шаги были очень осторожными. Фридрих нащупывал почву. 6 февраля он писал: «Никто, как я, не хочет установить между двумя государствами старинное доброе согласие, нарушенное усилиями моих врагов, что выгодно только для посторонних»[429]. Многозначительные слова. Они как бы вводили Петра III в круг «своих», немецких государей, оставив за бортом общих врагов — Австрию и Францию. 15 февраля Петр ответил, что жаждет установить «союз дружбы, давно уже соединивший нас двоих и долженствующий вскоре соединить наши народы»[430].
Король тут же поймал брошенный волан и сообщил 3 марта, что желал бы преподнести молодому монарху прусский орден Черного Орла, которым некогда владела императрица Елизавета. То была тайная мечта Петра, а угадывать желания будущего союзника стало на полгода главным занятием короля. «Еще раньше воцарения Вашего императорского величества я был многим обязан Вам… Кто совершает поступки столь благородные и столь редкие… должен ожидать выражения удивления… Да будет Ваше правление продолжительно и счастливо!»[431]
Прочитав подобные слова, Петр смутился. Со всем тщеславием и бахвальством, он был простым малым. «Ваше величество желаете насмехаться надо мной, расхваливая так мое царствование», — отвечал он 15 марта и заверил, что считает корреспондента «одним из величайших в свете героев»[432]. Но Фридрих знал: лести не бывает много. «Вы подаете пример добродетели всем властителям, что должно привязать к Вам сердца всех честных людей, — настаивал он 23 марта. — …Я потерял за эту войну 120 генералов, 14 генералов в плену у австрийцев; в результате наше положение ужасно. Я мог бы прийти в полное отчаяние от него, но я нахожу верного друга в лице великого, одного из самых великих государей Европы, который чувства чести предпочитает всяким соображениям политики. Ах, не считайте странным, Ваше величество, что все мои упования на Вас»[433].
Другой чувствительной ноткой, на которую откликалось сердце Петра, были прямота, искренность, верность союзническим обязательствам. «Ваше императорское величество — один из самых могущественных государей мира; тем не менее это не император, но человек, истинный друг, дарованный мне небом, — рассуждал Фридрих 4 апреля. — Я чрезвычайно счастлив, что Гольц удостоился Вашего одобрения; я ручаюсь за него, как за честного человека… Я горько упрекал бы себя, если бы послал к Вашему двору кого-нибудь, чтобы двоедушничать… Перед отъездом Гольца я сказал ему: „Не пускайте в ход ни хитростей, ни каверз; обращайтесь прямо к императору, пусть искренность и правдивость единственно руководят вами. Государь этот — тот же я“. …Чувства эти будут сопровождать меня до могилы»[434].
Существует мнение, будто прусский король рекомендовал Петру III сблизиться с женой и прислушиваться к ее словам. В 1773 году французский посол Дюран де Дистроф привел цитату из якобы виденного им письма Фридриха II: «Советуйтесь с императрицей, она даст Вам только добрые советы, и я призываю Вас следовать им»[435]. Это дипломатическая легенда, не раз повторенная историками. В письмах прусского короля 1762 года ни разу не упомянута Екатерина. И мы смеем утверждать: не могла быть упомянута, исходя из всего строя отношений корреспондентов. Фридрих старался ничем не вызвать неудовольствие Петра. Слишком многое для него было поставлено на карту.
Другое заблуждение касается войны с Данией. Принято считать, что Фридрих отговаривал русского императора от ее начала. Однако письма рисуют совсем иную картину. Еще в апреле король рассуждал о предполагаемом противнике: «Это слабое правительство боится действовать и равным образом боится разоружиться. Ваше величество сможет делать с этими людьми все, что Вам будет угодно»[436]. Через двадцать дней он развил свою мысль: «Ваше императорское величество имеете неоспоримые права на владения, отнятые у Вашего дома во время смут. Вы имеете право требовать их обратно; война дарует Вам право победы… Я горю желанием содействовать всем Вашим предприятиям… Пусть Ваше величество укажет количество войск, которое ему угодно, чтобы я присоединил к его войскам… Как бы стар и дряхл я ни был, я сам пошел бы против врагов Вашего величества»[437]. О себе король не забывал и тут же попросил у союзника 14 тысяч регулярного войска и тысячу казаков, чтобы справиться с австрийцами.
Петр был потрясен благородством своего друга. «Ваше величество… предлагаете корпус из своего удивительного войска, — писал он 27 апреля, — и свою гавань в Штеттине, говоря мне, чтобы я отнюдь не стеснялся и действовал в его стране как бы в своей собственной. Но каково же было мое приятное изумление, когда я прочел Ваше предложение самому идти против моих врагов»[438].
Тем временем в Берлине шел мирный конгресс, и Петр чрезвычайно хотел, чтобы в договоре было прописано требование к шведам подкрепить Россию флотом против датчан. Однако здесь Фридрих не сумел или не захотел помочь. Стокгольм находился под полным контролем Парижа и ни при каких условиях не стал бы в теперешних обстоятельствах отряжать свой флот в подкрепление русскому.
Ситуация с кораблями и иностранной помощью прекрасно иллюстрирует, как мало замыслы Петра III соприкасались с реальностью. Ему воображалось, что можно рассчитывать на английский флот, коль скоро Россия вошла в союзнические отношения с Пруссией. Канцлеру пришлось буквально разжевывать государю несостоятельность его требований. «Что же касается до данного мне вчера повеления говорить английскому министру Кейту о присылке нынешним летом в диспозицию Вашу английского флота, я при первом свидании с Кейтом говорить буду, — писал Воронцов 12 апреля, — токмо Ваше величество с английским двором союзного трактата не имеете, и что Англия, будучи ныне в двойной войне против Франции и Гишпании, не в состоянии, да и без взаимных себе авантажей не похочет прислать некоторое число кораблей, к тому же, сколько мне известно, Англия уже декларировала, что в имеющихся распрях между Вашим императорским величеством и королем датским участия принимать не будет, то сие требование может подвержено быть неприятному отказу» [439].
В том же положении — учителя при великовозрастном ученике — оказался и Фридрих II. Из Петербурга его просили растолковать императору элементарные правила, исполнение которых необходимо для начала военной операции. Все, что писал прусский король, могли бы сказать государю собственные генералы. Но Петр не всякого хотел слушать.
«Вам не стоит ожидать добровольной уступки со стороны датчан, — писал король 1 мая. — Необходимо будет вести войну с ними, чтобы получить ее (Голштинию. — О. E.). Я считаю это делом легко выполнимым… Я буду говорить об этой войне с такой откровенностью, с какой я делал бы это, если бы был генералом на службе Вашего величества… Первое условие… это кормовые запасы… фураж начинается лишь в конце июня, хлеб новой жатвы можно собирать лишь в сентябре, если желают его иметь в виде муки… это затянется еще на лишний месяц. Сообразуясь с силами неприятеля, я думаю, что армия, предназначенная для Голштинии, была бы достаточно сильной, если бы состояла из 46 000 регулярного войска и 4000 казаков. Съестные припасы для этих войск можно доставить из России или из Ливонии, Курляндии и Данцига… Это составит около 2000 пудов муки в месяц и 8000 пудов овса на два месяца — май и июнь». При этом Фридрих заклинал корреспондента «не начинать действовать, пока все не будет заготовлено»[440].
О том же самом предупреждал государя канцлер Воронцов, но вызвал негодование и вынужден был оправдываться: «…Не могу надлежаще должность мою исправлять и принужден через пересылки и через третьи руки Вашему величеству доклады чинить, подвергаясь тем неприятному истолкованию и гневу… якобы я предприятия Ваши против Дании химерическими поставлял, когда я говорил, что ранновременным походом нашей армии без заготовления довольных магазейнов… и без готовых в наличии великих сумм денег, без подкрепления сильного флота и без помощи короля прусского… сей поход был бы совсем бесплоден»[441].
Рассуждения канцлера казались докучными. А вот Фридрих знал, где добыть средства. «Датчане отпустили на выкуп город Гамбург и взяли с него 1 200 000 экю, — писал он. — Ваше императорское величество имеете то же право. Город Любек мог бы Вам доставить… 100 000 экю, и никто не нашел бы возможным упрекнуть Вас за такой способ действий. Деньги — нервы войны»[442].
15 мая Петр взялся отвечать на пространное письмо корреспондента. «Датчане делают приготовления к наступлению… Ваше величество пишете мне о запасах. Я уже всем разослал приказы и надеюсь, что всего будет довольно»[443]. В том же послании император отверг и возможность заговора. Больше настаивать Фридрих не мог. Чтобы сгладить возникшую шероховатость, он удвоил излияния в преданности: «Если бы я был язычником, я воздвиг бы храмы и алтари Вашему императорскому величеству как существу божественному»; «Я смотрю на Ваше величество как на Бога-покровителя, доброго и благосклонного ко мне гения»; «Сердце мое — владение, завоеванное Вашим императорским величеством»[444].
Как замечала Екатерина, император был «предан своим прихотям и тем, кто рабски ему льстил»[445]. Проницательный король хорошо ухватил эту особенность характера Петра и не спорил с ним. «Присутствие Вашего императорского величества будет не только ободрять Ваши войска, но и придаст еще бо́льшую живость военным действиям»[446], — писал он 8 июня. Но Петр уже почувствовал, что его пытались отговорить отличного участия в походе, и решил схитрить. 21 мая Румянцеву был отправлен указ считать войну с Данией «действительно объявленной» и утвердиться в Мекленбурге, прежде чем туда войдут датчане[447]. Такое повеление вызвало шок «честного человека» Гольца, убежденного в прямодушии государя. «Не надобно приписывать этого Его императорскому величеству, потому что решение состоялось иначе, в совете; виноват господин Волков, который осмелился дать ему такую окончательную форму. Император утаил от меня это приказание… При всех милостях и доверии императора ко мне противная партия может заставить его скрыть от меня самые важные дела, которые Ваше величество должны знать прежде всякого другого».
Принц Георг умолял посланника еще раз попросить Фридриха II отсоветовать государю поход, ссылался на плохое состояние войска, недостаток денег и припасов. «Два месяца я толкую с Вами и с самим императором, — не выдержал Гольц. — …Нечего грозиться задавить датчан, если еще нет уверенности, что все готово; мне постоянно отвечали, что все приготовления сделаны, тогда как я хорошо знал, что нет… Теперь, зная дурное состояние дел, надобно обречь себя на неудачную войну, которой можно было избежать переговорами»[448].
Больше Фридрих ни на чем не настаивал. Он и так был в неоплатном долгу. Уже отгремел переворот, уже Петра не было на свете, а король, еще не получив об этом известия, писал 14 июля: «Я часто говорю солдатам: „Да здравствует царко Петр Федорович!“ Это первые слова, которые я выучился лепетать на русском языке и которые я буду произносить… до последних дней моей жизни»[449].
Но благодарность и политика — вещи несовместные. После гибели Петра отзывы Фридриха зазвучали иначе: «Бедный император хотел подражать Петру I, не имея его гения»; «Отсутствие мужества… погубило его: он позволил свергнуть себя с престола, как ребенок, которого отсылают спать»[450].
На последней прямой
Всякому терпению приходит конец. А если человек не наделен этой добродетелью, как Петр III, то искушать его — значит провоцировать на резкие действия. В течение нескольких месяцев Екатерина могла не прикладывать усилий: ее супруг портил свою репутацию сам. Но приближался решающий момент, и с какого-то времени императрице пришлось выйти из тени. Хотя бы для того, чтоб заявить о себе как о существе страдающем. То есть добавить масла в огонь.
«Она знала, без всякого сомнения, что в конце концов вовсе не могли коснуться ее положения или ее особы без величайшего риска, — писала о себе Екатерина. — Народ был ей всецело предан и смотрел на нее как на свою единственную надежду». Перед отъездом государя к армии заговорили о грядущем аресте его жены. «Даже эта опасность, — хладнокровно продолжала наша героиня, — была для нее новым блеском, всю цену которого она сознавала»[451].
Петр сам подтолкнул роковое развитие событий. Государыня не присутствовала на торжественном обеде по случаю подписания мирного трактата с Пруссией 24 апреля. Такой шаг не мог остаться незамеченным. Из всех «неприсутствий» Екатерины на праздниках мужа это было самым громким. Становилось ясно, что она не одобряет новой политики. «Императрица никогда не выезжала с ним, — писала Дашкова о Петре, — и выходила из дворца только для коротких прогулок в экипаже»[452]. Для любого зеваки на улице становилось ясно: нет никакой августейшей четы, есть «злодей всея Руси», как позднее скажет Алексей Орлов, и терпеливо противящаяся ему благочестивая государыня.
«Признаюсь, меня глубоко тронула народная привязанность, которую я встретила в прошлый раз, — сообщала Екатерина Дашковой после одной из таких прогулок. — Были минуты, когда восклицания толпы разражались энтузиазмом. Никогда мое самолюбие не встречало такого общественного сочувствия, тем более лестного, что лесть здесь вовсе была неуместна… Я часто провожала покойную императрицу в подобных случаях, но никогда не видела такого выражения народной любви. Кажется, во всем этом преобладало более, чем голос партии, что, разумеется, будет приятно слышать всем нашим друзьям»[453]. Без страха ошибиться можно отнести эту записку к июню 1762 года, когда народ на улицах стал встречать Екатерину одобрительными криками.
Еще вчера императрицу можно было безнаказанно третировать, а сегодня ее популярность раздражала и пугала врагов. Петр не принадлежал к людям, которые долго сдерживаются. Разразился скандал. 9 июня император устроил очередной праздничный обед в честь заключенного с Фридрихом II союза. «Императрица заняла свое место посреди стола, — вспоминала Дашкова, — но Петр III сел на противоположном конце рядом с прусским министром. Он предложил под гром пушечных выстрелов с крепости выпить за здоровье императорской фамилии, его величества короля Пруссии и за заключение мира». Екатерина выпила первый тост, но, как видно, само присутствие жены раздражало государя, он прицепился к пустяку. Гудовичу, стоявшему за его стулом, было велено пойти и спросить императрицу, почему она не встала, когда пила. Та отвечала, что «так как императорская фамилия состоит из его величества, его сына и ее самой, она не предполагала, что ей нужно встать». Эти слова, видимо, показались Петру намеком на его желание обзавестись новой семьей. И вызвали еще больший гнев.
Государь велел Гудовичу передать императрице, что она «дура»: ей следовало знать, что в августейшую семью входят еще и его дядья, принцы Голштинские. Боясь, как бы адъютант не смягчил выражения, Петр вскочил и прокричал жене оскорбление через весь стол. «Императрица залилась слезами и… попросила дежурного камергера графа Строганова, стоявшего за ее стулом, развлечь ее своим веселым, остроумным разговором… Все эти события сильно взволновали общество»[454]. По словам самой императрицы, соединению ее сторонников «удивительно помогло то оскорбление, которое супруг нанес ей публично».
Произошедшее за обедом, видимо, не на шутку задело и Петра. В тот же вечер он устроил ужин в Летнем дворце в кругу «нескольких городских дам», «своих любимых генералов» и «прусского министра». Перед тем как напиться так, что «его в четыре чеса утра вынесли на руках, посадили в карету и увезли домой во дворец», он наградил Елизавету Воронцову орденом Святой Екатерины. О чем Дашкова в то же утро узнала от своего кузена князя Н. В. Репнина, сочувствовавшего заговору.
По статуту орден Святой Екатерины полагалось носить только членам императорской фамилии и дамам, оказавшим огромные услуги отечеству. Награждая Воронцову, Петр как бы вводил ее в круг августейшей семьи. А вот Екатерине предстояло исчезнуть. «Он хотел жениться на Воронцовой, — писала она о муже, — и в тот самый вечер, когда возложена была на графиню Екатерининская лента, приказал адъютанту своему, князю Барятинскому, арестовать императрицу в ее покоях. Испуганный Барятинский медлил исполнением… когда в прихожей повстречался ему дядя императора, принц Георгий Голштинский. Барятинский передал ему, в чем дело. Принц побежал к императору, бросился перед ним на колени и насилу уговорил отменить приказание»[455]. Но никто не гарантировал, что завтра Петр не повторит приказ.
По словам самой Екатерины, именно с этого дня она начала прислушиваться к предложениям различных партий. Правильнее будет сказать, что после рокового обеда она показала своим сторонникам, что готова пойти навстречу их желаниям. Император пересек черту. У его супруги больше не оставалось надежды, «что дело не дойдет до крайностей»[456].
По верному замечанию А. Б. Каменского, и в случае поражения, и в случае бездействия Екатерину ждала гибель[457]. Панин предложил приурочить решительные действия ко дню возвращения императора из загородных резиденций. Петр намеревался присутствовать при отправлении гвардии на войну, а возможно, отбыть вместе с ней. Это должно было произойти в первых числах июля. «Условились, что как только он вернется с дачи, его арестуют в его комнате и объявят его неспособным царствовать»[458], — писала Екатерина. Впрочем, заговорщики подстраховались, решив, что в случае предательства не станут медлить, а соберут гвардию и провозгласят Екатерину правительницей.
Сторонники императрицы были уверены, что отъезд за город опасен для нее. Недаром в столице волнами стали распространяться слухи, будто Екатерина уже арестована. Тем временем она с маленькой свитой из шести камер-фрау и двух камер-юнкеров находилась в Петергофе. 26 июня наша героиня посетила мужа. В Японской зале Ораниенбаумского дворца был устроен большой обед, а вечером маскарад в театре. Присутствовавший на нем Позье записал: «Императрица казалась очень грустной и скучно смотрела на эту комедийку». После представления она позвала ювелира к себе. «Императрица сказала мне, что сломала свой Екатерининский орден, и просит меня его поправить… Это был тот самый день, в который графиня Елизавета Воронцова должна была явиться с орденом, подаренным ей императором»[459]. Наша героиня хотела выйти к столу без красной ленты, чтобы случившееся всем бросилось в глаза.
27 июня августейшая чета со свитой посетила Гостилицы, где Алексей Разумовский устроил в их честь великолепный праздник с итальянской музыкой. Здесь супруги виделись в последний раз. После торжества каждый поехал к себе: император в Ораниенбаум, императрица в Петергоф. По свидетельству анонимного автора, близкого к гетману Разумовскому, эта встреча не была приятной, поскольку государь «крепко досадовал» на жену за то, что она, «оставив сына в Петербурге, приехала одна».
В мемуарах современников встречаются утверждения, что Петр хотел арестовать Екатерину и Павла за городом, подальше от чужих глаз, и отправить в крепость. Так, Н. А. Саблуков писал: «Петр III намеревался… заключить и мать, и сына в Шлиссельбург на всю жизнь. С этой целью был уже составлен манифест, и лишь накануне его обнародования и ареста Екатерины и ее сына начался переворот… До сих пор можно видеть в Шлиссельбурге помещение, для них приготовленное»[460]. А. С. Мыльников утверждает, что комнаты в Шлиссельбурге, которые действительно начали отделываться летом 1762 года, предназначались для Ивана Антоновича[461]. Теперь уже трудно сказать, кого ожидали тюремные покои. Был момент, когда Екатерина обдумывала, не поместить ли туда самого Петра…
Глава шестая ПЕРЕВОРОТ
Выступление было приурочено ко дню отбытия Петра III на театр военных действий с Данией. Но, как часто случается, в самый ответственный момент цепь непредвиденных случайностей вывела события из-под контроля, и они покатились по новому руслу. Накануне переворота был арестован один из заговорщиков, капитан Петр Богданович Пассек — руководитель одной из «фракций», знавший имена всех вожаков мятежа.
Его арест точно подтверждал народную поговорку: шила в мешке не утаишь. Слишком много нижних чинов оказалось уже посвящено в секрет, и рано или поздно кто-то неизбежно проболтался бы. Так и произошло.
После угрозы ареста императрицы среди гвардейских солдат распространились слухи об опасности, в которой находится Екатерина, и высказывались предложения двинуться на Ораниенбаум спасать «матушку». 26 июня капитаны Пассек и Бредихин посетили Дашкову, чтобы посоветоваться: им уже трудно становилось удерживать рядовых от волнения. По словам княгини, она заверила «молодых людей», что никакой угрозы для жизни Екатерины нет.
На следующий день, 27-го, один из встревоженных капралов нашел Пассека и сообщил, будто императрица исчезла. Капитан попытался его успокоить, тогда недоверчивый солдат направился к другому офицеру, чтобы поделиться новостью. Поручик П. И. Измайлов, к которому обратился служивый, в заговоре не состоял. Он немедля донес о случившемся майору П. П. Воейкову, тот полковнику Ф. И. Ушакову. Последний направил сообщение императору в Ораниенбаум, а пока, от греха подальше, посадил изобличенного Пассека под арест.
В письме Понятовскому Екатерина так отзывалась о мужественном хладнокровии заключенного: «Капитан Пассек выделялся своей выдержкой. Оставаясь двенадцать часов под арестом, он, до моего появления в их полку, не стал поднимать тревоги, хотя солдаты открывали ему и окно, и дверь, а сам он каждую минуту ждал, что его повезут на допрос в Ораниенбаум… Приказ везти его прибыл уже после моего приезда»[462].
В автобиографической записке, посвященной перевороту, наша героиня уточнила, что Пассек «оставался в заточении» дабы «ничего не испортить» — «весь полк был бы поднят на ноги и могли бы запереть весь город, чтобы его искать»[463].
К счастью для заговорщиков, Петр III ограничился арестом подозреваемого, приказав отложить допрос до своего возвращения в столицу. По сведениям Рюльера, он отвечал приближенным, настаивавшим на скорейшем дознании: «Это дураки»[464]. Нетрудно представить, как развернулись бы события, будь один из главарей мятежников вовремя привлечен к ответу. Последовали бы аресты, на которые гвардия могла ответить открытым выступлением. Пролилась бы кровь. Но Провидение хранило заговорщиков. Легкомыслие, в котором Екатерина так часто обвиняла мужа, на этот раз победило наследственную подозрительность императора, и он решил, что заговор подождет.
Промедление — залог успеха?
Тем временем счет шел уже на часы. Пассека арестовали 27 июня около восьми вечера. Весть об этом немедленно распространилась по полкам. Григорий Орлов отправился оповестить Панина и нашел его у Дашковой. Екатерина Романовна, правда, утверждала, что Орлов искал именно ее и застал в гостях Никиту Ивановича.
По своему обыкновению, Панин решил, что торопиться некуда. Надо разузнать, не совершил ли капитан какого служебного проступка. С этим он и отправил Орлова восвояси. К немалому огорчению племянницы, горевшей жаждой деятельности. Панина вообще часто обвиняли в медлительности. Никита Иванович предпочитал сперва все обмозговать, семь раз отмерить… Черпавший сведения в его окружении Рюльер так воспроизводил логику вельможи: «Если бы и успели взбунтовать весь Петербург, то сие было бы не что иное, как начало междоусобной войны, между тем как у императора в руках военный город, снаряженный флот, 3000 собственных голштинских солдат и все войска, подходившие для соединения с армией… Императрица не может приехать прежде утра… и не поздно было бы условиться в исполнении заговора на другой день»[465].
Панин мыслил как истинный елизаветинский вельможа — тише едешь, дальше будешь. Но одно дело дипломатическая сфера, а другое — заговор. Здесь выигрывал тот, кто быстрее ориентировался в менявшейся обстановке.
По словам Дашковой, она постаралась избавиться от дяди, а когда он удалился, вышла на улицу и направилась к одному из заговорщиков — Николаю Рославлеву, премьер-майору Измайловского полка. Тут ей повстречался Алексей Орлов, которого она до этого якобы не знала, но по наитию окликнула. Сцена разговора Екатерины Романовны с сидевшим на лошади капитаном преображенцев (французские авторы с легкой руки Рюльера часто именовали его «солдатом») не раз подвергалась издевательским комментариям исследователей. Уж очень по-фельдмаршальски вела себя юная мятежница.
Пощадим самолюбие мемуаристки и обратим внимание на два любопытных момента в ее пламенной речи: «Скажите Рославлеву, Ласунскому, Черткову и Бредихину, чтобы они сию же минуту отправлялись в Измайловский полк и оставались при своих постах с целью принять императрицу в окрестностях города. Потом вы или один из ваших братьев молнией летите в Петергоф и от меня просите государыню немедленно сесть в почтовую повозку, которая уже приготовлена для нее, и явиться в лагеря измайловских гвардейцев: они готовы провозгласить ее главой империи и проводить в столицу».
Прежде всего заметим, что Дашкова называет Екатерину «главой империи», а не «самодержицей». Значит, разногласия между дядей и племянницей о том, кем должна стать императрица, уже были урегулированы. Второй момент: перечисленные заговорщики должны отправиться не непосредственно в Измайловский полк, а в «лагеря» измайловцев под Петербургом, иначе они никак не могли бы «принять императрицу в окрестностях» и «проводить ее в столицу». Туда же намеревалась прибыть и княгиня: «Может быть, я сама приеду и встречу ее».
«Скажите ей, — продолжала Дашкова, — что дело такой важности, что я даже не имела времени зайти домой и известить ее письменно, что я на улице и изустно отдала вам поручение привезти ее без малейшего замедления»[466]. Рюльер, а вслед за ним и другие французские авторы ставили Алексею Орлову в вину, что он не передал императрице записки от Дашковой. «Один из сих братьев, — писал дипломат, — отличавшийся от других рубцом на лице от удара, полученного во время драки, простой солдат, который был бы редкой красоты, если бы не имел столь суровой наружности, и который соединял проворство с силою, отправлен был от княгини с запиской в сих словах: „Приезжайте, государыня, время дорого“ …Означенный Орлов… разбудил свою государыню и, думая присвоить своей фамилии честь революции, имел дерзкую хитрость утаить записку княгини Дашковой и объявил императрице: „Государыня, не теряйте ни минуты, спешите“»[467].
Странный упрек, ведь княгиня сама признавала, что не писала подруге[468]. Любопытно, почему? Неужели нельзя было вернуться в дом и черкнуть пару строк? Или на худой конец передать послание через час с Федором Орловым, вновь заглянувшим к Екатерине Романовне? Рискнем предположить, что произошло это по той же причине, по которой княгиня не поехала утром встречать императрицу в лагеря Измайловского полка. Горячий энтузиазм Дашковой имел свои пределы. Будь посыльный схвачен вместе с письмом княгини, ей не удалось бы отпереться от участия в заговоре. Еще опаснее ситуация стала бы, появись Екатерина Романовна за городом на дороге, встречая государыню.
Вернувшись домой, княгиня прилегла, и тут раздался «страшный стук в ворота». Это явился Федор Орлов с вопросом, не рано ли посылать за государыней. По словам мемуаристки, она «остолбенела». «Я была вне себя от гнева и тревоги… и выразилась очень резко насчет дерзости его братьев, медливших с исполнением моего приказания… Теперь не время думать об испуге императрицы… Лучше, чтоб ее привезли сюда в обмороке или без чувств, чем, оставив ее в Петергофе, подвергать риску… взойти вместе с нами на эшафот».
Пока безмолвные исполнители «карьером скакали» в загородную резиденцию, сама Дашкова провела ночь в душевных терзаниях. «Я предалась самому печальному раздумью. Мысль боролась с отчаянием и самыми ужасными представлениями. Я горела желанием ехать навстречу императрице, но стеснение, которое я чувствовала от моего мужского наряда, приковало меня среди бездействия и уединения к постели. Впрочем, воображение без устали работало, рисуя по временам торжество императрицы и счастье России. Но эти сладкие видения сменялись другими страшными мечтами. Малейший звук будил меня, и Екатерина, идеал моей фантазии, представлялась бледной, обезображенной. Эта потрясающая ночь, в которую я выстрадала за целую жизнь, наконец, прошла; и с каким невыразимым восторгом я встретила счастливое утро, когда узнала, что государыня вошла в столицу и провозглашена главой империи»[469].
Из рассказа Дашковой видно, что промедление случилось по вине Орловых, которым пришлось два раза повторять приказ Того же мнения держался и Панин, три года спустя поведавший свою версию датскому посланнику Ассебергу. Узнав об аресте Пассека, он вызвал к себе Алексея Орлова, «гвардейского офицера, посвященного в тайну», и приказал ему предупредить четырех капитанов своего полка, чтобы они были готовы к следующему утру. После чего Алексей должен был отправиться в резиденцию и привезти императрицу в возке, находившемся у камер-юнгферы Шкуриной. Никита Иванович уверял, что «отправил в Петергоф… наемную карету в шесть лошадей для того, чтобы не дать возникнуть толкам, которые начались бы непременно, если бы государыня поехала в придворном экипаже». В столице Екатерине надлежало ехать в казармы «кавалергардского полка для принятия от него присяги, оттуда… в полки Измайловский, Преображенский, Семеновский и во главе этих четырех полков» явиться «в новый дворец, остановившись на пути у Казанского собора, чтобы там дождаться великого князя, которого Панин привезет к ней».
Обратим внимание, что воспитатель царевича намеревался доставить мальчика в Казанский собор, где производилась присяга. В этом случае крест поцеловали бы маленькому Павлу, а его матери — только в качестве регентши. Кроме того, бросается в глаза, что привезти императрицу, по рекомендации Панина, следовало не в Измайловский, а в Конногвардейский полк. Как показали дальнейшие события, среди измайловцев оказалось много сторонников самодержавного правления Екатерины. Да и гетман, похоже, колебался. Об этих распоряжениях дяди Дашкова или не знала, или умалчивала. Зато оба в один голос заверяли, что в промедлении виновны Орловы. «По его расчету, — писал датчанин о Панине, — Алексей Орлов в четыре часа должен был быть в Петергофе, а государыня после пяти часов утра в Петербурге. Каждая минута была дорога и каждая рассчитана… Удача или полнейший неуспех могли обнаружиться ежеминутно. Пробило пять часов, и никакого известия не приходило; пробило шесть, а известий все нет. Алексей Орлов пал духом, вместо того, чтобы ехать тотчас в Петергоф, он в четыре часа утра еще раз явился к княгине Дашковой узнать — не последует ли какой перемены в решении, и уехал наконец только тогда, когда княгиня приказала ему немедленно отправиться в путь для предупреждения обо всем императрицы»[470].
Как видим, при разнице некоторых деталей главное в показаниях княгини и воспитателя совпадает — Орловы проявили колебания и потеряли время. Позволим себе заметить, что последнее было совсем не в характере знаменитых братьев. Их обвиняли во многом — невежестве, честолюбии, простонародной грубости нравов — но только не в отсутствии решимости. И подавление Чумного бунта, и Чесма доказали обратное.
Со своей стороны, Екатерина была убеждена, что главы вельможной группировки отговаривали гвардейских заводил от скоропалительных решений. Орловы поспешили в Петергоф вопреки их желанию. После ареста Пассека, писала она, «трое братьев Орловых… немедленно приступили к действиям. Гетман и тайный советник Панин сказали им, что это слишком рано; но они по собственному побуждению послали своего второго брата в карете в Петергоф»[471].
Верить в данном случае следует императрице, поскольку именно при таком развитии событий картина приобретает логичность. Многочисленные приходы того или другого из братьев на квартиру к главам вельможной группировки были попытками поторопить: не пора ли ехать за «матушкой»? Наконец около четырех утра на свой страх и риск Орловы решились.
В таком случае объяснимо отсутствие записки от Дашковой — Екатерина Романовна просто не знала, что Алексей Орлов уже поскакал в Петергоф. Это вовсе не исключает разговора на улице, но ставит под вопрос его содержание. Становится понятно, почему княгиня не поспешила встретить императрицу за городом. Ссылка на жмущий мужской костюм, якобы «приковавший» юную героиню к постели «среди бездействия и уединения», выглядит неуклюжей. А вот неведение о реальном ходе событий вполне понятно: Дашкова, как и Панин, проспала начало «революции». Когда она открыла глаза, все важное уже совершилось.
Что касается Никиты Ивановича, то его братья-торопыги подставили в наибольшей степени. Он прилег у кровати воспитанника в Летнем дворце, дурно провел ночь, а наутро обнаружилось, что присяга уже совершена. Без великого князя. В пользу императрицы.
Кроме того, в Измайловский полк должны были поспеть печатные экземпляры манифестов, закреплявших за Екатериной роль правительницы при несовершеннолетнем сыне. Но везший их из типографии Академии наук Г. Н. Теплов тоже роковым образом опоздал. Следовательно, и гетман Разумовский, по чьему приказу тайно публиковались эти листки, рассчитывал встретить императрицу не в 8 утра, а позже. Отправившись за ней без разрешения, Орловы получили фору времени и фактически предопределили избрание Екатерины самодержицей.
Однако небольшая заминка у них все-таки вышла. Ранее было уговорено, что за «матушкой» отправится Григорий. Ему казалось легче проскользнуть незамеченным в Монплезир, зная потаенные дорожки в саду и даже, по уверениям Рюльера, имея ключ. Но в самый неподходящий момент к Орлову прилип старый приятель Степан Васильевич Перфильев — адъютант императора. Его считали соглядатаем, поэтому Григорий пригласил Перфильева к себе на квартиру и там развлекал выпивкой и карточной игрой, пока Алексей «карьером мчался» в Петергоф.
Кто рано встает, тому Бог дает
В Петергофе Екатерина занимала маленький павильон Монплезир под тем предлогом, что большой дворец нужно готовить к празднованию дня Петра и Павла. В бытность великой княгиней ее негласной обязанностью являлось устройство торжеств по случаю именин супруга. Теперь впервые предстояло отметить тезоименитство нового императора как государственное событие, и снова хлопоты по устройству легли на жену. Петр в сопровождении фаворитки и целой толпы «прекраснейших женщин», как выразился секретарь французского посольства Лоран Беранже, собирался приехать из Ораниенбаума к уже накрытым столам и музицирующим в тени листвы оркестрам.
Как обычно, Екатерина припасла для мужа сюрприз. Самый удивительный за их долгую семейную жизнь. Впрочем, есть смысл предположить, что и Петр готовил своей благоверной подарок. Он отказался от ее ареста накануне праздника, но тем эффектнее стало бы взятие под стражу на самом торжестве — государь любил театральные сцены. Однако сторонники могли уговорить его действовать тихо и совершить желаемое после именин. В любом случае отправляться в поход против Дании, оставив Екатерину у себя за спиной, в столице, было неразумно. Ее участь предстояло решить до отъезда к армии.
Наша героиня успела быстрее. Расстояние от столицы до Петергофа 29 верст. Чтобы покрыть его, нужно полтора часа. Около четырех Алексей Орлов и его друг Василий Ильич Бибиков покинули столицу, они очень торопились и прибыли на место уже в шестом часу. Некоторое время капитан преображенцев потратил на то, чтобы найти присланную Паниным карету, чтобы подогнать ее к воротам парка, и на то, чтобы самому незаметно пробраться по «потаенным дорожкам» к Монплезиру. Ровно в шесть он вошел в спальню Екатерины.
«Я была в Петергофе. Петр III жил и пил в Ораниенбауме, — рассказывала императрица в письме Понятовскому. — В 6 часов утра 28-го Алексей Орлов входит в мою комнату и говорит мне с большим спокойствием: „Пора Вам вставать. Все готово для того, чтоб Вас провозгласить… Пассек арестован“. Я не медлила более, оделась как можно скорее и, не делая туалета, села в карету, которую он привез. В пяти верстах от города я встретила старшего Орлова, и мы отправились в Измайловский полк»[472].
Однако прежде чем императрица оказалась окружена измайловцами и почувствовала себя в безопасности, произошло много интересного. Биограф Алексея Орлова В. А. Плугин резонно задался вопросом: в какую карету села Екатерина? И насчитал по разным источникам четыре экипажа, посланных за императрицей в Петергоф. «Телега» Дашковой, карета Панина, возок, на котором примчались Орлов и Бибиков, и, кроме того, некое транспортное средство, которое упомянул анонимный украинский автор из окружения К. Г. Разумовского. Исследователь объединил кареты Дашковой и Панина, так как оба упоминали доверенную камер-юнгферу Шкурину, у которой до времени стоял экипаж. Вероятно, речь идет об одном и том же возке, только каждый из мемуаристов приписал честь его отправки себе. Что касается гетмана, то о его карете больше нигде не говорится, и Плугин предположил, что безымянный рассказчик отдал своему патрону еще и этот подвиг в организации революции[473].
Было бы резонно сесть на свежих лошадей, следовательно, воспользоваться каретой Панина. Но при выходе Екатерины из Монплезира произошла заминка. О ней кое-что разузнал Шумахер, который, впрочем, «послал» за Екатериной не Алексея, а Григория — в дипломатических донесениях братьев часто путали. «28 июня по старому стилю, около 6 часов утра, она в черном траурном платье с орденом св. Екатерины вышла из дворца, — писал об императрице датчанин. — Ее сопровождали камер-юнгфера Екатерина Шаргородская и камердинер Василий Шкурин. Вместе с ними она прошла большой садовой аллеей к главным воротам, чтобы сесть там в уже упоминавшуюся карету, запряженную всего двумя лошадьми. Но поскольку слева показались фигуры двух мужчин, наверное, вышедших погулять в саду, то императрица не стала садиться здесь, а вернулась к другим воротам, несколько левее первых. Туда же подъехала и карета. Однако те люди, по-видимому, из любопытства, последовали и в эту сторону, так что у них на глазах императрица с юнгферою уселись в карету, камердинер стал на запятки, туда же к ним присоединился Бибиков, а Григорий Орлов поехал вслед за каретой верхом»[474]. При замене Григория на Алексея все встает на свои места.
О заминке упоминала и сама Екатерина: «Когда императрица отправилась из Петергофа, она потеряла более получаса времени, проходя садами, и вследствие этого не нашла кареты и была узнана на улице некоторыми прохожими. С нею была только горничная, которая ни за что не хотела ее оставить, и ее первый камердинер, искавший карету»[475].
Что заставило Екатерину «потерять более получаса времени, проходя садами»? Вероятно, «две мужские фигуры», отмеченные Шумахером. Каким бы беспечным ни был Петр III, а все главы заговорщиков вспоминали о приставленных к ним соглядатаях. За Орловым следил Перфильев. Панин говорил Ассебергу, что при нем «постоянно находился один флигель-адъютант императора, без сомнения, для наблюдения». Дашкова боялась, что собственные слуги могут донести, и сказала Орлову, что на улице ей безопаснее беседовать, чем дома. Словом, два прогуливающихся в ранний час придворных должны были вызвать у нашей героини законные опасения, тем более что они последовали за императрицей и видели, как она села в карету.
Пытаясь ускользнуть от любопытных глаз, Екатерина прошла «садами» из Нижнего парка в Верхний, что как раз заняло полчаса, и вышла из бокового входа. Так как карета, за которой пошел Алексей, подъехала к главному входу, то и пришлось посылать на ее поиски Шкурина. Пока государыня стояла на улице, поджидая экипаж, она «была узнана… некоторыми прохожими».
Сохранилась гравюра, изображавшая отъезд Екатерины из Петергофа. Ее автор Иоганн Конрад Кестнер создал по заказу императрицы цикл рисунков, иллюстрировавших славные события 28 июня. При столь важной «государственной» работе художник не мог полагаться на свое воображение: ему говорили, что и как изображать. Поэтому гравюры Кестнера нужно воспринимать, как ценный исторический источник.
На рисунке показаны боковые ворота Верхнего парка. Вдалеке виднеется Петропавловский собор. На переднем плане небольшая двухместная карета с шестеркой лошадей — единственное подтверждение, что это действительно панинский экипаж. Екатерина выходит из ворот в сопровождении Шкурина. У ограды застыла верная камер-юнгфера Шаргородская. На коне возле экипажа гарцует Алексей Орлов. Практически все детали совпадают с рассказом Шумахера, за исключением числа лошадей. Но эту ошибку можно простить советнику датского посольства, ведь в столицу императрица действительно прибыла в карете, запряженной парой, а не цугом. В дороге случилось еще одно происшествие, заставившее нашу героиню переменить карету.
Сама Екатерина писала об этом кратко: «В пяти верстах от города меня встретили старший Орлов и младший князь Барятинский, уступивший мне место в экипаже, ибо мои лошади выдохлись, и мы все вместе направились в Измайловский полк»[476]. Разные источники упоминали, что измученные быстрой скачкой кони пали, и некоторое время императрице пришлось пройти пешком, после чего Алексеем и Бибиковым была найдена крестьянская телега, а только потом появился Григорий с Барятинским. Если в истории с павшей лошадью есть доля истины, то придется предположить, что Орлов увез Екатерину все-таки не в панинской, а в своей карете, почему животные и не выдержали обратного пути.
То был опасный момент: остаться без средств передвижения на открытой дороге недалеко от Красного Кабака. Почти провал. Рюльер сообщал, что заговорщики предвидели возможность неудачи «и на сей случай приготовили все к побегу императрицы в Швецию. Орлов со своим другом зарядили по пистолету и поменялись ими с клятвою не употреблять их ни в какой опасности, но сохранить на случай неудачи, чтобы взаимно поразить друг друга»[477]. Но как бы то ни было, ни стреляться, ни бежать в Швецию не пришлось.
По пути нашей героине встречались разные лица, узнававшие и не узнававшие ее. Например, трактирщик Нейман, окликнувший Алексея: «Кем это ты навьючил экипаж?» Бравый капитан велел ему помалкивать. Или парикмахер императрицы француз Мишель, которого она якобы позвала с собой. Поступок весьма предусмотрительный, если учесть, что Екатерина «не делала туалета». Характерна реакция куафера: он решил, что хозяйку уже арестовали, и его повезут теперь вместе с ней в Сибирь.
Провозглашение
Около 8 часов утра Екатерина прибыла в казармы Измайловского полка. Город уже был взбудоражен. Повсюду за каретой государыни следовали целые толпы. «Сбегаются солдаты, обнимают меня, целуют мне ноги, руки, платье, называют своей спасительницей, — писала императрица Понятовскому. — Двое привели под руки священника с крестом, и вот они начинают приносить мне присягу». Очень быстро к измайловцам присоединились Семеновский и Преображенский полки, затем уже к Казанскому собору явилась Конная гвардия. «Она была в бешеном восторге, плакала, кричала об освобождении Отечества»[478].
Именно здесь, в плотном окружении гвардейских полков, Екатерина и была «выкрикнута» самодержавной государыней. Ни о каком регентстве гвардейцы и слышать не хотели. Присягу принесли императрице, а не великому князю Павлу. По пути к Казанскому собору процессия пополнялась военными и чиновниками, спешившими принести присягу. Молебен вел архиепископ Новгородский Дмитрий (Сеченов), давний сторонник Екатерины, не раз возмущавшийся действиями Петра III. Именно он возгласил во время ектеньи «самодержавную императрицу Екатерину Алексеевну и наследника великого князя Павла Петровича»[479]. Наконец царевич обрел статус, в котором ему отказывал отец.
Вспомним еще раз злополучный дашковский мужской костюм, который якобы помешал княгине принять участие в начале «революции». Этот незначительный эпизод проводит четкую грань между реальными заговорщиками и теми, кто играл в заговор. Наверное, пыльный и усталый Алексей Орлов, полночи скакавший туда и обратно по Петергофской дороге, выглядел не слишком респектабельно. Да и сама Екатерина не сделала «туалета», то есть не умылась и не успела толком причесаться. Шаг, достойный удивления. Императрица, много внимания уделявшая театрализации своих жестов, в решающий момент умела отодвинуть второстепенное ради важного, бутафорское ради настоящего. Только в середине дня, оказавшись в Летнем дворце, наша героиня сумела умыться и переодеться.
Из Казанского собора путь лежал в Зимний. «Я отправилась в Новый Зимний дворец, где Синод и Сенат были в сборе, — писала Екатерина. — Тут на скорую руку составили манифест и присягу. Оттуда я спустилась и обошла войска пешком. Было более 14 000 человек гвардии и полевых полков… Мы держали совет и было решено отправиться со мною во главе в Петергоф, где Петр III должен был обедать»[480]. В письме Понятовскому Екатерина не стала углубляться в вопрос о том, зачем понадобилось составлять «на скорую руку» манифест и присягу. Ведь эти документы уже были тайно отпечатаны Тепловым. Трусоватый и медлительный Теплов не поспел с готовым манифестом в Измайловский полк. Его промедление стало удачей для Екатерины и роковым для тех заговорщиков, которые хотели видеть ее регентшей. После того как вся гвардия признала Екатерину самодержицей, стал необходим новый документ и новый текст присяги.
Манифест — несколько косноязычный на современный вкус — задевал в сердцах подданных самые чувствительные струны: еще немного, и от России осталась бы одна Голштиния. «Всем прямым сынам Отечества, — гласил он. — …Закон наш православный Греческий перво всего восчувствовал свое потрясение… Второе, слава Российская, возведенная на высокую степень своим победоносным оружием… отдана уже действительно в совершенное порабощение; а, между тем, внутренние порядки, составляющие целость всего Нашего Отечества, совсем испровержены». Нарисовав такую малоутешительную картину, составители манифеста от имени императрицы заявляли, что «видев к тому желание всех Наших верноподданных… вступили на Престол Наш Всероссийский самодержавный»[481].
В новый Зимний, наконец, привезли из Летнего дворца маленького наследника, и Екатерина вышла с ним на балкон, показав собравшимся внизу гвардейцам. Считается, что впечатления 28 июня напугали Павла. «Сей ребенок, узнав о предстоящих опасностях своей жизни, проснулся, окруженный солдатами, и пришел в ужас, которого впечатление оставалось в нем на долгое время, — писал Рюльер. — Дядька его Панин, бывший с ним до сей минуты, успокаивал его, взял на руки во всем ночном платье и принес его таким образом матери. Она вынесла его на балкон и показала солдатам и народу. Стечение было бесчисленное, и все прочие полки присоединились к гвардии»[482].
Последние слова нуждаются в уточнении. Единодушие войск, расквартированных в Петербурге, не было полным. Наиболее преданным императрице считался Измаловский. Однако измайловцы уступали старшинство двум первым созданным в России гвардейским полкам — Семеновскому и Преображенскому. Между ними неизбежно должно было начаться соперничество.
Сама Екатерина так описывает присягу Преображенского полка. «Мы направились к Казанской церкви, где я вышла из кареты. Туда прибыл Преображенский полк… Солдаты окружили меня со словами:
— Извините, что мы прибыли последними, наши офицеры арестовали нас, но мы прихватили четверых из них с собой, чтобы доказать вам наше усердие!.. Мы желаем того же, что и наши братья»[483].
Этими офицерами были С. Р. Воронцов, брат Дашковой, П. И. Измайлов, П. П. Воейков, а также поручик Измайловского полка И. П. Озеров. Семен Романович вспоминал, как прискакал в свой полк, едва услышав, что в Семеновском и Измайловском провозглашена Екатерина. Преображенцы уже выстроились перед казармами и готовились выступать. Среди них мелькали агитаторы Бредихин, Баскаков и Барятинский. Воронцов обратился к солдатам, требуя верности присяге. Трое заговорщиков ничего не ответили ему, ухмыляясь и переглядываясь между собой. Зато к Воронцову присоединились капитан Петр Иванович Измайлов и майор Петр Петрович Воейков, вместе они склонили гренадер на сторону императора, и те даже закричали: «Умрем за него!» Воейков повел солдат к Казанскому собору, чтобы воспротивиться приносимой там присяге. Если бы преображенцы послушались его, произошло бы кровавое столкновение. Но, на счастье заговорщиков, сзади к колонне гренадер присоединился князь А. А. Меншиков и крикнул им в спины: «Vivat императрица Екатерина Алексеевна, наша самодержица!» И вдруг вся колонна повторила этот призыв. Воейков бросил шпагу со словами: «Ступайте к черту, канальи, е. м., изменники! Я с вами не буду!» — повернул лошадь и ускакал. А Воронцов кинулся к реке искать лодку, чтобы плыть в Ораниенбаум, предупредить императора, но был схвачен. Его преображенцы привели к собору в числе других арестованных, как доказательство своей преданности новой самодержице[484].
Рядовой Преображенского полка Г. Р. Державин, в заговоре не участвовавший, но разделивший с товарищами «измену» 28 июня, не помнил уговоров Воронцова. По его словам, в полку было неспокойно с ночи. В 12 часов разнесся слух об аресте Пассека. «Собралась было рота во всем вооружении сама собою, без всякого начальничья приказания, на ротный плац; но, постояв несколько во фрунте, разошлась». Около восьми утра преображенцы увидели скакавшего мимо рейтара конной гвардии, который что есть мочи кричал, чтобы все «шли к Матушке в Зимний каменный дворец… Рота тотчас вышла на плац. В Измайловском полку был слышен барабанный бой, тревога, и в городе все суматошилось». Державин заметил, что в роте были «некоторые равнодушные [люди], будто знали о причине тревоги». Однако они молчали, и без всякого понуждения с их стороны рота, заряжая на ходу ружья, помчалась к полковому двору. Солдат попытался остановить штабс-капитан Нилов, но его не послушались. По двору в задумчивости расхаживал майор Текутьев, «его спрашивали, куда прикажет идти, но он ничего не отвечал». Тут служивые увидели маршировавшую по Литейной улице гренадерскую роту своего полка — ту самую, которую подбил на сохранение присяги Петру III Семен Воронцов. Однако к моменту встречи с державинской 3-й ротой гренадеры уже сделали выбор. «Не взирая на воспрещения майора Воейкова, — писал Гаврила Романович, — который, будучи верхом и вынув шпагу, бранил и рубил гренадер по ружьям и по шапкам, вдруг, рыкнув, [рота] бросилась на него с устремленными штыками». Воейков поскакал прочь, преследуемый собственными гренадерами, и, боясь, как бы те не захватили его на Семионовском мосту, «въехал в Фонтанку по груди лошади». Тут гренадеры от него отстали. «Третья рота, как и прочие Преображенского полка, по другим мостам бежали одна за одной, к Зимнему дворцу. Там нашли Семеновский и Измайловский уже пришедшими, которые окружили дворец и выходы все заставили своими караулами. Преображенский полк… поставлен был внутри дворца… Тут тотчас увидел митрополита новгородского Гавриила с святым крестом в руках, который он всякому рядовому подносил для целования, и сие была присяга»[485].
В одном из автобиографических отрывков Екатерина добавляла по поводу преображенцев: «Когда гренадерская рота первого гвардейского полка подошла близ Казанской церкви на встречу императрице, они хотели занять свой пост у экипажа императрицы, но гренадеры Измайловского полка возразили им с горькими упреками, что они явились последними и что никоим образом им не уступят; это был очень опасный момент, потому что, если бы первые стали упорствовать, пошли бы вход штыки; но ничуть не бывало, они сказали, что это была вина их офицеров, которые их задержали, и самым кротким образом пошли маршировать перед лошадьми экипажа императрицы»[486].
Екатерине положительно везло в этот день. Но такие сцены возникали на каждом шагу. Может быть, именно для того, чтобы сгладить у преображенцев неприятное впечатление от «первенства» измайловцев, а заодно показать, как им доверяют, императрица распорядилась поставить старейший полк на караулы внутри дворца.
В городе еще оставались войска верные Петру III. Особенное беспокойство вызывали кирасиры. «Дело дошло почти до драки между созданным императором лейб-кирасирским полком, очень ему преданным, и конной гвардией, — сообщал Шумахер. — Командующий этим полком подполковник Фермойлен и другие немецкие офицеры хотели захватить Калинкин мост, через который шла дорога на Петергоф и Ораниенбаум, но их быстро отделили и взяли в плен… На Васильевском острове располагалось два пехотных полка — Ингерманландский и Астраханский. Вторым командовал генерал-майор Мельгунов, фаворит императора, так что этим войскам не очень доверяли. На случай, если они проявят враждебность, был выделен один отряд с пушкой, которому следовало отстаивать от них мост через Неву. Но и там полковника, заявившего о своей верности государю, взяли под арест собственные же солдаты»[487].
По другой версии, кирасиры не пытались захватить мост, а просто были обмануты вестью о гибели императора. «Явился кирасирский полк, — рассказывал придворный ювелир Иеремия Позье, — состоявший из трех тысяч самых лучших солдат, какие только имелись в войске, которому император послал приказание отправиться к нему в Ораниенбаум; но императрица послала одного из своих придворных вельмож воротить полк… Офицер, командовавший полком, по всей вероятности, не знал, в чем дело, и я сам видел, как он чуть не подрался с караулом из конногвардейцев, которые стерегли мост… Они, как бешеные, бросились с ружьями и штыками наперевес… Несколько гвардейских офицеров подошли, чтобы остановить этих сумасбродов, и что-то сказали на ухо кирасирскому офицеру, который тотчас же усмирился… Если бы этот полк остался верен императору, то он мог бы перебить всех солдат, сколько их ни было в городе»[488]. Но судьба распорядилась иначе. Кирасир привели к присяге без сопротивления с их стороны. Хотя никакого энтузиазма они не выражали. «Один полк явился печальным, — описывал их Рюльер. — …Офицеры отказались идти и были все арестованы, а солдаты, коих недоброхотство было очевидно, были ведены другими из разных полков»[489].
Тем временем в Зимний дворец набилась уйма народу. Именно здесь, с трудом пробившись через толпу, нашла императрицу Дашкова: «Перо мое бессильно описать, как я до нее добралась. Все войска, находившиеся в Петербурге, присоединились к гвардии, окружили дворец, запрудив площадь и все прилегающие улицы. Я вышла из кареты и хотела пешком пойти через площадь; но я была узнана несколькими солдатами и офицерами, и народ меня понес через площадь высоко над головами. Меня называли самыми лестными именами, обращались ко мне с умилением, трогательными словами и провожали меня благословениями… вплоть до приемной императрицы, где и оставили меня, как потерянную манжету. Платье мое было помято, прическа растрепалась, но своим кипучим воображением я видела в беспорядке моей одежды только лишнее доказательство моего триумфа»[490].
Княгиня сумела напомнить о себе государыне ярким театральным жестом с возложением на Екатерину ленты ордена Андрея Первозванного. «Заметив, что императрица была украшена лентой св. Екатерины и еще не надела Андреевской — высшего государственного отличия —… я подбежала к Панину, сняла с его плеч голубую ленту и надела ее на императрицу, а ее Екатерининскую, согласно с желанием ее, положила в свой карман… Государыня предложила двинуться во главе войск на Петергоф и пригласила меня сопутствовать ей… Желая переодеться в гвардейский мундир, она взяла его у капитана Талызина, а я, следуя ее примеру, у лейтенанта Пушкина»[491].
Между тем требовалось подумать о Кронштадте, куда мог податься свергнутый государь, о флоте и об армии, находившейся за границей. Заговорщики — люди сухопутные — о морской твердыне вспомнили только около полудня и пришли в ужас. «Не представлялось понятным, чтобы император не подумал об этом порте и крепости, — писала Екатерина. — Надо было сделать водою только одну милю от Ораниенбаума, тогда как от города было четыре»[492]. В Кронштадт отправился вице-адмирал Иван Лукьянович Талызин, которого за глаза «считали погибшим». Однако ему удалось арестовать присланного от Петра III генерал-аншефа П. А. Девиера и привести гарнизон к присяге.
Одновременно вице-адмиралу А. И. Полянскому был послан приказ объявить всем флотским и адмиралтейским чинам о вступлении Екатерины II на престол и организовать присягу. Другой рескрипт получил генерал-поручик П. И. Панин, находившийся в Кёнигсберге. Ему надлежало сменить П. А. Румянцева в качестве командующего Померанским корпусом, поскольку последний был обласкан Петром Федоровичем и мог выступить на стороне свергнутого монарха[493].
Толчея во дворце не стихала. Ювелир Позье, за которым государыня специально посылала офицера, прибыл одновременно с канцлером Воронцовым, присланным от императора разузнать, как обстоят дела в столице. «Мы вошли в залу, которая до такой степени была наполнена народом, что пришлось подождать добрых полчаса, прежде чем удалось пробраться до императрицы… Стечение вельмож и дам, приезжавших поздравить ее, было громадное, и я не понимаю, как Екатерина могла перенести такое утомление в течение целого дня, не принимая никакой пищи. Я еще стоял за стулом императрицы, когда явился великий канцлер Воронцов… Она спросила его, затем ли он пришел, чтобы присягнуть ей». Но, услышав отрицательный ответ, сказала: «В таком случае Вы не прогневаетесь, если я Вас посажу под домашний арест»[494].
У Шумахера эта сцена полна драматических подробностей: «До Красного Кабака дорога была совершенно пустынна… Но в этом местечке оказался сильный сторожевой отряд. Когда Воронцов спросил у солдат, что они здесь делают… ему ответили очень кратко: „Император сбежал, а императрица взошла на трон“ …В Петербурге… он вынужден был, как все, не исключая даже дам, вылезти из экипажа и пешком идти во дворец, где застал [Н. Ю.] Трубецкого и [А. И.] Шувалова. Они прибыли за несколько минут до него и теперь с язвительными усмешками рассказывали императрице о задании, данном им императором».
Из всех троих эмиссаров Петра III только канцлер обратился к августейшей мятежнице с увещевательной речью. «Он сказал, что послан императором, чтобы дружески, но со всей серьезностью призвать Ее величество пресечь восстание немедленно, пока оно еще в самом начале, и воздержаться впредь, как подобает верной супруге, от любых опасных предприятий. В этом случае не будет препятствий для полного примирения… Императрица и граф Воронцов стояли как раз у окна, и вместо ответа она предложила ему бросить взгляд в это окно и убедиться собственными глазами, что все уже решено и произошедшее есть выражение единодушной воли всей нации. „Разве не поздно — спросила она, — теперь поворачивать обратно?“»[495].
Рюльер привел другой ответ Екатерины: «Причиной тому не я, но целая нация»[496]. В тот же день канцлер написал прошение об отставке[497], которое, впрочем, не было принято сразу.
Столица признала Екатерину. Но оставалось еще захватить свергнутого императора и принудить его к отречению. «Около 10 часов вечера я облеклась в гвардейский мундир, села верхом; мы оставили лишь немного человек от каждого гвардейского полка для охраны моего сына. Я выступила во главе войск, и мы всю ночь шли на Петергоф»[498].
«Она способна на все!»
Низложенный государь далеко не сразу узнал о произошедшем. Заговорщики позаботились об этом. «Утром, как только собрались гвардейцы, — доносил в Лондон Кейт, — несколько отрядов были посланы на Петергофскую дорогу, дабы никакое известие не могло достигнуть императора»[499].
Статский советник Мизере (под этим псевдонимом выступал Якоб Штелин) записал в своем дневнике под 28 июня: «В час по полудни Его величество со свитой… отправился в Петергоф, чтобы присутствовать там при всенощной праздника святых Петра и Павла. В два часа… мы прибыли туда и с изумлением узнали, что императрица отбыла в 5 часов утра одна… оставя нас в неведении обо всем, равно как и всех своих придворных дам и кавалеров. Тогда начались совещания о мерах, которые нужно было принять. Начались замешательства, от часу увеличивавшиеся, пока, наконец, в 9 ½ вечера Его императорское величество и весь двор сели на галеру и яхту, чтобы отплыть в Кронштадт»[500].
Действительно, путешествие из Ораниенбаума в Петергоф было и приятным, и веселым. Гофмаршал двора Михаил Михайлович Измайлов, на которого император возложил почетную обязанность приглядывать за Екатериной, до середины дня не знал об ее исчезновении. Служанки уверяли, что государыня еще почивает, когда же гофмаршал заподозрил неладное и все-таки заглянул в комнату, было уже поздно. «Измайлов, как был — при полном параде, в башмаках и белых шелковых чулках… влез на скверную крестьянскую лошадь… и сломя голову помчался навстречу императору», — сообщал Шумахер. Бедняга застал государя в пяти верстах от резиденции в открытом фаэтоне в обществе «прусского посланника фон Гольца и некоторых дам». Отдувающийся и вспотевший гофмаршал выглядел жалко и был встречен насмешками.
Правда, желание Петра Федоровича шутить сразу пропало, когда Измайлов сообщил ему на ухо неприятную новость. По словам датчанина, император «был совершенно ошеломлен». Фаворит государя генерал-адъютант Андрей Гудович, фон Гольц и присоединившийся к ним вскоре фельдмаршал Миних советовали «повернуть назад и обеспечить за собой кронштадтскую гавань». Но император не мог ни на что решиться, он продолжал бесполезный уже путь в Петергоф, теряя драгоценное время. Ему словно нужно было своими глазами удостовериться в отсутствии супруги.
На пороге дворца он встретил канцлера и спросил «испуганным голосом»: «Где Екатерина?» А получив ответ, что, по всем сведениям, уже в городе, «на мгновение глубоко задумался и тихо сказал с сильным чувством: „Теперь я хорошо вижу, что она хочет свергнуть меня с трона. Все, чего я желаю, — это либо свернуть ей шею, либо умереть прямо на этом месте“. В гневе он стукнул тростью по полу». Потом приказал слугам принести ему русскую гвардейскую форму «вместо прусской с орденом Черного Орла, которую он до тех пор носил постоянно».
Слишком поздно! Если бы император показал гвардии свое уважение раньше, все могло бы сложиться иначе…
Переодевшись в комнате сбежавшей императрицы, Петр потребовал, чтобы фельдмаршал князь Трубецкой и граф Александр Шувалов, которых он назначил полковниками Семеновского и Преображенского полков, отбыли в столицу: «Вам нужно быть в городе, чтобы успокоить свои полки и удержать их в повиновении мне. Отправляйтесь немедленно и действуйте так, чтобы вы могли когда-нибудь ответить перед Богом». Оба заверили государя в преданности, но «не успел Петергоф скрыться из виду, как они приказали кучерам ехать тихим шагом, полагая, что особых причин торопиться нет»[501].
Поведение вельмож показательно: их, списочных генералов, носивших почетные военные чины, император превратил в действительных командиров полков, да еще и приходил поразвлечься, наблюдая, как немолодые, обремененные брюшком или слабыми подагрическими ногами придворные тянут носок и учат этому рядовых. Никаким авторитетом в полках эти люди не обладали и даже рисковали разделить участь принца Георга, арестованного и побитого подчиненными. Для них безопаснее было пустить лошадей шагом и подождать, как развернутся события. Фортуна явно не улыбалась Петру.
Рюльер добавил к рассказу несколько ярких штрихов. Узнав о бегстве императрицы, Петр воскликнул: «Что за глупость!» Потом потребовал выпустить его из коляски вон, некоторое время оставался на дороге, с горячностью расспрашивая «адъютанта». Наконец велел всем дамам выйти из экипажей и добираться в Петергоф по аллеям парка, а сам вскочил в карету с несколькими приближенными и погнал лошадей.
Оба мемуариста независимо друг от друга зафиксировали один и тот же порыв императора: своими глазами убедиться в исчезновении супруги. «Приехав, он бросился в комнату императрицы, заглянул под кровать, открыл шкафы, пробовал своею тростью потолок и панели и, видя свою любезную (Елизавету Воронцову. — О. E.), бежавшую к нему… кричал: „Не говорил ли я, что она способна на все!“»[502]. Рюльеру можно было бы не поверить, но Екатерина, со слов своих слуг — свидетелей сцены, — подтверждала, что муж «искал ее всюду, даже под кроватью»[503]. Курьезное поведение для человека, который должен думать о спасении своей власти.
В довершение ко всему посреди комнаты стояло парадное платье императрицы, приготовленное для торжественного обеда. Странно, что Петр не выместил на нем злость и не поколотил его тростью, изорвав в клочья.
Тем временем Екатерина принимала уже не присягу, а поздравления с «благополучным восшествием на престол». «Полки потянулись из города навстречу императору, — писал о начале похода на Петергоф французский дипломат. — Императрица опять взошла во дворец и обедала у окна, открытого на площадь. Держа стакан в руке, она приветствовала войска, которые отвечали продолжительным криком; потом села опять на лошадь и поехала перед своею армиею»[504]. В этом шествии было много карнавального: ликующие толпы по сторонам улиц, полки переодетые из новых «прусских» в старые елизаветинские кафтаны, молодая императрица верхом на белом скакуне, рядом с ней Дашкова, обе в мундирах.
Утомленные дорогой, наши амазонки оказались в местечке под названием Красный Кабак и переночевали на одном, брошенном на кровать плаще. «Нам необходим был покой, особенно мне, — писала Дашкова, — ибо последние пятнадцать ночей я едва смыкала глаза. Когда мы вошли в тесную и дурную комнату, государыня предложила не раздеваясь лечь на одну постель, которая при всей окружающей грязи была роскошью для моих измученных членов… Мы не могли уснуть, и Ее величество начала читать мне целый ряд манифестов, которые подлежали опубликованию по нашем возвращении в город»[505]. Сама Екатерина, тоже описавшая ночлег в Красном Кабаке, ни словом не упомянула обсуждение с подругой государственных бумаг. Да и странно было бы везти с собой в кратковременный поход черновики будущих законодательных актов.
«Здесь все имело вид настоящего военного предприятия, — вспоминала императрица, — солдаты разлеглись на большой дороге, офицеры и множество горожан, следовавших из любопытства, и все, что могло поместиться в этом доме, — вошло туда. Никогда еще день не был более богат приключениями; у каждого было свое, и все хотели рассказывать; были необычайно веселы, и ни у кого не было ни малейшего сомнения. Можно было подумать, что все уже порешено, хотя в действительности никто не мог предвидеть конца… Не знали даже, где находится Петр III. Следовало предполагать, что он бросился в Кронштадт, но никто и не думал об этом. Екатерина, однако, была совсем не так спокойна, как это казалось; она смеялась и шутила с другими, переговаривалась… через всю комнату, и когда подмечали у нее минуты рассеянности, она сваливала вину на утомление этого дня; захотели уложить ее спать — она бросилась на минуту в кровать, но, не будучи в состоянии закрыть глаза, лежала неподвижно, чтобы не разбудить княгиню Дашкову, спавшую возле нее, но, повернув нечаянно голову, она увидела, что ее большие голубые глаза открыты и обращены на нее, что заставило их громко расхохотаться, потому что они считали одна другую заснувшею и взаимно одна другой оберегали сон. Они отправились присоединиться к остальной компании и немного погодя пустились снова в путь»[506].
«День был самый красный»
Общим местом для русских источников является настойчивое утверждение, будто переворот прошел на редкость спокойно и бескровно. «Наше вступление в Петербург не поддается описанию, — рассказывала Дашкова. — Улицы были заполнены народом, который благословлял нас и бурно выражал радость. Звон колоколов, священник у врат каждой церкви, звуки полковой музыки — все производило впечатление, которое невозможно передать. Счастье, что революция совершилась без единой капли крови…»[507] Ту же картину подтверждал и Рюльер: «Армия взбунтовалась без малейшего беспорядка, после выхода (войск в Петергоф. — О. Е.) было все совершенно спокойно»[508]. Такова же оказалась и официальная версия, изложенная в записках Екатерины: «Весь день крики радости не прекращали раздаваться среди народа и не было никаких беспорядков»[509].
Однако в реальности жизнь Петербурга дней переворота оказалась куда драматичнее. Сразу, еще в момент восстания, гвардейцы показали себя как опасная и плохо контролируемая стихия. «Конная гвардия была в полном составе с офицерами во главе, — сообщала Екатерина Понятовскому. — Так как я знала, что дядю моего, которому Петр III дал этот полк, они страшно ненавидели, я послала пеших гвардейцев к дяде, чтоб просить его оставаться дома из боязни несчастья с ним. Не тут-то было: его полк отрядил караул, чтоб его арестовать; дом его разграбили, а с ним обошлись грубо»[510].
Принцу Георгу крепко досталось от подчиненных. Надо отметить, он был излишне строгим командиром и насаждал в полку столь любимую императором прусскую дисциплину. Палочные удары сыпались направо и налево, но наступил день, когда, по народной поговорке, отлились кошке мышкины слезки. «Я видел, как мимо проехал в плохой карете дядя императора, принц Голштинский, — сообщал Позье. — Его арестовал один гвардейский офицер с двадцатью гренадерами, которые исколотили его ружейными прикладами… Жена его, к несчастью, была в этот день в городе; солдаты тоже весьма дурно обошлись с ней, растащив все, что они нашли в доме; они хотели сорвать с рук ее кольцо, если бы командующий ими офицер вовремя не вошел в комнату, они отрезали бы у нее палец»[511]. Принц и принцесса провели под арестом трое суток и «насилу могли добиться чего-нибудь поесть». Женщина так и не оправилась от пережитого испуга и, вернувшись на родину в Германию, скончалась через шесть месяцев после переворота.
Вот как описал арест дяди императора Шумахер: «Прискакало целое сонмище разъяренных конногвардейцев, и они напали на герцога Голштинского. Отдать шпагу добровольно он не захотел, и они вынудили его к тому силой, нанесли много Ударов и пинков, порвали на нем не только красный мундир, но и голубую нательную рубаху. Ему нанесли раны, а затем хотели проткнуть байонетом его адъютанта Шиллинга. В открытой коляске герцога… отвезли в собственный его дом на углу Галерного двора. Рейтары даже хотели рубануть его саблями, но гренадер, стоявший за ним в коляске, отразил эти удары своим ружьем. Уже при въезде во дворец герцога еще один из рейтар хотел в него выстрелить, но его от этого удержал, что достойно внимания и похвалы, русский же священник. Рейтары и солдаты начисто разграбили дворец, забрали все бывшие там деньги и драгоценности, нарочно покрутили много красивой мебели и разбили зеркала, взломали винный погреб и ограбили даже маленького сына герцога. Только чистыми деньгами герцог потерял более 20 000 рублей… Озлобленные, неистовствующие солдаты не слушали уже никаких приказов»[512].
Еще утром 28-го Позье, предусмотрительно спрятавший под половицей доверенные ему заказчиками драгоценности, вышел из дома. «Я увидел двух молодых англичан, которых преследовали солдаты с обнаженными саблями. Они не говорили по-русски. Я сказал этим солдатам: „Что вы делаете? …Я знаком с вашим офицером, который уж верно не приказывал вам этого делать“. Они мне ответили: „Да они нас ругают на своем языке“ …Я дал им пол-экю — единственное средство усмирить их»[513], а затем спрятал англичан у себя на квартире. Положение придворного «бриллиантщика» и знакомство с половиной города помогли ювелиру. Однако он видел, как еще вчера дружелюбные люди сегодня готовы были кидаться на иностранцев с кулаками, а то и с «обнаженными саблями».
Екатерина подтверждала, что служивые были крайне озлоблены на все, что отдавало «немецким». «Ярость солдат против Петра III была чрезвычайна… После присяги… войскам… было позволено снова надеть их прежние мундиры; один из офицеров вздумал сорвать свой золотой знак и бросил его своему полку, думая, что они обратят его в деньги; они его с жадностью подхватили и, поймав собаку, повесили его ей на шею; эту собаку, наряженную таким образом, прогнали с великим гиканьем; они топтали ногами все, что для них исходило от этого государя»[514].
По словам Рюльера, «солдатам раздавали пиво и вино, они переоделись в прежний свой наряд, кидая со смехом прусские мундиры, в которые одел их император, оставлявшие солдат почти полуоткрытыми в холодном климате, и встречали с громким смехом тех, которые по скорости прибегали в сем платье, и их новые шапки летели из рук в руки, как мячи, делаясь игрою черни»[515].
К счастью, то были шапки, а не головы. Остается только удивляться, как при подобном настроении не было пролито ни капли крови. Своим неумеренным пруссачеством Петр III разжег ксенофобию в городе, населенном по меньшей мере десятью-двенадцатью диаспорами, среди которых русская была самой крупной, но отнюдь не подавляющей. Слова Екатерины в письме Понятовскому: «Знайте, что все решилось на основе ненависти к иноземцам — ведь Петр III слыл за одного из них» [516] — на фоне приведенных рассказов не кажутся преувеличением.
Дело дошло до того, что прусскому посланнику Гольцу пришлось дать караул из двенадцати гусар, впрочем, охрана была приставлена и к другим полномочным министрам. А на представление дипломатического корпуса Екатерина попросила пруссака явиться в сюртуке, чтобы не дразнить солдат ненавистной синей формой[517].
Это произошло 2 июля, всего через четыре дня после роковых событий, а в момент взрыва город оказался игрушкой в руках вооруженных людей — уже нарушивших присягу, слабо слушавшихся своих командиров, хмельных от вина и полной безнаказанности. Вот как рисует поведение гвардии Шумахер: «В подобные минуты чернь забывает о законах и вообще обо всем на свете… Один заслуживающий доверия иностранец рассказывал мне, как какой-то русский простолюдин плюнул ему в лицо со словами: „Эй, немецкая собака, ну где теперь твой бог?“ Точно так же и солдаты уже 28-го вели себя очень распущенно… Они тотчас же обирали всех, кого им велено было задерживать… захватывали себе прямо посреди улицы встретившиеся кареты, коляски и телеги… отнимали и пожирали хлеб, булочки и другие продукты у тех, кто вез их на продажу. 30 июня беспорядков было еще больше… Так как императрица разрешила солдатам и простонародью выпить за ее счет пива в казенных кабаках, то они взяли штурмом и разгромили… все кабаки… и винные погреба; те бутылки, что не смогли опустошить, — разбили, забрали себе все, что понравилось, и только подошедшие сильные патрули с трудом смогли их разогнать. Многие отправлялись по домам иностранцев… и требовали себе денег. Их приходилось отдавать безо всякого сопротивления. У других отнимали шапки, так что тот, кто не был хотя бы изруган, мог считать себя счастливцем»[518].
Слова Шумахера подтверждал Позье: «Все войска, оставшиеся в городе, стали шпалерами вдоль улиц и так простояли всю ночь. Я не мог сомкнуть глаз и просидел у окна, следя за всем, что происходило. Я видел, как солдаты выбивали двери в подвальные кабаки, где продавалась водка, и выносили огромные штофы своим товарищам, что меня страшно испугало… Ни один иностранец не смел показаться на улице, и, если б я не был знаком с большею частью офицеров, я бы не рискнул выйти»[519].
Ту же картину, только с нескрываемой для служилого радостью, описывал и Державин: «День был самый красный, жаркий. Кабаки, погреба и трактиры для солдат растворены: пошел пир на весь мир; солдаты и солдатки в неистовом восторге и радости носили ушатами вино, водку, пиво, мед, шампанское и всякие другие дорогие вина и лили все вместе без всякого разбору в кадки и бочонки, что у кого случалось»[520].
Уже после переворота кабатчики выставили императрице и Сенату счет за убытки на сумму 105 563 рубля 13,05 копейки, что в переводе на вино и водку составляло по тогдашним ценам 422 252 литра с половиной. Город гулял трое суток. Следовательно, в среднем за день выпивалось, проливалось, разбивалось или тратилось как-то иначе 140 751 литр[521]. Якоб Штелин указывал, что в это время в столице проживало около 160 тысяч человек[522]. Если исключить младенцев, стариков и больных, то получится менее чем по литру в день на человека. Предоставляем читателям судить, стоит ли ужасаться цифре. Однако очевидно, что пили в основном служивые, а обыватели сидели по домам и дрожали от страха.
Любопытно, что «праздник непослушания» охватил только центр города. Кейт, живший на окраине, свидетельствовал о полной тишине. «Поразительный сей переворот произошел менее чем за два часа и без пролития единой капли крови или какого-либо иного акта насилия, — доносил он 2 июля. — Все городские кварталы, несколько удаленные от дворца, а особливо улица, где находился и мой дом и где живут по большей части российские подданные, оставались в полнейшем спокойствии… Единственным новшеством явились пикеты у мостов и перекрестков, а также кавалергардские патрули на улицах»[523].
На другой стороне
Тем временем Петр III все еще был на свободе и мог предпринять ответные действия. Например, послать гонца в армию П. А. Румянцева, уже вышедшую в поход против Дании. Никто не гарантировал, что обласканный милостями государя командующий примкнул бы к заговорщикам. Скорее наоборот. Можно было предположить, что и союзник Петра Федоровича Фридрих II присоединит часть своих войск к армии Румянцева.
Для всей России, исключая Петербург, Петр III был законным государем. Только очень близкая ко двору гвардия и горожане успели узнать привычки нового императора и разозлиться на них. А, например, в Москве ни войска, ни чиновничество, ни простой люд не были довольны переворотом. Сенатор Я. П. Шаховской писал о состоянии «ужаса и удивления», которые охватили дворянство Первопрестольной при известии о смене власти[524]. Он лично несколько дней не решался выходить из дому и не принимал записок от друзей с уведомлением о перевороте, пока точно не стало известно, кто победил.
Шаховской был краток, а вот Рюльер расписал обстановку в Москве: «Пять полков составляли гарнизон. Губернатор приказал раздать каждому солдату по 20 патронов (вероятно, для торжественного залпа. — О. E.). Собрал их на большой площади перед старинным царским дворцом… Он пригласил туда и народ». После прочтения манифеста губернатор закричал: «Да здравствует императрица Екатерина II!» «Но вся сия толпа и пять полков хранили глубокое молчание. Он возобновил тот же крик, ему ответили тем же молчанием, которое прерывалось только глухим шумом солдат, роптавших между собою за то, что гвардейские полки располагают престолом по своей воле. Губернатор с жаром возбуждал офицеров, его окружавших, соединиться с ним; они закричали в третий раз: „Да здравствует императрица!“ — опасаясь быть жертвою раздраженных солдат и народа, и тотчас приказали их распустить»[525].
Итак, народ безмолвствовал…
Учитывая разницу настроений в столице и провинции, заговорщики должны были действовать быстро. Их мизерные шансы окупались скоростью смены декораций. «Одни слабоумные нерешительны», — скажет позднее Екатерина. Ее слова в полной мере относились и к ней самой, и к ее несчастному супругу, который в роковой час проявил колебания и слабость. Пока несколько гвардейских полков дружными рядами выступали из столицы в поход на Петергоф, сам Петр расхаживал по берегу канала, не зная, что предпринять.
Штелин по часам вел дневник всего, что происходило в Петергофе. «4 часа… Один из предстоящих предлагает государю ехать с небольшою свитою из нескольких знатнейших особ прямо в Петербург, явиться там перед народом и гвардией… Можно быть уверенным, говорит этот советник, что личное присутствие государя сильно подействует на народ и даст делу благоприятный оборот, подобно тому, как внезапное появление Петра Великого неоднократно предотвращало точно такие же опасности…
7 часов… Государь посылает ораниенбаумским своим войскам приказание прибыть в Петергоф и окопаться там в зверинце, чтоб выдержать первый натиск.
Штелин изображает фельдмаршалу Миниху и принцу Гольштейн-Бекскому ужасные последствия, которые могут произойти из такого… сопротивления, если бы… была выпущена против ожидаемой гвардии хотя бы даже одна пуля. Оба соглашаются с его мнением и все вместе представляют о том государю; но он не хочет их слушать…
8 часов. Мы повторяем наше представление, но столь же безуспешно»[526].
Обратим внимание на описание Штелиным поведения фельдмаршала Б. X. Миниха. В исторических исследованиях часто повторяется мнение, будто Миних предлагал Петру III действовать решительно и самому отправиться навстречу мятежным войскам — де, один вид государя приведет их в повиновение. Невольно вспоминаются гоголевские строки о картузе капитана-исправника, который достаточно показать взбунтовавшимся крестьянам, чтоб их напугать до полусмерти. Штелин, постоянно находившийся возле императора и прекрасно знавший Миниха, подобные предложения вкладывает в уста неизвестного «предстоящего советника». Фельдмаршал же дважды уговаривал императора отказаться от сопротивления в Петергофе и двигаться в Кронштадт.
Вся несостоятельность предложения безымянного «советника» становится ясна, если привести характерный эпизод. После ареста Петр III отбыл из Петергофа в местечко Ропша. «По пути, — рассказывал Шумахер, — император едва избежал опасности быть… разнесенным в куски выстрелом из одной из шуваловских гаубиц. Канонир уже совсем собрался выпалить, но в то же мгновение начальник поста артиллерийский старший лейтенант Милессино так резко ударил его шпагой по руке, что тот выронил горящий фитиль»[527].
Не остается сомнений, как гвардия встретила бы выехавшего к ней императора в сопровождении небольшого эскорта знатных лиц. Что касается петербургских горожан, то и их поведение выглядело более чем красноречиво. В то время когда Екатерина двигалась в Петергоф, народ вообразил, что Петр III может вернуться в столицу по воде. Несколько тысяч человек, вооруженных камнями и палками, собрались на Васильевском острове при входе в Неву, намереваясь воспрепятствовать его высадке.
Явление бывшего императора перед мятежными войсками скорее всего не успокоило бы их, а привело к гибели Петра. Возможно, именно такого исхода добивался не названный Штелиным советник. Вероятнее всего, он действовал в пользу заговорщиков, провоцируя отъезд государя без голштинской охраны. Такая провокация кажется тем более вероятной, что в столице многие из принявших участие в перевороте солдат считали Петра мертвым.
«Повсюду уже распускали слух, будто император накануне вечером упал с лошади и ударился грудью об острый камень, после чего в ту же секунду скончался»[528], — сообщал Шумахер. Его сведения подтверждал Рюльер: «Вдруг раздался слух, что привезли императора. Понуждаемая без шума толпа раздвигалась теснилась и в глубоком молчании давала место процессии, которая медленно посреди ее пробиралась. Это были великолепные похороны, во время которых гроб пронесли по главным улицам, и никто не знал, кого хоронят. Солдаты, одетые по-казацки, в трауре несли факелы… Часто после спрашивали об этом княгиню Дашкову, и она всегда отвечала так: „Мы хорошо приняли свои меры“. Вероятно, эти похороны были предприняты, чтобы между чернию и рабами распространить весть о смерти императора, удалить на ту минуту всякую мысль о сопротивлении»[529]. Штелин приводил слова гусарских офицеров, обращенные 29 июня к арестованным голштинским солдатам: «Не бойтесь: мы вам ничего худого не сделаем; нас обманули и сказали, что император умер»[530].
Когда вечером 28 июня Екатерина покинула Петербург, с ней была значительная сила: три пехотных гвардейских полка, конногвардейцы, полк гусар и два полка инфантерии. Всего около 12 тысяч человек. Опасаться серьезного сопротивления со стороны голштинцев не приходилось по причине их крайней малочисленности. Понятовскому она писала, что Петр III мог противопоставить ее корпусу 1500 голштинцев[531]. В записках голштинского офицера Д. Р. Сиверса названа цифра в 800 человек. При этом голштинцы были совершенно деморализованы слухами о скором свержении императора, а наступающая гвардия уже чувствовала себя победительницей.
Сиверс показывает переворот «с другой стороны», из рядов голштинских войск: «Когда государь отъехал (из Ораниенбаума. — О. E.), я пошел к себе на квартиру… Вдруг… послышался барабанный бой и тревога. Мне подумалось, что государь захотел узнать, во сколько минут солдаты могут вооружиться; но скоро сделалось известно, что в Петербурге восстание… С некоторого времени мы уже не переставали ожидать такого несчастья… От Ораниенбаума до Петергофа добрая миля расстояния. В 4 часа мы пришли туда, императору доложили о прибытии этой уже бесполезной защиты… Он меня спросил, охотно ли мы пошли и готовы ли ко всему. Я ответил утвердительно…
Вскоре стали говорить, что поблизости от нас 50 человек русской кавалерии… Каждый начал, улыбаясь, прощаться с товарищами… Так кончилось императорство для нас, голштинцев»[532]. Страшен, конечно, был не сам передовой отряд, а целая армия, шедшая за ним. Однако и кавалеристы справились со «злосчастной толпой» на плацу перед дворцом. Штелин описал этот игрушечный бой: «В Петергоф приходит первый авангардный отряд гусар под начальством поручика Алексея Орлова. На плацу ему случайно попадается несколько сот… голштинских рекрут, собранных тут с деревянными мушкетами для учения. Гусары в одну минуту опрокидывают и перехватывают их, ломают их деревянное оружие и сажают всех под сильным караулом в тамошние сараи и конюшни»[533].
Отречение
Пока Екатерина двигалась к Петергофу, ее супруг все-таки отплыл в Кронштадт. Поначалу он намеревался обороняться в резиденции и упрекал малодушных придворных: нельзя бежать, даже не увидев неприятеля. Еще никто не знал, увенчалась ли затея Екатерины успехом и сколько с ней войск. Петр даже прикинул, как можно использовать холмы для отражения врага.
Однако, когда стало известно от пойманных гусар — сторонников императрицы, посланных на разведку, — что Петербург восстал, а Екатерина ведет с собой чуть не двадцать тысяч войска, Петр понял, что голштинцы не отобьются. Тем временем возвратился адъютант Девиер с радостным известием: в Кронштадте еще ничего неизвестно о переменах в столице. Рюльер даже поставил крепость под знамена Петра: «Гарнизон пребывает верным своему долгу и решился умереть за императора; его там ожидают и трудятся с величайшей ревностью, дабы приготовиться к обороне».
Фельдмаршал Миних советовал захватить с собой в качестве заложниц придворных дам, мужья которых находились в данный момент с императрицей в столице. Так и было сделано. Обратим внимание на красноречивую деталь: покидая Петергоф, император не отдал голштинцам распоряжения не обороняться, он попросту бросил их, а возможно, забыл. У него был такой трудный день! А ведь эти войска Петр особенно любил и баловал, считал родными…
Галера и яхта отплыли от пристани в Петергофе, но стоило им приблизиться к Кронштадту, как «целый гарнизон», который взбунтовал Талызин, «с заряженными ружьями вылетел на крепостные валы, и 200 фитилей засверкали над таким же числом пушек»[534]. Было около полуночи. Петр намеревался высадиться на берег, но был окликнут: «Кто идет?» На слова: «Император!» — прозвучал убийственный ответ: «У нас нет императора. В России благополучно царствует императрица Екатерина Алексеевна». Поскольку с бастионов пригрозили, что откроют огонь, кораблям пришлось отвалить от берега, в спешке обрубив канаты. Предприимчивый Миних советовал немедленно плыть в Ревель, пересесть на военный корабль и постичь Пруссии, где находилась выступившая в поход армия. А потом, имея 80 тысяч войска, привести столицу к покорности. Но набившиеся в каюту дамы подняли стоны и в конце концов убедили Петра Федоровича вернуться в резиденцию.
Штелин записал, что «галера воротилась в Ораниенбаум, а яхта — в Петергоф в 4 часа утра»[535]. Путь от Петергофа до Кронштадта занял два с половиной часа. Обратный — четыре. Значит, отплыв, император провел значительное время на воде, размышляя, куда двигаться. Он снова ни на что не мог решиться, застыв между восставшим городом и восставшей крепостью. Снова терял драгоценные минуты и после долгих колебаний склонился к самому простому решению: не делать ничего.
Родись Петр смелым человеком, он бы последовал совету Миниха и на одной яхте добрался до Ревеля. Но то был бы поступок Петра Великого или Екатерины. Несчастному внуку северного исполина хватило приключения с Кронштадтом. Он видел, что его предали все, что те, кто рядом, сопровождают его лишь поневоле. В любимую резиденцию император вернулся готовым пойти на мировую с женой. Измученный и подавленный, он направился в одну из своих «игрушечных» крепостей, там упал на кушетку и около часа пролежал без движения. Потом его удалось привезти во дворец. Слугам Петр бросил: «Дети мои, мы теперь ничего не значим».
Следующий день стал для него еще труднее предыдущего. Дорогой на Петергоф к Екатерине один за другим присоединялись перебежчики, которых Петр направлял сначала для того, чтобы упрекнуть жену, затем, чтобы увещевать ее и просить мира и, наконец, чтобы предложить отречение. Императрица приняла лишь последнее. «Забыла сказать, — писала она Понятовскому, — что при выезде из города ко мне подошли три гвардейца, посланные из Петергофа, чтобы распространять в народе манифест. Они заявили:
— Вот что поручил нам Петр III. Мы вручаем это тебе, и мы очень рады, что у нас есть возможность присоединиться к нашим братьям»[536]. О сути манифеста поведал Шумахер: «Нерешительный император… приказал кабинет-секретарю Волкову составить письмо в Петербург Сенату, в котором он строго взывал к его верности, оправдывал свое поведение в отношении супруги и объявлял юного великого князя Павла Петровича внебрачным ребенком. Но офицер, которому повелели доставить это послание, вручил его императрице»[537].
Таким образом, несмотря на жалобные письма, приходившие из Ораниенбаума, императрица прекрасно понимала, каким тоном заговорил бы муж, склонись удача на его сторону. Все источники упоминают два послания. В первом Петр предлагал начать переговоры. Ответа не последовало. Во втором обещал отречение, если его отпустят в Голштинию. Екатерина и тут промолчала. Ее устроила бы только безоговорочная капитуляция.
«Тогда этот несчастный государь, — сообщал Шумахер, — отправил с вице-канцлером князем Голицыным письмо к императрице, в котором он просил ее лишь позволить ему уехать в Голштинию. Но вскоре затем он сочинил и второе письмо, еще более унизительное. Он отказывался полностью от своих прав на российский престол и на власть. Он раболепно молил сохранить ему жизнь и единственное, что выговаривал себе, — это позволение взять с собой в Голштинию любовницу Елизавету Воронцову и фаворита Гудовича. Это послание он переслал с генерал-майором Михаилом Измайловым»[538].
Слова Шумахера подтверждал Беранже: «Император… написал письмо императрице, в коем признавал свои вины, предлагал примирение и совместное правление. На сие императрица ничего ему не ответствовала. Через недолгое время послал он ей второе письмо, где умолял о прощении и просил для себя пенсию и дозволение удалиться в Голштинию. Императрица отправила к нему акт об отречении, который повез генерал Измайлов»[539].
Тот самый гофмаршал, который утром 28-го в испуге сообщил императору об исчезновении жены, теперь предлагал ей понудить Петра к отречению.
«После первого письма последовало второе, — сообщала Екатерина, привезенное генералом Михаилом Измайловым, который бросился к моим ногам…
— Император готов отречься. Я привезу его вам после добровольного отречения, и тем помогу моей родине избежать гражданской войны…
Петр III отрекся в Ораниенбауме безо всякого принуждения, окруженный 1590 голштинцами, и прибыл с Елизаветой Воронцовой в Петергоф, где для охраны его особы я дала ему шесть офицеров и несколько солдат»[540].
Текст отречения говорит о том, что императрица старалась предусмотреть все лазейки и лишить свергнутого супруга возможности вернуть престол, ссылаясь на какой-либо плохо продуманный пункт. «Во время кратковременного и самовластного моего царствования, — сказано в документе, — я узнал на опыте, что не имею достаточных сил для такового бремени, и управление таковым государством, не только самовластное, но какою бы ни было формою превышает мои понятия, и потому и приметил я колебание, за которым могло бы последовать и совершенное оного разрушение к вечному моему бесславию… Я добровольно и торжественно объявляю всей России и целому свету, что на всю жизнь свою отрекаюсь от правления»[541]. Он обещал «даже не домогаться того никогда посредством какой-либо посторонней помощи». Имелась в виду Пруссия.
Панин сообщил Ассебургу, что, требуя от мужа формального отречения, Екатерина «указала ему самые выражения, которые следовало употребить. Петр написал акт своею рукой и был препровожден из Ораниенбаума в Петергоф в одной карете с… Воронцовой»[542]. Рюльер добавлял, что когда экипаж тронулся, слуги кричали: «Батюшка наш! Она прикажет умертвить тебя!» Однако усилия понадобились как раз для того, чтобы защитить свергнутого государя. По свидетельству Панина, солдаты были так «возбуждены» против Петра, что Никите Ивановичу пришлось самому отбирать наименее озлобленных и составлять «батальон в триста человек, который и был расположен… вокруг павильона, где поместили Петра… чтобы отвратить пьяных и усталых солдат от возможности покушения». Несчастный монарх «просил как милости, чтоб ему оставили графиню Воронцову». Сцена произвела на Никиту Ивановича тяжелое впечатление. «Я считаю несчастьем всей моей жизни, что принужден был видеть его тогда, — сказал он Ассебургу, — я нашел его утопающим в слезах». Петр старался «поймать руку Панина, чтобы поцеловать ее», а Воронцова «бросилась на колени, испрашивая позволения остаться при нем». Вельможа постарался поскорее уйти и передал ответ императрицы через другое лицо: разрешение дано не было.
«Я родился честным человеком»
Тем временем в лагере сторонников Екатерины вовсе не было так благополучно, как хотелось бы показать государыне. Имей Петр преданных союзников, они могли бы попытаться сыграть на противоречиях. Но государь не завоевал себе друзей, и с момента отречения люди из его круга больше не появлялись на сцене. Отныне речь шла только о соперничестве двух влиятельных группировок, приведших императрицу к власти. Они вытеснили остальные силы с придворных подмостков и приковали к себе внимание публики. Их скрытая, но ожесточенная борьба ознаменовала собой почти два десятилетия екатерининского царствования.
Начало ей было положено действиями Орловых, привезших Екатерину в столицу «раньше срока» и спровоцировавших гвардию «выкрикнуть» ее самодержицей. Не стихала она и в следующие дни переворота. Обратим внимание на характерную форму отречения Петра. Свергнутый монарх отказывался от престола не в чью-либо пользу, а как бы в пространство. К кому после него должна перейти власть, документ не оговаривал. Как мы помним, Панин писал, что Екатерина сама указала мужу, какие выражения использовать. Действительно, словосочетания: «узнал на опыте», «превышает мои понятия», «приметил я», «всей России и целому свету» — характерны для императрицы. Вероятно, существовал черновик отречения, составленный государыней и посланный в Ораниенбаум вместе с гофмаршалом Измайловым.
Судя по тому, что сообщил Никита Иванович Ассебургу, его в момент написания этой бумаги рядом с Екатериной не было. «Так как об экспедиции Талызина не было еще никаких известий, то и боялись, как бы Петр, найдя доступ в Кронштадт прегражденным, не вздумал направиться водою же в Петербург… Было решено, чтобы Панин верхом, в сопровождении двадцати четырех кавалергардов, вернулся в столицу, следуя при том вдоль левого берега Невы… Панин беспрепятственно вступил в город. Там все было спокойно. Между тем Екатерина прибыла в Петергоф, откуда и отправила Петру ответ на его письмо… Екатерина потребовала от Петра формального акта отречения от престола»[543].
Рейд Никиты Ивановича — человека по всем повадкам штатского — во главе отряда кавалергардов весьма примечателен. Екатерине удалось на короткое время избавиться от Панина, и как раз в этот момент было составлено и подписано отречение. Нельзя не признать, что, пока инициатива оставалась в руках императрицы, она опережала своего медлительного союзника на один шаг.
Вероятно, государыня хотела, чтобы воспитатель остался в столице рядом с великим князем, но Панин поспешил назад. Текст отречения представлял собой компромисс между сторонниками самодержавной власти Екатерины и теми, кто хотел видеть на троне ее сына. Ни одна из группировок не получила перевеса. Никита Иванович не сумел включить имя своего воспитанника в документ. Но и супруга свергнутого монарха не упомянута в нем. Поле для игры оставалось свободным. Кроме того, свое слово могли еще сказать Сенат и Совет: ведь отречение не оговаривало форму правления, которая устанавливалась после Петра III.
Екатерине было выгодно показать, что, принимая власть, она идет навстречу желаниям народа. Подданные подняли восстание против нерадивого самодержца, и чтобы сохранить целостность государства, не дать возобладать хаосу и безначалию, его покинутая благоверная жена согласилась вступить на трон. «Когда императрица сошла с лошади у Летнего дворца, — писала о себе наша героиня, — давка была так велика, что ее вели под руки, что представляло прекрасное зрелище; это имело вид как будто бы она была вынуждена сделать все то, что только что произошло; что было в действительности справедливо, потому что, если бы она отказалась, она подверглась бы опасности разделить участь Петра III; таким образом, не было выбора»[544].
Похожую роль Екатерина старалась играть и перед Дашковой. Под пером княгини императрица выглядит весьма пассивно, точно предоставила другим право спасать себя. Выход государыни из амплуа покорной жертвы оказался для подруги настоящей драмой. Открылось, что Дашкова знала лишь часть заговора и не занимала того места, на которое рассчитывала. Ведь она претендовала и на сердце императрицы, и на первую политическую скрипку в ее оркестре. Поэтому правда об Орлове стала для нее таким ударом.
Именно в Петергофе появились трения между подругами. Дашковой казалось, что именно она распоряжается всем. «Мне постоянно приходилось бегать с одного конца дворца в другой и спускаться к гвардейцам, охранявшим все входы и выходы», — рассказывала княгиня. В реальности управлять разбушевавшейся, уже отчасти хмельной гвардейской массой было нелегко даже офицерам. Письма императрицы Понятовскому хорошо передают ощущение человека, ставшего в какой-то момент игрушкой — пусть и любимой — в руках у огромной вооруженной толпы: «Пока я повинуюсь, меня будут обожать; перестану повиноваться — как знать, что может произойти»[545].
Молоденькая княгиня была далека от подобных рассуждений. Ей представлялось, будто гвардейцы относятся к ней с детским доверием и готовы выполнять ее приказы: «Я была принуждена выйти к солдатам, которые, изнемогая от жажды и усталости, взломали один погреб и своими киверами черпали венгерское вино… Мне удалось уговорить солдат вылить вино… и послать за водой; я была поражена этим доказательством их привязанности… ко мне, тем более что их офицеры до меня безуспешно останавливали их. Я раздала им остаток сохранившихся у меня денег и вывернула карманы, чтобы показать, что У меня нет больше… Я обещала, что по возвращении их в город им дадут водки на счет казны и что все кабаки будут открыты»[546].
После такого подвига вид развалившегося на диване Орлова казался особенно оскорбительным: ведь это его мужское дело было утихомиривать распоясавшихся гвардейцев. «Я возвращалась к государыне, — писала княгиня. — Каково было мое удивление, когда в одной из комнат я увидела Григория Орлова, лежавшего на канапе (он ушиб себе ногу) и вскрывавшего толстые пакеты, присланные, очевидно, из совета; я их узнала, так как видела много подобных пакетов у моего дяди..
Я спросила его, что он делает.
— Императрица повелела мне открыть их, — ответил он.
— Сомневаюсь, — заметила я, — эти пакеты могли бы оставаться нераспечатанными еще несколько дней, пока императрица не назначила бы соответствующих чиновников; ни вы, ни я не годимся для этого»[547]. Дашкова лукавила. Себя-то она как раз предназначала для роли советника, иначе Орлов не получил бы от нее столь резкий выговор.
«Затем я принуждена была выйти к солдатам… Возвратившись во дворец, я увидела, что в той же комнате, где Григорий Орлов лежал на канапе, был накрыт стол на три куверта… Вскоре Ее величеству доложили, что обед подан; она пригласила и меня, и я, к своему огорчению, увидела, что стол был накрыт у того самого канапе»[548].
Собирая Дашкову и Орлова за одним столом, Екатерина предприняла столь характерную для нее попытку внешне сохранить согласие между представителями разных группировок и даже обратилась к подруге за помощью. «Она меня попросила поддержать ее против Орлова, который, как она говорила, настаивал на увольнении его от службы… Мой ответ был вовсе не таков, какого она желала бы. Я сказала, что теперь она имеет возможность вознаградить его всевозможными способами, не принуждая его оставаться на службе»[549].
Екатерина перенесла ту же сцену в Петербург. «Когда императрица с триумфом вернулась в город, — писала она, — …капитан Орлов пал к ее ногам и сказал ей: „Я вас вижу самодержавной императрицей, а мое отечество освобожденным от оков… Позвольте мне удалиться в свои имения; я родился честным человеком, двор мог бы меня испортить, я молод — милость могла бы вызвать ненависть ко мне; у меня есть состояние, я буду счастлив на покое, покрытый славой“ …Императрица ему ответила, что заставить ее прослыть неблагодарной… значило бы испортить ее дело; что простой народ не может поверить такому большому великодушию, но подумает, что она дала ему какой-нибудь повод к неудовольствию или даже, что она недостаточно его вознаградила… Он был огорчен до слез красной александровской лентой и камергерским ключом, которыми она его пожаловала»[550].
Обратим внимание, отставки после переворота просил Орлов. А «неблагодарной», подавшей «повод к неудовольствию» императрица прослыла под пером подруги. Княгиня считала себя «недостаточно вознагражденной», хотя ее имя в списке пожалований значилось куда выше гвардейских заговорщиков. Но речь шла не о материальных благах, а о реальной власти.
Слишком прямолинейная и резкая Дашкова с самого начала отказалась делить доверие императрицы с кем бы то ни было. «Если бы она удовольствовалась скромной долей авторитета то могла бы оставаться до сего времени первой фавориткой императрицы, — позднее доносил своему двору английский посол граф Бёкингхэмшир. — Высокомерное поведение этой леди… привело ее к потере уважения императрицы»[551]. В том положении, которое княгиня заняла возле Екатерины, ее шаг был политической негибкостью и грозил конфронтацией среди сторонников государыни. Рюльер сообщал, что Дашкова, приняв «строгий нравоучительный тон», выговаривала подруге за «излишнюю милость» к Орлову[552].
Императрица, в свою очередь, была вынуждена упрекнуть Екатерину Романовну «за раздражительность». Характерна реакция княгини: «Я ответила сухо, и мое лицо, как мне потом передавали, выражало глубокое презрение:
— Вы слишком рано принимаетесь за упреки, Ваше величество. Вряд ли всего через несколько часов после Вашего восшествия на престол Ваши войска, оказавшие мне столь неограниченное доверие, усомнятся во мне»[553]. Это звучало как угроза. Редко задумываются, что поведение Дашковой было продиктовало не только личной обидой, но и отражало настроение панинской группировки, которая через княгиню старалась повлиять на государыню. Но Екатерина остро чувствовала, кто ее истинная опора. Она могла пожертвовать княгиней, но не Орловыми.
Отношения подруг становились всё более напряженными. Тем не менее после отъезда из Петергофа Екатерина и Дашкова, согласно запискам княгини, провели еще одну ночь вместе: «Мы… остановились на несколько часов на даче князя Куракина. Мы легли с императрицей вдвоем на единственную постель, которая нашлась в доме»[554]. Совсем иначе путешествие описано Екатериной в послании Понятовскому: «Я отправилась вместе с войсками, но на полпути свернула на дачу Куракина, где бросилась одетой на кровать. Один из офицеров снял с меня сапоги. Я проспала два часа с половиной»[555]. Характерно, что Дашкова в качестве спутницы не упомянута.
«Проявление любви»
Путь гвардии на Петергоф обычно называют «походом», а ее дорогу обратно в столицу — «возвращением». Хотя, по сути, походом было именно возвратное движение войск к Петербургу. Все время, пока совершался арест Петра III, столица напоминала раскачивающийся в шторм корабль. Взять Петербург под контроль, навести элементарный порядок на улицах и водворить по казармам товарищей, оставшихся «охранять» наследника Павла, могли только свежие войска, не участвовавшие в разгуле и пьянстве.
Именно для этого столь большой контингент и был почти сразу после переворота выведен из города. Полки включились в выполнение обычных для них экзерциций — шли почти тренировочным походом до царской резиденции, там смертельно усталые переночевали и двинулись обратно. Винные запасы Петергофа не шли ни в какое сравнение со столичными погребами.
Державин, участвовавший в походе, сообщал: «Часу по полудни в седьмом полки из Петергофа тронулись в обратный путь в Петербург; шли всю ночь и часу по полуночи в 12-м прибыли благополучно вслед императрице в Летний деревянный дворец, который был на том самом месте, где ныне Михайловский»[556].
Вернувшиеся из похода усталые и трезвые войска, из которых за день марша выветрился весь петергофский хмель, легко навели порядок в столице. «Новые и еще бо́льшие неистовства были, наконец, предотвращены, — вспоминал Шумахер, — многочисленными усиленными патрулями, расставленными повсюду, чтобы отвести нараставшую угрозу и строгим приказом, зачитывавшимся вслух прилюдно на улицах под барабанную дробь». Город был взят под контроль. Теперь императрица могла с полным основанием сказать, что переворот удался. Ей оставалось только принимать поздравления от тех, кто не успел «припасть к освященныя стопам» ранее. Позье описал любопытную сцену во дворце, куда он снова явился по возвращении Екатерины в город. «Там застал я страшную давку и, между прочим, множество молодых дам, о которых мне достоверно известно было, что они нехорошие услуги оказывали императрице по ее отношениям к императору, и которые едва ли могли ожидать от нее любезного приема. Так как я был с ними довольно коротко знаком, я спросил их, не шибко ли бьется у них сердце»[557].
Если бы выговор минутным фавориткам мужа был самой трудной задачей молодой государыни, она могла бы почитать себя счастливицей. Однако у нее имелись проблемы посложнее. Унять гвардейцев было нелегко, они продолжали требовать к себе «Матушку» и бурно выражать любовь к Отечеству. «В полночь в мою комнату вошел капитан Пассек, — рассказывала Екатерина в письме Понятовскому о событиях следующего дня, — разбудил меня и сказал:
— Наши люди страшно перепились… гвардейцы, взяв оружие явились сюда, чтобы выяснить, здоровы ли Вы. Они заявляют что уже три часа Вас не видели… Они не слушают ни своих командиров, ни даже Орловых…
Я села с двумя офицерами в карету и поехала к войскам. Я чувствую себя хорошо, сказала я им, и прошу их идти спать и дать мне тоже отдохнуть… Они отвечали, что… все они готовы умереть за меня… После этого они пожелали мне доброй ночи… и удалились кроткие, как ягнята… оборачиваясь на ходу, чтоб еще разок взглянуть на мою карету».
Такие случаи продолжались после переворота более месяца. «Если Вам расскажут, что в войсках вновь была передряга, — раздраженно сообщала императрица Понятовскому 9 августа 1762 года, — знайте, что это не что иное, как проявление любви ко мне, которая становится мне в тягость. Они помирают со страху, как бы со мной не приключилось чего-нибудь, даже самого незначительного. Я не могу выйти из комнаты, чтобы не услышать радостных восклицаний»[558].
Любопытно, что рассказ в письме Понятовскому, явно рассчитанный на трансляцию его парижским корреспондентам, например хозяйке модного политического салона мадам Жоффрен, в деталях совпадает с повествованием Державина. Не слишком ли часто исследователи обвиняют Екатерину в лукавстве, забывая сопоставить ее тексты с другими источниками?
«В полночь на другой день с пьянства Измайловский полк, обуяв от гордости и мечтательного своего превозношения, что императрица в него приехала и прежде других им препровождаема была в Зимний дворец, — писал Державин, — собравшись без сведения командующих, приступил к Летнему дворцу, требовал, чтоб императрица к нему вышла и уверила его персонально, что она здорова; ибо солдаты говорили, что дошел до них слух, что она увезена хитростями прусским королем». К служивым один за другим выходили дежурные придворные Шувалов, Разумовский, наконец, Орловы, уверяя, «что государыня почивает и, слава Богу, в вожделенном здравии». Однако измайловцы не унимались, не желая слушать даже своего шефа. Им непременно нужно было видеть императрицу. То был не просто страх за нее, но и демонстрация своей власти. Екатерина покорилась. «Государыня принуждена встать, одеться в гвардейский мундир и проводить их до полка, — с осуждением замечал Державин. — Поутру издан был манифест, в котором… напоминалася воинская дисциплина и чтоб не верили они разсеваемым злонамеренных людей мятежничьим слухам, которыми хотят возмутить их и общее спокойствие; в противном случае впредь за непослушание своим начальникам… наказаны будут по законам».
Дворец пришлось взять под усиленную охрану. «С того самого дня приумножены пикеты, — заключал сам стоявший в караулах Гаврила Романович, — которые в многом числе с заряженными пушками и с зажженными фитилями по всем местам, площадям и перекресткам расставлены были. В таковом военном положении находился Петербург, а особливо вокруг дворца, в котором государыня пребывание свое имела дней с восемь, то есть по самую кончину императора»[559].
Наведение порядка среди полков руками самой же гвардии стало для нашей героини важным шагом на пути к настоящей власти. Именно первые дни переворота наглядно доказали Екатерине правоту древнего римского выражения: разделяй и властвуй. Однако впереди ее ожидала задача потруднее, чем обуздать вооруженную, бушующую толпу. Что делать с арестованным Петром III — это был вопрос вопросов.
Глава седьмая ПЕРВЫЕ ШАГИ
Внешне Екатерина проявляла полное спокойствие. Недаром позднее один из английских дипломатов назвал ее «Леди Невозмутимость». Обладая живым темпераментом, она годами пестовала в себе такие качества, как приветливость, доброжелательность, умение слушать и не рубить с плеча. Казалось, нашу героиню вообще нельзя вывести из терпения. Но то была иллюзия.
Волнения, связанные с переворотом, отразились не на поведении, а на самочувствии государыни. «Императрица была несколько разгорячена, и на ее теле появились красные пятна, — писал Рюльер. — Она провела несколько дней в отдохновении»[560]. Конечно, Екатерина не перегрелась в непривычной гвардейской форме. И не натерла шерстью кожу. Просто на нервной почве у нее вспыхнула экзема. Но «отдохновения» не вышло.
Ей приходилось видеться с множеством людей, ездить в Сенат, обедать в обществе полусотни придворных, а по ночам еще и успокаивать гвардейские полки. «Сенат собирается почти ежедневно утром во дворце, — доносил 31 июля Гольц, — и редкий вечер проходит без того, чтобы не было собрания Совета. Ее императорское величество редко не удостаивает своим присутствием эти собрания. Трудно передать, до какой степени эта государыня следит за делами». Примерно то же самое писали иностранные дипломаты о Петре III в первые недели его царствования. Молодой император наслаждался властью. Потом устал.
У Екатерины страсть к делам не была временным увлечением «Нет ни одного распоряжения, которое не делалось бы ей известным», — продолжал Гольц 10 августа. «Неудивительно, что Ее величество не пользуется полным здравием, потому что она беспрерывно предается занятию, не оставляя себе ни одного часа на развлечения: до такой степени Ее величество находит удовольствие исполнять обязанности правления»[561]. Обратим внимание на последние слова. Труд во власти доставлял нашей героине наслаждение.
Каждый монарх упивается своим положением по-разному. Характерным будет сравнение с Елизаветой Петровной. Сколько раз иностранные дипломаты и собственные министры жаловались на ее лень, медлительность, страсть к праздной жизни. Между тем перечисленные качества были для императрицы органичны и проистекали из ее понимания своего места. Она родилась честолюбивой и добивалась короны, потому что считала: трон предназначен ей. Она — дочь Петра Великого, его последняя отрасль — и будет только справедливо, если на престоле закрепится Петрова, а не Иванова ветвь. Превращение цесаревны Елизаветы в императрицу поставило точку в ее стремлениях. Правда восторжествовала, во главе страны встал истинный государь, наступил «золотой век», время остановилось. Добиваться чего-то еще, трудиться для достижения большей славы — не имело смысла.
Екатерина представляла обратный пример. Чужая на чужой земле, она не просто прикинулась, а стала своей для окружающих. «Не рожденная от крови наших государей», как презрительно писал о ней М. М. Щербатов. Не дочь Петра Великого — но его духовная наследница. Новая государыня желала убедить подданных, что наделена способностями стоять во главе страны и вести ее к процветанию. «Не можно сказать, чтобы она не была качествами достойна править толь великой империей, — продолжал Щербатов, — естли женщина возможет поднять сие иго, и естли одних качеств довольно для сего вышнего сану»[562].
По-своему Екатерина не меньше Елизаветы была уверена в праве носить корону. Но древо ее желаний имело иные корни — талант и трудолюбие, отмеченные Богом. Недаром в душу императрицы так запало чудесное предзнаменование. Вспомним: «В 1744 году 28 июня… приняла я Грекороссийский православный закон. В 1762 году 28 июня… приняла я всероссийский престол… В сей день… начинается Апостол сими словами: „вручаю вам сестру мою Фиву, сущую служительницу“»[563]. Заметим: для нашей героини особенно важным было не только совпадение «венца небесного» с «венцом земным», но и тот факт, что ее «вручили» в качестве «служительницы». Свое дело она воспринимала как служение и на этом основывала право занимать престол. Царское место, представлявшееся Елизавете чем-то вроде мягкого дивана, превратилось для Екатерины в кресло у рабочего стола.
Было и предчувствие великой судьбы. Историки нередко посмеиваются над мемуарными уверениями императрицы, будто она совсем юной Ангальт-Цербстской принцессой почувствовала, что сделается самодержавной государыней. Ведь у нее не было никаких прав. Ничто не предвещало ни ранней смерти мужа, ни всенародного доверия. Еще на пороге переворота Екатерина не знала точно, какое место займет. Регентство при малолетнем сыне — наибольшее, на что стоило надеяться. И всё же, всё же… Вопреки здравому смыслу она знала, кем рождена. Оставалось реализовать свой персональный миф. Стать из вещи в себе вещью для себя, как сказал бы Кант.
И вот уже в октябре 1762 года в беседе с вернувшимся Бретейлем прозвучат слова, позднее неоднократно повторенные в «Записках». «Она мне сказала, — доносил дипломат, — что по прибытии в эту страну ее не покидала мысль, что она будет здесь царствовать одна»[564]. Без Божественного вмешательства дело не обошлось. «Наконец Господь привел всё к угодному Ему финалу, — рассуждала Екатерина в письме Понятовскому 2 августа. — Это напоминает скорее чудо, чем реальность, предвиденную и организованную, ибо столько счастливых совпадений не могли быть собраны воедино без Его руки»[565].
Получив корону, наша героиня не могла поставить точку в своей борьбе. Напротив, для нее все только начиналось. Постоянное приращение славы России делало ее пребывание на престоле желанным для подданных, узаконивало «похищенный» статус. Отсюда щербатовское определение: «трудолюбива по славолюбию». Ни минуты на отдых. Первое место в государстве требовалось Екатерине для того, чтобы продемонстрировать свои громадные способности. Иначе они пропали бы втуне. Как художник ищет холст, писатель — бумагу, музыкант — скрипку, а полководец — армию, Екатерина искала корону. Ибо только власть могла стать для нее средством самореализации. Она действительно получала удовольствие… от работы. И была убеждена в своем полном соответствии «занимаемой должности».
«Благоразумные чувства»
Придет время, и Екатерина скажет, что надо работать «по русской пословице, мешая дело с бездельем». Однако пока положение было настолько сложным, что приходилось трудиться день и ночь, вытягивая телегу из грязи. Фельдмаршал Миних, последним вручивший нашей героине свою шпагу, скажет, что она отдавала делам по 15 часов в сутки[566].
«В 1762 году при восшествии моем на престол я нашла сухопутную армию в Пруссии, а две трети жалования не получившею, — писала императрица в записке „О собственном царствовании“. — В статс-конторе именные указы на выдачу семнадцати миллионов рублей не выполненными… Почти все отрасли торговли были отданы частным людям в монополии… Внутри империи заводские и монастырские крестьяне почти все были в явном непослушании властей, и к ним начинали присоединяться местами и помещичьи… Сенат хотя и посылал указы и повеления в губернии, но там так худо исполняли, что в пословицу вошло говорить: „ждут третьего указа“… Воеводы и воеводские канцелярии… не получали жалования, и дозволено им было кормиться с дел, хотя взятки строго запрещены были».
Сенат не знал числа городов в стране и не имел карты. Услышав это, Екатерина послала в лавку Академии наук за Атласом, который и подарила вельможам. Согласно реестру доходов, «оных считали 16 миллионов». Устроив ревизию, императрица получила иную цифру: «Сочли 28 миллионов, двенадцать миллионов больше, чем Сенат ведал». Не надо быть провидцем, чтобы понять: недосчитанные деньги в течение долгих лет прилипали к рукам. А Сенат не просто «не ведал», а прикрывал подобную практику.
По-хорошему следовало начать судебное разбирательство. Но ловить пришлось бы каждого второго, если не каждого первого. При колоссальном казнокрадстве все сетовали на бедность. Не платя жалованья, государство само толкало служащих к воровству и взяточничеству. Екатерина же ни с кем не хотела ссориться. Недовольство чиновничьего аппарата могло ей дорого стоить. Поэтому императрица приняла мудрое решение: не пойман — не вор. Она начала царствование с чистого листа, показав, что априори считает должностных лиц честными людьми. Те приняли правила игры и умерили аппетиты. Отныне предстояло воровать потихоньку, не так заметно, как прежде.
«Заводских крестьян непослушание… не унялось дондеже Гороблагодатские заводы за двумиллионный долг казне Петра Ивановича Шувалова не были возвращены в коронное управление, — продолжала государыня свой рассказ, — также Воронцовские, Чернышевские, Ягужинские и некоторые иные заводы… вступили паки в коронное ведомство. Весь вред сей произошел от самовластной раздачи Сенатом заводов с приписанными к оным крестьянами, в последние годы царствования императрицы Елизаветы Петровны. Щедрость Сената тогда доходила до того, что медного банка тримиллионный капитал почти весь раздал заводчикам, кои, умножая заводских крестьян работы, платили им либо беспорядочно, либо вовсе не платили, проматывая взятые из казны деньги в столице.
С самого начала моего царствования все монополии были уничтожены, и все отрасли торговли отданы в свободное течение. Таможни же все взяты в казенное управление, и учреждена была комиссия о коммерции, коя… сочинила тариф»[567]. Как видим, скучных, сугубо хозяйственных дел у молодой императрицы хватало. Именно они, а не увлекательные коллизии внешней политики или еще более интересная судьба свергнутого мужа приковывали ее внимание в первую очередь.
До 1 сентября, когда царский поезд выехал в Москву для коронации, Екатерина присутствовала в Сенате 15 раз, причем в первые дни приезжала каждое утро — 1 июля, затем 2-го, 3-го, 4-го, 6-го, 8-го… Сначала рассматривались дела, подготовленные еще в прошлое царствование: о постройке дополнительных кораблей для войны с Данией, о разрешении евреям свободно въезжать в Россию, о переустройстве гвардейских и армейских полков на немецкий лад. Любопытно, что эти предложения не стали «мертвыми в законе» сразу после свержения Петра III. Они были рассмотрены и… отвергнуты. Так, идея пополнить русский флот девятью новыми кораблями, сама по себе полезная, была признана разорительной для обывателей, поскольку император в указе от 27 июня говорил «о забрании для того всех лесов, чьи бы то ни были». А Сенат ссылался на отсутствие денег и людей[568].
С деньгами вообще была беда. «На пятый или шестой день по вступлении Екатерины II на престол, — сообщала наша героиня в еще одной собственноручной записке о начале царствования, — она явилась в Сенат, который она велела перенести в Летний дворец, дабы ускорить производство всех дел». Сенаторы сообщили о «крайней скудости средств: армия была в Пруссии и платы не хватало уже восемь месяцев; цена хлеба в Петербурге поднялась вдвое против обычной стоимости». Именно здесь императрица позволила себе рассказать о деньгах, скопленных ее августейшей свекровью в конце жизни. И Елизавета, и Петр III рассматривали эти капиталы как свои собственные. «Он, как и его тетка, отделяли свой личный интерес от интереса империи. Екатерина, видя денежные затруднения. объявила в полном собрании Сената, что, принадлежа сама государству, она желает, чтоб принадлежащее ей и ему принадлежало и чтоб впредь не делали разницы между ее и его интересами».
Это заявление «вызвало слезы на глазах» вельмож, последние встали и выразили государыне признательность за ее «благоразумные чувства». Шаг Екатерины следует назвать именно «благоразумным». Не щедрым, не великодушным, а единственно правильным в той ситуации. Положение требовалось выправлять, то есть платить: сбавлять цены на хлеб, отдавать жалованье, производить денежные раздачи в полках, дабы утихомирить служивых и поддержать их преданность. Следовало пожертвовать меньшим, чтобы сохранить большее. Наша героиня предпочла расстаться с капиталом и удержать корону. Сказалось и ее отношение к деньгам как к «грязи», и азарт большого игрока. Елизавета и Петр все время оставляли за собой путь к отступлению. Некие запасные суммы, которыми в случае чего можно воспользоваться. У нашей героини при всем ее «благоразумии» был иной стиль. Она сжигала мосты на переправе. Или вся Россия, или ничего. «Екатерина доставила столько денег, сколько было нужно, и запретила временно вывоз хлеба, что через два месяца возвратило обилие и дешевизну всем предметам»[569].
3 июля был понижен налог на соль по гривне с пуда, что составило в общей сложности 612 021 рубль в год. Щедрый и дальновидный поступок, рассчитанный на благодарность населения. Соль в те времена была единственным консервантом, который сохранял многие продукты: мясо, рыбу, огурцы, капусту, грибы. Средний обыватель закупал ее пудами, и когда средства не позволяли ему приобрести достаточно, приходилось есть подпорченные блюда. Обрушиваясь на соляного монополиста Петра Шувалова, князь Щербатов писал: «Умножил цену на соль, а сим самым приключил недостаток и болезни в народе»[570]. Екатерина помнила, как после смерти фельдмаршала толпа, собравшаяся на вынос тела, не выказывала ни малейшего сожаления, напротив, ругала покойного, особенно напирая на дороговизну соли, из-за которой многие умерли от кишечных болезней. Поэтому мера, предпринятая государыней, была и своевременной, и разумной.
Поначалу казалось, что гвардию легко успокоить, отменив нововведения Петра III в области формы и строя. Что Екатерина и сделала 2 июля. Однако этот указ лишь закреплял уже сложившуюся ситуацию — ведь на деле от раздражавших немецких порядков отказались еще 28-го в ходе переворота. Искра мятежа продолжала тлеть под спудом во взбудораженной полковой среде.
Обижено на Петра III было и духовенство. Оно поддержало Екатерину и теперь требовало возвращения отнятых имений. Хотя государыня считала секуляризацию необходимой мерой, ее пришлось отложить. 16 июля Сенат составил на высочайшее имя доклад, где суммировал просьбы священников. А 12 августа после колебаний и совета с вернувшимся в столицу Бестужевым-Рюминым Екатерина подписала именной указ, отдававший синодальные, архиерейские, монастырские и церковные движимые и недвижимые «имущества» обратно. Коллегия экономии уничтожалась, посланные ею на места офицеры отзывались. Это была большая уступка, рассчитанная на то, чтобы выиграть время и укрепиться на престоле.
«Гордый тон»
В первые же дни определился особый стиль Екатерины. Если во внутренней политике она действовала крайне осторожно, боясь задеть интересы того или иного слоя, так что иностранные дипломаты даже упрекали ее в слабости и нерешительности, то во внешней — твердо оговаривала свои цели и шла к ним, не обращая внимания на возмущенный ропот тех, чьи выгоды не совпадали с ее собственными.
В октябрьском донесении 1762 года Бретейль писал: «Изумительно, как эта государыня, которая всегда слыла мужественной, слаба и нерешительна, когда дело идет о самом неважном вопросе, встречающем некоторое противоречие внутри империи. Ее гордый и высокомерный тон чувствуется только во внешних делах… потому что такой тон в отношении к иностранным державам нравится ее подданным»[571].
Много лет спустя Екатерина поясняла этот стиль своему статс-секретарю В. С. Попову: «Ты сам знаешь, с какою осмотрительностью, с какой осторожностью поступаю я в издании моих узаконений. Я… изведываю мысли просвещенной части народа и по ним заключаю, какое действие указ мой произвесть должен. Когда уже наперед я уверена об общем одобрении, тогда выпускаю я мое повеление и имею удовольствие видеть то, что ты называешь слепым повиновением»[572].
Таким образом, Екатерина была исключительно щепетильна с собственными подданными и нарочито бестрепетна с соседними державами. Чуткость и глухота одновременно. Такое поведение, во-первых, очень нравилось русским, чья национальная гордость была в последнее время сильно уязвлена.
А во-вторых, укрепляло положение молодой императрицы внутри страны, где каждый мог видеть, что она не принимает скоропалительных решений и не совершает опрометчивых шагов. Притягивать, а не отталкивать от себя целые социальные слои — стало целью нашей героини.
Что касается международной арены, то после свержения Петра III «криза», о которой писал канцлер Воронцов, только усилилась. Сначала Версаль и Вена возликовали, ожидая от России повторного вступления в войну. А Пруссия затрепетала, ведь русская армия находилась на ее территории. Однако скоро обнаружилось, что новая императрица не намерена во всем следовать примеру августейшей тетки. Ссылаясь на тяжелое внутреннее положение, Екатерина заявила о любви к миру и предложила всем сражающимся державам свое посредничество при заключении договора. Это было совсем не то, чего от нее ждали.
Екатерине несказанно повезло. Еще месяц назад ни одно из заинтересованных в свержении Петра III иностранных правительств не воспринимало ее как серьезную претендентку и не дало ей денег на переворот, хотя наша героиня у кого-то попросила прямо, а кому-то сделала многообещающие намеки. Зато теперь руки у молодой императрицы были свободны. Она не связала себя тайным договором ни с одним иностранным кабинетом, как произошло в свое время с Елизаветой Петровной, обязанной финансовой и политической помощи Франции. Без сомнения, позиция Екатерины оказалась выигрышнее. Но у нее не было того, чем располагала предшественница — законного обоснования своих прав. Поэтому она так старалась выглядеть едва ли не избранной — взошедшей на престол по желанию восставших подданных. Этот пункт был уязвим, и дипломаты не преминули воспользоваться открывшейся слабостью.
Если фактическое бегство Бретейля накануне переворота временно вывело Францию из игры, то Австрия, напротив, обнаружила напористость, настаивая на возвращении России к прежним союзническим обязательствам. Мария Терезия собственноручно написала Екатерине очень сердечное письмо: «После покойной императрицы Елизаветы никто не мог бы быть достойнее престола и никто не мог достойнее заменить ее в моем сердце, как Ваше величество… Я так много полагаюсь на проницательность и взаимную Вашу ко мне дружбу, что надеюсь от нее всего, чего только требуют наши общие интересы и чего можно ожидать от Вашего великодушия»[573]. Намек совсем прозрачный. Общие интересы, по мнению Вены, требовали возобновления войны. Екатерина тоже отвечала собственноручно и тоже сказала много лестного, но не приняла на себя никаких обязательств.
6 июля австрийский посол Мерси д’Аржанто прямо спросил у канцлера Воронцова, намерена ли Россия и впредь «заботиться о пользе древних союзников». Дипломату ответили, что истощенные ресурсы не позволяют стране вести войну, но императрица уже показала Австрии дружбу, отозвав корпус Чернышева из прусской армии. Этого было недостаточно, и посол продолжал настаивать. 20 августа он даже позволил себе род давления, заявив, что между опубликованным Манифестом о вступлении на престол и нынешними действиями государыни — глубокое противоречие. Там прусский король назван врагом, а теперь императрица подтвердила мир с Фридрихом II. И снова Екатерина через канцлера отвечала очень вежливо, но твердо, что не преминет принять на себя даже «медиацию» между Пруссией и Австрией, но оружия не поднимет[574].
Кажется, сказано ясно. Но граф с упорством стенобитного орудия продолжал повторять свои запросы до ноября. Что позволяло ему вести себя подобным образом? Донесения Гольца из Петербурга показывают: у Австрии имелось много сторонников и при дворе, и в армейской среде. Их попытки «втолкнуть» Россию обратно в войну особенно активизировались по получении известия о смерти Петра III, когда и город, и полки оказались взбудоражены новостью. Мерси опять недооценивал Екатерину, считая ее позицию уязвимой и преувеличивая степень давления, которую могут оказать на императрицу сторонники Австрии.
10 июля неизвестные пытались задержать прусского курьера, ехавшего к посланнику, и отобрать его документы. Тогда же Кейт по секрету передал Гольцу, что один из его источников сообщил, будто Чернышев получил приказ по пути в Россию захватить город Штетин. Оба дипломата усомнились в достоверности этой информации и пришли к выводу, что подобные слухи распускаются намеренно, с целью обострить отношения России и Пруссии. Гольц приписывал их «представителям австрийской и саксонской партии», но сомневался, что императрица пойдет у них на поводу. «Для здешнего двора теперь более, чем когда-либо, важно вернуть все свои войска вглубь империи, чтобы окончательно утвердить трон против множества недовольных, — рассуждал посланник. — …Отряд Чернышева на возвратном пути ни в каком случае не будет близко от крепости. Иначе обстоит дело с отрядом Румянцева, и именно на это некто намекал мне вчера… Я опасаюсь, чтобы генерал Панин, который теперь стоит во главе их (русских войск, выходивших с немецких земель. — О. Е.) и который по различным поводам, в бытность свою в Пруссии уже выказывал свое недоброжелательство, не допустил бы при отступлении различных насилий». На беспокойства Гольца канцлер отвечал, что командирам даны указания «соблюдать строжайшую дисциплину».
Однако тревожные слухи нарастали. 11 июля посланник получил официальные извинения по поводу самоуправства фельдмаршала Петра Семеновича Салтыкова, «который, не будучи уведомлен о миролюбивых чувствах Ее императорского величества, снова взял в свои руки управление Пруссией, как только до него достигло известие о вступлении на престол» Екатерины II.
Еще никто не знал, как повернется дело. Циркуляр о смерти Петра III был разослан иностранным министрам вечером 8 июля. Для большинства он оказался неожиданным. Тайну хранили несколько дней, но о случившемся знали слишком многие — ближайшее окружение Екатерины, офицеры и солдаты охраны в Ропше, медики — так что утечка информации не исключена. Любопытно, что именно 6 июля Мерси обратился к канцлеру Воронцову с запросом о возможности повторного вступления России в войну. Подтекст понятен. В роковой момент Екатерина нуждалась в поддержке на международной арене. Для нее было крайне невыгодно, если бы вчерашние союзники выразили сомнения в официальной версии гибели императора. Мерси подсказывал выход — возобновление союзнических обязательств в полном объеме. То была цена доброжелательного молчания.
23 июля на фоне усиливавшегося «ропота простонародья, солдат и почти всего народа» Гольц продолжал сообщать тревожные новости: «Княгиня Дашкова часто ведет оживленные беседы с венским послом. Однако я не думаю, чтобы врагам Вашего величества удалось принудить здешний двор действовать против Вашего величества. Государыня знает хорошо, что ей, для своей безопасности, необходимо иметь все войска в сердце империи, что финансы расстроены и что всякая война восстановила бы народ против ее правления». Екатерина хорошо понимала состояние русского общества: подданные не просто не хотели войны с Данией, они устали от войны вообще. Возобновление боевых действий было для нового кабинета смерти подобно.
«Между тем противная партия делает все возможное, чтобы вызвать раздор между обоими дворами», — продолжал Гольц. Он имел в виду партию «противную» Пруссии, но выразился весьма точно и в ином смысле. Дипломат противопоставил волю самой государыни желаниям некоторых вельмож из ее окружения. Дашкову считали ближайшим доверенным лицом Екатерины, и, конечно, ее разговоры с графом Мерси не воспринимались как частная болтовня. Недоброжелательный к пруссакам генерал Панин — родной брат Никиты Ивановича; следовательно, напрашивался вывод о позиции другого ближайшего к императрице советника.
Донесения Мерси д’Аржанто показывают близость взглядов австрийского посла и представителей вельможной группировки: «Кажется еще сомнительным, не сделала ли новая императрица большой ошибки в том, что возложила корону на себя, а не провозгласила своего сына, великого князя, самодержцем, а себя регентшею империи во время его несовершеннолетия»[575]. Так говорили и Панин, и Дашкова. Если граф Мерси действительно узнал о смерти Петра III раньше других дипломатов, то нетрудно догадаться об источнике его сведений. «Некто, три дня тому назад обедавший у посла [Австрии] в то самое время, когда прибыл курьер от Чернышева с известием, что Ваше величество (Фридрих II. — О. Е.) не намерены ни в чем затруднять отделение его отряда, уверял меня, что эти господа, в числе которых был и г. Прассе (саксонский посланник. — О. E.), не очень-то были довольны таким известием; они надеялись на противное и по этому поводу ожидали возобновления войны. „Теперь, говорили они, нашей единственной надеждой на успех остаются действия фельдмаршала Салтыкова, взявшего снова в свои руки управление Пруссией. Посмотрим, как отнесется к этому прусский король“. Эти рассуждения, как мне кажется, ясно показывают, что фельдмаршал Салтыков решился на то, что он совершил, под влиянием полученных отсюда писем».
Провокации продолжались. Салтыков задержал депеши Фридриха II к Гольцу в Кёнигсберге и отослал их своему двору. Был заявлен протест и принесены извинения. «Дружественное отношение императрицы к Вашему величеству должно быть очень неожиданным для всего здешнего двора, — сообщал посланник 31 июля, — так что они едва могут воздержаться от выражения своего удивления… Императрица, отвечая Вашему величеству, не только не советовалась ни с одним из своих министров, но даже никому из них не сообщила этого ответа»[576].
Следует сделать вывод, что сразу после восшествия Екатерины на престол при дворе и в дипломатической среде шла борьба за повторное вступление России в войну. Ставки были очень высоки. И хотя нам мало известно о конкретных перипетиях этой схватки, можно сказать, что сторонники продолжения конфликта до какого-то момента боялись возвращения Петра III на престол. Неслучайно они активизировали свои усилия после получения известия о его гибели. Смерть бывшего союзника Фридриха II казалась им достаточной гарантией возвращения России в состав коалиции. Тем более что положение молодой императрицы после убийства мужа стало крайне уязвимым — ее легче было подтолкнуть к участию в «общем деле».
«Сходственные интересы»
Однако оказалось, что в вопросах войны и мира Екатерина — крепкий орешек. Она не позволяла личным чувствам брать верх над разумом. Гольц убедился в этом на собственном примере. «Я знаю, что несмотря на все милости императрицы, — писал он министру иностранных дел Пруссии графу Финкенштейну, — она питает ко мне величайшее нерасположение за то, что я был слишком близок к покойному государю» и якобы «одобрял действия покойного по отношению к ней. Один вид мой должен ей напоминать дурное обращение с ней государя, часто проявлявшееся в моем присутствии». Тем не менее Екатерина относилась к дипломату «со свойственной ей добротой и приветливостью». За которыми, как вскоре догадался Гольц, стояло нечто большее, чем простая любезность. Именно с прусской стороной молодая императрица намеревалась «делать дело». Личные симпатии и антипатии были не в счет. «Я предполагаю, что некоторые злонамеренные лица внушили ей, — доносил дипломат 31 июля, — будто в переписке Вашего величества с императором были вещи, нелестные для нее, и теперь она видит, что заблуждалась». Заблуждалась ли наша героиня? В письмах Фридриха II имелось много неприятного. Однако Екатерина ничем не проявила досады.
Для подобного поведения имелись веские причины. Она считала продолжение войны с Пруссией борьбой за чужие интересы. Тем временем у Петербурга были свои. В тот момент они касались Курляндии. Герцогство, несмотря на вассальную зависимость от Польши, вот уже более полувека тяготела к России. Надень герцогскую корону сын польского короля Августа III принц Карл (на что дала согласие Елизавета) — Курляндия силой вещей вновь качнулась бы в сторону Варшавы. Если бы трон занял принц Георг Людвиг Голштейн-Готторпский, как того хотел Петр III, то герцогство потянулось бы к Пруссии. «Курляндский гусь», как называл свои владения Бирон, должен был остаться в руках у того, кто всецело зависел от России. Только в этом случае следовало рассчитывать на увеличение в перспективе западных территорий империи.
Государыня твердо решила вернуть в Курляндию Бирона. Она понимала, что встретит противодействие в лице Польши и Саксонии, которым покровительствовала Австрия. Вена ни при каких условиях не поддержала бы русского кандидата, поскольку таким образом усиливалось бы русское присутствие в Польше. Екатерина уже понимала, что вскоре эта страна станет ареной ожесточенной борьбы. Столкновение интересов разведет союзников времен Семилетней войны по разные стороны баррикад. Поэтому тесное сотрудничество с Габсбургами было лишено в глазах нашей героини смысла. Императрицу устроил бы тот партнер, выгоды которого совпали бы с ее собственными. То есть Пруссия.
Между тем многие политики еще продолжали мыслить по инерции. Смерть Петра III возбудила надежды саксонских дипломатов. «Русская императрица решительно примет сторону герцога Бирона, — доносил 26 июля Гольц. — …Таким образом, принц Карл ничего не выиграет от последнего события, хотя г. Прассе очень громко говорил о нем первые дни. На мой взгляд, это решение императрицы довольно ясно доказывает, что ни венскому, ни саксонскому двору нечего надеяться иметь большое влияние»[577].
Фридрих II был готов поддержать кандидатуру Бирона. В тот момент Курляндия интересовала его куда меньше, чем сохранение собственных земель, которые Екатерина могла гарантировать от посягательств Австрии. А в перспективе обоим монархам предстояло играть на одной стороне против французского и австрийского влияния в Польше и отломить увесистые куски от польского пирога. Поэтому в вопросе о Бироне Фридрих пошел навстречу русской государыне. Уже 4 августа 1762 года Бирон подписал соглашение, ставившее его в полную зависимость от России. Он обязывался защищать православие на землях Курляндии — этот пункт не покажется таким уж странным, если принять во внимание напряженное религиозное положение в Польше. Кроме того, герцог обещал покровительствовать русской торговле, не иметь сношений с врагами России, разрешать свободный проход по своей территории русским войскам, предоставлять русским кораблям курляндские порты, позволять русским помещикам арендовать имения в Курляндии[578]. Однако от подписания договора до реального водворения на герцогском престоле прошло некоторое время.
Август III потребовал, чтобы Бирон обратился с прошением лично к нему, как к сюзерену. Резолюции Екатерины по данному вопросу — памятник дипломатической бесцеремонности: «Нет нужды рассматривать здесь, справедливо или нет такое желание Его величества, и обязан ли герцог Эрнст-Иоганн просить о том, чего у него никто ни по каким правам отнять не мог. Мы обращаем Ваше внимание на одно, что королевская ответная грамота написана в саксонской канцелярии, которая по делам Польши, а следовательно и Курляндии, никакого участия иметь не может, и потому впредь по курляндским и польским делам Вы не должны принимать никаких бумаг из саксонской канцелярии»[579].
Точно так же Екатерина будет действовать позднее в польском, крымском, турецком, шведском вопросах. Твердо, неуступчиво, выискивая и используя любой промах противников. Несмотря на возмущенный ропот Вены и Варшавы, она точно заткнет себе уши ватой. В каком-то смысле наша героиня реализует во внешней политике свое мужское, наступательное «я». Курляндия станет лишь пробным камнем. К апрелю 1763 года принц Карл будет изгнан русскими войсками из герцогства, которое фактически превратится в протекторат Петербурга[580] — плацдарм наступления на Польшу.
Такое развитие событий стало возможно только благодаря доброжелательной позиции Пруссии. Но и с Фридрихом II пришлось повозиться. Он не знал, друг ему Екатерина или враг. Второе казалось логичнее. Еще недавно прусский министр иностранных дел Финкенштейн писал Гольцу о Петре III: «Я желаю одного — чтоб этот государь, которого мы имеем столько причин любить и который, кажется, рожден для счастья Пруссии, жил и держался на русском престоле»[581]. Позднее Фридрих признавал, что весть о перевороте поразила его, как удар грома. «В Берлине и бранденбургских землях… ужас был так велик, — доносил Екатерине русский посланник в Дании барон Николай Корф, — что королевскую казну ночью отвезли в Магдебург»[582].
Оказалось, что на расстоянии проницательный Фридрих II не так уж хорошо разбирался в людях. Он, например, в первый момент был уверен, что Петр Федорович погиб во время переворота со шпагой в руках, то есть считал императора человеком, возможно, взбалмошным и странным, но никак не трусом. Екатерина же представлялась ему вторым «переизданием» Елизаветы Петровны. Однако позднее, когда выяснилось, что Екатерина не собирается воевать, а, напротив, настроена на Диалог и взаимную выгоду, король не мог не испытать облегчение. Что ни говори, а вести дела с человеком взбалмошным трудно. При своеобразном отношении Петра III к своему кумиру на Фридриха ложилось нечто вроде ответственности за вторую державу… Теперь он вел диалог с вменяемым собеседником. И первое, с чего начал, — отстаивание собственных позиций.
Как только русская армия ушла с прусских земель, король попытался уклониться от навязываемого мира. В его руках находились Саксония и 15 тысяч австрийских пленных. С такими картами можно было играть. Русский посланник в Пруссии Николай Васильевич Репнин откровенно писал императрице: «Страх оружия Вашего величества миновался с возвращением русских войск в отечество»; «сомневаюсь, чтобы можно было склонить короля к какой-нибудь уступке, разве сделать это силой оружия, а иначе невозможно». Обратим внимание, Репнин — племянник Панина и двоюродный брат Дашковой, до своей отправки в Пруссию очень близкий к этому крылу заговорщиков. Позднее и он, и оба брата Паниных станут виднейшими представителями прусской партии. Но в тот момент они еще не сделали выбор в пользу Берлина и видели в возобновлении боевых операций единственный путь к миру.
Такое развитие событий было выгодно только Австрии и Саксонии. Екатерина посоветовала передать королю, «что видимая его склонность к войне может удержать» ее «от вящей дружбы с ним», хотя оба двора имеют «сходственные интересы». В личном письме 17 ноября она расставляла точки над i: «Признаюсь, разногласие наших мнений радует тех, кто ничего не ищет, как только видеть несогласие между нами. Я Вам скажу просто: нет ли возможности заключить мир? Я бы могла действовать иначе. У меня были средства в руках и теперь еще есть. Ваше величество слишком проницательны, чтобы не видеть того, что побуждает меня говорить с Вами таким образом… Я пожертвовала существенными выгодами войны… Но, к несчастью, Вы отказались от этого, и я боюсь, что, наконец, мои лучшие намерения не исполнятся и я буду вовлечена в планы, противные моим желаниям, склонностям и чувству дружбы»[583].
Ключевые слова: «буду вовлечена». Не по своей воле, но силою развития событий. Прямая угроза возобновить войну, правда, завуалированная вежливыми, даже теплыми выражениями, являлась уступкой Вене. Что побудило к ней? Сущий пустяк. Неожиданное поведение датского двора.
«Участие в интересе великого князя»
Казалось бы, Копенгаген ничем не мог уязвить могущественную соседку. Более того — датчане должны ликовать по поводу восшествия Екатерины на престол, поскольку угроза войны для них миновала. Так и случилось. Уже 29 июня, едва получив отречение мужа, Екатерина подписала рескрипт барону Корфу отправиться из Берлина в Данию и уверить короля Фридриха V, что Россия не нарушит мир. По словам посла, датский монарх был вне себя от восторга, а народ разделял его чувства: «Не только двор, но и все жители датских провинций, через которые я проезжал, до последнего крестьянина обнаруживали радость вследствие нечаянной перемены в их судьбе; да исполнит Всевышний все то, что эти бедные люди желали Вашему величеству».
Король принял посла в загородной резиденции Фриденбург под Копенгагеном. «Вы свидетель, как я всегда почитал русский народ, — обратился он к дипломату, — это почтение усилилось вследствие храбрых действий русских в настоящей войне, мне было жаль вступить в кровопролитную войну с народом, которого я ничем не оскорбил»[584]. Оставалось только праздновать. Но, расценив склонность Екатерины к миру как доказательство слабости, датский двор попытался воспользоваться ситуацией и расширить свое политическое влияние в Голштинии.
Одним из пунктов датско-шведского договора 1749 года, в котором дядя Петра Федоровича Адольф Фридрих отказывался от голштинского наследства, была и передача опекунства[585]. Теперь Фридрих V имел право опекать малолетнего герцога Голштинского — Павла Петровича, как когда-то Адольф Фридрих опекал племянника, управляя от его имени Голштинией. Екатерина была оскорблена. «Удивления достоин поступок короля датского, — писала она в Коллегию иностранных дел, который объявил мне, будто он права имеет обще со мной опекунство сына моего в Голштинии на себя взять. Я оные права признать не могу. В Римской империи младший принц без ведома старшего своего дома не может… заключать трактат. Бывший император не ведал и никогда не апробовал трактат короля шведского, младшего принца голштинского дома, с королем датским… Мать по всей Римской империи правом имеет опекунство сына своего… С королем датским же в негоциации отнюдь вступать не буду до тех пор, пока все его войска из Голштинии не выведены».
Гнев Екатерины невольно прорвался в строках: «Сколько право самодержавной императрицы подкрепляет поверенность целого обширного народа — всякому в рассуждение отдается». Это была угроза. Раз Фридрих V не понимает по-хорошему, поймет по-плохому. Датскому двору ничего не оставалось, как уступить. Да еще рассыпаться в извинениях — короля не так поняли. «Он хотел только со своей стороны доказать участие в интересе… великого князя… дабы приобресть будущую этого государя дружбу», — доносил Корф. Но, увидев несогласие императрицы, сразу же отказался «от своего права для показания… самой искренней дружбы»[586].
Однако недоразумение не было исчерпано, поскольку у Дании, видимо, имелись «интересанты» с русской стороны. Пассаж о правах старшего по отношению к младшему повторен в письме Екатерины Станиславу Понятовскому 12 сентября «Датчанин мне подозрителен», — сообщала она о ком-то из датских дипломатов. Возможно, эти слова касались Шумахера, как раз в то время собиравшего сведения о гибели Петра III: «К тому же тамошний двор придирается ко мне из-за выходок моего сына, на которого я имею все основания жаловаться». Что же касается датского двора, то «все, что он подписал, ничего не стоит, ибо в Германии младший без своего старшего не имеет права заключать никаких соглашений»[587].
Речь идет о все том же договоре 1749 года, заключенном «младшим» Адольфом Фридрихом без «старшего» Петра Федоровича. Но поведение семилетнего царевича в данном вопросе давало Екатерине повод жаловаться. Значит ли это, что Павел выказал согласие на опеку со стороны Фридриха V? Или продемонстрировал, что не доверяет матери? Боится за себя? Источники не открывают нам, что именно сделал семилетний наследник. Одно ясно: уже к сентябрю между ним и императрицей происходили трения. Мог ли мальчик настаивать на своих герцогских правах по собственному почину? Или его подтолкнул воспитатель? Полагаем, без Никиты Ивановича дело не обошлось. Он сумел задеть в воспитаннике две болезненные струны — честолюбие и страх. На долгие годы именно эти чувства станут преобладающими в отношениях Павла с матерью. Видимо, из разговоров старших ребенок понял, что «большая» корона ушла от него, а сам он находится в опасности. Вспомним, Екатерина проявила честолюбие в раннем возрасте. Честолюбивым человеком был и Петр III. Бабушка Елизавета, приглашая внука к участию в придворных церемониях, только растравила наследственное качество. Ребенку льстило, что он идет впереди родителей, рядом с императрицей. Это порождало в нем преувеличенные представления о собственной значимости. С воцарением же отца мальчик оказался забыт, а с воцарением матери — отодвинут на второй план. Единственным защитником царственных прав ребенка выступал Панин — опытный дипломат и умелый составитель документов.
Любые переговоры с иностранной державой касательно Павла как герцога Голштинского потребовали бы четко обозначить его статус. Екатерина, в отличие от мужа, провозгласила сына наследником. Но подписание новых бумаг помогло бы опять вернуться к данному вопросу. Теперь уже не на площади в окружении гвардейцев, а в Сенате, Совете, Коллегии иностранных дел. Такое развитие событий было желательно для тех, кто предпочитал видеть нашу героиню регентшей.
В это же время Панин выступил с проектом создания постоянного Совета из несменяемых членов, который должен был служить местом «законодания» и существенно ограничивал власть монарха. Без него государь не мог принять ни одного решения[588]. Наиболее раннее документальное упоминание о таком органе встречается в черновике Манифеста Екатерины II от 31 августа, которым императрица оправдывала возвратившегося из ссылки канцлера Бестужева-Рюмина. Она жаловала его «первым императорским советником и первым членом нового, учреждаемого при дворе нашем Императорского совета»[589]. Однако уже в беловике слова о Совете отсутствовали. Государыня не захотела создавать прецедент — упоминать этот орган в официальном документе. Игра вокруг проекта Панина развернулась уже после коронации, в Москве. Но сама идея обсуждалась гораздо раньше.
Рассмотрение дипломатических бумаг, касавшихся Павла, в Совете, скроенном по панинской мерке, могло иметь для Екатерины неприятные последствия. Ссылка на законы Римской империи показывает, что императрица первоначально намеревалась решать вопрос с Голштинией через Вену. Именно поэтому снизошла в письме прусскому королю до завуалированных угроз возобновить войну, если он не пойдет на уступки Австрии. Император Священной Римской империи утверждал права германских князей на их владения. Следовало прибегнуть к посредничеству Марии Терезии и тем обуздать датского короля. Но таким образом Екатерина оказалась бы в долгу у австрийцев, а в обсуждение прав Павла втянулась бы еще одна держава — куда более могущественная, чем Дания. Возможно, именно этого добивался Панин. Наша героиня почувствовала угрозу и сумела проскользнуть между Сциллой и Харибдой.
В приведенном послании Понятовскому Екатерина советовала: «Не давайте писем Одару». Странное заявление, если учесть, что пьемонтец служил ее доверенным лицом и по пути на родину привез весточку для польского возлюбленного императрицы. Теперь посыльный должен был вернуться. Но ситуация изменилась. Государыня считала Одара слишком близким к Панину и Дашковой, поэтому не хотела переписываться через него. Настораживал и тот факт, что пьемонтец на обратной дороге слишком долго оставался в Вене[590]. Стоило поостеречься.
Как и в случае с Советом, наша героиня вовремя спохватилась. Сама предлагая всем воюющим сторонам «медиацию», она не желала, чтобы кто-то участвовал в ее делах. «Моя цель, — прямо писала царица графу Герману Карлу Кейзерлингу, новому русскому послу в Варшаве, — быть связанной дружбой со всеми державами… дабы всегда иметь возможность… сделаться арбитром Европы»[591]. Откровенные слова, свидетельствующие, помимо прочего, о немалой уверенности в себе уже в первые дни на престоле. Однако допустить «арбитра» в свои дела значило проявить слабость. Дипломатам Фридриха V было заявлено категоричное «нет» с оттенком угрозы. «Я императрица России, — писала Екатерина, — и худо оправдала бы надежды народа, если бы имела низость вручить опеку над моим сыном, наследником русского престола, иностранному государству, которое оскорбило меня и Россию своим необыкновенным поведением»[592]. О вмешательстве Вены в распри по поводу Голштинского наследства вопрос так и не встал.
«Тысяча предосторожностей»
В таких условиях версальскому и венскому дворам следовало искать иной подход к императрице. И она сама подбросила им вариант, на время пустив по ложному следу. Обе стороны начали усиленно обхаживать Понятовского, полагая, что он должен вот-вот вернуться в Петербург в качестве фаворита молодой государыни.
Все это время Станислав жил то в Варшаве, то в имениях отца или дяди. Его переписка с возлюбленной в царствование Петра III несказанно затруднилась. После переворота он долго не получал вестей и пенял Екатерине, что узнал о случившемся «лишь одновременно со всеми». Между тем у нашей героини не было реальной возможности писать. Ее корреспонденция представляла слишком большой интерес и для врагов, и для друзей. Если первые не преминули бы раздуть из возможного приезда фаворита-иностранца скандал, то вторые почли бы поступок Екатерины изменой.
В послании 9 августа государыня поясняла свою позицию: «Не могу скрывать от вас истины: я тысячу раз рискую, поддерживая эту переписку. Ваше последнее письмо, на которое я отвечаю, было, похоже, вскрыто. С меня не спускают глаз, и я не могу давать повода для подозрений — следует соответствовать… Будьте выдержаннее. Рассказывать о всех здешних секретах было бы нескромностью — словом, я решительно не могу. …Меня все еще вынуждают делать тысячи странностей… Пока я повинуюсь, меня будут обожать; перестану повиноваться — как знать, что может произойти. …Кругом друзья; у вас их мало — у меня слишком много. …Пишите мне как можно реже, а то и совсем не пишите без крайней необходимости. Тем более не пишите без шифра»[593].
Даже если Екатерина и сгущала краски, чтобы остеречь бывшего любовника, то не слишком сильно. Это письмо показывает, в какую зависимость от поддержавших ее людей она попала. Фраза: «Кругом друзья» — звучит как насмешка. Именно «друзья» заставляли Екатерину «соответствовать» их представлениям о ней, «делать множество странностей», обожали, пока она повиновалась…
Поэтому на первых порах нашей героине следовало воздержаться от корреспонденции с Понятовским. Но вот беда — реальной была угроза его приезда в Петербург. Это заставило Екатерину взяться за перо. Однако императрица не сразу нашла канал передачи писем. В качестве посредника был избран граф Мерси д’Аржанто, который ухватился за контакт с возможным фаворитом. «Я в восторге, сударь, от представившейся мне возможности завязать… знакомство с Вами и заверить Вас в особенном уважении, — сообщал австрийский посол. — …Никто на свете не знает о том, что я посылаю нарочного».
Выбор пал на графа Мерси неслучайно. Мы видели, что его отношения с императрицей складывались не гладко. В донесениях посол жаловался на «высокомерие» Екатерины и ее стремление в делах «принимать на себя диктаторский тон». Поначалу он даже отказывался целовать руку государыне на церемонии официального представления дипломатов, мотивируя это тем, что русский посол в Вене не целует руку Марии Терезии[594]. Словом, Мерси д’Аржанто следовало приручить, и наша героиня нашла прекрасный способ: предложила ему, преимущественно перед другими дипломатами и тайно от русских царедворцев, играть роль ее доверенного лица в переписке с «будущим» фаворитом. Такое положение ставило графа Мерси очень близко к государыне и вырывало из круга недовольных, поскольку он получал надежду в дальнейшем влиять на дела. Его интересы отсекались от интересов сторонников царевича Павла и увязывались с интересами Екатерины.
Позднее к передаче писем подключился Бретейль, лично знакомый с Понятовским. Он тоже осыпал потенциального фаворита любезностями: «Ах, почему здесь нет Вас!»; «Никто не любит Вас более, чем я».
Первое письмо графа Мерси помечено 13 июля, а послание Екатерины 2 июля. Следовательно императрица написала Понятовскому почти сразу после переворота, а потом 11 дней искала, как переправить весточку в Польшу незаметно от «друзей». Это письмо производит впечатление торопливого и нацарапанного украдкой. Точно корреспондентка боялась, как бы ее не застигли на месте преступления: «Прошу Вас не спешить с приездом сюда, ибо Ваше пребывание здесь в нынешних обстоятельствах было бы опасным для Вас и весьма вредным для меня… Я завалена делами и не в силах дать Вам полный отчет… Все здесь сейчас находится в состоянии критическом происходят вещи, важные необычайно; я не спала три ночи и за четыре дня ела два раза».
Далекая возлюбленная заверила варшавского рыцаря в дружбе к его «высокочтимой семье», которой она постарается быть полезной. Совсем не то, на что надеялся Станислав. «Я тщетно пытался убедить себя в том, что меня скоро призовут», — писал он. Молодому человеку трудно было сохранять внешнее спокойствие под «пронзительными взглядами» придворного общества, и он предпочел уехать к дяде в Пулавы. «Там я заболел от печали и тревоги». Однажды, мучаясь бессонницей, «я обдумывал всевозможные причины, препятствовавшие исполнению моих надежд. И вот, когда я размышлял о сближении короля Пруссии и Екатерины II… мне вдруг пришло в голову: все дело в том, что теперешний посол Пруссии в Петербурге вытеснил меня… и в ту же секунду меня словно острым шилом кольнуло в живот — то возвратилась болезнь… Я имел полную возможность проверить, как могут влиять на тело терзания души; геморроидальные колики, от которых, согласно сообщениям, умер Петр III, не казались мне причиной невероятной после того, как я сам ощутил, до какой степени печаль может стать источником этой болезни»[595].
Если бы влюбленный страдалец знал, что, со своей стороны, Гольц мучится от мысли, будто императрица ненавидит его, ревность к пруссаку показалась бы смешной.
Следующее письмо Екатерина отправила Понятовскому ровно через месяц — 2 августа. Оно снова было вложено в послание графа Мерси. «Удовольствие установить связь с Вами, — писал посол, — и мотивы, побудившие меня к этому, весьма для меня лестны. Мне остается только мечтать о том, чтобы лично изложить Вам мои чувства».
Однако придворные любезности трогали Станислава очень мало. Человек образованный и тонкий, он понимал, что расшаркивания дипломатов связаны с его потенциальным положением. А этого положения ему никак не удавалось достичь. Он задавался вопросом, почему возлюбленная молчала целый месяц, а теперь обрушила на него очень длинный рассказ о событиях переворота и кончине Петра III.
За прошедшее после переворота время за границей распространилось множество слухов о петербургской «революции». Особенно о смерти свергнутого императора. Екатерина хотела, чтобы корреспондент, которого вся Европа считала ее избранником, озвучил присланную версию. Такая возможность у Понятовского была: он переписывался и с Вольтером, и с мадам Жоффрен. Императрица прямо просила разуверить фернейского мудреца относительно роли Дашковой.
Из политического салона Жоффрен, которую Станислав почтительно именовал «матушкой», сведения разошлись бы очень широко. Приватность переписки Понятовского с императрицей как будто обеспечивала достоверность информации — из первых рук и по секрету. Позднее именно в этом салоне Рюльер будет читать главы своей истории и возразит Дидро, укорявшему его за нескромность: «Д’Аламбер и Жоффрен предпочитали мой рассказ всем апологиям, какие только были распространены в пользу императрицы»[596]. Одной из таких «апологий» и стал пересказ письма 2 августа, полученный от Понятовского.
На первых порах, пока вокруг переворота не заскрипели перьями десятки Рюльеров, подобная весточка из России дорогого стоила. Именно в письме 2 августа Екатерина впервые упомянула об Орлове и дала самую лестную характеристику его братьям. Таков был метод государыни — знакомить европейское общество с новым фаворитом как бы ненароком, в письме другу. Тот факт, что сам друг метил в «случайные» вельможи, — курьез ситуации, не более. Сейчас ей важно было внушить публике, кто истинные творцы «революции».
«Все тайные нити были в руках братьев Орловых… Орловы — люди исключительно решительные… Я в большом долгу перед ними — весь Петербург тому свидетель». Чуть ниже: «Орловы блистали искусством возбуждать умы, разумной твердостью… присутствием духа — и авторитетом, благодаря всему этому завоеванным. У них много здравого смысла, щедрой отваги, их патриотизм доходит до энтузиазма, они вполне порядочные люди, страстно мне преданные». И последний аккорд: «Все произошло, уверяю Вас, под моим особенным руководством»[597].
Имена братьев мелькали на каждой странице, в то время как Панин был упомянут вскользь один раз, когда дело коснулось прав Павла. Гетман Разумовский не назван вовсе, даже при описании присяги Измайловского полка. Из всей вельможной группировки рассказа удостоилась только Дашкова, поданная как честолюбивая интриганка, приписывающая себе славу переворота. Зато перечислены гвардейские «вожаки» — Пассек, Барятинский, Хитрово, Потемкин. Императрица точно хотела сказать: вот люди, которые действительно потрудились. Необходимость в подобных словах была. Рюльер отметил, что в первые дни после переворота «придворные старались уже по своей хитрости взять преимущество над ревностными заговорщиками… Всякий хотел показаться тем, чем непременно хотелось сделаться»[598].
Несмотря на видимую неправильность последнего оборота, он очень точен. Панин рассчитывал стать первым министром в новом кабинете и теперь старался казаться таковым. Дашкова была уверена, что она — глава заговора и будет ближайшим доверенным лицом государыни. Еще в Петергофе и после возвращения войск в Петербург княгиня приложила усилия к тому, чтобы ее именно так и воспринимали. Но письмо Понятовскому 2 августа с безжалостностью показывает, кем Екатерина на самом деле считала подругу. Несмотря на амбиции, та не могла повредить государыне больше, чем уже повредила, «приписывая в чужих краях честь заговора». Куда сложнее было отношение императрицы к другим вельможным сторонникам. Она избегала задевать этих людей, но чувства ее выразились как раз в молчании.
«Регулярная переписка встречает тысячи препятствий, — повторяла Екатерина Понятовскому. — Мне приходится соблюдать двадцать тысяч предосторожностей, и у меня нет времени на любовные записки. Я крайне стеснена во всем… это дает мне ощутить всю тяжесть правления».
Екатерина действительно находилась в крайне неудобной ситуации. Только что она нашла средство удалить от двора вызванного еще Петром III Сергея Салтыкова. Он был назначен послом во Францию. «Назначение Салтыкова во Францию ни в коем случае не понравится версальскому двору, — сообщал Гольц 3 августа. — Еще недавно он был заключен в крепости, как за долги, так и за различные дурные проделки. Покидая тюрьму, чтобы вернуться сюда, он принужден был как поруку… оставить во Франции свою жену… Однако его назначение не удивляет здешних придворных. Говорят, что несколько лет тому назад императрица относилась к нему, как к божеству»[599].
В другом донесении оттого же числа Гольц переходил к слухам о польском романе Екатерины: «До сих пор нет никаких причин предполагать восстановление Понятовского… Императрица, даже если бы очень желала добиться этого, все же принуждена будет скрепя сердце отказаться, так как оно, наверно, не понравится ни народу, ни двору»[600].
Единственным, кто не желал понять ситуации, оставался сам Понятовский. Его упреки в адрес бывшей возлюбленной продолжались до начала января 1763 года. А ее решение сделать бывшего возлюбленного польским королем после смерти Августа III и тем закрепить русское влияние в Варшаве причинило молодому человеку настоящую боль. «Я дважды написал императрице: не делайте меня королем, призовите меня к себе».
«Очень легко осыпать упреками людей, — с досадой отвечала наша героиня, — но если эти люди станут руководствоваться желаниями всех иностранцев, которыми Вам хотелось бы их окружить, им долго не продержаться»; «Раз уж надо говорить все до конца… скажу прямо: появившись здесь, Вы очень рискуете тем, что нас обоих убьют»[601].
Риск был. И первым его продемонстрировал государыне «страстно преданный» Орлов. На одном из придворных обедов, когда речь зашла о гвардии, Григорий вдруг заявил, что с той же легкостью, с которой посадил Екатерину на престол, мог бы при помощи полков свергнуть ее. Хватил ли он лишку, или у него были другие причины так сказать, но присутствовавшие вельможи онемели от подобной наглости. Только гетман Кирилл Разумовский нашелся, бросив: «Да, но через неделю мы бы тебя вздернули»[602]. Это была их первая открытая стычка. О ней сообщил в Париж вернувшийся Бретейль, о ней же упомянул и Рюльер.
Без сомнения, Екатерине было крайне неприятно глотать подобные оскорбления от «друзей». Именно об этом она писала Понятовскому: «Мое положение устойчиво до тех пор, пока я соблюдаю осторожность… последний солдат на часах, увидев меня, говорит себе: „вот дело рук моих“»; «Единственное, что способно надежно поддержать меня, это мое поведение. Оно должно и далее оставаться таким же безукоризненным. Случиться ведь может всякое, и Ваше имя, и Ваш приезд сюда могут привести к самым печальным последствиям… Я не хочу, чтобы мы погибли… Не советую Вам также предпринимать тайной поездки, ибо мои поступки тайными быть не могут»[603].
Разговоры о возможном возвращении Понятовского нервировали Орлова, ему и так приходилось непросто на придворном паркете. Приведенный диалог с Разумовским произошел, вероятно, в первые дни после переворота, когда гвардия действительно носила отважных братьев на руках. После гибели Петра III отношение к ним резко изменилось, и у Григория язык бы не повернулся похвастаться любовью служивых.
Интересно поведение гетмана. Он окоротил зарвавшегося фаворита. Но неприязненное чувство у него вызывал не только Орлов. В сентябре к передаче писем Понятовского подключился вернувшийся Бретейль. И тут выяснилось, что Кирилл Григорьевич утаил одно из посланий Понятовского Екатерине. «Я спросил у господина Беранже, — писал посланник, — передано ли гетману письмо, которое Вы доверили мне во время моего первого проезда через Варшаву… Он лично вручил письмо гетману; таким образом, если это послание не достигло цели — это не наша вина».
С письмами, шедшими по каналам Бретейля, вообще происходили неприятности. В ноябре курьер, везший корреспонденцию, «был ограблен и едва не убит» на дороге между Петербургом и Москвой. «Письма были распечатаны грабителями и разбросаны затем по снегу в лесу». Тогда же Мерси поставил Понятовского в известность, что «некоторые особы, чьи имена Вы легко угадаете, были предупреждены о поездке» его посыльного. «Мне стоило немалого труда сбить с пути все разыскания»[604], — заключал дипломат.
Таким образом, Екатерина не лукавила, говоря об опасности. Представители обеих партий проявляли повышенный интерес к переписке и не стеснялись в выборе средств воздействия на императрицу.
«Припадочные люди»
Все сказанное свидетельствует о непростой ситуации в окружении Екатерины. Каждый из «друзей» намеревался пожинать лавры, а натолкнулся на непредвиденные препятствия. Безусловно выиграла одна императрица. Вместо регентства она получила корону. Но и ее положение, как мы видели, оставалось крайне неустойчивым. Один неверный шаг — и, «как знать, что может случиться».
Перед гвардейскими «вожаками» открывалась блестящая будущность. Никто из них прежде не мечтал вступить во дворец, занять высокую должность, обрести богатства и титулы. Однако в первые же часы после переворота они почувствовали, насколько не ко двору для знати. Представители вельможной партии ощущали себя в наибольшей степени обманутыми, так как, во-первых, предпочитали сохранить «законность» при передаче короны Павлу, а во-вторых, претендовали на первые места вокруг трона. Они вовсе не жаждали потесниться ради каких-то выскочек.
Вспомним просьбу Григория Орлова об отставке, которую он принес Екатерине сразу после возвращения в Петербург, 30 июня. Конечно, молодой заговорщик заранее знал, что его удержат. Кроме того, формальный отказ от предлагаемого высокого положения, по старинной русской традиции, акт почти обязательный. Но, помимо прочего, в словах Орлова звучали и реальные опасения: «Милость могла бы вызвать ненависть ко мне»[605].
Он почувствовал это уже в Петергофе, благодаря поведению Дашковой. Но то, что у прямолинейной племянницы Панина было на языке, у вельмож посолиднее скрывалось на уме, за семью печатями. Пока Григорий оставался тайным возлюбленным. Но после победы ему предстояло выйти из тени, стать фаворитом в полном смысле слова. То есть открыть себя для ударов. Это и произошло. «Пришлось прибегнуть к власти, чтобы заставить его остаться, — продолжала рассказ Екатерина — и он был огорчен до слез красной александровской лентой и камергерским ключом… что дает чин генерал-майора». Рубеж был пройден. Отныне Орловым предстояло вести жесткую игру, правил которой они не знали, да еще на чужом поле. Военный переворот дался легче!
«На следующий день, — сообщала Дашкова о 1 июля, — Григорий Орлов явился к обедне, украшенный орденом св. Александра Невского. По окончании церковной службы я подошла к дяде и к графу Разумовскому и… сказала смеясь:
— …Должна вам сказать, что вы оба глупцы»[606].
Очень откровенная сцена. Гетман и воспитатель наследника «глупцы» не только потому, что не поверили молоденькой союзнице, будто «Орлов — любовник Ее величества». Но и потому, что считали себя первыми лицами.
Рюльер продолжал там, где Екатерина Романовна благоразумно остановилась: «Орлов скоро обратил на себя всеобщее внимание. Между императрицей и сим дотоле неизвестным человеком оказалась та нежная короткость, которая была следствием давнишней связи. Двор был в крайнем удивлении. Вельможи, из которых многие почитали несомненным права свои на сердце государыни, не понимая, как… сей соперник скрылся от их проницательности, с жесточайшею досадою видели, что они трудились только для его возвышения»[607]. Сразу за этими словами Рюльер поместил сцену на обеде, когда Орлов схлестнулся с Разумовским (правда, не назвав гетмана по имени). Видимо, Кирилл Григорьевич был и правда глубоко оскорблен. Много лет он питал к Екатерине чувство большее, чем дружба. Стал ее сторонником еще со времен заговора Бестужева. Давние теплые отношения давали ему повод надеяться, что после переворота он займет при молодой регентше место, которое его брат занимал при Елизавете Петровне. Ведь по возрасту и складу характеров они так подходили друг другу! Но нет, из темных гвардейских глубин всплыл какой-то Орлов. Да еще грозил приездом Понятовский.
О том, какие слухи распространялись в отношении императрицы и нового фаворита, свидетельствует другая рюльеровская сцена: «В сии-то первые дни княгиня Дашкова, вошед к императрице… увидела Орлова на длинных креслах и с обнаженною ногою, которую императрица сама перевязывала, ибо он получил в сию ногу контузию. Княгиня сделала замечание на столь излишнюю милость и… приняла строгий нравоучительный тон»[608]. В «Записках» Дашковой этот случай передан куда менее пикантно — нет ни перевязывающей ногу императрицы, ни контузии — просто ушиб. Сам ли дипломат добавил салонного перца? Или обиженная княгиня передавала историю по горячим следам не так, как годы спустя? Или Панин с Разумовским, которым она рассказала все, чему стала свидетельницей в Петергофе, расцветили картинку? В сущности, не слишком важно. Мы видим, как простой случай превратился в сплетню, способную вызвать раздражение придворных.
Зная, что и с чьих слов говорят, Екатерина не могла не пенять подруге. А та, в свою очередь, была убеждена, что на нее гневаются за «усердие в делах» и известность «в чужих краях, где повсюду ей приписывали честь заговора». Письмо Ивана Шувалова Вольтеру с заявлением, будто «женщина девятнадцати лет сменила в этой империи власть», особенно встревожило государыню. Зачем бывшему фавориту понадобилось подставлять себя под удар? Ведь Екатерина и так относилась к нему с неприязнью. После переворота положение Шувалова стало еще более шатким. Он состоял с Дашковой в отдаленном родстве и искал покровительства той, кого называли восходящей звездой. Однако плохо зная отношения в екатерининском кругу, Иван Иванович обманулся. Похвалы Дашковой еще больше восстановили императрицу против него.
Сама же княгиня в нерасположении подруги винила выскочку-фаворита. Из мелких стычек с ним в Петергофе и сразу по возвращении в город она сделала вывод: «Орлов мне враг»[609]. «Немилость к Дашковой обнаружилась во дни блистательной славы, которую воздавали ей из приличия», — заметил Рюльер. Возвращение доверия подруги, веса в делах, роли на придворной сцене Екатерина Романовна связывала с победой над Орловым.
Свои резоны противостоять братьям имелись и у Панина. Он не просто защищал права воспитанника. Его идея состояла в том, чтобы ограничить власть юного монарха при вступлении на престол. Для этого создавался Совет с законодательными функциями. Пока Екатерина соглашалась быть регентом, цель казалась достижимой. Но при взрослом самодержце, с первых шагов показавшем свою самостоятельность, дело обстояло иначе. Влиять на Екатерину до тех пор, пока она опиралась на Орловых, а через них на гвардию, было сложно.
Однако схема придворных отношений вовсе не так проста. Наша героиня в течение всего царствования показала себя мастером создания противовесов. Она никогда не отдавалась полностью в руки какой-то одной силы. Напротив, предпочитала внешне находиться над схваткой, чтобы использовать талантливых сотрудников из всех лагерей. В лице нового фаворита, с первого дня получившего высокий статус и официальные знаки признательности государыни, Екатерина дала вельможной группировке мощный противовес. Но и Орловы не могли быть ее единственной опорой. Императрица не отнимала у Панина надежды продвинуть его проект.
Этот документ, как мы говорили, появился на столе царицы уже в Москве. Однако его идеи обсуждались гораздо раньше. Если вчитаться в текст Панина, то станет ясно, что самую желчную критику автора вызывала система фаворитизма. Сказались и его личная неприязнь к Ивану Шувалову, и прошлые унижения. Фавориты — «прихотливые и припадочные люди», как именовал их Панин, — вмешивались в работу государственного механизма и вершили дела по своему произволу. В качестве примера вельможа избрал «эпок Елизаветы Петровны». «Временщики и куртизаны», писал Никита Иванович, создали собой «интервал между государя и правительства», не считая себя «подверженными суду и ответу перед публикою». «Государь был отделен от правительства. Прихотливые и припадочные люди пользовались Кабинетом… и хватали отовсюду в него дела на бесконечную нерешимость… В наследство и дележ партикулярных людей без законов и причин мешались; домы их печатали; у одного отнимали, другому отдавали… Все наиважнейшие должности и службы претворены были в ранги и в награждения любимцев и угодников; везде фавёр… Не было выбору способности и достоинству… Внутреннее государства состояние насильствовано и жертвовано для внешних политических дел, чем, наконец… завелася война… Лихоимство, расхищение, роскошь, мотовство и распутство в имениях и в сердцах». По полемическому запалу проект Панина не уступает знаменитому памфлету князя Щербатова.
«Отлучили государя от всех дел… Фаворит остался душою, животворящею или умерщвляющею государство; он, ветром и непостоянством погружен, не трудясь тут, производил одни свои прихоти… исполнял существенную ролю первого министра, был правителем самих министров, избирал и сочинял дела по самохотению, заставлял министров оные подписывать, употребляя к тому… имя государево». Такого положения следовало избегать впредь. Ныне на смену хищной клике Шуваловых пришли Орловы. Этого умный вельможа не писал, но Екатерина не могла не понять, в кого он целит.
В качестве средства, которое оградит государственный аппарат от повторения елизаветинского горького опыта, Никита Иванович и предлагал Совет с законодательными функциями При этом ловко выставлял новый орган защитником власти монарха перед ее похитителями — фаворитами. «Спасительно нашему претерпевшему отечеству… намерение Вашего величества, чтобы Богом и народом врученное Вам право самодержавства употребить с полной властью к основанию… формы и порядка»; «В сем проекте установляемое формою государственною верховное место… законодания, из которого, яко от единого государя и из единого места, истекать будет собственное монаршее изволение, оградит самодержавную власть от скрытых иногда похитителей оной».
Впрочем, Никита Иванович предупреждал, что его идея понравится далеко не всем. «Есть, как Вам известно, между нами такие особы, которым для… особливых видов и резонов противно такое новое распоряжение в правительстве». Поэтому создание Совета требовало от императрицы «попечения и целомудренной твердости»[610]. Екатерине не трудно было догадаться, на кого намекал министр. Государыня должна была набраться решимости, отвергнуть притязания Орлова и своими руками лишить себя власти.
Для того чтобы умная, волевая императрица, только что получившая корону, совершила подобный шаг, требовались экстраординарные обстоятельства.
Глава восьмая ЦАРЕУБИЙСТВО
Мы подробно остановились на внешне- и внутриполитической ситуации после переворота именно потому, что обычно драму в Ропше рассматривают вне контекста сопутствовавших ей событий. Благодаря этому рвутся нити, связывавшие гибель Петра III с конкретной обстановкой, замыкая исследователей в узком ропшинском мирке.
«Великодушные намерения»
29 июня в Петергофе Панин лично отобрал «батальон в триста человек» для охраны свергнутого императора. Раздавленный, измученный Петр чуть не на коленях просил Никиту Ивановича разрешить Елизавете Воронцовой остаться с ним. «Ответ последовал отрицательный»[611].
«Романовну» посадили в дормез с закрытыми окнами и отправили сначала в столицу в дом ее отца, а затем в Москву, дав приказание жить тихо, не привлекая к себе внимание. Когда Воронцова вышла замуж, ей разрешили вернуться в Петербург. Наказание более чем мягкое. Однако на дело можно посмотреть и с точки зрения побежденных. Несчастная пара вызывала жалость. Почему же фаворитке не разрешили сопровождать свергнутого императора в Ропшу?
Первое, что приходит в голову, — чтобы избавиться от лишнего свидетеля. Однако у Екатерины имелись и более тривиальные причины для подобного шага. В письме Понятовскому она сообщала, что муж попросил «лишь свою любовницу, свою собаку, своего негра и свою скрипку; боясь, однако, скандала и недовольства людей, его охранявших, я выполнила только три последние его просьбы»[612]. О каком скандале речь?
Рюльер писал, что в Петергофе при выходе из кареты гвардейцы схватили бедную «Романовну» и оборвали с нее знаки ордена Святой Екатерины. Возможно, это сделали по наущению. Ведь ношение любовницей государя «семейного» царского ордена было оскорбительно для императрицы. Но исходя из настроения войск подначивать их к бесчинствам не требовалось. Отправить в Ропшу одну женщину в окружении сотни хмельных солдат и всего четырех офицеров можно было только из мести. Кроме того, пребывание фаворитки на мызе послужило бы поводом для нежелательных сцен между свергнутым императором и его стражами. Таким образом, не примешивая сердце к политике, императрица поступила дальновидно и даже милосердно.
Можно предположить также, что за сестру просила Дашкова[613]. Но в «Записках» княгиня показывает: она этого не делала. Сразу по возвращении в столицу Екатерина Романовна направилась в дом отца, где «выслушала длиннейшую жалобу» бывшей фаворитки. «Я уверила сестру в моей нежности к ней и сказала, что не говорила еще с императрицей о ней, потому что была убеждена, что у государыни самые благожелательные и великодушные намерения… Действительно, императрица потребовала только ее отсутствия во время коронационных торжеств»[614]. Затем княгиня привела свой разговор с августейшей подругой, в котором просила за родственников по линии мужа. Это все.
Рюльер поместил в книгу трогательную сцену, случившуюся по возвращении императрицы из Петергофа: «На другой день поутру прежние ее собеседницы, которые оставили ее в ее бедствиях, молодые дамы, которые везде следовали за императором… [и] питали ненависть к его супруге, явились к ней все и поверглись к ногам ее». Нечто похожее рассказывал ювелир Позье. «Бо́льшая часть из них были родственники фрейлины Воронцовой. Видя их поверженных, княгиня Дашкова, сестра ее, также бросилась на колени, говоря: „Государыня, вот мое семейство, которым я Вам пожертвовала“. Императрица приняла их всех с пленительным снисхождением и при них же пожаловала княгине [орденскую] ленту и драгоценные уборы сестры ее»[615]. Последняя деталь не во вкусе Екатерины Романовны, но слухи о «завладении ею сестриными вещами» действительно носились по Петербургу.
Брат Александр пенял княгине в письме из Англии: «За Ваши заслуги Вы должны были бы просить одной награды — помилования сестры и предпочесть эту награду Екатерининской ленте». Дашкова отвечала: «Я ничем не обязана ни ей, ни кому-либо из моей родни»[616]. Александр напомнил множество услуг, которые Елизавета оказала сестре, например, помогла отправить мужа Дашковой послом в Константинополь и предложила молодой паре только что подаренный ей самой дом… Из семейных препирательств ясно одно: почвой для них послужило «равнодушие» сестры-победительницы к судьбе побежденной. Значит, просьба подруги на позицию Екатерины не повлияла.
Зададимся следующим вопросом. Почему императрица не повидалась с мужем перед его отправкой в Ропшу, что было бы логично. Несостоявшееся свидание — лучший козырь против обвинений императрицы в страсти к мучительству. Она не пришла насладиться унижением супруга. А ведь Петр был раздавлен, плакал и целовал руки Панину. Для человека, желавшего утолить чувство мести, такое зрелище — бальзам на раны. Но наша героиня не была и мстительной.
Первая причина, удержавшая императрицу отличной встречи, — обстановка в Петергофе. Она рассказала Понятовскому о случае, как будто не касавшемся Петра лично, но очень характерном для понимания ситуации. «Поскольку было 29-е, день Святого Петра, необходим был парадный обед в полдень». Пока его готовили и накрывали праздничные столы, солдаты вообразили, что кто-то из вельмож старается помирить императрицу с привезенным в резиденцию мужем. Подозрения пали на старика-фельдмаршала Трубецкого, которого гвардейцы не любили. «Они стали приставать ко всем проходившим мимо — к гетману, к Орловым», и требовать государыню. Логика служивых была проста: Трубецкой старается, «чтобы ты погибла — и мы с тобой, но мы его разорвем на куски». Екатерина подчеркивала, что это были «их подлинные слова». Она велела фельдмаршалу немедленно уехать, пока сама будет «обходить войска пешком», и тот «в ужасе умчался в город»[617].
Трубецкой ни на минуту не усомнился в осуществимости угрозы. И Екатерина считала ее реальной, поскольку отправилась лично успокоить полки. Как развивались бы события, узнай гвардейцы, что «Матушка» встречается с супругом? Между императором и женой еще мог восстановиться мир, а нарушителям присяги пришлось бы заплатить головами. Одного слуха было достаточно, чтобы спровоцировать хмельную массу на расправу. Тогда бы «разорвали на куски» уже не Трубецкого…
Но была и другая причина отказа императрицы от встречи с мужем. Перед отречением Петру III были даны некие обещания относительно его будущего. «Петр, отдаваясь добровольно в руки своей супруги, был не без надежды»[618], — заметил Рюльер. Свергнутый государь думал, что его отпустят в Голштинию. При отречении присутствовали генерал Измайлов и Григорий Орлов. От имени Екатерины они заверили поверженного монарха, что его желания будут исполнены. Однако сама государыня никаких обещаний не давала. Это было очень умно, потому что выполнить обязательства она бы не смогла. А Екатерина предпочитала держать слово. Извернуться, промолчать, избежать прямого объяснения — но не лгать. Таково было ее кредо, хорошо прослеживаемое по документам.
Если бы наша героиня встретилась с супругом, ей пришлось бы либо подтвердить обещание, либо отказать. Последнее могло вызвать у Петра бурю эмоций, а его следовало побыстрее и без скандала отправить из резиденции, где безопасность монарха ничем не гарантировалась. Между тем уже 29-го в Петергофе Екатерина приняла решение не отпускать мужа в Германию, а заключить в Шлиссельбург.
Она отправила приказ генерал-майору Силину[619] в тот же день собрать «безымянного колодника» — Ивана Антоновича — и отбыть с ним к новому месту заключения в крепость Кексгольм. «А в Шлиссельбурге, в самой оной крепости, очистить внутренней крепости самые лучшие покои и прибрать, по крайней мере, по лучшей опрятности, оные, которые изготовив, содержать до указу»[620]. Бросается в глаза поспешность действий — сразу же вывезти Ивана, а комнаты для нового узника хотя бы прибрать. Отделать их можно будет и позднее. Мнение, что Екатерина этим указом старалась отвести глаза обществу, а сама втайне готовила убийство мужа, противоречит характеру документа. Приказ был тайным, о нем знали императрица, пара человек из ее окружения — скорее всего, Панин и Орлов — и адресат генерал-майор Силин. Остальным повеление осталось неизвестным.
Реальность намерений поместить Петра в Шлиссельбург доказывается вывозом Ивана Антоновича. Содержать двух венценосных узников в одной крепости неразумно. Затей императрица хитрую игру, ей незачем было бы трогать «безымянного колодника», ведь риск при переезде в другую тюрьму весьма высок. Что и подтвердилось историей неудачного путешествия. 4 июля Силин донес, что их с арестантом разбило бурей на озере, и теперь они находятся в рыбачьей деревне Мордя, ожидая новых кораблей из Шлиссельбурга. Это был удачный момент для побега или похищения узника. Стоило ли так рисковать без нужды? Ведь у Ивана Антоновича имелось много сторонников, и переворот в его пользу был едва ли не реальнее, чем реванш Петра III. Тем не менее «безымянного колодника» потеснили.
2 июля Екатерина послала в Шлиссельбург приказ обер-коменданту Бердникову принять присланного от нее подпоручика Измайловского полка Плещеева «с некоторыми вещами на шлюпках отправленными». «А Вам… повелеваем по всем его Плещеева требованиям скорое и безостановочное исполнение делать»[621], — заключала императрица. Спешка продолжалась. Покои для свергнутого императора приводились в порядок.
«Государь в оковах»
Тем временем сам он находился в крайне тяжелом состоянии в Ропше. События переворота оказали на нервного впечатлительного Петра страшное воздействие. Оно зафиксировано буквально всеми источниками. Никто из наблюдателей, каково бы ни было его отношение к происходившему, не заметил, чтобы свергнутый император вел себя мужественно или хотя бы достойно. Каждый по-своему передал потрясение и подавленность побежденного.
Мерси д’Аржанто едва ли не со злорадством доносил в Вену: «Во всемирной истории не найдется примера, чтобы государь, лишаясь короны и скипетра, выказал так мало мужества и бодрости духа, как он, царь, который всегда старался говорить так высокомерно; при своем же низложении с престола поступил до того мягко и малодушно, что невозможно даже описать»[622]. Рюльер сообщал, что по дороге в Петергоф с Петром приключился обморок. «Как скоро увидела его армия, то единогласные крики: „Да здравствует Екатерина!“ — раздались с разных сторон, и среди сих-то новых восклицаний, неистово повторяемых, проехав все полки, он лишился памяти». Уже в резиденции «при выходе из кареты его любезную подхватили солдаты и оборвали с нее [орденские] знаки. Любимец его был встречен криком ругательства»[623]. Шумахер уточнил, что Гудовича ограбили и «жестоко избили».
Такое обращение с близкими людьми не могло оставить Петра равнодушным. Когда император очутился один, ему велели раздеться. «Он сорвал с себя ленту, шпагу и платье, говоря: „Теперь я в ваших руках“. Несколько минут сидел он в рубашке, босиком, на посмеяние солдат»[624]. В отличие от Рюльера, склонного к театральным сценам, Шумахер пишет, что перед отправкой в Ропшу Петр был облачен в «серый сюртук».
О том, что с бывшим государем обращались плохо, свидетельствовали многие иностранцы. Никто из них не был очевидцем, но город полнился слухами. 10 августа Беранже донес в Париж: «Офицеры, которым было поручено его (Петра III. — О. Е.) сторожить, самым грубым образом оскорбляли его. Вид несчастья вообще и особенно Государя в оковах во всяком чувствительном человеке вызывает сочувствие… Но московиты… всегда усугубляют мучения жертв, вверенных их жестокосердию. Меня уверяют, что разнузданные солдаты с особой злобой вымещали на узнике за все сделанные Петром III глупости и нелепости»[625].
А ведь речь шла о гвардейцах, специально взятых из числа наиболее трезвых. В автобиографической заметке императрица поясняла, что отправила мужа в Ропшу, «чтобы предотвратить его от возможности быть растерзанным солдатами»[626].
Мыза Ропша, выбранная для временного заключения государя, принадлежала Кириллу Разумовскому и находилась на полпути между Петергофом и Гостилицами. Дом был невелик и представлял собой вытянутую анфиладу комнат по обе стороны от центрального зала. Две из них отвели узнику, поместив в его покоях пару офицеров — по одному у каждой двери. Внешнюю охрану несли солдаты. Под началом Орлова находились камергер Федор Барятинский, преображенцы капитан Петр Пассек, поручик Михаил Баскаков и поручик Евграф Чертков. Кроме того, в распоряжении Алексея был вахмистр конногвардеец Григорий Потемкин.
До места свергнутого императора сопровождали представители Семеновского полка капитан Алексей Щербачев и поручик Сергей Озеров, которые после исполнения приказа отбыли восвояси. Почему избрали именно семеновцев, нетрудно догадаться. Преображенцы и измайловцы с самого начала переворота находились в конфликте. Шумахер замечал: «Между Преображенским и Измайловским полками уже царило сильное соперничество»[627]. Поэтому свергнутого императора доверили семеновцам, которые не вызывали неудовольствия товарищей-гвардейцев и с которыми никто не затеял бы по дороге стычку.
Державин вспоминал: «После обеда часу в 5-м увидели большую четырехместную карету, запряженную больше нежели в шесть лошадей, с завешенными гардинами, у которой на запятках, на козлах и по подножкам были гренадеры же во всем вооружении, а за ними несколько конного конвоя, которые… отвезли отрекшегося императора… в Ропшу»[628]. Тот факт, что сравнительно легкую повозку запрягли даже не цугом, а, скорее, восьмериком, свидетельствует о большой спешке: Петра торопились увезти из резиденции и хотели, чтобы карета двигалась быстро.
«Печальная комедия»
Вечером 29-го узник прибыл к месту назначения. С Петром оставался только один камер-лакей Алексей Маслов. Два других русских лакея сказались больными, чтобы не следовать за бывшим господином. Они боялись очутиться в заточении вместе с ним. Император был подавлен, помещение показалось ему тесным, а режим постоянного надзора — тяжелым.
Состояние Петра хорошо передают записки, отправленные Екатерине. Возможно, первая возникла еще в Петергофе, так как озвучивает просьбу царя, переданную через Панина устно. «Ваше величество, если Вы решительно не хотите уморить человека, который уже довольно несчастлив, то сжальтесь надо мною и оставьте мне единственное утешение, которое есть Елизавета Романовна. Этим Вы сделаете одно из величайших милосердных дел Вашего царствования. Впрочем, если бы Ваше величество захотели на минуту увидеть меня, то это было бы верхом моих желаний. Ваш нижайший слуга Петр. 29 июня 1762 года».
Это письмо по-французски, на наш взгляд, еще не демонстрирует полной подавленности. Именно в Петергофе решался вопрос о Воронцовой (ведь Петр просит «оставить» ему возлюбленную, а не «вернуть»), и Екатерина могла увидеть мужа «на минуту». Если мы правы, то Панин в рассказе Ассебургу слукавил, заявив, будто Петр не просил о встрече с женой. Вероятно, ту же информацию вельможа передал и императрице. Но, судя по записке, у нее имелся и другой канал связи с мужем — минуя Никиту Ивановича.
Почему воспитатель великого князя хотел избежать краткого рандеву между супругами? Возможно, он тоже опасался их примирения. Желанная цель — провозглашение Павла императором при регентстве матери — казалась еще достижимой. А вот если бы Петр и Екатерина договорились о какой-либо форме соправительства, притязания наследника повисли бы в воздухе.
Вторая записка куда примечательнее. После мытарств целого дня, угроз жизни, солдатских издевательств император совсем пал духом. Вечером он написал Екатерине по-русски, сбивчиво, с повторами, ошибками и почти без знаков препинания: «Ваше величество. Я еще прошу меня которой ваше воле исполнал во всем, отпустить меня в чужие край стеми которые я Ваше Величество прежде просил и надеюсь на ваше великодушие что вы меня не оставите без пропитания верный слуга Петр. 29 июня 1762 года»[629].
У этого документа, судя по сгибу, отрезан низ, возможно, содержавший постскриптум. Когда такое случилось — неизвестно. Вообще материалы начала царствования Екатерины, и в особенности ропшинские, сильно пострадали. Нет рескриптов императрицы Алексею Орлову, списка его команды, хотя в письме 2 июля он оповещает, что выслал таковой. Известно, что Павел I сразу после смерти матери сжег ряд бумаг из ее архива. Отсутствует, например, подлинник отречения Петра III[630]. Специальным указом от 26 января 1797 года новый император повелел изъять из всех государственных учреждений и уничтожить Манифест Екатерины от 6 июля о ее вступлении на престол[631].
Павел упрямо истреблял тексты, хотя бы косвенным образом свидетельствовавшие, что он не являлся наследником Петра III. Отсутствие имени Павла в отречении, рассказ в Манифесте о том, как отец «не восхотел объявить его наследником», стали достаточными основаниями для их уничтожения. Возможно, и отрезанный постскриптум как-то касался Павла. Достаточно было повторить, что, уехав в Голштинию, государь ничего «против Вас и сына Вашего» не сделает, чтобы текст исчез.
Остаток дня Петр провел в слезах. «По прибытии в Ропшу император почти беспрерывно плакал и горевал о судьбе своих бедных людей, под которыми он разумел голштинцев»[632], — сообщал Шумахер. Беспокоиться действительно стоило. Любимые войска Петра не оказали сопротивления, но натерпелись страха. Посланный в Ораниенбаум генерал-поручик Василий Иванович Суворов, отец будущего фельдмаршала, оставил у голштинцев самые тяжелые воспоминания. Штелин негодовал: «Изверг сенатор Суворов кричит солдатам: „Рубите пруссаков!“ и хочет, чтобы изрубили всех обезоруженных солдат. Гусарские офицеры ободряют их и говорят: „Не бойтесь: мы вам ничего худого не сделаем“»[633].
Полковник Давид Сиверс, упорно путавший Василия Суворова с его сыном, тоже не остался в долгу и описал зверства: «В два часа по полудни [29 июня] произошла между нами, бедными воинами, печальная комедия. Прибыл русский генерал Суворов… с конногвардейцами и гусарским отрядом и потребовал, чтобы сдано было все вооружение… Все голштинское войско было согнано в крепостицу Петерштадт, откуда уже никого не выпускали. Этот жалкий Суворов держался правил стародавней русской подлой жестокости. Когда обезоруженных немцев уводили в крепостицу, он развлекался тем, что шпагою сбивал у офицеров шапки с голов и при этом еще жаловался, что ему мало оказывают уважения… Беспомощно провели мы целую ночь. Снова явился Суворов и начал распределять людей. Русским подданным велено оставаться, а Кронштадт назначен иностранцам, и каждому из них, в особенности пруссакам, досталось от Суворова по удару и толчку в затылок. Когда это кончилось, русские подданные должны были идти в церковь для присяги… а затем офицеры отпущены… по своим квартирам… В то время, как все мы находились в крепостице под стражею, воришки-гусары и кирасиры опустошили наши помещения, так что у иного оставалось только, в чем он был»[634].
Неприглядная картина. Но надо признать, что при настроениях, царивших в полках и городе, голштинцы еще легко отделались. Их унизили и обобрали, а могли убить.
«Урод наш очень занемог»
30 июня у свергнутого императора на нервной почве начались геморроидальные колики, которыми он страдал давно. К ним прибавилось расстройство желудка. Накануне Петр практически не ел. В Петергофе, по сведениям Шумахера, выпил только стакан вина, смешанного с водой. «При своем появлении в Ропше он уже был слаб и жалок, — писал датчанин. — У него тотчас же прекратилось сварение пищи, обычно проявлявшееся по несколько раз на дню, и его стали мучить почти непрерывные головные боли»[635]. Спал государь плохо — кровать оказалась неудобной, — и на следующий день ему доставили другую, из Ораниенбаума. При высоком росте арестанту подошло бы не всякое ложе.
Режим содержания крайне стеснял Петра: ему не позволяли ни гулять по саду, ни даже выглядывать во двор. Окна оставались завешанными. Выход в смежную комнату также возбранялся. Даже справлять нужду узник вынужден был в присутствии неизбежного часового, что при поносе оказалось особенно тяжело и унизительно. Ужас собственного положения заставил императора написать еще одно письмо Екатерине:
«Государыня. Я прошу Ваше величество быть во мне вполне уверенною, и благоволите приказать, чтобы отменили караулы у второй комнаты, ибо комната, где я нахожусь, до того мала что я едва могу в ней двигаться. Вы знаете, что я всегда прохаживаюсь по комнате, и у меня вспухнут ноги. Еще я Вас прошу, не приказывайте офицерам оставаться в той же комнате, так как мне невозможно обойтись с моей нуждой. Впрочем, я прошу Ваше величество обходиться со мной, по крайней мере, не как с величайшим преступником; не знаю, чтобы я когда-либо Вас оскорбил. Поручая себя Вашему великодушному вниманию, я прошу Вас отпустить меня скорее с назначенными лицами в Германию. Бог, конечно, вознаградит Вас за то, а я Ваш нижайший слуга Петр.
P. S. Ваше величество может быть во мне уверенной: я не подумаю и не сделаю ничего против Вашей особы и против Вашего царствования»[636].
Это письмо снова было написано по-французски. Узник немного пришел в себя и выражался с большим достоинством. Он свергнутый государь, а не «величайший преступник», и ничем не заслужил сурового обращения. Вопрос с отъездом в Голштинию казался ему решенным, раздражало только промедление. При этом в простоте душевной Петр не помнил обид, причиненных жене. В некоторых местах его тон насмешлив и даже требователен, несмотря на «нижайшие» просьбы и наименование себя «valet», что, как отмечали многие публикаторы, скорее — «холоп», чем «слуга».
С письмом в столицу отправился Петр Пассек. Судя по тому, что позднее узник все-таки выходил в смежную комнату, где играл с караульными в карты, режим его содержания был смягчен. Об этом же говорит другой факт: 1 июля арестант обратился к Екатерине с новой просьбой — доставить ему из Ораниенбаума негра Нарцисса, любимого мопса и скрипку.
Шумахер, среди многочисленных информаторов которого явно имелись и лица, присутствовавшие в Ропше, описал стесненное положение узника: «Окно его комнаты было закрыто зелеными гардинами, так что снаружи ничего нельзя было разглядеть. Офицеры… не разрешали ему выглядывать наружу, что он, впрочем, несколько раз тем не менее украдкой делал. Они вообще обращались с ним недостойно и грубо, за исключением одного лишь Алексея Григорьевича Орлова, который еще оказывал ему притворные любезности. Так, однажды вечером… он (Петр III. — О. Е.) играл в карты с Орловым. Не имея денег, он попросил Орлова дать ему немного. Орлов достал из кошелька империал и вручил его императору, добавив, что тот может получить их столько, сколько ему потребуется. Император… тотчас же спросил, нельзя ли ему немного погулять по саду, подышать свежим воздухом. Орлов ответил „да“ и пошел вперед, как бы для того, чтобы открыть дверь, но при этом мигнул страже, и она тут же штыками загнала императора обратно в комнату. Это привело государя в такое возбуждение, что он проклял день своего рождения и час прибытия в Россию, а потом стал горько рыдать»[637]. Из приведенного описания следует, что Алексей Орлов при всей «притворной любезности» издевался над арестантом не хуже остальных.
1 июля новый курьер Евграф Чертков известил Екатерину о просьбе императора прислать ему скрипку, негра и мопса. На этот раз личной записки Петра к жене не было. Что можно объяснить ухудшением его здоровья. Вероятно, он не вставал. Императрица отправила приказ В. И. Суворову: «Извольте прислать, отыскав в Ораниенбауме или между пленными, лекаря Людерса, да арапа Нарцисса, да обер-камердинера Тимлера; да велите им брать с собою скрипицу бывшего государя, его мопсинку собаку»[638]. Ни о своем лейб-медике Иоганне Готфриде Лидерсе (Людерсе), ни о камердинере Тимлере Петр не просил. Но раз ему прислуживал всего один лакей, то посылка второго естественна. Что же касается врача, то он необходим был с самого начала. Уже из письма мужа 30 июня императрица должна была понять: начался приступ колик.
Курьер остался в Петербурге, чтобы забрать с собой в обратный путь доктора, негра и камердинера с вещами. Однако, прибыв в столицу, Лидерс наотрез отказывался ехать. На его уламывание ушли сутки. «Согласно устному докладу о болезни императора Людерс выписал лекарства, но их не стали пересылать, — сообщал Шумахер. — Императрица стала уговаривать Людерса и даже велела ему ехать к своему господину… Людерс же опасался оказаться в совместном с императором продолжительном заключении и потому некоторое время пребывал в нерешительности. Только 3 июля около полудня ему пришлось волей-неволей усесться с мопсом и скрипкой в скверную русскую повозку, в которой его и повезли самым спешным образом»[639].
Почему лекарства не стали пересылать? Возможно, положение Петра до записки Орлова от 2 июля не считали особенно серьезным. А возможно, напротив, не хотели оказывать медицинской помощи, рассчитывая на летальный исход. Есть и третья вероятность: Екатерина надеялась быстро заставить Лидерса вспомнить о долге: сначала попросила, потом приказала. На третий раз могли и силой отвезти упрямого эскулапа к пациенту. Что, судя по описанию Шумахера, и произошло. Лидерс был личным врачом императора и хорошо знал болезни Петра, потому его приезд считался предпочтительным. Но пока он препирался, Екатерина подстраховалась, и в Ропшу отправили другого — лейб-медика Карла Федоровича Крузе.
Обвинить правительство в промедлении нельзя. Первое письмо Орлова из Ропши, где говорилось о болезни императора, было написано вечером 2 июля. Поручик Баскаков привез его в столицу ночью. Утром в Ропшу поспешил Крузе. А Лидерс, судя по описи Медицинской канцелярии, был вызван к действительному статскому советнику Г. Н. Теплову для внушения[640]. Откуда, надо полагать, его и отправили «около полудня» на «скверной русской повозке» с мопсом и скрипкой в Ропшу.
Итак, 2 июля, глядя на состояние императора, Алексей Орлов понял, что тот плох. «Матушка милостивая Государыня, — писал он, — здраствовать вам мы все желаем несчетные годы. Мы теперь по отпуске сего письма и со всею командою благополучны, толко урод наш очень занемог и схватила ево нечаянная колика. И я опасен, штоб он сиводнишную ночь не умер, а болше опасаюсь, штоб не ожил. Первая опасность для того, што он всио здор гаварит и нам ето несколко весело, а другая опасность, што он дествително для нас всех опасен для тово, што он иногда так отзывается, хотя в прежнем состоянии быть»[641].
Грубая казарменная шутка об «уроде», за которого боятся, как бы он не помер, а еще больше, как бы не ожил, конечно, задевает чувствительные сердца. Но следует обратить внимание на другие слова: «так отзывается, хотя в прежнем состоянии быть». Орлова пугало, что император иной раз забывался, начинал говорить в приказном тоне или грозить своим обидчикам карами, когда вернет корону. Из этого командир охраны делал резонный вывод: «он дествително для нас всех опасен».
2 июля в Ропшу привезли полугодовое жалованье для отряда охраны, за что Орлов поблагодарил государыню: «В силу именнова Вашего повеления я солдатам денги за полгода отдал… И солдаты некорые сквозь сльозы говорили про милость Вашу, што оне еще такова для Вас не заслужили за штоб их так в короткое время награждать».
Сам по себе привоз денег — факт настораживающий. Возможно, солдатам платили не за то, что они уже сделали, а за то, что должны сделать? Или о чем промолчать? Однако в названные дни обещанное полугодовое жалованье раздали всем полкам. В Петербурге командиры получали деньги для своих подчиненных так же, как Орлов в Ропше. Например, вернувшись с мызы в столицу, вахмистр Потемкин принял 14 014 рублей Для раздачи его 1085 нижним чинам[642]. Так что если ропшинский отряд и подкупали, то вместе с остальной гвардией.
Ночь на 3 июля прошла тревожно. «Урод» не умер, но и не ожил. Ему становилось все хуже, и, наконец, Алексей испугался по-настоящему. Шутки в сторону, свергнутый император готовился отдать Богу душу на его руках, а рядом не было ни врача, ни хотя бы человека, готового подтвердить, что не караульные извели августейшего арестанта.
Утром Орлов написал Екатерине тревожное письмо, адресовав его «Матушке нашей Всероссийской»: «Матушка наша милостивая государыня. Не знаю, што теперь начать, боюсь гнева от Вашего величества, штоб Вы чево на нас неистоваго подумать не изволили и штоб мы не были притчиною смерти злодея Вашего и всей Роси, также и закона нашего. А теперь и тот приставленной к нему для услуги лакеи Маслов занемог. А он сам теперь так болен што не думаю штоб он дожил до вечера и почти совсем уже в беспаметстве, о чем уже и вся команда здешнея знает и молит Бога штоб он скорей с наших рук убрался. А оной же Маслов и посланной офицер может Вашему величеству донесть в каком он состоянии теперь ежели Вы обо мне усумнится изволите. Писал сие раб ваш…»[643] Далее подпись, дата и, вероятно, приписка оторваны.
К последнему факту мы еще вернемся, а пока отметим, что Орлов испугался не зря. Екатерина действительно могла подумать на охрану «чево неистоваго». В письме Понятовскому она озвучила свои мысли: «Я боялась, что это офицеры отравили его, приказала произвести вскрытие, но никаких следов яда обнаружено не было»[644].
Алексей правильно угадал ход рассуждений государыни и, чтобы подтвердить свои слова, отправил вместе с офицером лакея Маслова. Причем последнегодовольно грубо затолкнули в карету. Шумахер сообщал: «Когда император немного задремал, этот человек вышел в сад подышать свежим воздухом. Не успел он там немного посидеть, как к нему подошел офицер и несколько солдат, которые тут же засунули его в закрытую русскую повозку. В ней его привезли в Санкт-Петербург и там выпустили на свободу. Людерс встретил его по дороге»[645].
Если бы Маслова сразу отвели к императрице, его увоз из Ропши не выглядел бы как устранение ненужного свидетеля.
«Подробности этих ужасов»
Поскольку Лидерс, встреченный Масловым по дороге, направлялся в Ропшу 3 июля, то письмо Орлова с упоминанием камер-лакея нетрудно датировать, несмотря на оторванный край. Авторство документа в данном случае легко определяется по почерку. А вот с припиской дело обстоит куда загадочнее.
В 1830 году министр Д. Н. Блудов, по приказу Николая I, разбирал документы, касавшиеся царствования Екатерины II. Составляя опись, он пометил, что в Пакете «Секретные письма первых дней июля 1762 г.», кроме прочего, содержались «два письма графа А. Г. Орлова к императрице Екатерине II-й, в последнем он ей объявляет о смерти Петра III»[646]. Итак, согласно блудовской описи, Алексей ставил Екатерину в известность о гибели мужа именно вторым письмом. А не третьим, как долгое время было принято считать.
К записи Блудова архивист советского времени сделал сноску и уточнение: «о внезапной болезни и ожидаемой его смерти. 1926 ноября 12». Конечно, в современном виде письмо говорит именно об «ожидаемой смерти». Но во времена Блудова имелся ныне утраченный фрагмент. Кто и зачем оторвал его между 1830 и 1926 годами, сейчас установить трудно. Но ряд исследователей склоняются к вполне обоснованному выводу, что известие о смерти Петра III содержалось именно в приписке к письму Орлова 3 июля.
Оторванный фрагмент невелик. Но, как верно заметил московский историк О. А. Иванов, много ли нужно места, чтобы написать: «Он умер»; или: «Все кончено»; «его больше нет». Шумахер утверждал, что убийцы вошли в комнату Петра III сразу после увоза слуги из Ропши. Это вступает в противоречие с письмом. Ведь его — вместе с уже имевшейся припиской — повезли в Петербург одновременно с Масловым. Значит, смерть постигла узника, когда лакей еще был в Ропше, и ощущение, будто его арестовали и втолкнули в карету, не обманчиво. Только так можно объяснить, что по приезде в столицу Маслова отпустили в город, а не доставили к Екатерине. Весь основной текст письма, где Орлов ссылался на лакея, как на свидетеля болезни императора, потерял смысл. Важным стало только сообщение в приписке.
Ситуацию проясняет донесение Беранже 10 августа, где, рассказывая об убийстве, дипломат замечал: «Подробности этих ужасов известны, главным образом, от русского камер-лакея, верного Петру III в его опале, который по возвращении в Петербург признался своему ближайшему другу о своих сожалениях от потери своего хозяина и об истории его злосчастий. Этот самый камер-лакей был схвачен и препровожден ко Двору, где священник с крестом в руке заставил его поклясться, что он сохранит тайну того, чему он был свидетелем»[647]. Таким образом, Маслов покинул Ропшу уже после гибели господина. О ее подробностях мы поговорим ниже, а пока остановимся на дате.
Злополучная приписка заставляет сдвинуть кончину императора с 6 июля на более ранний срок. Чему источники немедленно дают множество подтверждений.
Так, Штелин в своем дневнике отметил: «5-го кончина императора Петра III-го»[648]. Объяснить эту фразу ошибкой или опиской нельзя, потому что далее следуют записи за 6,8,9 июля. Официальный Манифест о кончине государя опубликовали только 7 июля, но в город, где находился профессор, проникали слухи и, видимо, 5 июля они достигли его ушей.
5-м же числом датирован секретный приказ В. И. Суворова майору А. Пеутлингу «немедленно вынуть из комнат… бывшего государя мундир голстинский кирасирский, или пехотный, или драгунский, который только скорее сыскать сможете… и прислать оный мундир немедленно». Генерал предписывал «стараться», чтобы «оный мундир… видеть ниже приметить кто [не] мог, и сюда послать, положа в мешок и запечатать, и везен бы был оный сокровенно»[649]. Таким образом, 5 июля уже были предприняты тайные приготовления к погребению Петра.
Когда в столицу просочились первые слухи о случившемся? Позье писал по этому поводу: «После заарестования Петра III императрица, возвратившись в город, распустила все войска, до тех пор стоявшие шпалерами вдоль улиц, и все избавились от страха. Три дня спустя мы узнали о смерти несчастного императора, описывать подробности которой я не стану»[650]. Екатерина вернулась в Петербург 30 июня. «Три дня спустя» — это 3 или 4 июля. Если ювелир не ошибся, то он получил новость с пылу с жару, что при его широких знакомствах вполне возможно. Тогда же, видимо, появились и первые «подробности», которые доброму бриллиантщику так не хотелось помещать в свои мемуары.
В уже цитированном донесении Беранже 10 августа дипломат сообщал, что «через четыре или пять дней после свержения» к Петру отправился некий таинственный Тервю (Tervu), «заставивший его силой глотать микстуру, в которой он растворил яд, коим хотели убить его… Яд не произвел скорого действия и тогда решили его задушить»[651]. Под Тервю некоторые исследователи предлагают понимать Г. Н. Теплова, действительно участвовавшего в ропшинской драме. Но сейчас нас интересует дата. 29-е, 30-е, 1-е, 2-е, 3-е — это и есть «четыре или пять дней после свержения», смотря от какого числа считать и на каком остановиться.
Рюльер, рассказывая о событиях в Ропше, писал: «Уже прошло 6 дней после революции»[652]. То есть — 28-е, 29-е, 30-е, 1-е, 2-е, 3-е — если дипломат считал собственно от переворота. Если от отречения Петра, то надо начать с 29-го и окончить 4 июля. Дата 6 июля никак не следует ни из одного источника.
3 июля прямо названо у Шумахера, чья версия в настоящий момент вызывает наибольшее доверие специалистов: «Удушение произошло вскоре после увоза Маслова — это следует из того, что как придворный хирург Людерс, так и отправленный в тот же день в Ропшу придворный хирург Паульсен застали императора уже мертвым. Стоит заметить, что Паульсен поехал в Ропшу не с лекарствами, а с инструментами и предметами, необходимыми для вскрытия и бальзамирования мертвого тела, вследствие чего в Петербурге все точно знали, что именно там произошло»[653].
Русское издание «Записок» Ассебурга, появившееся в «Русском архиве» в 1879 году, имеет по сравнению с берлинской публикацией 1842 года ряд небольших сокращений. Так, в перевод не попало примечание посла к топониму Ропша. Датчанин писал: «Известно, что государь погиб там 3/14 июля 1762 г.»[654]. А ведь дипломат прямо ссылался на Панина, с которым был очень дружен еще со времен службы в Стокгольме.
Мы помним, что последнее приказание в Шлиссельбург было отправлено императрицей 2 июля. Подпоручик Плещеев повез туда вещи для обустройства нового узника и должен был остаться до следующего указа. Но никаких распоряжений не пришло. Приготовление крепости к приему Петра с 3-го замерло. А 10 июля на место вернулся «безымянный колодник» Иван Антонович. Охлаждение к Шлиссельбургу также свидетельствует в пользу более ранней даты смерти императора.
Учитывая приведенные факты, прочтем новыми глазами описание смерти Петра III в письме Понятовскому: «Страх вызвал у него боли в животе, длившиеся три дня и разрешившиеся на четвертый. Он пил в этот день непрерывно, ибо у него было все, чего он желал, кроме свободы… Геморроидальная колика вызвала мозговые явления, он пробыл два дня в этом состоянии, последовала сильнейшая слабость и, невзирая на все старания врачей, он отдал Богу душу»[655]. Как видим, Екатерина нигде не назвала конкретной даты, более того — даже не сказала, что перечисленные дни шли друг за другом. Сначала три дня болей в животе, потом четвертый — пьянство, и еще два дня неких «мозговых явлений». Текст позволяет считать и иначе. Трое суток желудочных болей с поносом — 30-е, 1-е, 2-е. Шумахер отмечал, что с самого приезда, то есть параллельно с резью в животе, у императора болела голова. Страдания накладывались друг на друга, а с ними и дни. В письме от 2 июля Орлов сообщил о геморроидальной колике. Два дня этого бедствия как раз и занимают 2 и 3 июля. Недаром императрица проронила, что беды разрешились «на четвертый», и, таким образом, все-таки отметила день смерти мужа.
Если это рассуждение кажется натянутым, вчитаемся в Манифест. Там тоже удивительным образом отсутствует дата смерти. Екатерина говорит только: на седьмой день после «принятия престола» — то есть 4 июля — получила известие, что бывший император «обыкновенным и прежде часто случавшимся ему припадком геморроидическим впал в прежестокую колику». Такое утверждение не исключает получения ею других, более ранних сведений. Фраза: «Тотчас повелели отправить к нему все, что потребно было» — тоже не говорит точно о времени отъезда врачей. Единственная отсылка к дате: «Вчерашнего дня получили Мы другое [известие], что он волею Всевышнего Бога скончался»[656] — не сообщает главного: когда скончался.
Екатерина была мастером подобного «темного» стиля. Если она не хотела чего-то говорить, из нее клещами невозможно было вытянуть ни правду, ни прямую ложь. Ее тексты могут производить обманчивое впечатление именно благодаря умело опущенным подробностям. Но поймать императрицу за руку невозможно. Любопытно, что и Дашкова в «Записках» не назвала точной даты смерти Петра.
Из всей совокупности источников прямо день смерти Петра — 6 июля — не указан ни в одном. Его путем подсчетов выводили из Манифеста, но конкретных чисел там нет. Повторенная в сотнях научных работ дата воспринимается как несомненная. Между тем ее нечем подтвердить.
«Не было коварства»
Уточненная дата гибели Петра III — последняя информация, которую можно проверить путем сопоставления источников. Далее мы вступаем в сферу гипотез. Их нельзя подтвердить, и выбор часто зависит от субъективных исторических симпатий и антипатий автора. Добросовестный исследователь должен признать, что в настоящий момент невозможно с точностью сказать, что именно произошло в Ропше. Основных версий три. На наш взгляд, предпочтительнее познакомить читателя со всеми, чем отводить страницы под вольную реконструкцию размышлений Екатерины и Орловых[657] или Панина[658]. Без опоры на документы подобные упражнения — интеллектуальная игра. Не более.
Официальная версия случившегося была изложена в Манифесте 7 июля 1762 года. Удивительно, но причина смерти императора там тоже не названа, как и дата. «Объявляем через сие всем верным подданным. В седьмой день после принятия Нашего Престола Всероссийского получили Мы известие, что бывший Император Петр Третий обыкновенным и прежде часто случавшимся ему припадком геморроидическим впал в прежестокую колику. Чего ради, не презирая долгу Нашего Христианского и заповеди Святой, которою мы одолжены к соблюдению жизни ближнего своего, тотчас повелели отправить к нему все, что потребно было к предупреждению следств из того приключения, опасных в здравии его, и к скорому вспоможению врачеванием. Но к крайнему Нашему прискорбию и смущению сердца, вчерашнего дня получили Мы другое, что он волею Всевышнего Бога скончался. Чего ради Мы повелели тело его перевести в монастырь Невский, для погребения».
Как видим, текст сообщает только, что Петр заболел геморроидальной коликой. А отчего умер — умалчивает. Логически можно сделать вывод, что смерть — результат болезни. Но логика читающего и логика пишущего — разные вещи. Причина болезни и причина смерти не всегда совпадают, особенно если предполагается насильственный уход из жизни. Смысловой пропуск сделан между заявлением об отправке врачей и получением известия о кончине.
В письме Понятовскому Екатерина добавила информации, но поступила с ней так же, как в Манифесте, — выпустив важный фрагмент. Говоря о результатах вскрытия, она сообщала: «Его желудок был здоров; его унесло воспаление кишок и апоплексический удар. Его сердце оказалось на редкость крошечным и совсем слабым»[659]. В другом переводе: «крайне мало и совсем сморщено»[660]. Здесь же вместо «мозговые явления» уточнено: «геморроидальные колики вместе с приливами крови к мозгу». Одно вовсе не обязательно вызвано другим, скорее оба симптома — параллельны.
К несчастью, протокол вскрытия отсутствует. Возможно, он вовсе не составлялся, учитывая экстраординарные обстоятельства. Но маленькое сморщенное сердце — деталь, которая появилась в письме неслучайно. Как отметил А. Б. Каменский, она представляет собой отпечаток некой не придуманной информации. Крошечное сердце означает нарушение кровообращения, которым Петр III страдал из-за своего чрезмерно высокого роста, как впоследствии его внук Николай I, также жаловавшийся на желудочные колики, а временами — на адские мигрени, заставлявшие императора по несколько часов лежать без движения[661]. Эти болезни — суть семейные. И зная, как они протекали у внука, можно кое-что предположить и о деде.
Одновременно с болями в кишечнике и расстройством желудка у узника начались приливы крови к мозгу, результатом которых стал апоплексический удар. Последний возможен как результат нервного потрясения и душевных переживаний ежедневно усугублявшихся условиями содержания и грубостью охраны. Петр еще в бытность великим князем не терпел принуждения, даже сравнительно мягкий елизаветинский надзор вызывал в нем гнев и раздражение. Теперь же он — всегда рвавшийся на свободу — оказался в настоящем заключении: втиснут в маленькую комнатку, ограничен запретами, изводим издевками. При имевшейся предрасположенности вполне достаточно для инсульта — «мозгового удара». Внезапное кровоизлияние в мозг проявляется как раз головной болью, рвотой, расстройством сознания, которые, судя по описаниям, у Петра были.
В письме Понятовскому пропуск информации сделан в совсем короткой фразе: «Его унесло воспаление кишок и апоплексический удар». Опущена причина удара. До тех пор, пока третье письмо Алексея Орлова из Ропши считалось подлинным, оно удачно закрывало эту брешь:
«Матушка милостивая Государыня. Как мне изъяснить, описать, что случилось: не поверишь верному своему рабу, но как перед Богом скажу истину. Матушка! Готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты немилуешь. Матушка, его нет на свете. Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на Государя! Но, Государыня, свершилась беда. Мы были пьяны, и он тоже. Он заспорил за столом с князем Федором, не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали; но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня хотя для брата. Повинную тебе принес, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил, прогневили тебя и погубили души на век»[662].
Очень эмоциональное письмо. Хочется, чтобы оно имело реальный протограф. Потому что переданные в нем чувства — подлинные. Только очень предвзятый взгляд видит в корявых выражениях Алексея пьяные излияния. После того как на ваших глазах, или лучше — в ваших руках — умер император, поневоле протрезвеешь. Потрясение, растерянность, непонимание, как могло случиться то, что случилось — вот что сквозит в строках записки. Безоговорочное признание вины — нам доверили караулить, нам и отвечать — очень по-русски и в характере знаменитых братьев. Страх и просьба о помиловании — одному себе, что малодушно, учитывая общую вину. Намек на фавор брата — вещь немыслимая, объяснить которую можно только крайним расстройством чувств. Наконец, «свет не мил», «прикажи скорее окончить», «погубили души на век» — точно пойманное ощущение — тошно жить после содеянного. Недаром В. А. Плугин, посвятивший Алексею Орлову книгу, был так привязан к этому письму и отстаивал его психологическую достоверность[663]. Выводы ученого фактически смыкались с выводами биографа Екатерины II А. Б. Каменского о непреднамеренности убийства.
Ведь если взять текст Орлова отдельно от рассказа Рюльера, где нарисована красочная картина удушения, то окажется, что Алексей настаивал на несчастном случае и явно недопонимал, как все произошло. Третью записку рано начали называть признанием в убийстве, что подтверждала и Дашкова. Их с Алексеем разделяла вражда, но, сказать по чести, после гибели Петра III брат фаворита очутился в положении, какого и врагу не пожелаешь. Комментарий Екатерины Романовны на приведенный документ лишен тени сочувствия: «Он писал как лавочник, а тривиальность выражений, бестолковость, объясняемая тем, что он был совершенно пьян, его мольбы о прощении и какое-то удивление, вызванное в нем этой катастрофой, придают особенный интерес этому документу для тех людей, кто пожелал бы рассеять отвратительные клеветы, в изобилии возводимые на Екатерину II… Пьяный, не помня себя от ужаса, Алексей отправил это драгоценное письмо Ее величеству тотчас же после смерти Петра. Когда, уж после кончины Павла, я узнала, что это письмо не было уничтожено… я была так довольна и счастлива, как редко в моей жизни»[664].
Что заставило княгиню радоваться? Доказательство вины старого врага? Подтверждение невиновности подруги? Или чувство облегчения, ведь ее собственное имя тоже косвенным образом связывали с событиями в Ропше? Загадка состоит в том, что Павел I наказал Дашкову за участие в перевороте куда строже, чем Орлова — предполагаемого убийцу. Екатерину Романовну отправили в дальнюю бессрочную ссылку, в глухую деревню, под надзор полиции. А Алексею после участия в торжественном перезахоронении останков Петра III, где он нес корону, позволили уехать с официальной любовницей и дочерью в заграничное путешествие «на лечение». Он даже не потерял чинов. Странная избирательность. Похоже, сын убитого знал больше, чем современные исследователи.
Если вчитаться, то записка Орлова снимала вину не только с Екатерины, но отчасти и с караульных офицеров. Преступная халатность — вовсе не то злодеяние, которое возлагают на них вот уже более двух с половиной веков.
А. Б. Каменский так реконструировал ход событий: во время обеда между подвыпившими караульными и узником возникла ссора и драка. По природе Петр был трусом. Нападение на него дюжих гвардейцев должно было его смертельно испугать, результатом чего стал апоплексический удар[665]. Надо отдать должное исследовательскому мужеству Александра Борисовича: он открыто не согласился с господствующей версией, понимая, что будет подвергнут суровой критике, основанной не столько на фактах, сколько на боязни отступить от сложившегося стереотипа.
Судя по всему, Екатерина внутренне придерживалась именно этой версии. Заметим — не официальной, а той, что как бы подложена под официальную. Характеризуя в письме Дидро свое отношение к книге Рюльера, императрица писала в 1768 году: «Во всем этом не было коварства, а всему причиною дурное поведение известной личности, без чего, конечно, с ним ничего не могло бы случиться»[666]. Что имелось ввиду? Переворот в целом или гибель? Для императрицы оба утверждения были верны. Неправильное поведение «полоумного» мужа за столом спровоцировало охрану. А «дурное» поведение на престоле — бунт.
Однако есть момент, который не укладывается в данную картину. Из второго письма Орлова видно, что Петр уже не вставал: «А он сам теперь так болен, что не думаю, чтоб он дожил до вечера, и почти совсем уже в беспамятстве». Это написано утром 3 июля. И вдруг застолье, «непрерывное» питье. С человеком в беспамятстве?
Законен вопрос: а была ли трапеза?
«Они употребили насилие»
Тут на помощь приходит услужливая версия Рюльера. Она все расставляет на свои места. Всему дает объяснение.
Согласно рассказу секретаря французского посольства, Алексей Орлов и статский советник Григорий Николаевич Теплов, приближенный гетмана, сначала попытались отравить императора, а потом удушили его. Они «пришли вместе к несчастному государю и объявили, что намерены с ним обедать. По обыкновению русскому перед обедом подали рюмку с водкою, и подставленная императору была с ядом. Потому ли, что они спешили доставить свою новость, или ужас злодеяния понуждал их торопиться, через минуту они налили ему другую. Уже пламя распространилось по его жилам, и злодейство, изображенное на их лицах, возбудило в нем подозрение — он отказался от другой; они употребили насилие, а он против них оборону. В сей ужасной борьбе, чтобы заглушить его крики, которые начинали раздаваться далеко, они бросились на него, схватили его за горло и повергли на землю. Но он защищался всеми силами, какие придает последнее отчаяние, и они… призвали к себе на помощь двух офицеров, которым поручено было его караулить и которые в сие время стояли у дверей вне тюрьмы. Это был младший князь Барятинский и некто Потемкин, 17-ти лет от роду… Они прибежали, и трое из сих убийц, обвязав и стянувши салфеткою шею сего несчастного императора (между тем как Орлов обеими коленями давил ему на грудь и запер дыхание), таким образом его душили, и он испустил дух в руках их.
Нельзя достоверно сказать, — продолжал Рюльер, — какое участие принимала императрица в сем приключении; но известно то, что в сей самый день, когда сие случилось, государыня садилась за стол с отменною веселостью. Вдруг является тот самый Орлов — растрепанный, в поте и пыли, в изорванном платье, с беспокойным лицом, исполненным ужаса и торопливости, его сверкающие и быстрые глаза искали императрицу. Не говоря ни слова, она встала, пошла в кабинет, куда и он последовал; через несколько минут она позвала к себе графа Панина, который был уже наименован ее министром. Она известила его, что государь умер, и советовалась с ним, каким образом объявить о его смерти народу. Панин советовал пропустить одну ночь и на другое утро объявить сию новость, как будто сие случилось ночью. Приняв сей совет, императрица возвратилась с тем же лицом и продолжала обедать с тою же веселостью. Наутро, когда узнали, что Петр умер от геморроидальной колики, она показалась орошенная слезами и возвестила печаль своим указом»[667].
Это описание хрестоматийно. Оно стало известно раньше других источников и использовалось гораздо чаще. Большинству авторов, касавшихся смерти Петра III мимоходом, не углубляясь в детали, хватало цитаты Рюльера и третьего письма Орлова из Ропши, чтобы представить полную картину преступления. Мы упоминали, что секретарь французского посольства читал отрывки из своей книги в салоне госпожи Жоффрен в Париже. Дидро, выступившему в роли доверенного лица Екатерины II, удалось уговорить автора за известную сумму не публиковать книгу до смерти императрицы, и труд Рюльера вышел только в 1797 году. Но до этого он был широко известен в списках, его обсуждали и Вольтер, и Дашкова, и Фальконе…
Многочисленные французские и немецкие авторы, писавшие о перевороте 1762 года — Корберон, Кастера, Гельбиг, Массон и т. д., — основывались главным образом на рассказе Рюльера. Перед дипломатами и путешественниками, посетившими Россию позднее, секретарь имел большое преимущество — он находился в Петербурге в момент событий и собирал информацию с пылу с жару. Те, кто приехал позже, тоже могли подцепить любопытные детали, ведь действующие лица были еще живы. Однако сейчас трудно сказать, что в рассказах поздних авторов — эпигонов Рюльера — новые факты, а что игра живого воображения.
Дотошное сопоставление вариантов этой истории дано в работе В. А. Плугина. Ученый показал, что все они восходят к тексту Рюльера. Именно его следует считать протографом — материковой плитой, на которую нарос слой осадочных отложений. Поэтому будет справедливо называть рассказ об удушении Петра III Алексеем Орловым версией Рюльера.
В Европе она стала использоваться сразу, поскольку не подпадала под цензурные ограничения и хорошо ложилась в канву памфлетной литературы. К ней прибегали не только иностранные, но и русские авторы, публиковавшиеся за границей. Ее не обошли вниманием А. И. Герцен и А. Н. Тургенев, принимая как единственно возможный вариант развития событий. Так, последний писал, отчасти повторяя даже обороты Рюльера: «Трудно не задаться вопросом, каково было участие самой Екатерины в смерти своего мужа. Совершили ли это преступление ее сеиды по ее повелению, или, подобно внуку Александру, она лишь воспользовалась благами уже совершившегося при ее попустительстве?»[668]
Внешняя беспристрастность этих слов вряд ли может обмануть читателя. Приговор уже вынесен и подкреплен более поздним примером. Хотя в обоих случаях достоверных сведений нет.
В России историки, касаясь событий 1762 года, обычно ограничивались простой констатацией факта смерти Петра III, не вдаваясь в подробности. Так, С. М. Соловьев позволил себе лишь уточнить, что кончина была «насильственной», а В. О. Ключевский кратко пересказал события по третьей записке Орлова.
Первым проговорил версию Рюльера В. А. Бильбасов, издавший свою книгу о Екатерине II сначала в Берлине в 1900 году, а затем в Петербурге в 1904-м. Публикатор и знаток источников екатерининской эпохи, Бильбасов обладал солидным авторитетом и одним своим именем придавал вес приводимым фактам. Возможность, наконец, сказать в России прямо то, что в течение долгих десятилетий находилось под запретом, настолько очаровала автора, что он пренебрег свидетельствами, не укладывавшимися в концепцию. Бильбасов реконструировал ход размышлений Екатерины и Орловых, отталкиваясь от убеждения в их виновности. Этот публицистический пассаж оказал основополагающее влияние на дальнейшую отечественную литературу. Повторить за Бильбасовым значило повторить за мастером. Между тем ученому были известны и «Записки» Шумахера, назвавшего других убийц, и сообщение Панина об обстоятельствах смерти Петра III, записанное его родственницей фрейлиной В. Н. Головиной.
От рассказа о бытовании версии Рюльера стоит вернуться к ее сути. Секретарь французского посольства являлся очень осведомленным собирателем информации. Не будучи непосредственным свидетелем событий, он тем не менее снимал сливки в беседах высокопоставленных лиц и не раз попадал в десятку. Хотя случались и промахи. Они особенно заметны в том, что касалось гвардейских заговорщиков — вероятно, у дипломата не было информаторов из этой среды.
В настоящий момент узнать всех осведомителей Рюльера невозможно. Многое француз почерпнул из разговоров с Дашковой. В ее «Записках» приведен любопытный парижский эпизод: «Когда Дидро был у меня вечером, мне доложили о приезде Рюльера… Он бывал у меня в Петербурге… Я не знала, что по возвращении своем из России он составил записку о перевороте 1762 года и читал ее повсюду в обществе». Княгиня хотела принять Рюльера, но Дидро остановил ее, пересказав содержание книги: «Вас он восхваляет, и, кроме талантов и добродетелей вашего пола, видит в вас и все качества нашего; но он отзывается совершенно иначе об императрице… Вы понимаете, что, принимая Рюльера у себя, вы тем самым санкционировали бы сочинение, внушающее беспокойство императрице и очень известное в Париже». В результате этого предупреждения, заключает Дашкова, «я закрыла свою дверь перед старинным знакомым, оставившим во мне самые приятные воспоминания»[669].
Чтение «Анекдотов» Рюльера вызвало у княгини неподдельный гнев. Дело не в том, что автор приписал ей дамские и мужские добродетели. Образ Екатерины Романовны под пером французского дипломата приобрел недопустимую фривольность, что покоробило героиню. Она хотела выглядеть так, как выглядит в «Записках». Рюльер же вплел в повествование множество сплетен, услышанных при дворе. Дашкова не поленилась составить примечания к тексту дипломата, но практически все они касались ее лично. Значит ли это, что остальное было передано верно?
Думаем, что в целом текст «Анекдотов» не противоречил тому представлению о перевороте и тем характеристикам главных действующих лиц, которые сложились в кругу Дашковой. Более того — был во многом спровоцирован разговорами с нею. Именно Екатерина Романовна после кончины свергнутого царя назвала Алексея Орлова виновным: «Когда получилось известие о смерти Петра III, я была в таком огорчении и негодовании, что, хотя сердце мое и отказывалось верить, что императрица была сообщницей преступления Алексея Орлова, я только на следующий день превозмогла себя и поехала к ней. Я нашла ее грустной и растерянной, и она мне сказала следующие слова: „Как меня взволновала, даже ошеломила эта смерть!“ — „Она случилась слишком рано для Вашей славы и для моей“, — ответила я. Вечером в апартаментах императрицы я имела неосторожность выразить надежду, что Алексей Орлов более чем когда-либо почувствует, что мы с ним не можем иметь ничего общего, и отныне не посмеет никогда мне даже кланяться»[670]. Если подобное говорилось в глаза Екатерине, то что же звучало за ее спиной?
Рассказ Панина о перевороте, переданный Ассебургом, обрывается на встрече Никиты Ивановича и Петра III в Петергофе. Остается сожалеть, что осторожный вельможа ничего не поведал дальше. Однако нужный фрагмент — как бы окончание повести — содержится в мемуарах Варвары Головиной.
«Решено было отправить Петра III в Голштинию, — писала фрейлина. — Князю Орлову и его брату, графу Алексею, пользовавшимся в то время милостью императрицы, поручили увезти его. В Кронштадте подготавливали несколько кораблей. Петр должен был отправиться с батальоном, который он сам вызвал из Голштинии. Последнюю ночь перед отъездом ему предстояло провести в Ропше, недалеко от Ораниенбаума… Приведу здесь достоверное свидетельство, слышанное мною от министра графа Панина… Как воспитатель Павла, он надеялся забрать в свои руки бразды правления во время регентства Екатерины, но его ожидания не сбылись. Та энергия, с которой Екатерина захватила власть, обманула его честолюбие, и он всю свою жизнь не мог забыть этого. Однажды вечером, когда мы были у него вместе с его родственниками и друзьями, он рассказывал множество интересных анекдотов и так незаметно дошел до убийства Петра III: „Я находился в кабинете у Ее величества, когда князь Орлов явился доложить ей, что все кончено. Она стояла посреди комнаты; слово ‘кончено’ поразило ее. ‘Он уехал?’ — спросила она вначале, но, услыхав печальную новость, упала в обморок. Потрясение было так велико, что какое-то время мы опасались за ее жизнь. Придя в себя, она залилась горькими слезами. ‘Моя слава погибла! — восклицала она. — Никогда потомство не простит мне этого невольного преступления!’ Надежда на милость императрицы заглушила в Орловых всякое чувство, кроме одного безмерного честолюбия. Они думали, что, если уничтожат императора, князь Орлов займет его место и заставит государыню короновать себя“»[671].
Корабли, о которых вспоминала Головина, готовились для отправки в Германию голштинских гвардейцев Петра III. Возможно, на первых порах среди заговорщиков витала мысль отпустить на родину и свергнутого государя. Но она отпала уже 29 июня, когда Екатерина приказала привести в порядок комнаты в Шлиссельбурге.
Простим фрейлине мелкие неточности, неизбежные в мемуарах человека, который сам не был свидетелем событий. Из ее текста следует важная информация: обвинения в адрес Орловых распространял именно Панин, причем делал это методично, как сразу после убийства Петра III, так и по прошествии многих лет. Надо отдать графу должное: он сумел вплавить выгодную трактовку событий в сознание современников. Рассказ Рюльера — эхо разговоров в кругу Никиты Ивановича и Екатерины Романовны.
«Все сделали Орловы»
Следует понимать, в чем именно состоял интерес каждого из участников драмы. Такой хладнокровный, расчетливый политик, как императрица, не мог не задумываться о дальнейшей судьбе Петра III. «Мысль об убийстве если и приходила ей в голову, то наверняка сразу же была отвергнута, — рассуждал Каменский. — Цареубийство не вписывалось в ту систему моральных ценностей, на которую Екатерина собиралась опираться»[672]. Как будто то же самое писала Дашкова, защищая подругу: Екатерина II «хотя и была подвержена многим слабостям, но не была способна на преступление»[673].
Фридрих II, вначале назвавший нашу героиню новой Марией Медичи, намекая на сговор королевы с убийцей ее мужа Генриха IV, позднее пришел к иному выводу. «Рюльер ошибся, — сказал он графу Луи де Сегюру. — …Все сделали Орловы… Императрица не ведала об этом злодеянии и известилась о нем с неподдельным отчаянием; она верно предчувствовала тот приговор, который ныне изрекает против нее весь свет»[674].
С отзывом Фридриха совпадает история, переданная женевцем Пиктэ, много лет прослужившим в доме Г. Г. Орлова сначала в качестве учителя французского языка, затем доверенного лица. В 1776 году новый французский посол М. Д. Корберон записал с его слов: «Рассказывая о кончине Петра III, он уверял меня, что императрица никогда не замышляла его убийства и узнала о нем только после его совершения. Орловы взяли на себя задачу заставить государя так рано покончить счеты с жизнью и царствованием… Это единственное преступление, в котором можно упрекнуть Орлова, и притом необходимое, так как в противном случае неизбежная гибель грозила как Орлову, так и императрице»[675]. Если в сообщении женевца содержится доля правды, то вот слова, которыми Петр III мог вывести из себя офицеров охраны: дайте срок, я верну корону, и тогда ни Екатерине, ни Орлову не жить.
Однако бояться восстановления свергнутого самодержца на троне и отдать приказ о его убийстве — разные вещи. «Я не верю, — писал Беранже 23 июля, — что принцесса сия столь злосердечна, чтобы быть причастной к смерти царя. Но поелику глубочайшая тайна всегда будет скрывать от общества истинного вдохновителя ужасного сего покушения, подозрения так и останутся на императрице, которой достался плод от содеянного»[676]. Золотые слова.
Шумахер попытался намекнуть на «вдохновителя»: «Нет, однако, ни малейшей вероятности, что это императрица велела убить своего мужа. Его удушение, вне всякого сомнения, дело некоторых из тех, кто вступил в заговор против императора и теперь желал навсегда застраховаться от опасностей, которые сулила им и всей новой системе его жизнь, если бы она продолжалась»[677].
Мы согласны с подобными суждениями. Однако найдется немало людей, думающих иначе. Вернувшийся Бретейль писал 28 октября о Екатерине: «Ее жизненное правило таково, чтобы ни перед чем не отступаться, коль скоро решение уже принято, и она твердо уверена, что лучше совершить зло, нежели менять свои намерения. А тех, кто впадает в нерешительность, почитает она истинными глупцами»[678]. Это сказано именно по поводу кончины Петра III.
Разброс суждений современников заставляет нас исходить не из моральных качеств Екатерины, а из соображений выгоды. Именно они, по мысли многих, красноречивее отсутствующих источников свидетельствуют в пользу виновности императрицы.
Исчезновение Петра снимало вопрос о его возможном возвращении на престол. Наиболее простой и безопасный способ уничтожить бывшего императора представлялся в ходе переворота, особенно 29 июня, после отречения, по прибытии в Петергоф. Здесь пьяная толпа солдат могла разорвать царя, к чему не раз показывала охоту. Винить было бы некого: подданные восстали и растерзали тирана. Расследование ограничилось бы наказанием некоторого числа нижних чинов.
Почему же такой удобный случай был упущен? Видимо, в тот момент Екатерина считала отправку в Шлиссельбург лучшим решением проблемы. Что касается ее оппонентов, обсуждавших способы устранения царя еще до переворота — сгорел на пожаре, заколот на прогулке, — то для них мгновенная смерть врага не представляла выгоды. Если бы император погиб 29-го, это укрепило бы позиции Екатерины — она осталась бы невиновной, ее нечем было бы шантажировать, вымогая ограничения власти в пользу сына или Совета.
Приемлемой являлась и смерть Петра в отдаленной перспективе — несколько месяцев, год, два. Столько, сколько потребуется для укрепления Екатерины на престоле. Петр отличался слабым здоровьем, его кончина в крепости никого бы не удивила. Переворот давно миновал, войска успокоились. Чтобы вызвать новый взрыв, нужно много агитировать и дорого заплатить. Это совсем не то же самое, что будоражить полки еще в процессе бунта.
Наша героиня была очень терпеливым человеком. Обычно вспоминают, что Елизавета Петровна в течение двадцати лет не посягала на жизнь Ивана Антоновича. Но и у Екатерины под боком находился целый букет претендентов. До 1764 года тот же «безымянный колодник», что и у тетушки. После его смерти двое братьев и две сестры Ивана — Брауншвейгское семейство, — которые имели на престол не меньше прав, чем несчастный император-младенец. Много лет в московском монастыре проживала молчальница, которую принято считать настоящей дочерью Разумовского и Елизаветы — Августой Таракановой. Наконец, 34 года рядом с матерью находился Павел — самый опасный претендент на корону. Заговор в его пользу существовал постоянно. На этом фоне можно было какое-то время потерпеть и Петра III в Шлиссельбурге.
Шумная, скандальная гибель свергнутого царя — убийство едва ли не при всем честном народе — налагала на Екатерину несмываемое пятно. И могла спровоцировать ее свержение. Гвардия, город, армейские полки — все пока бурлило. В мгновение ока императрица из «Матушки» превращалась в «поганую», как назовут ее солдаты во время одного из ночных возмущений. Вся с таким трудом завоеванная популярность оказалась пущена по ветру.
Если драма в Ропше была спланирована Екатериной, то это грубейший политический просчет. Он ударял не только по ней, но в первую очередь по Орловым — ее опоре. Очевидная вина братьев лишала их любви и доверия солдат. Выбивая почву из-под ног ближайших соратников, Екатерина губила и себя.
Недаром после распространения страшных слухов императрица в письмах Понятовскому буквально кинулась защищать Орловых — не называя их имен и не указывая, в чем они обвиняются. «Это действительно герои, готовые пожертвовать за родину своими жизнями, люди столь же уважаемые, сколь и достойные уважения», — писала она 12 сентября. «Понятия не имею, что говорят о тех, кто окружает меня, — продолжала Екатерина 11 ноября, — но я достоверно знаю, что это не презренные льстецы и не трусливые или низкие души. Мне известны их патриотические чувства, их любовь к добру, осуществляемая и на практике. Они никого не обманывают и никогда не берут денег за то, что доверие, каким они пользуются, дает им право совершить. Если, обладая этими качествами, они не имеют счастья понравиться тем, кто предпочел бы видеть их коррумпированными — черт возьми, они и я, мы обойдемся без этого стороннего одобрения»[679].
Так защищают только очень любимых и нужных людей. Потеряй императрица поддержку в лице знаменитых братьев со товарищи, и она потеряла бы завоеванный статус.
Принимая решение об убийстве Петра III, в первую очередь следовало продумать, как отвести подозрение от Орловых. Кого подставить под удар вместо них. Однако тяжесть греха пала именно на Алексея и, как следствие, на саму Екатерину.
Головина передала, как в обществе представляли себе логику Орловых: «Они думали, что, если уничтожат императора, князь Орлов (Григорий. — О. Е.) займет его место и заставит государыню короновать себя». Но для этого нужно остаться в стороне от убийства. Сокрыть свое участие. В противном случае не видать ни брачного венца, ни шапки Мономаха. Что и случилось, поскольку Орловы в качестве убийц оказались выставлены на всеобщее обозрение. И первое, чего лишились, поддержки гвардии.
Голландский резидент Мейнерцгаген сообщал в Гаагу, что 31 июля, во время очередных ночных волнений Алексей Орлов, вышедший успокаивать солдат, был изруган и едва не побит. Его называли «изменником и клялись, что никогда не допустят, чтобы он надел на себя царскую шапку»[680]. Здесь голландец, вероятно, ошибся — брак и корона предназначались Григорию. Возможно, именно он и вышел к толпе семеновцев и преображенцев, братьев часто путали в депешах иностранных дипломатов. Но суть произошедшего не меняется. Из вчерашних кумиров Орловы превратились в «изменников».
«Памятник невинности»
Слухи, возможно, поддерживались и с помощью раннего варианта третьего письма Алексея из Ропши. То, что этот документ — плод политической борьбы, а не археографическое развлечение Ф. В. Ростопчина, — вывод достаточно очевидный. Дашкова говорит о письме так, как если бы оно было ей известно сразу после ропшинских событий: «Если бы кто-нибудь заподозрил, что императрица повелела убить Петра III… я могла бы представить доказательства ее полной непричастности к этому делу: письмо Алексея Орлова, тщательно сохраненное ею в шкатулке, вскрытой Павлом после ее смерти»[681].
Появление копии через сорок лет после событий, ее внедрение в оборот рукописных материалов по истории отечества, которыми, минуя цензуру, обменивались образованные русские (не зря Ростопчин послал этот документ не только Дашковой, но и С. Р. Воронцову в Лондон), закрепляло одну версию убийства Петра III. На протяжении двух столетий исследователи считали источник достоверным, а отсутствие подлинника и несколько странные обстоятельства обнаружения никого не смущали.
Между тем сама история Ростопчина вызывает вопросы. В примечаниях к своей копии он писал, что после смерти Екатерины II ему и генерал-прокурору Сената А. Н. Самойлову велено было запечатать кабинет государыни. «Через три дня по смерти императрицы поручено было великому князю Александру Павловичу и графу Безбородке рассмотреть все бумаги. В первый самый день найдено это письмо графа Алексея Орлова и принесено к императору Павлу; по прочтении им возвращено Безбородке, и я имел его с четверть часа в руках. Почерк известный мне графа Орлова. Бумага — лист серый и нечистый, а слог означает положение души сего злодея и ясно доказывает, что убийцы опасались гнева государыни, и сим изобличает клевету, падшую на жизнь и память сей великой царицы. На другой день граф Безбородко сказал мне, что император Павел потребовал от него вторично письмо графа Орлова. Прочитав в присутствии его, бросил в камин и сам истребил памятник невинности Великой Екатерины, о чем и сам чрезмерно после соболезновал»[682].
Дашкова, передавая ту же историю со слов Ростопчина, приписала Павлу восклицание: «Слава Богу! это письмо рассеяло и тень сомнения, которая могла бы еще сохраниться у меня». Если император испытал радость и облегчение, то зачем было сжигать письмо? Возможно, подлинник содержал нечто большее, чем копия, и Павел не хотел, чтобы неудобные строчки сохранились? Можно ли без санкции государя скопировать такой источник, не опасаясь опалы? Вопросов история Ростопчина порождает множество.
До работы О. А. Иванова о письмах Орлова из Ропши в самом факте существования третьего письма коллеги не сомневались. Однако исследователю удалось выдвинуть весомые аргументы в пользу утверждения, что перед нами — фальсификация. При этом созданная умело, которую за «четверть часа» сочинить нельзя. Так, Ростопчин был хорошо знаком с первыми двумя письмами Орлова и должен был держать их перед глазами, составляя третье. Сходны титулования Екатерины в начале записок и обороты речи. В то же время имелись и бросающиеся в глаза различия. В подлинных письмах Орлов обращался к императрице на «вы», в копии — на «ты». Язык копии заметно грамотнее, чем оригиналов. Петр III назван «государь», вместо «бывший государь»[683].
Копия Ростопчина получила хождение уже после смерти Павла I. Чего добивался Ростопчин, снимая вину с Екатерины II? Расположения нового императора Александра, обещавшего править «по уму и сердцу своей бабки»? Очевидной исторической параллели, которую ухватил А. Н. Тургенев («…или, подобно внуку Александру, она лишь воспользовалась благами уже совершившегося?»), выгодной молодому царю? Доверия Дашковой? Благосклонности великой княгини Екатерины Павловны, интересовавшейся историческими документами? Иванов показал, что до появления копии, с которой Ростопчин стал вхож к влиятельным лицам, забавляя их любопытным свидетельством старины, он пребывал в опале. Александр I не благоволил бывшему сотруднику отца. Однако постепенно, благодаря любимой сестре царя Екатерине Павловне, дела Федора Васильевича пошли на лад: она «буквально вырвала для него место московского генерал-губернатора». А сблизил Ростопчина и великую княгиню именно общий интерес к недавнему прошлому. Он стал завсегдатаем ее салона в Твери и пленял слушателей живым, артистическим пересказом анекдотов минувших царствований…
Однако остаются сомнения. Грамотность языка копии сравнительно с оригиналами можно объяснить именно фактом переписывания. Обращение на «ты» и наименование Петра III «государем» без добавки «бывший» — волнением Орлова. Странную историю с сожжением письма — импульсивностью или злонамеренностью Павла I по отношению к матери. Тот факт, что краткое сообщение о смерти императора имелось во втором письме, не исключает возможности написания третьего — более пространного. Таким образом, ставить точку в расследовании рано.
Кроме того, отсутствие «признательного» письма из Ропши еще не снимает подозрений с Орлова. Оно лишь показывает, что события развивались не так, как описано в этом источнике. Пока письмо считали подлинным, оно служило главным аргументом, затмевая собой слова, сказанные Алексеем Григорьевичем в Вене в 1771 году о том, что его вынудили пойти на преступление. Но коль скоро первый источник утратил доверие ученых, естественным образом повысилось внимание ко второму.
Весной 1771 года на пути из Петербурга в Ливорно, где стоял русский флот, граф Орлов остановился в Вене. Здесь, обедая у посла Дмитрия Михайловича Голицына, в присутствии иностранных гостей он вдруг коснулся ропшинской драмы. 4 мая французский поверенный в делах Франсуа-Мари Дюран де Дистроф донес в Париж из Австрии: «Без какого-либо побуждения с чьей-либо стороны граф Алексей Орлов по собственному желанию не раз вспоминал об ужасной кончине Петра III. Он говорил, сколь жаль ему такого доброго человека, с коим принужден он был совершить требовавшееся от него. Сему генералу, обладающему чрезвычайной телесной силой, поручили удавить государя, и теперь, судя по всему, его преследуют угрызения совести»[684].
Возникает вопрос: кто требовал от Орлова совершить убийство? Екатерина? Панин? Приехавший в Ропшу Г. Н. Теплов от имени императрицы? Алексей намеренно не уточнил. Но сбрасывать его свидетельство со счетов нельзя. Остроумное замечание В. А. Плугина о том, что признание обвиняемого еще не доказательство вины, справедливо. Однако граф обнародовал свое откровение не под пыткой в инквизиционном трибунале, а за столом посла, в окружении иностранцев. Голицын обязан был доложить о его высказывании в Петербург, а остальные дипломаты поспешили бы уведомить свои дворы. Подобное заявление один из первых российских вельмож мог сделать только намеренно.
Справедливо мнение тех ученых, которые видят в неожиданной откровенности Орлова форму давления на императрицу[685]. В 1771 году дела орловской партии в Петербурге становились все хуже. Григорий Григорьевич терял политический вес. После неудачных переговоров с турками в Фокшанах он утратил пост фаворита. Его заметно потеснила группировка Панина, выдвинувшая нового любимца — А. С. Васильчикова. Никита Иванович, а с ним и Екатерина считали, что войну с Портой необходимо закончить поскорее. Орловы же стояли не только за продолжение конфликта, но и за поход на Константинополь. Острая политическая конфронтация заставила Алексея прибегнуть к «запретному» методу борьбы — упомянуть события, которых старались не касаться. Граф показывал: еще немного, и он станет откровеннее.
«Швед из бывших лейб-компанцев»
В науке, как и в обыденной жизни, случаются алогичные вещи. Копия третьего письма Орлова не подкрепляла, а скорее опровергала версию Рюльера. Дипломат называл Алексея убийцей, к тому же посылал его — «растрепанного, в поте и пыли» — с известием к императрице. Сам же «виновник торжества» настаивал на случайности и делал это письменно. Не имело смысла сначала составить признание, а потом с ним в руке скакать в столицу.
Однако подрыв доверия к письму Орлова ударил и по версии Рюльера, до того считавшейся незыблемой. Сразу обнаружилось, что исследователи сами надели себе шоры. Имеются и другие заслуживающие внимания источники. Один из них — «Записки» Андреаса Шумахера. Подобно застенчивой красавице на великосветском балу, они давно и терпеливо ждали, когда на них обратят внимание.
Книга Шумахера вышла сравнительно поздно — в 1858 году в Гамбурге на немецком языке. Рукопись хранится в Королевской библиотеке в Стокгольме. К тому времени, когда работа увидела свет, описываемые события потеряли остроту, а ключевая версия сложилась. Поэтому в дискуссиях ученых ей долгое время отводилась вспомогательная роль. Между тем она обладает самостоятельной ценностью.
Секретарь датского посольства, точно так же как и Рюльер, находился в Петербурге в момент переворота. Он тоже собирал сведения о случившемся, но, по-видимому, круг его информаторов был шире, включая и безымянных солдат в Ропше, поскольку некоторые запечатленные им детали можно было подглядеть, только находясь рядом с императором. При этом плотность «второстепенных» подробностей в тексте очень высока — в какой карете привезли, сколько окон имелось в комнате, какого цвета гардинами они были зашторены, какой мундир надели на покойного, как ему скрестили руки… Источниковеды знают, что такой характер текста объясняется обычно не пристрастием автора к мелочам, а стремлением как можно точнее передать сторонний рассказ об увиденном. Для сравнения — взгляд Рюльера все время скользит по поверхности. Француз рассказывает о главном, почти не вдаваясь в красноречивые детали. Это передача слухов со слухов, если можно так выразиться.
Шумахер не помещал ни театральных сцен, ни выспренних заявлений. Его книга предназначалась для ознакомления узкого круга друзей и родных, ею не развлекали публику в политических салонах. Русское правительство не пыталось перекупить рукопись и, похоже, вообще не знало о ней. Однако авторское самолюбие было и у датчанина. Он писал для потомства, удивленный и обиженный легковесностью уже вышедших брошюр о перевороте.
«Чтобы по мере сил… не остаться в долгу перед грядущими веками, — торжественно сообщал Шумахер, — я желаю выдавшиеся мне теперь часы досуга использовать для записи всего того, что сам я видел и слышал либо же узнал от людей, которые являлись… свидетелями той или иной сцены. Эти показания… я самым тщательным образом сличил между собою и счел возможным использовать лишь те из них, которые полностью согласовывались друг с другом. Надеюсь, что страстная любовь к истине воодушевит и других сочинителей, которые, как и я, будут просто писать для потомков, не прибегая к искажениям и выдумкам».
Так и представляешь себе достойного джентльмена, скрипящего пером у горящего камелька, в кабинете собственного дома, где из шкафов темного дерева на него глядят кожаные переплеты старинных книг, тисненные золотом…
Шумахер настаивал на том, что убийство произошло после увоза лакея Маслова. Тогда «один принявший русскую веру швед из бывших лейб-компанцев — Швановиц (Шванович, Шванвич. — О. E.), человек очень крупный и сильный, с помощью еще некоторых других людей жестоко задушил императора ружейным ремнем. О том, что этот несчастный государь умер именно такой смертью, свидетельствовал вид бездыханного тела, лицо у которого было черно, как это обычно бывает у висельников или задушенных… Можно уверенно утверждать, что были использованы и другие средства, чтобы сжить его со света, но они не удались. Так, статский советник доктор Крузе приготовил для него отравленный напиток, но император не захотел его пить. Вряд ли я заблуждаюсь, считая этого статского советника и еще нынешнего кабинет-секретаря императрицы Григория Теплова главными инициаторами этого убийства… 3 июля этот подлый человек поехал в Ропшу, чтобы подготовить все к уже решенному убийству императора. 4 июля рано утром лейтенант князь Барятинский прибыл из Ропши и сообщил обер-гофмейстеру Панину, что император мертв. Собственно убийца — Швановиц — тоже явился к этому времени, был произведен в капитаны и получил в подарок 500 рублей. Такое вознаграждение за столь опасное предприятие показалось ему слишком малым, и он пошел к гетману, как для того, чтобы сделать ему о том представление, так и пожаловаться, что ему дают весьма отдаленную часть в Сибири. Тот, однако, не вдаваясь в рассуждения, весьма сухо ответил, что отъезд его совершенно необходим, и приказал офицеру сопровождать его до ямской станции и оставить его, лишь убедившись, что он действительно уехал»[686].
Долгое время имя Шванвича мелькало в связи с историей Пугачевского бунта. А после включения «Записок» Шумахера в активный научный оборот вызвало дискуссию. Александр Мартынович был сыном ректора гимназии при Академии наук Мартына Мартыновича Шванвича, приехавшего в Россию еще при Петре I. Он начал службу в 1740 году «артиллерии кондуктором инженерного корпуса», но вскоре перешел в Лейб-кампанию. По непроверенным, но часто встречающимся в литературе данным, Шванвич был крестником государыни, приняв православие уже в зрелом возрасте, что и позволило ему перевестись в привилегированную часть. Более того, Елизавета якобы крестила и его сына Михаила — впоследствии перешедшего на сторону Пугачева.
В гвардии Шванвич дослужился до чина поручика. Он отличался не только силой Геркулеса, но и буйным нравом. В бытность лейб-кампанцем на него завели два дела: одно о драке с купцами Воротниковыми, другое о краже легавого щенка у своего же полкового товарища Петра Кузьмина, который на допросе объяснил свое паническое бегство от обидчика: «Знаем, сколько он шпагою многим людям вреда причинил и порубил». Последняя характеристика прибавляет правдоподобности слуху, будто именно Шванвич в драке раскроил Алексею Орлову щеку.
Оба дела остались недоследованными. Нравы Лейб-кампании нельзя назвать образцовыми, пьянство и драки случались часто. Но даже на этом фоне Шванвич выделялся. Ничего удивительного, что его постарались сбыть на сторону. В 1760 году буян был «выключен из Лейб-компании» и «определен в Оренбургский гарнизон». Шванвич успел отправить к новому месту службы жену и детей, но за непутевого брата вступилась сестра Елена, бывшая замужем за камердинером великого князя Стефаном Карновичем. Благодаря его протекции Александр Мартынович оказался переведен «в голштинский полк ротмистром». Таким образом, в момент переворота Шванвич принадлежал к голштинцам.
Само упоминание версии Шумахера об убийстве Петра III Шванвичем вызвало на первых порах горячий протест. Так, специалист по истории Пугачевского бунта Р. В. Овчинников в рецензии на книгу Н. И. Павленко «Страсти у трона» писал: «Поручик Александр Мартынович Шванвич никак не мог участвовать в этой акции. За неделю до того… 28 июня 1762 г. Шванвич, по недоразумению заподозренный в приверженности к Петру III, был арестован и заключен в крепость, где и содержался около четырех недель. По повелению Екатерины II Военная коллегия указом от 24 июля 1762 г. освободила Шванвича из заключения и предписала ему отправиться из Петербурга на службу в один из армейских полков, расквартированных на Украине. Об ошибочном аресте и заключении в Петропавловскую крепость поведал и сам Шванвич в челобитной, поданной на имя Екатерины II в ноябре 1763 г. Эти документальные свидетельства» бесспорно опровергают «версию Шумахера относительно причастности Шванвича к убийству Петра III»[687].
Но вряд ли из документов, опубликованных Р. В. Овчинниковым[688], следует столь категоричный вывод: ведь дата ареста Шванвича не названа ни в одном из них. Анализ и сопоставление этих источников по архивным материалам осуществил К. А. Писаренко. В челобитной Шванвича сказано: «Во время вступления Вашего императорского величества на всероссийский императорский престол находился при Вашем императорском величестве… а по несчастью моему безвинно крепким арестом заключен был и… из оного заключения освобожден и по сообщению… графа Кирилла Григорьевича Разумовского присланном в Государственную Военную коллегию о пожаловании меня капитанским чином и о определении в украинской корпус». 25 июля 1762 года Разумовский послал Военной коллегии объявление, касавшееся некоторых сотрудников Петра III и офицеров, считавшихся его сторонниками. Этот список начат фамилией Мельгунова. Среди прочих: «Ингерманландского поручика Александра Швановича… определить… капитаном в украинские полки». Этот документ вообще не упоминал об аресте и даже принадлежности Шванвича к голштинцам. Он и сам в челобитной опустил данный факт, ставший после переворота неудобным.
Где же «бесспорное» опровержение версии Шумахера? Или хотя бы данные о времени и продолжительности заключения? В 1792 году сын Александра Мартыновича Николай сочинил краткий мемуар об отце под красноречивым заглавием «Памятная записка о любимце Петра Третьего». Этот документ, составленный по воспоминаниям старшего Шванвича, давно известен историкам и содержит откровенные «неточности». Так, Николай утверждал, что его отец получил от императора 300 душ, но поскольку Петра вскоре свергли, так и не смог вступить во владение. Во время переворота его якобы захватили и увезли в Шлиссельбург, где содержали полгода. Ни тот, ни другой факт не подтверждается ни собственной челобитной Шванвича, ни объявлением Разумовского.
Однако в памятной записке есть любопытная информация, пересекающаяся с текстом Шумахера о посещении раздосадованным Александром Мартыновичем гетмана. Правда, сын облагородил мотивы этого визита, но в целом картина сходная: «Пошел к одному великому вельможе и говорит ему: „Я просил Государыню не о принятии меня в службу, а о пожалованных мне… деревнях… Я не знаю, кто и за что мне в том злодействует“. Вельможа с грозным видом, однако же отступая назад, сказал: „…Ты и то доволен ее милостью“ …Потом вельможа скрылся, а через два часа моего отца заключили в Петропавловскую крепость, из коей через три недели отправили за караулом уже в полк, квартировавший в Оренбурге»[689]. На самом деле Шванвич поехал в Оренбург за женой и детьми, а оттуда уже отбыл на Украину.
Сопоставив данные челобитной, объявления и памятной записки, где сказано, что заключение в Петропавловской крепости длилось три недели, Писаренко предложил примерную дату ареста Шванвича, последовавшего не ранее встречи с «великим вельможей». Три недели —21 день — отнимаются от 25 июля, когда Разумовский отправил в Военную коллегию объявление. Выходит 4 июля[690]. Около этой даты Александра Мартыновича и взяли под стражу. Таким образом, Шванвич имел шанс принять участие в убийстве Петра III.
«Человек без кредита»
На наш взгляд, рассказ сына Николая о деревеньке в 300 душ и о заключении в Шлиссельбурге имеет некую основу. Голштинцев, как мы помним, задержали, а потом начали отпускать, приведя православных к присяге. Это краткое пребывание в земляной крепостице и могло стать основой для преувеличения — полгода в одной из самых страшных тюрем империи.
Согласно воспоминаниям Сиверса, офицерам разрешили разойтись по своим квартирам. Среди них, вероятно, был и Шванвич. Чтобы склонить человека к убийству, нужны веские доводы. Перевод из далекого холодного Оренбуржья на Украину — один из них. Ходатаем выступил сам гетман. Вероятно, обещаны были и иные награды. Недаром Шванвич почувствовал себя обманутым. Если при жизни Петр III обмолвился ротмистру о деревеньке, но не успел выполнить слово, то вожделенные 300 душ тоже легли на чашу весов. Вряд ли покровители отказали в них из жадности. Просто такое пожалование человеку, внешне ничем в перевороте не отличившемуся, обращало на него внимание. А внимания как раз следовало избежать. Шванвич проявил жадность и не захотел сидеть тихо. Поэтому его арестовали, подержали в крепости — для вразумления — и выслали из города под караулом. Такое развитие событий правдоподобно.
Однако швед необычайной силы — не единственный убийца, названный Шумахером. Его провел к жертве действительный статский советник Григорий Николаевич Теплов — личность весьма примечательная. Один из самых одаренных людей своего времени: администратор, писатель, музыкант, естествоиспытатель, философ, автор многих политических проектов и… совершенно беспринципный человек. Он напоминал яблоко, сердцевина которого сгнила раньше, чем бока налились соком. Сын придворного истопника, ученик Феофана Прокоповича, Теплов рано обратил внимание высоких особ на свои способности и рано, еще во времена Анны Иоанновны, начал писать доносы.
Возвышение Григория Николаевича началось после того, как в 1743 году Алексей Разумовский выбрал его из числа академических переводчиков в качестве наставника для брата Кирилла. Во время поездки за границу Теплов сумел завоевать доверие подопечного. После назначения Кирилла президентом Академии его бывший ментор стал членом Академического собрания и фактически осуществлял руководство Академией вместо молодого, не склонного к наукам вельможи. Он пользовался безусловным покровительством гетмана, распоряжаясь даже в его доме[691]. Заведуя гетманской канцелярией, Теплов держал в своих руках и малороссийские дела. При Петре III его ненадолго заключили в крепость за нелестные отзывы об императоре, но вскоре выпустили по недостатку улик. Вместе со своими высоким патроном Теплов принял участие в заговоре и стал составителем первых манифестов Екатерины II, за что был пожалован в статс-секретари.
Однако вернувшийся из опалы старый канцлер А. П. Бестужев-Рюмин затребовал свое следственное дело и на основе его материалов пришел к выводу, что именно Теплов донес о тайной переписке Екатерины с гетманом[692]. Позднее Теплов старался очернить своего благодетеля Кирилла Разумовского в глазах молодой императрицы. По выражению Григория Орлова, «лобзая, его же предал»[693].
Вот такой человек прибыл утром 3 июля в Ропшу вместе с Шванвичем и Крузе. Если под загадочным «Тервю» из донесения Беранже скрывается именно Теплов и перед нами не более чем неудачная расшифровка скорописи, то рассказ французского дипломата мало чем отличается от рассказа Шумахера. «Вершиной гнусности и злодейства стал Тервю, отправившийся к нему (Петру III. — О. Е.) через четыре или пять дней после свержения, заставлявший его силой глотать микстуру, в которой он растворил яд, коим хотели убить его. Государь долго сопротивлялся приему микстуры, выражая сомнение в том, что содержимое бокала — лекарство, и полагают, что он уступил только силе и угрозам. Добавляют, что после этого он попросил молока, в чем ему бесчеловечно было отказано, и что яд не произвел скорого действия, и тогда решили его задушить. Это так же достоверно, сударь, как и то… что князь Барятинский, привезший ко двору новость о смерти Петра III, получил множество знаков на лице, доставшихся ему, как говорят, от свергнутого императора, защищавшегося в момент покушения на его жизнь… Врач Крузе, которого он ненавидел и которого послали к нему, подозревался в приготовлении этого яда»[694].
Любопытно, что по горячим следам Беранже не упомянул Орлова среди убийц. А вот позднее имя Алексея появилось в депешах. Значит, был промежуток, когда его не считали виновным, и лишь позднее, под влиянием старательно распространенных слухов, им заменили всех остальных.
Шумахер не назвал имена тех высоких персон, которые стояли за спиной Теплова, Шванвича и Крузе. Он лишь поведал о конфликте шведа с Разумовским и тем намекнул на суть дела. Но полагать, будто датский дипломат указал еще и на Панина с Дашковой, как иногда делают сторонники версии о заговоре вельмож, неверно. Имя Никиты Ивановича вообще отсутствует. О Екатерине же Романовне речь заходит только в связи с планом заколоть императора во время пожара и бросить в горящую комнату. Но не в связи с Ропшей. Единственным звеном между этими людьми и роковым событием является Теплов. В примечаниях на книгу Рюльера княгиня отрицала, что он отправился к императору. При этом построила фразу весьма двусмысленно: «Теплов не был послан в Ропшу». Не был послан? Или не ездил?
Близость Теплова к Разумовскому была известна всем. Но после находок Бестужева отношения Григория Николаевича с благодетелем ухудшились. Зато он обрел нового покровителя в лице Панина. Дашкова настаивала, что именно она обратила внимание дяди на этого человека и убедила Никиту Ивановича, как важно иметь Теплова «на нашей стороне». С воспитателем наследника статс-секретарь вел почти дружескую переписку, ему оказывал услуги административного свойства, передавая императрице те или иные бумаги. Когда последний ненадолго уехал в конце августа, Теплов рассказывал ему петербургские новости тоном едва прикрытой оппозиционности и обиды на невнимание государыни. Он не чувствовал прежнего доверия. Называл себя «человеком без кредита», особенно после того, как составление оправдательного манифеста Бестужеву-Рюмину доверили не ему. Из писем заметно, что в круг обиженных Теплов, кроме себя, включал Панина и Дашкову, советуя им вооружиться философией против происков двора. Из письма 29 августа можно понять, что он был горячим сторонником создания панинского Императорского совета и только на него возлагал надежды.
«В заключение поговорим о княгине Дашковой, которая, кажется мне, в большом горе после вашего отъезда, — писал Григорий Николаевич новому покровителю. — Я почти постоянно у нее. Дух ее, хотя и в беспокойстве обретающийся, порождает постоянно идеи, от которых я рот разеваю. Наши уединенные беседы с сею дамою, добродетельною и разума исполненною, составляют единственное утешение для моего духа, удрученного беспокойством. Я имел честь обедать с нею… Смех содействовал много нашему пищеварению, тем более что наша любезная хозяйка подбавляла соли. Я теряю терпение, но я привожу себе на память, что… два месяца недостаточны, чтоб сказать, что имеешь довольно опытности при дворе. Императорский совет решит все… Верно то, что не станут удерживать силой того, от кого хотят отделаться. Служить, не имея доверенности государя, все равно что умирать от сухотки. Ради Бога, берегите ваше здоровье и успокойтесь от тех волнений в крови, которые причинили вам дела петербургские. Это единственное средство для В[ашего] п[ревосходитель]ства, для княгини и для того, который всю свою жизнь не перестанет Вас любить»[695].
Что следует из этого письма? Принадлежность Теплова к кругу Панина. Сочувствие проекту Совета. Частые дружеские контакты с Дашковой. И уловимое разочарование. Чувство утраты внимания императрицы. Причем не им одним, что легко объяснить обвинениями Бестужева, а ими всеми. Отсюда размышления об отставке и упования на Совет.
Какое это имеет отношение к убийству? Как будто никакого. Однако связи — тонкие ниточки между разными участниками событий — становятся яснее.
«Все покойны, прощены…»
После того как мы познакомили читателей с имеющимися версиями, позволим себе высказать некоторые соображения. Инструкции по содержанию Петра III не сохранились или были уничтожены. Однако подобные документы тогда создавались по аналогии с предшествующими сходного содержания. Единственным царственным узником до Петра был Иван Антонович. Поэтому указы Екатерины II Алексею Орлову относительно арестанта в Ропше должны были хотя бы отчасти повторять предписания по пригляду за «безымянным колодником».
Последние были достаточно суровы. По словам А. С. Мыльникова, Петр Федорович хотел смягчить участь несчастного. Однако этому противоречат приводимые самим автором документы, давно вошедшие в научный оборот. Именной указ капитану князю Чурмантееву прямо говорил о возможности покончить с Иваном при попытке его захвата: «Буде сверх нашего чаяния кто б отважился арестанта у вас отнять, в таком случае противиться сколько можно и арестанта живого в руки не отдавать». При Петре же были ужесточены условия содержания. В инструкции Александра Шувалова предписывалось за неповиновение сажать заключенного «на цепь» и бить «палкою и плетью» «доколе он усмирится»[696].
Условия содержания самого Петра — запрет выходить из комнаты, плотно закрытые окна, постоянный караул у дверей — показывают, что и относительно него были даны весьма жесткие инструкции. Хотя ни цепи, ни палки не было. А вот пункт о возможном захвате свергнутого императора противниками следовало предусмотреть. Тем более что он имелся в документах, с которыми неизбежно сверялись, составляя инструкции для команды Орлова.
Мы постарались показать, что Екатерине было крайне невыгодно устранять Петра III в первые же дни после переворота. Существовала лишь одна оговорка, делавшая немедленное уничтожение арестанта возможным. При попытке отбить Петра начинал действовать пункт: «живого в руки не отдавать». А. Б. Каменский рассуждал: «…Убивать его… имело бы смысл лишь в одном случае — в случае острой опасности контрпереворота, но такой опасности явно не было»[697].
Позволим себе усомниться во второй части этого утверждения. Волнения среди полков продолжались и порой принимали угрожающие формы. Рюльер писал: «Уже прошло 6 дней после революции: и сие великое происшествие казалось конченным так, что никакое насилие не оставило неприятных впечатлений… Но солдаты удивлялись своему поступку и не понимали, что привело их к тому, что они лишили престола внука Петра Великого и возложили его корону на немку. Большая часть без цели и мысли были увлечены движением других, и когда всякий пришел в себя, и удовольствие располагать короной миновало, то почувствовали угрызения. Матросы, которых не прельщали ничем во время бунта, упрекали публично в кабачках гвардейцев, что они на пиво продали своего императора, и сострадание, которое оправдывает и самых величайших злодеев, говорило в сердце каждого. В одну ночь приверженная к императрице толпа солдат взбунтовалась от пустого страха, говоря, что их матушка в опасности. Надлежало ее разбудить, чтобы они ее видели. В следующую ночь новое возмущение, еще опаснее — одним словом, пока жизнь императора подавала повод к мятежам, то думали, что нельзя ожидать спокойствия»[698].
О несогласии в гвардейских частях еще в процессе переворота сообщал и Шумахер: «Между Преображенским и Измайловским полками уже царило сильное соперничество. Многие стали говорить о примирении, а что касается армейских полков, то они во всем этом деле играли чисто пассивную роль»[699]. По возвращении гвардии в Петербург выяснять отношения было все равно что махать кулаками после драки. Но для многих драка только начиналась.
Преображенский полк обнаружил себя отодвинутым от привычного первенства. Армейские части, Морской экипаж и, как вскоре оказалось, Артиллерийский корпус вообще не высказались. Ситуация была чревата непредсказуемыми последствиями.
Рюльер связал решение участи свергнутого императора именно с волнениями полков. В ночь с 30 июня на 1 июля измайловцы требовали Екатерину, и, возможно, у них были причины подозревать противников в злом умысле против «Матушки». С 1 на 2 июля толпа вооруженных людей вновь явилась ко дворцу. 3-го Петра не стало.
Беранже в донесении 10 августа выразился ясно: «Это последнее решение было принято по причине раскрытия заговора и особенно потому, что Преображенский полк должен был вызволить Петра III из тюрьмы и восстановить его на престоле»[700]. Мы не знаем, до какой степени сведения дипломата соответствовали реальности, но нам известно — столицу продолжало раскачивать. Одного подозрения преображенцев или иного полка в намерении освободить императора было достаточно для решения его участи.
Теперь вспомним двусмысленную фразу Дашковой: «Теплов не был послан в Ропшу». Кем? В первую очередь императрицей. Ведь Теплов ее статс-секретарь, и только она могла им распорядиться. Любой другой, включая Панина, должен был просить, договариваться об услуге. Но «не был послан» не значит «не ездил». Вот таким завуалированным экивоком Екатерина Романовна снимала вину с подруги. Из сказанного следует, во-первых, что княгиня знала о роли Теплова. Во-вторых, она считала, что государыне ничего не сказали о его поездке.
Возможно, соратники решили дело между собой. Налицо было волнение в полках. На руках инструкция. Теплов отправился с Крузе и Шванвичем в Ропшу. Сообщил Орлову о положении в Петербурге. Алексей, как видно из его подлинных писем, и сам считал, что свергнутый император опасен. Ситуация соответствовала пункту «живого в руки не отдавать». Информация о том, что Преображенский полк якобы готов освободить государя, сгустила краски. Понятия о дворянской чести тогда были еще не так четки, как всего поколение спустя. Однако офицеру благородного происхождения понимать руку на царя не годилось. Орлов должен был спросить, кто исполнит дело. Крузе и Шванвич были наготове. Алексей пропустил их к арестанту. В этом и состояла его вина. О ней он и говорил в Вене.
Практически все источники фиксируют сначала попытку отравить императора, а затем удушение. При расстроенном желудке Петра яд мог подействовать не сразу. К тому же узника рвало. Просьба принести молока указывает на то, что несчастный догадался о яде, ведь молоко смягчает кишечные рези. Со стороны убийц было бы проще дать арестанту медленно-действующий яд под видом лекарства, а самим уехать, оставив Алексея расхлебывать последствия. Но, видимо, они спешили закончить дело, потому что, когда не подействовал мгновенный яд, задушили императора. Такая поспешность говорит об угрозе. Возможно, опасность нападения на Ропшу и освобождения Петра представлялась им реальной.
Почему было не увезти узника в более безопасное место? Например, в тот же Шлиссельбург? Из подлинных писем Орлова следует, что Петр практически не вставал. Вероятно, он был не транспортабелен. В любом случае насилие совершилось над тяжелобольным человеком.
Беранже считал, что Екатерина не знала о случившемся 24 часа, Шумахер — что трое суток. Однако если Алексей сообщал о смерти государя в приписке ко второму письму, то известие было направлено сразу же. Другое дело, когда передано. Определенная пауза, очевидно, была. Сразу после возвращения из Петергофа государыня каждый день присутствовала на заседаниях Сената: 1, 2, 3, 4, а затем 6 июля. Возможно, лакуна в одни сутки и показывает, когда императрица известилась об ударе. 4-го она должна была узнать и 5-го не нашла в себе сил предстать перед Сенатом. 5 июля помечен приказ о доставке голштинской формы покойного императора из Ораниенбаума.
4 июля Разумовский был назначен командовать Петербургским гарнизоном. И этот шаг — прямая реакция на случившееся. Екатерина продолжала считать Кирилла Григорьевича надежным, очень преданным лично ей человеком. Для нас важно, что она не увидела в действиях своих сотрудников заговора. В письме Понятовскому 9 августа императрица сообщала о новых статс-секретарях: «Теплов хорошо мне служит», а 12 сентября — о Разумовском и Никите Ивановиче: «Гетман все время со мной, а Панин — самый ловкий, самый рассудительный, самый усердный мой придворный». И тут же мельком: «Все покойны, прощены, выказывают свою преданность родине»[701].
Если Екатерина не хотела о ком-то говорить, она молчала. Можно было не касаться роковых имен, но государыня написала то, что написала. Значит, она не считала Теплова, Разумовского и Панина злонамеренными негодяями. Ситуация оправдывала их действия. Но указы императрицы Орлову все-таки исчезли. Возможно, в них был неудобный пункт, позволявший в экстраординарных обстоятельствах предпринять убийство императора. Из этой истории Екатерина вынесла ценный опыт — не на всех документах можно ставить свое имя. Инструкции касательно Ивана Антоновича подписал уже Панин.
Остается вопрос: была ли угроза действительной? Или вельможная партия только воспользовалась волнениями в столице, чтобы надавить на Орлова? Сам Алексей стал считать себя виновным сразу, поскольку по возвращении из Ропши подал в отставку. По мнению Плугина, у него произошел нервный срыв[702]. Но развитие событий и, вероятно, просьбы Екатерины заставили Алексея вернуться. 29 июля ему был пожалован чин секунд-майора Преображенского полка. Да в сущности он никуда и не уходил. Победители пребывали во дворце, как в осаде: еженощные тревоги, необходимость уговаривать гвардейцев разойтись, плевки и оскорбления от них. Судя по сообщениям дипломатов, Орловы и гетман, которых считали виновниками смерти Петра, пережили страшные дни.
Как вела себя Екатерина? Этот вопрос интересовал всех. Гольц сообщал Фридриху II 10 августа: «Отвечая на приказание уведомить, была ли императрица тронута смертью покойного императора, осмеливаюсь сказать, что она в присутствии других не выражала этого ничем, хотя, с другой стороны, утверждают, что наедине она казалась растроганной»[703]. Вероятно, государыня много плакала. По Петру или по своему имени, втоптанному в грязь? На наш взгляд, несправедливо упрекать Екатерину в неискренности горя по мужу. Что она должна была чувствовать, прожив трудную, полную обид жизнь с человеком, которого сначала полюбила, потом жестоко ревновала, презирала, опасалась и наконец потеряла при таких ужасных обстоятельствах? Потрясение, печаль, раздумья…
«Скрытый дух вражды»
Теперь с шаткой почвы гипотез можно вернуться к тверди исторического факта. Ночью 8 июля тело Петра III привезли из Ропши в Александро-Невский монастырь. Столица была охвачена слухами, и, видимо, еще до появления печальной процессии в городских домах, кабаках и на улицах бурно обсуждали произошедшее.
Никакой тишины сохранить не удалось. Хотя, похоже, в первый момент иностранные дипломаты не увидели в случившемся ничего неожиданного и не бросились сообщать своим дворам страшных подробностей. 10 июля Гольц просто констатировал факт смерти императора и издание Манифеста. А голландский резидент Мейнерцгаген донес на родину о приватной беседе с доктором Крузе, полностью подтверждавшей правдивость официальных сообщений: «Я знаю из уст самого лейб-медика, который видел бывшего императора в живых, а затем вскрывал его тело, что Петр скончался от апоплексического удара»[704].
Однако почти сразу же появились и настораживающие ноты. Тот же Гольц в другом донесении, датированном 10 июля, сообщал о «множестве недовольных», число которых «возрастает со дня на день с тех пор, как стало известно, что внук Петра Великого свергнут с престола и что его заместила иностранка, если и имеющая какое-либо право царствовать, то только по мужу или по сыну»[705].
Вид покойного императора способен был только подлить масла в огонь. Шумахер писал: «Бездыханное тело… выставили на обозрение в том же самом низком здании, где за несколько лет перед тем выставлялись останки его дочери принцессы Анны, а также регентины Анны [Леопольдовны]… В указанном здании были две обитые черным и лишенные каких бы то ни было украшений комнаты. В них можно было различить только несколько настенных подсвечников, правда без свечей. Сквозь первую черную комнату проходили во вторую, где на высоте примерно одного фута от пола в окружении нескольких горящих восковых свечей стоял гроб. Он был обит красным бархатом и обшит широким серебряным позументом. По всей видимости, он был несколько коротковат для тела, поскольку было заметно, что оно как-то сжато. Вид тела был крайне жалкий и вызывал страх и ужас, так как лицо было черным и опухшим, но достаточно узнаваемым и волосы, в полном беспорядке, колыхались от сквозняка. На покойнике был старый голштинский бело-голубой мундир, но оставались видны только плечи, грудь и руки… Остальную часть тела скрывало старое покрывало из золотой парчи… Никто не заметил на нем орденской ленты или еще каких-либо знаков отличий… Комнаты, где выставляются тела уважаемых Санкт-Петербургских горожан, выглядят куда представительнее»[706].
Рассказ Шумахера совпадал со словами Рюльера, но последний поместил несколько важных суждений: «Тело покойного было привезено в Петербург и выставлено напоказ. Лицо черное, и шея уязвленная. Несмотря на сии ужасные знаки, чтобы усмирить возмущения, которые начали обнаруживаться, и предупредить, чтобы самозванцы под его именем не потрясли бы впредь империю, его показывали три дня народу в простом наряде голштинского офицера. Его солдаты, получив свободу, но без оружия, мешались в толпе народа и, смотря на своего государя, обнаруживали на лицах своих жалость, презрение, некоторый род стыда и позднего раскаяния»[707].
Француз отвечал на вопрос, зачем вообще понадобилось выставлять покойного, раз тело свидетельствовало о характере смерти. Правительство опасалось слухов, будто государь не умер, а его скрыли, увезли, спрятали… Основания для тревоги были. Гольц отметил разговоры, что император «куда-то запрятан»[708]. Демонстрацией останков старались убедить население в действительной смерти Петра III. Однако только подкрепили догадку, что государь убит. Обратим внимание: светильники на стенах остались пустыми, а вокруг гроба стояли высокие свечи, хотя рассеянный свет в черных комнатах был бы предпочтительнее концентрации освещения на теле покойного. В нарочитой бедности обстановки, в неубранных волосах императора, его неестественной позе на смертном ложе трудно не увидеть чего-то нарочитого, выставленного напоказ. Неужели народ раздражали намеренно?
В то же время Гольц зафиксировал странное «легкомыслие» вельмож, стремление не погасить, а раздуть слухи: «Удивительно, что очень многие лица теперешнего двора, вместо того, чтобы устранять всякое подозрение, напротив того, забавляются тем, что делают двусмысленные намеки на род смерти государя. Никогда в этой стране не говорили так свободно, как теперь. Имя Ивана [Антоновича] на устах народа, и теперь, когда первый взрыв и первое опьянение прошли, сознают, что только покойный император имел право на престол и что он никому не делал зла. Распущенность гвардии невообразима. Всякие насилия они совершают безнаказанно; офицеры и не пытаются удерживать их, довольные уже тем, что солдаты не оскорбляют их самих»[709].
Именно на этом фоне Дашкова часто вела оживленные беседы с венским послом, а «противная партия» делала все возможное, чтобы спровоцировать разрыв между петербургским и берлинским дворами. Повторное вступление России в войну рассматривалось как реальная перспектива.
Возмущение населения могло быть и преувеличено специально для давления на императрицу. Так, Сенат по инициативе Панина обратился к ней с просьбой отказаться от посещения тела супруга, поскольку в городе неспокойно. В экстракте протокола 8 июля записано: «Сенатор и кавалер Никита Иванович Панин собранию Правительствующего Сената предлагал: Известно ему, что Ее императорское величество… намерение положить соизволила шествовать к погребению бывшего императора… но как великодушное Ее величества и непамятозлобивое сердце наполнено надмерною о сем приключении горестью… то… он, господин сенатор… обще с господином гетманом… представляли, что Ее величество, сохраняя свое здравие… для многих неприятных следств, изволила б намерение свое отложить; но Ее величество на то благоволения своего оказать не соизволила… Сенат… тотчас выступя из собрания, пошел во внутренние Ее величества покои и… раболепнейше просил, дабы Ее величество шествие свое в Невский монастырь… отложить соизволила. Ее величество долго к тому согласия своего не оказывала, но напоследок… благоволила».
Очень любопытная картина. Сначала Панин вместе с Разумовским обратились к Екатерине от себя, а когда она отказала, Никита Иванович организовал шествие сенаторов с той же просьбой. При этом он выступал как первый среди них, способный выразить общее мнение. Это была своеобразная демонстрация силы, только не вооруженной, а административной, чисто государственной.
Сообщение о случившемся было помещено в петербургских газетах, чтобы оправдать тот факт, что государыня-вдова не плакала над телом мужа. «Когда Сенат представил императрице вышеизложенный доклад, — писал Шумахер, — она не только залилась слезами, но даже стала горько раскаиваться в шаге, который она предприняла. Она упрекала [сенаторов], что весь свет будет недоволен ею, если она не будет даже присутствовать при погребении своего супруга. Сенат, однако, повторил свое представление и добавил… что если императрица не прислушается к его мнению и отправится в монастырь, то по дороге ее собственная жизнь не будет в безопасности. Следует опасаться и без того озлобленных и раздраженных солдат — они легко могут прийти в такую ярость, что посягнут на тело усопшего императора и разорвут его на куски. Это заставило ее, наконец, уступить настояниям Сената»[710].
Голландский резидент Мейнерцгаген доносил 2 августа в Гаагу, что «третьего дня», то есть 31 июля, «ночью возник бунт среди гвардейцев», охвативший два старших полка — Семеновский и Преображенский. Солдаты «кричали, что желают видеть на престоле Иоанна [Антоновича], и называли императрицу поганою». Спустя два дня, 2 августа, беспорядки возобновились, теперь «гвардейцы требовали выдать им гетмана»[711]. Гольц подтверждал, что положение Орловых и Разумовского было крайне незавидным: «Братья Орловы едва смеют теперь показываться перед недовольными. Нет таких оскорблений, которых не пришлось бы выслушать Орлову-камергеру (Григорию. — О. Е.) в одну из тех ночей, когда императрица посылала его успокаивать собравшихся. Одинаково ненавидят они гетмана… недовольные говорят, что во время переворота он предал государя, обращавшегося с ним как с братом, только затем, чтобы воспользоваться беспорядками в государстве и самому захватить престол»[712].
Откладывая обнародование смерти Петра III, правительство рассчитывало, что город вот-вот поуспокоится. Тогда можно будет сообщить роковую весть. Но раздражение лишь росло. Кейт доносил лорду Г. Гренвилю 9 августа: «Между гвардейцами поселился скрытый дух вражды и недовольства. Настроение это, усиленное постепенным брожением, достигло такой силы, что ночью на прошлой неделе оно разразилось почти открытым мятежом. Солдаты Измайловского полка в полночь взялись за оружие и с большим трудом сдались на увещевания офицеров. Волнения обнаружились, хотя в меньшем размере, две ночи подряд, что сильно озаботило правительство»[713].
31 июля в полках был обнародован собственноручный приказ императрицы, в котором «гвардии солдатам» повелевалось воздержаться «от происходимого ими слышенными безбыточными внушениями беспокойства». «Господам командующим ротами» вменялось в обязанность возобновлять чтение приказа «каждую неделю» «два раза всем чинам». Мейнерцгаген сообщал, что результатом волнений стали «аресты и высылка множества офицеров и солдат из столицы»[714]. Информацию об арестах подтверждал и Кейт.
Отчасти погасить пламень недовольства призваны были награды за участие в перевороте. Сообщение о них опубликовали в «Санкт-Петербургских ведомостях» 9 августа, в самый разгар брожений. Пожалованными оказались 454 человека. Общая сумма раздач достигла миллиона рублей. Разумовский, Волконский, Панин получили пожизненные ежегодные пенсии в 5 тысяч рублей, Дашкова — 24 тысячи рублей единовременно, Теплов — 20 тысяч[715]. Многие заговорщики вместе с военными были пожалованы и придворными чинами. Этим шагом Екатерина старалась разбавить вельможное окружение за счет выходцев из гвардии и приобрести дополнительную опору при дворе. Кроме того, производились награды населенными имениями, что было особенно важно для небогатых заговорщиков — опять же для полковой, гвардейской среды. В зависимости от вклада они получали по 800, 600 и 300 душ.
Особо обсуждались награды Орловых. Григорий — камергер, Алексей — секунд-майор Преображенского полка, Федор — капитан Семеновского. Двое старших — кавалеры ордена Святого Александра Невского. Каждый получил по 800 крестьян[716].
Черновик этого документа весьма отличался от окончательного варианта. В нем на первом месте были перечислены фамилии гвардейских заговорщиков: Григорий, Алексей, Федор Орловы и Пассек, Бредихин, Барятинский[717]. Затем шли остальные. В опубликованном варианте вельможи выступили вперед, что соответствовало их официальным чинам и не нарушало субординацию. Но запись, сделанная Екатериной для себя, точно показывает, кого она считала творцами победы.
Любопытная метаморфоза произошла с Дашковой. В черновике княгиня замыкала список пожалований с суммой в 12 тысяч рублей. А вот в окончательном варианте награда возросла до 24 тысяч, кроме того, Екатерина Романовна была пожалована в кавалеры ордена Святой Екатерины[718]. Изменилось и ее место в реестре, поскольку к верхним строчкам поднялись все вельможные заговорщики. Теперь ее имя шло четвертым, сразу после Разумовского, Волконского и Панина. Что повлияло на решение императрицы? Была ли она поначалу раздосадована на подругу, а потом отдала ей справедливость? Попросил ли за княгиню Панин? Или государыня пыталась сгладить обострившиеся отношения? Дашкова не стеснялась в высказываниях касательно Орловых. Быть может, деньги предназначались для того, чтобы смягчить ее и сделать более скромной?
Пожалование не помогло. Оно было принято едва ли не как оскорбление. В «Записках» княгиня настаивала, что хотела «уклониться от наград, претивших» ее «нравственному чувству». Когда Екатерина собиралась возложить на подругу ленту, то услышала: «Не жалуйте мне этого ордена; как украшению я не придаю ему никакой цены; если же вы хотите вознаградить меня им за мои заслуги, то… в моих глазах им нет цены, и за них нельзя ничем вознаградить, так как меня никогда нельзя было… купить никакими почестями и наградами». По словам княгини, она была удивлена, что ее причислили к первому разряду заговорщиков: «Я не воспользовалась разрешением взять земли или деньги, твердо решив не трогать этих двадцати четырех тыс. рублей. Некоторые из участников переворота не одобряли моего бескорыстия, так что… я велела составить список долгов моего мужа и назначила эту сумму для выкупа векселей… что и было исполнено кабинетом Ее величества»[719].
Создается впечатление, что Дашкова действительно не притрагивалась к деньгам, все за нее сделали чиновники. Но это не так. Сохранилась записка императрицы 5 августа: «Выдать княгине Катерине Дашковой за ее ко мне и отечеству отменные заслуги 24 000 рублей»[720]. Таким образом, деньги были выплачены единовременно и еще до обнародования остальных наград. Княгиня получила сумму раньше, чем другие заговорщики.
Но пока принятые правительством меры по «утушению» волнений не приносили плодов. 10 августа Гольц подробнейшим образом описал Фридриху II обстановку в Петербурге: «Волнения… далеко не успокоены, а напротив, постоянно усиливаются. Не проходит почти ни одной ночи, чтобы толпа недовольных не являлась ко дворцу и не требовала бы разрешения видеть императрицу. Она иногда является лично, иногда посылает успокаивать их кого-нибудь другого, давая денежные подачки мятежникам. Так как Измайловский гвардейский полк и конная гвардия… в день переворота всецело предались императрице, то к обоим этим полкам относятся теперь с презрением и вся остальная гвардия, и полевые гарнизонные полки, стоящие здесь, и кирасиры покойного императора, и флотские. Не проходит дня без столкновений этих двух партий. Последние упрекают первых в том, что они продали своего государя за несколько грошей и за водку. Артиллерийский корпус до сих пор еще не принял ничьей стороны. Двор, дойдя до крайности, роздал Измайловскому полку патроны, что встревожило остальную гвардию и гарнизон. Мятежники говорят, что императрица, захватив власть без всякого права, извела мужа; что, притворяясь набожной, она смеется над религией; что они ясно видят, как торопится она коронованием, но что она никогда его не добьется; наконец, что они желают иметь своим монархом Ивана. Все эти разговоры ведутся открыто»[721].
Прусский посол ничего не знал об арестах, напротив, он указывал, что правительство старалось задобрить гвардию: «Двор, вместо того чтобы прекратить все это суровыми мерами, прибегает к самым слабым, успокаивающим средствам: например, раздает деньги собравшимся мятежникам, которые, немного погодя, опять принимаются за свое, хоть бы только затем, чтобы опять выманить подачку».
Можно ли считать эти волнения серьезной угрозой власти Екатерины? Обычно историю переворота 1762 года принято излагать, выделяя главные точки: «революция» в столице, поход на Петергоф, убийство Петра III, отъезд императрицы на коронацию. При этом рассказ о возмущении в городе после известия о смерти государя опускается, благодаря чему создается впечатление, что переворот прошел почти гладко, без риска для нашей героини потерять корону. Однако нет оснований закрывать глаза на то, что всплески в гвардии продолжались до самой отправки в Москву. Особенно опасными были первые несколько суток после гибели свергнутого императора, когда Екатерину могли побить камнями, а между враждующими частями — вспыхнуть вооруженные столкновения. Предположить подобную реакцию полков было нетрудно заранее. Если принять версию о том, что Екатерина тайно приказала устранить мужа, то придется признать ее недальновидным политиком. Ведь риск лишиться престола был весьма велик. Если же учесть возможность заговора вельмож, то сам собой возникает вопрос: почему он не удался? Несмотря на потерю репутации и признания в стиле: случившееся «роняет меня в грязь» — Екатерина не отошла в тень, не вернулась к идее регентства и не предоставила престол сыну. Значит, заключает Каменский, что-то в данном плане пошло не так[722].
Полагаем, не так пошли именно народные брожения. Ни разу не всплыло имя великого князя Павла Петровича. Вместо него во всех депешах иностранных дипломатов повторяется другое — Ивана Антоновича. Послы и раньше доносили, что к бедному шлиссельбургскому узнику относятся с особым уважением, даже любовью. Благодаря имени Иван казался простонародью русским, в отличие от немцев, находившихся на престоле. Его жалели, считали страдальцем. Что же до маленького Павла, то здесь Петр Федорович сыграл со своим сыном злую шутку. Он так демонстративно отказывался от мальчика, так старательно исключал его имя из манифестов, что создал ребенку репутацию незаконного. В момент переворота Павел не пользовался ни малейшей популярностью. На что Дашкова указывала Панину, говоря о желании гвардейцев видеть Екатерину императрицей. Позднее Никита Иванович очень старался создать воспитаннику репутацию в обществе.
После смерти Петра III горячие головы, склонные продолжить мятеж, выкликали Ивана Антоновича. И обе партии сторонников Екатерины — непримиримые враги между собой — на время снова оказались в одной лодке. Появление Ивана VI было невыгодно им в равной мере. Поэтому Панин, Разумовский, Теплов приложили к успокоению солдат столько же усилий, сколько Орловы.
К счастью для них, на сей раз у мятежников не было ни центра, ни руководителя. «Единственное благоприятное для двора обстоятельство, — писал Гольц, — …состоит в том, что недовольные (в сущности, гораздо более многочисленные, чем остальные) решительно не имеют вождя. Иначе буря неминуемо разразилась бы уже несколько дней тому назад резнею полков между собой, за которой последовал бы грабеж города, причем, по всей вероятности, иностранцы сделались бы жертвою. Действия двора показывают, что он старается устранить всех тех, кто мог бы стать во главе недовольных… Опасаются, особенно за фельдмаршала [Миниха], что солдаты, среди которых он пользуется большим уважением, могут явиться к нему однажды ночью с предложением встать во главе их и принудить его к этому силой в случае его отказа»[723].
Миниха спешно отправили инспектировать строящийся порт и укрепления в Рогервике. Брожения погасили отчасти раздачами, отчасти арестами. Но искра осталась тлеть под спудом до самых коронационных торжеств, когда в гвардии было открыто несколько локальных заговоров. Недаром Гольц засвидетельствовал, что ушедшие в старую столицу полки унесли с собой и свое раздражение: «Часть гвардии, восемь дней тому назад отправленная в Москву, отказывается продолжать путь, и офицеры, явившиеся объявить об этом двору, не в состоянии заставить их идти далее». То была лишь первая ласточка крупных неприятностей, ожидавших императрицу в Первопрестольной.
И все же она выиграла. Захватила и удержала корону. Сохранила главных соратников. Избавилась от угрозы контрпереворота в пользу мужа. Не вступила в повторную войну. Кажется, что удача позолотила нашей героине руку. Потому что без завидной доли везения справиться со всеми навалившимися на нее бедами было невозможно. Даже раскол в рядах вчерашних союзников только укрепил ее власть. Рюльер имел полное право сделать вывод: «Императрица не опасалась больше соперника, кроме собственного сына, против которого она, казалось, себя обеспечила, поверив главное управление делами графу Панину… Доверенность, которою пользовался сей министр, противопоставлялась всегда могуществу Орловых, поэтому двор разделялся на две партии, существовавшие накануне переворота, и императрица посреди обоих управляла самовластно»[724].
Глава девятая «СЕМИРАМИДА СЕВЕРА»
Ясным осенним утром 13 сентября 1762 года, когда еще по-летнему пригревало солнце, но деревья уже подернулись первой желтизной, в старую столицу через триумфальные ворота, устроенные на Тверской улице, въехал раззолоченный царский «поезд». Вереница карет и экипажей тянулась от Земляного рода до Белого, из-за колокольного звона невозможно было расслышать собственного голоса, толпы по-праздничному разодетых людей по обеим сторонам улиц гудели, как морской прибой. Первопрестольная встречала новую императрицу, которая через полтора месяца после совершенного переворота прибыла в Москву для коронации.
Среди сопутствовавших царской карете экипажей придворных москвичи с удивлением замечали ехавшие в общем строю великолепные повозки знатных вельмож, находившихся в милости во время прежних царствований. Это было необычно. Как правило, любимцы и сотрудники старых государей теряли право появляться при дворе и немедленно отправлялись если не в Березов, то уж по крайней мере в отдаленную деревню под строгий надзор. На этот раз все было иначе. Вот проехала карета канцлера Михаила Илларионовича Воронцова, чья племянница Елизавета Романовна была фавориткой свергнутого императора Петра III. Вот триумфальные ворота миновал экипаж старого фельдмаршала Бурхарда Христофора Миниха, возвращенного из ссылки и обласканного прежним государем. А вот показались кареты братьев Разумовских, поднятых Елизаветой из самых низов малороссийского казачества. Правда, Алексей Григорьевич и Кирилл Григорьевич всегда хорошо относились к великой княгине Екатерине Алексеевне, но многим казалось, что звезда знаменитых братьев должна вот-вот закатиться.
Молодая императрица, как и прежде, в годы своего грустного замужества, нуждалась во всех, кто мог ее поддержать. В силу своего характера и воспитания она иначе относилась к людям, чем это было принято у ее предшественников. Принцип уважения достоинства окружающих, естественный для Екатерины в частной обстановке, теперь, когда она вознеслась на недосягаемую высоту, превратился в один из принципов ее политики. Об этом не говорили, не издавали манифестов, не подчеркивали в указах, просто сама манера поведения императрицы на глазах меняла привычный стиль взаимоотношений в русском дворянском обществе.
Графу Алексею Григорьевичу Разумовскому предстояло играть заметную роль на коронации новой императрицы: нести корону во время обряда венчания на царство. Но тайная миссия, выпавшая бывшему фавориту Елизаветы в теневой политической игре, была куда важнее. Вокруг его имени завернулась спираль одной из крупнейших политических интриг начала нового царствования.
«Госпожа Орлова»
За глаза Разумовского называли тайным мужем покойной императрицы. Семейные предания рода Разумовских, записанные в XIX веке историком А. А. Васильчиковым[725], а до этого использованные автором монографии о царствовании Елизаветы Петровны А. Вейдемейером[726], гласят, что венчание состоялось осенью 1742 года в подмосковном селе Перово. Обряд совершил духовник императрицы Дубянский.
В трудной политической борьбе, которая развернулась сразу после переворота между партией, поддерживающей притязания Екатерины, и партией, пытавшейся передать престол ее сыну Павлу, Орловы одержали победу. Однако знаменитые братья, вступая в заговор, тешили себя надеждой, что императрица, получив корону, решится на венчание с Григорием Григорьевичем. После коронации, состоявшейся 22 сентября, настало время платить по счетам.
Возвращенный Екатериной из ссылки бывший канцлер Бестужев-Рюмин (некогда первый помощник и советник Разумовского) сблизился с Орловыми, стараясь найти в них новую политическую опору. Именно он осторожно поведал фавориту историю брака Елизаветы и простого малороссийского казака. Понятовский, часто беседовавший с канцлером в 1757–1758 годах, сообщал: «Сам Бестужев неоднократно настаивал на том, чтобы Елизавета объявила публично о своем тайном браке с Разумовским — империи нужен был наследник по прямой линии. Канцлер вдвойне был в этом заинтересован: он надеялся заслужить благодарность Разумовского, много в ту пору стоившую, и хотел удалить от трона принца Голштинского (Петра Федоровича. — О. Е.)»[727]. Теперь, на рубеже 1762–1763 годов, сменились декорации, даже люди, но не тактика старого вельможи. Алексей Петрович жаждал «заслужить благодарность» Орлова и «удалить от трона» Павла, «личные качества которого никак не соответствовали интересам империи, а происхождение могло способствовать новым переворотам». Эти слова, сказанные об отце, вполне подходили и к сыну.
Используя опыт Бестужева, Орловы предприняли попытку склонить Екатерину к венчанию с Григорием Григорьевичем. Если бы фаворит, как некогда Разумовский, удовольствовался тайным союзом, подобный план мог осуществиться. Но поскольку действиями Орловых в этом вопросе руководил «опытный» Бестужев, всегда ратовавший за обнародование брака Елизаветы и Разумовского, то претензии Григория Григорьевича приобрели нежелательные размеры. Он добивался возможности стать супругом государыни открыто, а этого в складывавшейся обстановке Екатерина не могла позволить. Власть молодой государыни основывалась на желании двора, гвардии и дворянского общества обеих столиц видеть императрицей именно ее. Но такое желание могло измениться, соверши она опрометчивый шаг.
В Москве императрице не замедлили дать это понять, как только бывший канцлер Бестужев-Рюмин стал собирать подписи не разъехавшегося еще после коронации дворянства под прошением о том, чтобы императрица вступила во второй брак, поскольку наследник престола Павел якобы слаб здоровьем[728]. В мае 1763 года, когда Екатерина в сопровождении Григория Орлова отправилась из Москвы в Воскресенский монастырь, по городу распространились слухи, будто императрица намерена там венчаться. С триумфальных ворот сорвали ее портрет, гвардия заметно роптала. В желании Орлова венчаться открыто видели проявление непомерных амбиций и оскорбление императорского величия. Мемуаристка Е. П. Янькова (в девичестве Римская-Корсакова), молодость которой пришлась уже на конец XVIII столетия, так записала отголоски раздраженных московских слухов об Орлове: «Он метил очень далеко и уж чересчур высоко»[729].
Казалось, в подобных обстоятельствах идея венчания должна была отпасть сама собой. Однако Орловы и Бестужев продолжали давить. Императрица колебалась и поставила вопрос о браке с Григорием Григорьевичем на обсуждение в Совете. Напряженно переводя глаза с одного лица на другое, Екатерина ждала реакции высших сановников государства в надежде, что взрыв негодования в Совете остановит ее лучших сторонников, готовых погубить и себя, и дело своих рук. Но присутствующие опасливо молчали, полагая, что такова ее собственная воля. Наконец с места поднялся Никита Иванович Панин и, плотно прижавшись к стене, потому что ноги плохо повиновались ему в этот момент, произнес слова, которые потом передавались из уст в уста: «Императрица делает, что хочет, но госпожа Орлова не будет русской императрицей»[730]. Екатерина закрыла заседание.
На алой шелковой обивке стены, к которой прижался затылком Никита Иванович, остался след от его напудренного парика. В следующие несколько дней придворные чины перед докладом императрице приходили прикоснуться к этому следу головой «для храбрости».
В ответ Орловы предприняли новый шаг, весьма опасный для Екатерины. Бестужев знал, что у его бывшего покровителя Разумовского в доме хранятся документы, подтверждающие факт венчания с Елизаветой Петровной. По совету бывшего канцлера Григорий Григорьевич испросил у императрицы проект указа об официальном признании Разумовского супругом покойной государыни и возведении его в достоинство императорского высочества. Таким образом, создавался официальный прецедент для брака.
Екатерина повела сложную игру, стараясь одновременно не потерять Орловых и спасти самое себя. Она прямо не отказала фавориту, проект был составлен, но с ним к Алексею Григорьевичу императрица послала ярого противника самой идеи брака с Орловым канцлера Михаила Илларионовича Воронцова, которому буквально за несколько дней перед этим говорила, что Бестужев собирает подписи дворянства без ее ведома и желания. Воронцов был опытным царедворцем и не стал задавать лишних вопросов.
История свидания канцлера и Разумовского была записана в 1843 году министром народного просвещения графом С. С. Уваровым со слов своего тестя Алексея Кирилловича Разумовского, племянника фаворита Елизаветы[731]. Итак, Воронцов отправился в дом Разумовского на Покровке близ церкви Воскресения в Барашах и застал Алексея Григорьевича, сидевшего в креслах у камина с новым киевским изданием Священного Писания в руках. Показав графу проект указа, Воронцов попросил бумаги, подтверждавшие факт венчания, для того чтобы императрица могла подписать документ. Несколько минут Алексей Григорьевич молчал. Какие чувства боролись в его душе? Лет десять — двадцать назад, при жизни своей августейшей покровительницы, он дорого бы дал за такой указ, тогда на русском престоле оказались бы его потомки, а не голштинские принцы и принцессы. Теперь же ему, одинокому старику, в тишине доживающему свою жизнь, было все равно. Граф подошел к комоду, достал ларец черного дерева, инкрустированный серебром и перламутром, долго рылся, отыскивая ключ, наконец открыл крышку, чем-то щелкнул, проверяя потайной ящик, и извлек оттуда сверток розового атласа. В свертке оказались пожелтевшие листы, которые Алексей Григорьевич, не передавая в руки Воронцову, медленно перечитал. Затем поцеловав их, граф повернулся к образам, перекрестился и, возвратясь к камину, положил бумаги в огонь. «Я не был ничем более как верным рабом Ее величества, — произнес он, с трудом опускаясь в кресло. — …Никогда не забывал я, из какой доли и на какую степень возведен я десницею ее… Если бы было некогда то, о чем Вы говорите со мною, то поверьте, граф, что я не имел бы суетности признать случай, помрачающий незабвенную память монархини, моей благодетельницы». От Разумовского Воронцов вернулся к Екатерине и донес ей о случившемся. Императрица протянула канцлеру руку для поцелуя со словами: «Мы друг друга понимаем»[732].
По другой версии, Екатерина послала за документами через несколько лет после коронации, и не Воронцова, а А. А. Вяземского[733]. Суть произошедшего от этого не изменилась. Документы были уничтожены, прецедента больше не существовало. Хорошо осведомленный через брата обо всем, что происходило во дворце, Алексей Григорьевич чутьем старого придворного понял, в какое трудное положение попала новая императрица и чего она от него ждет. Он пожертвовал самым дорогим, что у него оставалось, — памятью о своей безвозвратно ушедшей молодости, сказочном счастье и горячо любимой женщине. Екатерина сумела по достоинству оценить этот благородный поступок.
Вряд ли она была недовольна случившимся, поскольку все дальнейшее время своего пребывания в Москве подчеркивала исключительное расположение к Разумовскому, вела себя с Алексеем Григорьевичем как со старшим родственником, навещала его сама, а когда он приезжал ко двору, первая вставала ему навстречу и, прощаясь, всегда провожала его до дверей комнаты. Орловым пришлось смириться и оставить хлопоты о браке, а Бестужев, не осуществив свой дерзкий план, потерял в них возможных покровителей. Вскоре он, осыпанный милостями, но не вписавшийся в новую политическую расстановку сил, вынужден был покинуть двор.
«Свобода языка, доходящая до угроз»
Однако эти события имели далеко идущие последствия. Группа офицеров, прежних сторонников Екатерины, во главе с камер-юнкером Ф. А. Хитрово, братьями Н. и А. Рославлевыми и М. Ласунским затеяла заговор, целью которого был арест или даже убийство братьев Орловых. Заговор почти сразу оказался раскрыт из-за доноса князя Несвицкого. Следствие вел сенатор Василий Иванович Суворов, человек разумный, строгий и абсолютно преданный Екатерине. Он сумел вскрыть немало неприятных для императрицы сторон дела. Молодые офицеры оказались лишь видимой верхушкой айсберга, руководили же ими совсем другие люди. На допросах Хитрово прозвучали фамилии E. Р. Дашковой, Н. И. Панина, К. Г. Разумовского, З. Г. Чернышева[734].
Мы видели, что в политическом смысле Дашкова и Орлов претендовали на одно и то же место. В том, что роль первого лица в государстве после себя Екатерина II отдала не ей, княгиня видела предательство императрицы. После переворота Екатерина Романовна была щедро вознаграждена, но она ожидала, что императрица поделится с ней не богатством, а властью, поэтому и не могла быть удовлетворена. Это точно подметил новый английский посол Джон Бёкингхэмшир: «Если бы леди д’Ашков удовлетворилась скромной долей авторитета, она бы до сих пор оставалась первой фавориткой императрицы».
Осыпанная милостями, но внутренне уязвленная Екатерина Романовна очутилась в Москве в составе пышной коронационной процессии. Первый словесный портрет княгини был составлен примерно тогда же. «Княгиня д’Ашков, леди, чье имя, как она считает, будет, бесспорно, отмечено в истории, обладает замечательно хорошей фигурой и прекрасно подает себя, — писал британец. — В те краткие моменты, когда ее пылкие страсти спят, выражение ее лица приятно, а манеры таковы, что вызывают чувства, ей самой едва ли известные. Но хотя это лицо красиво, а черты не имеют ни малейшего недостатка, его характер главным образом таков, какой с удовольствием изобразил бы опытный художник, желай он нарисовать одну из тех знаменитых женщин, чья утонченная жестокость наполняет журналы ужасов. Ее идеи невыразимо жестоки и дерзки, первая привела бы с помощью самых ужасных средств к освобождению человечества, а следующая превратила бы всех в ее рабов»[735].
Княгиня подробно рассказывает в «Записках», как во время коронации ей пришлось стоять в задних рядах, соответственно скромному чину ее супруга. «Мои друзья думали, что я обижусь этим, и находили даже, что мне не следует ехать в церковь», — писала она. Однако Екатерина Романовна придумала демарш, еще более заметный, чем отсутствие на церемонии. «22 сентября, в день коронации, я по обыкновению отправилась к императрице, только гораздо раньше обычного часа, — с удовольствием рассказывала княгиня. — При выходе ее из внутренних покоев я следовала непосредственно за ней»[736]. Так, возле Екатерины, Дашкова гордо вошла в собор, где демонстративно, на глазах у всех развернулась и пошла в задние ряды.
Подчеркивая немилостивое обращение с собой, княгиня лишь в одном месте случайно проговорилась. Оказывается, всю дорогу от Петербурга до Москвы она ехала с императрицей в одной карете, а такого недвусмысленного знака расположения, причем проявленного в частной обстановке, могли удостоиться только самые близкие к государыне люди. В романе Л. Н. Толстого «Война и мир» есть примечательное рассуждение об официальной и «невидимой» субординации. Князь Андрей заметил, как в кабинет пропустили молодого офицера, в то время как пожилой заслуженный генерал остался сидеть под дверью. На официальном приеме оказать такого предпочтения младшему по званию было нельзя, но в деловой и тем более частной обстановке многие требования этикета смягчались и начинала действовать «невидимая» субординация. В случае с Дашковой произошла похожая вещь. На коронационных торжествах она, согласно жесткому придворному этикету, не имела права стоять ни ближе, ни дальше по отношению к императрице, чем это определяли чины ее супруга — полковника. Но реальное место того или иного придворного, степень его влияния на государя определялась именно «невидимой» субординацией.
Несмотря на явные знаки благоволения, напряжение между Екатериной II и Дашковой проявлялось все заметнее. Именно здесь, в Москве, оно впервые поставило их на грань разрыва. Двор оставался в старой столице после коронации около года; в самый разгар слухов о возможности брака между императрицей и Григорием Орловым и вспыхнуло дело Хитрово, связанное с именем Дашковой[737]. В комплот оказалась вовлечена по крайней мере половина прежних сторонников императрицы, оскорбленных, по выражению Дашковой, тем, что «революция послужила лишь опасному для родины делу возвышения Григория Орлова». Вспоминали заговорщики и об обещании, данном Екатериной, быть только правительницей, а не самодержавной государыней. Следствие, однако, не было доведено до конца. Не решаясь открыто задевать крупных вельмож, императрица предпочла замять дело. Никто из знатных лиц не пострадал, да и сами офицеры подверглись весьма мягкому наказанию. Н. Рославлев отбыл служить на Украину, его брат А. Рославлев — в крепость Святого Димитрия Ростовского, а М. Ласунский — в город Ливны. Хитрово был сослан в свое имение, а не в Сибирь, как позднее уверяла Дидро Дашкова.
Под конец Хитрово повинился перед императрицей в личном разговоре и рассказал, кого он посещал и пытался привлечь к мятежу. Оказалось, что сторонники великого князя Павла Петровича обсуждали вопрос об отстранении Екатерины и выбирали кандидатуру будущего регента: Н. И. Панин или И. И. Шувалов. Кроме дела Хитрово, были раскрыты и другие, менее значительные заговоры в гвардии[738]. Это весьма насторожило государыню. Императрица с большим «разбором», как тогда говорили, стала относиться к вчерашним соратникам из гвардейской среды.
Против высших сановников обвинений выдвинуто не было. Екатерина явно побоялась тронуть по-настоящему крупных, влиятельных лиц. Зато опале подверглась княгиня Дашкова.
Вот как об этом рассказывала в мемуарах сама Екатерина Романовна: «Болезнь… избавила меня от частых посещений Хитрово, приезжавшего советоваться со мной на счет тех мер, которые следовало предпринять, чтоб помешать считавшемуся уже делом решенным браку императрицы с Григорием Орловым… Хитрово был арестован… Он не только ничего не отрицал, но даже с гордостью объявил, что первый вонзит шпагу в сердце Орлова и сам готов скорее умереть, чем примириться с унизительным сознанием, что вся революция послужила только к опасному для отечества возвышению Григория Орлова… Его спросили, не сообщал ли он мне своих планов и какого я была мнения о них. Он ответил: „Я был три раза у княгини, чтоб спросить ее советов, даже ее приказаний на этот счет, но меня ни разу к ней не допустили… Если б я имел честь ее увидеть, я бы сообщил ей свои мысли на этот счет и убежден, что услышал бы из ее уст только слова, продиктованные патриотизмом и величием души“»[739].
Серьезность положения показывал тот факт, что оба брата Паниных — Никита Иванович и Петр Иванович — немедленно приехали в дом своего племянника Михаила Дашкова и заперлись с ним в отдельной комнате, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию. Сама княгиня до совещания допущена не была. 12 мая она родила сына Павла и лежала в постели, оправляясь после родов. Екатерина Романовна испытывала танталовы муки, не имея возможности услышать, о чем говорят Панины с ее мужем за стеной, в соседних покоях. Утром того же дня приехал статс-секретарь Екатерины II Г. Н. Теплов с письмом императрицы, но не к Дашковой, а к ее супругу. Михаила Ивановича просили частным образом повлиять на жену. «Я искренне желаю не быть в необходимости предать забвению услуги княгини Дашковой за ее неосторожное поведение. Напомните ей это, когда она снова позволит себе нескромную свободу языка, доходящую до угроз», — писала императрица. У нее были основания не верить в то, что Хитрово не обсуждал с Екатериной Романовной своих намерений.
Во время путешествия Екатерины Романовны за границу Дени Дидро записал замечание княгини о том, что после дела Хитрово только болезнь избавила ее от ареста. В «Записках» об этом нет ни слова. Однако есть живая картина страданий Дашковой в часы ожидания действий императрицы, совершенно непонятная, если принять версию мемуаров о непричастности Екатерины Романовны к делу. Испытанный молодой женщиной, еще не оправившейся после родов, страх привел к нервному срыву. «Я почувствовала сильные внутренние боли и судороги в руке и ноге»[740], — писала она. После припадка, сопровождавшегося частичным параличом конечностей, княгиня выздоравливала очень долго. Участие в деле Хитрово для Дашковой, как и для остальных высокопоставленных вельмож, осталось без последствий, если не считать потерю доверия императрицы.
Вскоре двор отбыл в Петербург, а Дашкова вынуждена была остаться в Москве под благовидным предлогом «поправления здоровья». Это была первая кратковременная опала княгини. Муж Дашковой не подвергся гонениям, так как не был ни в чем замешан, императрица нарочито благоволила к нему, что на фоне немилости к самой Екатерине Романовне не могло не ранить княгиню. В июле Михаил Иванович уехал в Петербург, а затем в Дерпт, где квартировал его полк. «А я переехала в наше имение, лежавшее в семи верстах от Москвы… Чистый воздух, холодные ванны и правильная жизнь благотворно повлияли на мое здоровье. В декабре я, хотя еще и не совсем окрепши, уехала в Петербург», — сообщала княгиня.
Вновь в Москву Дашкова вернулась только через два года и опять опальной. На этот раз ее имя оказалось замешано в деле подпоручика В. Я. Мировича, предпринявшего неудачную попытку освободить из Шлиссельбургской крепости свергнутого Елизаветой Петровной императора Ивана Антоновича. Несчастный узник, более 20 лет проведший в заточении, был убит охраной, а Мирович приговорен к смерти и казнен.
Пока тянулось расследование связей Мировича в вельможной среде, к Дашковой пришло страшное известие. Ее муж, посланный с русскими войсками в Польшу способствовать вступлению на престол короля Станислава Августа Понятовского, скончался. Нервы Екатерины Романовны, и без того натянутые как струна, не выдержали. «Левая рука и нога… совершенно отказались служить и висели, как колодки… Я пятнадцать дней находилась между жизнью и смертью»[741], — писала она. Горе оглушило княгиню. Ее семейная жизнь не была гладкой, измученный домашним деспотизмом супруг, случалось, изменял Екатерине Романовне, она ревновала его к императрице. Много лет спустя на одном из московских балов дочь Дашковой Анастасия Щербинина говорила А. С. Пушкину, что ее отец был влюблен в Екатерину II. До определенного момента мягкий и добрый Михаил Иванович служил своей вечно интригующей супруге стеной более надежной, чем ее крупные политические покровители — Панины. На многие выходки Дашковой императрица закрывала глаза из дружеского расположения к князю. Больше этой защиты не было.
«Торжествующая Минерва»
30 января 1763 года в Москве начался так называемый маскарад — масштабное театрализованное шествие под названием «Торжествующая Минерва», венчавшее коронационные празднества. Маскарад продолжился 1 и 2 февраля. Шествие было устроено на Масленой неделе и совпало с традиционными народными гуляньями, поэтому его карнавальная сторона воспринималась публикой как должное. Заранее расклеенные по городу печатные афиши разъясняли смысл представленных во время праздника масок. «По большой Немецкой… от десяти часов утра за полудни будет ездить маскарад, названный „Торжествующая Минерва“, в котором изъявятся гнусность пороков и слава добродетели».
Действо было призвано возвеличить новую императрицу как справедливую правительницу, покровительницу наук и искусств. Начинался маскарад сатирическим показом дурных человеческих качеств. Актеры изображали пьянство, лень, мздоимство, мотовство, спесь, невежество. Следовавшие за ними маски представляли высокие нравственные свойства: кротость, любовь, щедрость, разум, просвещение. Заключительная часть шествия именовалась «Златым веком», в ней участвовали античные боги Зевс, Астрея, Аполлон и, наконец, Минерва, символизировавшая Екатерину. Над ней при помощи «маскарадных машин» парили Виктория и Слава.
Очевидец А. Т. Болотов писал, что зрелище было «совсем новое, необыкновенное и никогда, не только в России, но и нигде не бывалое… подобное Римским… Там на высокой колеснице изображался Парнас, Аполлон, Музы. Тут восседал Марс с Героями в полных доспехах. Здесь видели Палладу или Минерву с Шлемом на челе, с Эгидою, копьем; у ног ее Сова с Математическими инструментами». В маскараде участвовало около четырех тысяч человек на 250 колесницах, влекомых волами[742].
Шествие проходило под арками из зеленых веток и цветочных гирлянд. На каждой красовался девиз-пожелание, например: «Вечное вёдро» — то есть прекрасная солнечная погода на все царствование. Маскарад описывал большой круг по улицам Москвы. Его маршрут начинался от Головинского дворца за Яузой, напротив Немецкой слободы, затем пролегал через Салтыков мост по Ново-Немецкой слободе и двум Басманным улицам, по Мясницкой до Никольского моста, мимо Ильинских ворот по Покровке и Старой Басманной, возвращаясь к Головинскому дворцу. Сама Екатерина в первый день торжества наблюдала шествие из дома И. И. Бецкого.
Главным режиссером действа был знаменитый русский актер Ф. Г. Волков. Тексты для хоров писали М. М. Херасков и А. П. Сумароков. Над постановкой трудились музыканты, художники, костюмеры, портные. Сумма затрат составила 51 952 рубля 38 копеек[743].
К этому времени уже сложилась традиция изображения новой императрицы как спасительницы Отечества, унаследованная от времен Елизаветы Петровны. Августейшая свекровь Екатерины всячески подчеркивала, что она «дщерь Петрова», его прямая и единственно законная наследница, продолжательница славных дел. В ее поэтическом прославлении восторжествовала формула: Елизавета — это Петр сегодня[744]. С Екатериной дело обстояло иначе. Она не была кровной русской государыней, не имела прав на престол. Ее дорога под державную длань Петра пролегала через круг богов, признававших смертную женщину равной себе по талантам и добродетелям. На этом пути имелась досадная, но необходимая задержка. Благодаря оде М. В. Ломоносова, посвященной новой государыне, сначала утвердилась трактовка: Екатерина — это восставшая из гроба Елизавета:
Внемлите все пределы света И ведайте, что может Бог! Воскресла нам Елизавета: Ликует церковь и чертог.Тождество с покойной государыней подчеркивалось и поэтически: «Елизавета, Катерина, / Она из обоих едина», — и наглядно. Ведь во время переворота императрица, как за двадцать лет до этого ее предшественница, скакала верхом в гвардейском мундире. Именно так обеих изобразили художники. Много лет работавший в России Георг Гроот написал в 1743 году хорошо известный зрителям «Конный портрет императрицы Елизаветы Петровны с арапчонком». Переосмыслением его стал портрет Екатерины II в день переворота 28 июня 1762 года кисти Фосойэ. Знаменитый портрет Ф. С. Рокотова «Екатерина II в коронационном платье», написанный в 1763 году, заметно округлял формы и сглаживал чеканный профиль модели под знакомые публике более мягкие и расплывчатые черты Елизаветы. Но еще проще дело обстояло с гравюрами — не мудрствуя лукаво, резчики слегка изменяли лицо на деревянных формах для оттисков и превращали покойную Елизавету в ныне здравствующую Екатерину. Излишне говорить, что регалии, платье, фигура и поза оставались прежними.
Однако новой государыне такие рамки были явно малы. Быстро почувствовавшие это, придворные стихотворцы взялись за обработку темы «божественности» применительно к Екатерине. А. П. Сумароков в оде «На день тезоименитства 1762 года» восклицал: «Бог ангела на трон вознес!» Он же первый ощутил необходимость «освятить» будущие деяния императрицы могучей тенью Петра. В его стихах великий преобразователь с небес благословляет Екатерину.
Маскарад «Торжествующая Минерва» вводил императрицу в круг античных божеств и дарил ей удачно выбранную роль Афины Паллады (в римской мифологии Минервы), богини мудрости. Имя Минервы настолько крепко срослось с именем Екатерины, что даже стало его синонимом — «Северная Минерва». Именно от этого первого маскарада взяла начало традиция славословить государыню в образе мудрой дочери Зевса. Понятно, кто имелся в виду под грозным отцом богов и громовержцем.
Любопытна кантата итальянского композитора В. Манфредини «Соперницы», написанная к 28 июня 1765 года, специально к торжествам по случаю трехлетней годовщины восшествия Екатерины на престол. Минерва и Венера просят Юпитера рассудить их. Кто более достоин поклонения: «богиня художеств, свет наук и крепкая надежда героев» или «мать бога любви, увеселение человеческого рода»? Юпитер спрашивает Аполлона, нет ли среди людей женщины, одаренной достоинствами обеих соперниц. Феб указывает на Екатерину, а хор поет:
Отец богов! Да обожаем В ней образ твой и прославляем[745].На правах Премудрой Матери Отечества, Афины и Афродиты в одном лице Екатерина уже могла дотянуться до Петра. Но она старалась подчеркнуть не кровное, а духовное родство с ним. Ее роль — продолжательницы петровских деяний — закрепилась и в живописи, и в скульптуре. На портрете Екатерины кисти А. Рослина 1776–1777 годов видна надпись над бюстом Петра: «Начатое свершаю». А строка золотом на постаменте Медного всадника: «Петру Первому Екатерина Вторая» — выразила мысль о прямой преемственности наиболее сжато и точно. Создается впечатление, что между одним великим государем и другим никого больше не было.
«Похитители церковного богатства»
14 июля 1763 года Екатерина II вернулась в Северную столицу. Череде пышных праздников пришел конец, потянулись дни рутинной работы. Первое, что требовалось сделать, — добыть деньги для опустевшей в Семилетнюю войну казны. Содержание армии, государственного аппарата, двора стоили недешево. Если же принять во внимание, что императрица задумывала серьезные реформы, то расходы увеличивались многократно.
Позднее Екатерина вспоминала: «Казна была пуста… армии не плачено за несколько лет, тысячи крестьян находились в открытом бунте и непослушании». От новой императрицы потребовались немалое мужество, терпение, последовательность и огромная политическая воля, чтобы исправить положение. Талантливый государственный деятель, она взялась за решение именно тех проблем, перед которыми в бессилии опустило руки елизаветинское правительство. На первых порах выход был найден за счет присвоения государством церковных земель:
О секуляризации заговаривали министры Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Во время краткого царствования Петр III вознамерился было отнять у Церкви ее земли. Характерно, что верность Екатерины православным традициям и защита ею имущества монастырей стали причиной поддержки переворота со стороны духовенства. Однако оказавшись у власти, вдова убитого императора продолжила те начинания его правительства, которые посчитала разумными. Ее, как и многих, раздражали внешние формы неуважения мужа к православию — кривляние в храме, стремление запретить иконы, обрить священников и заставить их носить сюртуки вместо облачения. Однако в принципиальном вопросе о земельных владениях Екатерина проявила завидную твердость и последовательность.
Манифестом 12 августа 1762 года она вернула отобранное Петром III имущество, но при этом писала о желательности освободить Церковь от «мирских забот» по управлению обширными вотчинами с крепостными крестьянами. Она сожалела о том, что в прошлом государство не раз вмешивалось в дела Церкви, но считала необходимым разработать новые законы об использовании церковных земель для всеобщего блага[746].
29 ноября 1762 года была учреждена Комиссия о духовных имениях, во главе которой встал статс-секретарь Екатерины Г. Н. Теплов. Этот орган включал как светских, так и духовных лиц. В инструкции, которую государыня написала специально для них, говорилось, что цель предоставления Церкви обширных имений состояла не только в обеспечении духовенства доходом, но и в содержании школ и богаделен. Комиссии предстояло провести ревизию всего имевшегося церковного имущества и наметить пути его дальнейшего использования[747].
Среди иерархов наиболее болезненно воспринял попытку государства покуситься на церковные земли митрополит Ростовский Арсений (Мацеевич). 9 февраля 1763 года он совершил в Ростове торжественный обряд предания анафеме всех «похитителей» церковного имущества, а затем направил в Синод несколько донесений, обличавших действия правительства[748]. Арсений яростно громил как императрицу, так и подчинившихся ей архиереев, которые, «как псы немые, не лая смотрят» на расхищение богатств Церкви. При чтении его гневных филиппик возникает чувство, что воскрес протопоп Аввакум, ратующий за «древлее благочестие». Арсений сравнивал положение в России с «Содомом и Гоморрой», говорил, что даже при татарском иге Церковь не лишали ее имущества. Однако в отличие от знаменитого раскольника, митрополит не был бескорыстным защитником веры. Самый богатый из православных архиереев, он владел шестнадцатью тысячами душ и отстаивал право Церкви на имущественную независимость от государства. При этом Арсений считал, что забота о просвещении и инвалидах — дело светской власти.
Мятежный митрополит был подвергнут суду за оскорбление величества, признан виновным и приговорен к заключению в дальнем монастыре. Затем его перевезли в Ревель, где он и умер в 1772 году[749]. По преданию, он проклял участвовавших в суде священников, и в их числе митрополита Амвросия (Зертис-Каменского), которому предрек лютую смерть: «яко вол ножом зарезан будешь». Прошло восемь лет, и его слова сбылись — Амвросий погиб во время Чумного бунта в Москве[750].
После ареста и ссылки Мацеевича попытки сопротивления реформе были подавлены на корню. В июне 1763 года вялого и нерешительного обер-прокурора Синода князя А. С. Козловского сменил генерал И. И. Мелиссино[751] — человек энергичный, циничный в религиозных вопросах и предпочитавший храму масонскую ложу. Он должен был стать жестким проводником правительственной политики. Но Екатерина решила уравновесить его антиклерикальное рвение сотрудничеством с лицом совершенно иных убеждений. Заместителем обер-прокурора стал молодой камергер Г. А. Потемкин. Он весьма подходил для новой должности, поскольку имел много друзей в церковных кругах, сам был человеком глубоко верующим, но в то же время понимал необходимость реформы и гарантировал Екатерине безусловную преданность. Право непосредственного, прямого доклада императрице по делам, видимо, было дано Потемкину именно потому, что государыня опасалась чересчур резких выпадов Мелиссино в отношении иерархов Русской Православной церкви.
26 февраля 1764 года был издан Манифест о секуляризации церковных земель. Бывшие монастырские и архиерейские владения передавались в управление Коллегии экономии. Из собранных с этих земель доходов и выплачивались деньги на содержание духовенства[752]. Двадцать шесть епархий разделили на три категории, согласно которым им назначался доход. Бедные и маленькие монастыри оказались упразднены. После реформы из 572 ранее существовавших обителей осталось только 161, зато это были сравнительно крупные, сильные в хозяйственном отношении монастыри, ведшие немалую просветительскую и миссионерскую (среди нерусского населения) деятельность, содержавшие библиотеки, учебные заведения, богадельни и странноприимные дома.
Общая сумма, ежегодно причитавшаяся Церкви после секуляризации, составила сначала 462 868 рублей, а к концу царствования Екатерины возросла до 820 тысяч рублей[753]. Важным результатом реформы был переход полутора миллионов крестьян из состояния монастырских (категория крепостных) в экономические (категория государственных); последние пользовались некоторыми гражданскими правами, например могли посылать своих депутатов в выборный орган — Уложенную комиссию.
Это был серьезный успех. «Похищение церковного богатства» на время наполнило казну и дало Екатерине необходимую «финансовую фору» для проведения реформ. Однако изъятие значительной доли имущества привело к окончательному подчинению Церкви государству. Даже если бы православные иерархи решили воспротивиться какому-либо начинанию правительства, им просто не на что было бы опереться в экономическом отношении, отстаивая свои позиции. Отбирая земли, Екатерина отбирала и долю авторитета Церкви. Отныне духовенство существовало на «жалование», как чиновничество. Это не прибавило ему уважения в глазах не только образованной знати, но и простонародья. Вместо духовных пастырей в священниках стали видеть проводников правительственной политики. В поисках мистических откровений, не отмеченных казенной печатью, дворянство потянулось в масонские ложи, а податные сословия — в религиозные секты. В дальнейшем все усилия правительства по запрещению «собраний духовидцев» и преследованию сектантов давали лишь временный результат и в конечном счете оказались тщетными.
Вряд ли Екатерина предвидела это. Но нельзя сказать, чтобы она шла на подрыв авторитета Церкви бессознательно. Из ее дальнейших шагов, например из того, что священники не получили права представительства в Уложенной комиссии, видно, как императрица опасалась их противодействия реформам, задуманным в просвещенческом ключе.
«Хозяйский взгляд»
Екатерина принадлежала к числу людей, всегда остро чувствовавших опасность. В первые месяцы и даже годы царствования она ни на минуту не могла расслабиться, ощущая, как в спину дышат «друзья» и «враги». Одних следовало награждать и удерживать от опрометчивых шагов, других — занимать полезным делом, приручать и в конечном счете тоже награждать. Московские заговоры ясно показывали степень зависимости государыни от тех и других. Недаром в разговорах с Беранже наша героиня сравнивала себя с зайцем на травле.
«В больших собраниях при дворе любопытно наблюдать тяжелую работу, с какою императрица старается понравиться всем, — писал посол, — свободу и надоедливость, с какими все толкуют ей о своих делах и о своих мнениях. Зная характер этой государыни и видя, с какой необыкновенной ласковостью и любезностью она отвечает на все это, я могу себе представить, чего ей это должно стоить; значит, сильно же чувствует она свою зависимость, чтоб переносить это. В одно из последних собраний, когда она была утомлена более обыкновенного разговорами с… пьяным Бестужевым… императрица подошла ко мне и… сказала: „Вы должны находить большое сходство между зайцем и мною: меня поднимают и гонят изо всех сил“»[754].
Неудивительно, что в таких условиях Екатерина время от времени брала паузу — отправлялась в краткое путешествие, как бы меняла обстановку. Однако поставленная цель — «понравиться всем» — не исчезала. Просто расширялся круг тех, кому надлежало нравиться: Екатерина приучала подданных к себе, сама знакомилась с их жизнью, щедро одаривала местное чиновничество, дворянство, купечество, много беседовала с простонародьем и тоже раздавала подарки.
Каждое из ее путешествий имело конкретную, сиюминутную задачу — посетить богомолье, увидеть Ладожский канал и запланировать его приведение в порядок, встретиться с азиатским купечеством, провести переговоры с австрийским императором или шведским королем. В то же время из поля зрения Екатерины не ускользала и сверхзадача подобных акций — показать себя подданным, утвердиться в их сердцах как Мать Отечества, дотянуться монаршей рукой до отдаленных уголков и, где возможно, исправив малое, убедить жителей в исправности большого.
С последней задачей наша героиня справлялась блестяще. Но для этого необходимо было не просто пускать пыль в глаза, а много работать. В другом донесении Беранже передавал слова Екатерины: «Она старается всеми средствами сделать своих подданных счастливыми, но чувствует, что надобны года да и года, чтобы они привыкли к ней». Поездки помогали такой «привычке», недаром до первой войны с Турцией государыня отправлялась в них почти ежегодно.
Еще во время пребывания в Москве, после коронационных торжеств, Екатерина ездила в Ростов и Ярославль. Это было паломничество, призванное, помимо прочего, поддержать представление о новой царице как о православной государыне. В мае 1763 года должно было произойти освящение мощей святителя Димитрия Ростовского в новой раке. Зная вздорный характер Ростовского митрополита Арсения — его «властолюбие и бешенство», — императрица боялась, как бы тот не поспешил и не провел церемонию без нее. Еще в феврале, как раз когда Арсений впервые анафемствовал правительство, она просила статс-секретаря А. В. Олсуфьева проследить, чтобы «оная рака без меня отнюдь не поставлена была»[755].
Екатерина понимала, что грядущая секуляризация очень болезненна, и старалась ближе познакомиться не только со столичным, но и с провинциальным духовенством, завязать нужные контакты, задобрить пожалованиями, приобрести сторонников. В Ростов императрица направилась через Троице-Сергиеву лавру. До Троицы она прошла пешком, делая по несколько верст в день. Затем экипаж доставлял ее к месту обеда и ночевки, а утром вновь привозил туда, где она остановилась накануне. Именно таким способом путешествовала по монастырям императрица Елизавета Петровна.
В девяти верстах от Троицы государыню встретил наместник монастыря Платон Левшин, которому в скором времени предстояло стать одним из крупнейших религиозных деятелей ее царствования. На следующий день он произнес проповедь, настолько понравившуюся Екатерине, что она велела напечатать тест в газетах. 26-летний епископ был приглашен к императорскому столу, где его образованность произвела сильное впечатление. Из-за болезни Левшин не смог последовать за Екатериной в Ростов, хотя его и звали. Но наша героиня не отличалась забывчивостью и уж если находила способных людей, то не скоро выпускала из головы мысль приспособить их к делу. Вскоре Платон получил назначение преподавателем к великому князю Павлу и был пожалован «куском бархата рытого и денежною… дачею немалою»[756].
Из Троицы Екатерина ехала уже в карете, заворачивая по пути во все обители. В Ростове ее встретил новый митрополит Дмитрий Сеченов. 25 мая императрица пешком двинулась в монастырь преподобного Иакова Ростовского, где обретались мощи святителя Димитрия, отстояла молебен и присутствовала при их положении в раку. Это утомительное путешествие привлекло к государыне много сердец простонародья. Почитание монархини было столь велико, что, случалось, прихожане передавали свечки — поставить их перед Екатериной, как перед живой иконой.
В 1764 году императрица посетила Прибалтийские губернии, через год — Ладожский канал, а в 1767 году плавала по Волге. Следует отметить, что, в отличие от других царственных путешественников, например Иосифа II или Густава III, наша героиня всегда избирала маршруты внутри своей страны и никогда не пускалась в дорогу инкогнито[757]. Это объяснялось целями поездок. Екатерину интересовало прежде всего состояние дел дома. «Я хочу знать только то, что мне нужно для управления моим маленьким хозяйством… Я путешествую не для того только, чтобы осматривать местности, но чтобы видеть людей… — говорила она уже в 1780-х годах французскому послу графу Луи де Сегюру. — Мне нужно дать народу возможность дойти до меня… выслушать жалобы и внушить лицам, которые могут употребить во зло мое доверие, опасение, что я открою их грехи, их нерадение и несправедливость. Вот какую пользу я хочу извлечь из моей поездки… Я держусь правила, что глаз хозяйский зорок»[758]. Даже в газетах писалось, что путешествия предпринимаются «для поправления недостатков»[759]. Стало быть, от последних не открещивались.
Екатерина прекрасно понимала, что чиновники будут готовиться к ее приезду: строить дороги, путевые дворцы, чинить старые и наводить новые мосты, приводить в порядок улицы. Такая работа имела самостоятельную ценность, ведь государыня уезжала, а сооружения оставались. Поэтому Екатерина всегда предупреждала местную администрацию заранее, чтобы не застать врасплох, а вот путь внутри губернии могла изменить — пусть уж позаботятся не только о главной трассе следования. «Одно известие о моем намерении поведет к добру»[760], — признавалась она Сегюру. Так, еще в апреле 1765 года Екатерина сообщила Б. X. Миниху о желании осмотреть Ладожский канал, и до августа старый фельдмаршал имел время подготовиться.
Деньги на организацию поездки тратились кабинетом императрицы и местной администрацией. Так, в 1764 году кабинет выделил пять тысяч рублей, рижская канцелярия — 30 тысяч и ревельская — 12 тысяч. По дороге государыня и сопровождающие не обязательно останавливались в лучших городских домах. Для них могли разбить палатки в чистом поле. Мебель и, главное, посуду — серебряные, медные и оловянные сервизы — приходилось везти с собой. После чего обер-гофмаршал пересчитывал пропажи. В 1763 году из Ростова и Ярославля вернулось почти все, кроме одной серебряной ложки и 12 салфеток. Последние, очевидно, разобрали на сувениры.
Въезд в каждый город был неизменно торжественным, под колокольный звон и пушечную пальбу. Уже на границе губернии государыню встречал губернатор с чиновниками. Если поблизости квартировали войска, они непременно выстраивались и приветствовали государыню барабанным боем, полковой музыкой и преклонением знамен. У триумфальных арок ее встречали купечество и представители цехов со значками. Дети, одетые в белое, кидали под ноги цветы. В 1764 году в Риге Екатерина слушала концерт, данный ей «знатными горожанами обоего пола», где особенно отличились исполнявшие итальянский дуэт дочери мещан. А вечером императрица почтила своим присутствием маскарад, устроенный в ее честь Рижским магистратом, причем пришла туда «пешком в маске».
В Риге Екатерину впервые увидел направлявшийся в Россию Джакомо Казанова. «Я был свидетелем, с какою ласковостью и приветливостью принимала она в большой зале изъявление верноподданнических чувств от ливонского дворянства, как целовалась она с благородными девицами, подходившими облобызать ей руку. Окружали ее Орловы… Для увеселения верных своих служителей она милостиво соизволила сказать, что намерена держать небольшой банк в фараон на десять тысяч рублей. В тот же миг принесли золото и карты. Екатерина села, взяла в руки колоду, сделала вид, что тасует, дала снять первому попавшемуся и имела удовольствие видеть, что банк был сорван… ведь раз колода не стасована, то, увидев первую, все тотчас поняли, какая карта выигрышная… Ей было тридцать пять лет и царствовала она уже два года. Она не была красива, но по праву нравилась всем, кто знал ее: высокая, хорошо сложенная, приветливая, обходительная и, главное, всегда спокойная»[761].
Обычно в поездку Екатерина брала с собой двух статс-секретарей и ни на день не прекращала работу. Местная администрация предоставляла ей сведения о губернии: географическое положение, число городов, население, национальный и конфессиональный состав и т. д. Бильбасов отмечал, что даже то немногое, что чиновники не успевали скрыть от августейшего внимания, «было значительно полезнее и вернее всяких канцелярских докладов и губернаторских отчетов»[762]. Глаз Екатерины действительно был хозяйским, раз цеплялся за такие вещи, как машины для очистки дна реки в Риге, новые постройки в Дерпте, ладьи для перевозки соли на Волге, пильные мельницы в Нарве. «Мимо ушей не надобно пропускать все, что чуть полезно»[763], — писала она в 1764 году.
Подобные «мелочи» Елизавета Петровна посчитала бы скучными, да и Петр Федорович, скорее всего, зевал бы, глядя на них. Но «маленькое хозяйство» росло и требовало пригляда. «Я выехала… обозревать водяные сообщения, по которым поставляются в Петербург съестные припасы»[764], — писала императрица барону М. Гримму. Вывод был неутешительным: «Канал прекрасен, но заброшен»[765]. Со времен Петра I, чей ботик и лопата сохранялись как раритет, им никто не занимался. Корабли успешно преодолевали сглаженные пороги на Неве, но дно следовало углублять, а берега расчищать.
Осенью 1763 года императрица планировала по-настоящему большое путешествие: сначала доплыть до Ревеля и посетить Балтийский порт, а оттуда добраться «по сухому пути» в Ригу, Смоленск, Псков, Великие Луки и Нарву[766]. Однако летом 1764 года государыня получила известие о деле В. Я. Мировича.
Обращает внимание скорость, с которой Екатерина повернула к столице. От Петербурга до Риги она проехала 32 станции, а обратно — 28, то есть четыре промахнула, не меняя лошадей, которых было выставлено по 277 на каждой станции. Причем использовались только полковые, заведомо хорошие кони, за каждого павшего из которых кабинет платил по 12 рублей[767].
«Безрассудный coup»
У Екатерины были причины торопиться. Она выехала в Митаву, но «на другой день в полдень тревога охватила всех, когда узнали, что в Петербурге едва не случилась революция, — пересказывал свои, не вполне точные сведения Казанова. — Попытались силой освободить из Шлиссельбургской крепости-несчастного Иоанна… Мученическая смерть императора произвела такое волнение в городе, что осмотрительный Панин, опасаясь бунта, стал немедля слать гонца за гонцом, дабы известить государыню, что ей надобно быть в столице. По той причине Екатерина… понеслась во весь опор в Петербург, где застала мир и порядок»[768].
Толки о возможном возведении на престол шлиссельбургского узника не затихали с самой коронации. Уже сосланный под Архангельск в Никольский Корельский монастырь Арсений (Мацеевич) проповедовал среди монахов, что государыня «не природная наша и не следовало ей принимать престола; цесаревич болен золотухою, и, Бог знает, кто после будет, а надобно быть Ивану Антоновичу»[769].
После свидания с узником Екатерина была убеждена в его душевной болезни. «Мы увидели в нем, кроме… невразумительного косноязычия, лишение разума и смысла человеческого»[770], — писала она. Сам по себе Иван не казался ей опасным, его можно было поместить на жительство в монастырь. «Мое мнение есть, — рассуждала императрица в записке Панину, — чтоб… из рук не выпускать, дабы всегда в охранении от зла остался; только постричь ныне и переменить жилище в не весьма близкой и в не весьма отдаленный монастырь, особливо в такой, где богомолья нет, и тут содержать под таким присмотром, как и ныне; еще справиться можно, нет ли посреди муромских лесов, в Коле или в Новгородской епархии таких мест»[771].
Караульным дали предписание склонять узника к монашеству, на что тот отзывался положительно, но тоже весьма туманно: «Я в монашеский чин желаю, только страшусь Св. Духа, при том же я бесплотный». Имя Гервасий, которым при пострижении должны были заменить другое, выдуманное для арестанта еще в 1744 году имя Григорий, ему не понравилось. Юноша предложил называться Феодосием. Казалось, дело налаживается, и вскоре несчастный получит бо́льшую свободу, чем в крепости.
Но в начале июля 1764 года подпоручик Смоленского полка Василий Мирович собрал 45 солдат, скомандовал «к ружью» и попытался силой освободить узника. Охрана, имея инструкцию: «противиться сколько можно и арестанта живого в руки не отдавать», — исполнила приказ. Когда Мирович ворвался в каземат, Иван Антонович был уже мертв.
В Петербурге узнали о случившемся в тот же день, 5 июля. Комендант Шлиссельбурга Бередников направил донесение Панину, жившему с воспитанником цесаревичем Павлом в Царском Селе. «Сего числа по полуночи во втором часу стоящий в крепости в недельном карауле Смоленского пехотного полку подпоручик Василий Яковлев, сын Мирович, весь караул в фрунт учредил и… прибег ко мне и ударил меня прикладом ружья в голову… крича солдатам: „Это злодей, государя Иоанна Антоновича содержал в крепости здешней под караулом, возьмите его! Мы должны умереть за государя!“». Завязалась перестрелка между солдатами Мировича и караульной командой. Мятежный подпоручик даже привез «шестифунтовую пушку». Когда 16 человек охраны, засевших в каземате, осознали, что сила на стороне нападавших, двое офицеров, отвечавших за Ивана Антоновича головой, — капитан Власьев и поручик Чекин — закололи несчастного шпагами.
Следовало ожидать, что мятежники разорвут их, но бунт прекратился так же быстро, как и вспыхнул. Увидев мертвое тело узника, Мирович понял, что дело проиграно, и предпочел сдаться. «Теперь помощи нам никакой нет, — сказал он солдатам, — и они правы, а мы виноваты». Комендант доносил, что останки «безымянного колодника» вынесли из каземата и положили у казармы. После чего Мирович «со всеми солдатами целовался, сказывая им, что это он один погрешен»[772]. Тут его и арестовали.
Внешняя бестолковость предприятия не должна вводить в заблуждение. Если не захват власти, то освобождение «принца Иоанна» вполне могло удаться, будь оно организовано чуть лучше. Видимая легкость переворотов кружила не одну офицерскую голову. «Горсть военных в 1741 году опрокинула престол Иоанна Антоновича, — рассуждал А. Г. Брикнер. — Горстью военных он мог быть восстановлен в 1764 году»[773].
До вечера 5 июля Панин собирал сведения, после чего отправил императрице донесение, которое было получено через четыре дня. Из ответа Екатерины видно, что, кроме удивления, она испытывала нечто вроде благодарности Провидению, избавившему ее от «безымянного колодника». Императрица одобряла принятые меры и не выказывала тени беспокойства. «Я с великим удивлением читала ваши рапорты… — писала она Панину, — руководство Божие чудное и неиспытанное есть! Я к вашим весьма хорошим распоряжениям иного прибавить не могу». На следующий день те же мысли: «Много, много благодарю вас за меры, которые вы приняли и к которым, конечно, нечего больше прибавить. Провидение дало мне ясный знак своей милости, давши такой оборот этому предприятию».
Стоит ли полностью верить ее словам? Менее всего наша героиня была наивна. Цепь мелких заговоров в гвардии, дело Хитрово, теперь Мирович. Она и прежде не обнаруживала истинных чувств по отношению к влиятельным лицам, чьи имена мелькали при дознании. «Не думайте, что я страху предалась», — писала она Панину во втором послании 10 июля.
Между тем у нее имелись причины для тревоги еще до отъезда из Петербурга. С весны в столице находили подметные письма, содержание которых оказалось сходным с «манифестом» Мировича. В них повторялись обвинения Екатерины в убийстве Петра III и осуждалось желание вступить в брак с Григорием Орловым. Знакомый набор. Среди бумаг Мировича был найден план заговора, начинавшийся словами: «Уже время настает к бунту». Согласно ему, похищенного Ивана Антоновича следовало привезти к артиллеристам, представить как государя, а затем арестовать сторонников Екатерины. Троих — Захара Чернышева, Алексея Разумовского и Григория Орлова — предстояло четвертовать. Саму императрицу выслать в Германию, а на престоле «утвердить непорочного царя»[774].
Заметим, что предложение убить Орлова как бы унаследовано от дела Хитрово. Чем помешал Алексей Разумовский? Тем, что мог подтвердить факт давнего венчания с Елизаветой? А Чернышев? Тем, что когда-то считался поклонником Екатерины и, в случае гибели Орлова, августейшие взгляды могли обратиться к нему? Не слишком ли большая осведомленность в «комнатных», как тогда говорили, делах для скромного подпоручика?
В подметных письмах появились и новые сюжеты: утверждалось, будто Екатерина вывезла деньги за границу и, уехав в Лифляндию, больше в Россию не вернется. При этом изъятие церковных земель в вину государыне не ставилось. То ли армейская среда была равнодушна к данному вопросу, то ли круги, где Мирович почерпнул свои идеи, остались довольны секуляризацией.
«Недолго владел престолом Петр Третий, — гласил манифест, зачитанный подпоручиком перед мятежными солдатами от имени Ивана Антоновича, — и тот от пронырства и от руки жены своей опоен смертным ядом, по нем же не иным чем как силою обладала наследственным моим престолом самолюбная расточительница Екатерина, которая… из отечества Нашего выслала на кораблях к родному брату своему… князю Фридерику Августу на двадцать пять миллионов денег золота и серебра… и сверх того, она через свои природные слабости хотела взять себе в мужья подданного своего, Григория Орлова, с тем, чтобы уже из злонамеренного и вредного отечеству ее похода (в Ригу. — О. Е.) и не возвратиться»[775].
10 июля Екатерина напомнила Панину о сходстве «манифеста» с подметными письмами. «У меня сердце щемит, когда я думаю об этом деле… Хотя зло пресечено в корню, однако я боюсь, чтобы в таком большом городе, как Петербург, глухие слухи не наделали бы много несчастных… В день моего отъезда из Петербурга одна бедная женщина нашла на улице письмо, написанное поддельною рукою, где говорилось то же самое… я сего дела не более уважаю, как оно в самом существе есть, сиречь дешперальный и безрассудный coup [776], однако ж надобно до фундамента знать, сколь далеко дурачества распространялись».
Еще в первом письме 9 июля императрица предупредила Никиту Ивановича, что нельзя полностью скрыть случившееся: «Теперь надлежит следствие над винными производить без огласки и без всякой скрытности (понеже само собою оное дело не может остаться секретно, более двухсот человек имея в нем участие). Безыменного колодника велите хоронить по христианской должности в Шлиссельбурге без огласки же. Мне рассудилось, что есть ли неравно искра кроется в пепле, то [хоронить] не в Шлиссельбурге, а в Петербурге… и кой час дойдет до Петербурга, то уже надобно дело повести публично».
Мысль о необходимости некой «публичности» была нова по сравнению с прежними расследованиями мелких военных заговоров. Она могла насторожить Панина. Но, по мнению императрицы, нельзя допустить слухов о воскрешении Ивана Антоновича — отсюда предложение хоронить узника в столице. А главное — «публичное» разбирательство должно напугать потенциальных мятежников, чего не удавалось достичь прежде. Наказания, которым подверглись участники дела Хитрово, своей мягкостью только поощряли к новым заговорам.
В конце письма содержались любопытные строки о генерал-поручике Гансе фон Веймарне, которому передавалось предварительное следствие: «он же человек умный и далее не пойдет, как ему поведено будет». Год назад той же добродетелью обладал В. И. Суворов. Слова императрицы должны были, с одной стороны, показать Панину, что корреспондентка догадывается о большем, чем говорит, а с другой — успокоить: «далее не пойдет».
Однако неудобными вопросами стали задаваться другие персоны. Старый сенатор Иван Иванович Неплюев, оставленный в Петербурге за «главноначальствующего», велел Г. Н. Теплову на словах передать Панину, что Мировича следовало бы пытать и выяснить, кто его подбил. «Ежели б сей арестант был в моих руках, то я б у него в ребрах пощупал, — рассуждал Неплюев, — с кем он о своем возмущении соглашался, ибо нельзя надивиться, чтоб такой малый человек столь важное дело собою одним предпринял». 10 июля вельможа прямо написал свои мысли государыне, и та… заколебалась.
Генерал-прокурору А. А. Вяземскому императрица приказала: «ни присоветовать, ни отговаривать от пыток, но дайте большинству голосов совершенную волю». Причины для такой двусмысленной позиции имелись. Мирович идеально подходил на роль козла отпущения. Он происходил из прежде богатой малороссийской семьи, поддержавшей гетмана Мазепу и потерявшей имения еще в 1709 году. Мирович несколько раз обращался с просьбой в Сенат вернуть ему конфискованное или хотя бы выделить пенсион трем сестрам, но получал отказ. 24-летний офицер вел разгульную жизнь, наделал много долгов и, судя по ответам на следствии, страдал больным честолюбием. Например, его раздражало, что из-за низкого чина ему нельзя присутствовать на спектаклях во дворце одновременно с императрицей, хотя старшие офицеры туда допускались беспрепятственно… Сам собой напрашивался вывод, что Мирович предпринял попытку путем переворота выбиться в люди. Пример братьев Орловых раздразнил многих.
На вопрос судей: кто ему посоветовал совершить похищение Ивана Антоновича — подпоручик дерзко отвечал: «Граф Кирилл Разумовский». Оказалось, что Мирович посещал дом гетмана и просил его помощи при возвращении конфискованных земель. Но Разумовский дал земляку иной совет: «Ты молодой человек, сам себе прокладывай дорогу, старайся подражать другим, старайся схватить фортуну за чуб, и будешь таким же паном, как и другие»[777]. Подобные слова можно было расценить как подстрекательство. Но состава преступления в них не прослеживалось, множество малороссиян искало покровительства гетмана, каждому из них он мог дать совет служить и выслужить себе богатство.
Другое дело посещение дома генерала Петра Ивановича Панина, где Мировичу как будто нечего было искать. В годы Семилетней войны подпоручик служил под началом Панина и даже какое-то время был его адъютантом. Теперь он, видимо, надеялся, что тот поможет с хлопотами по имениям. Но, судя по озлобленным словам во время допроса, генерал, также как и гетман, не оказал Мировичу покровительства. Когда Петр Панин спросил арестанта, зачем тот предпринял «столь злой замысел», последовал ответ: «Для того, чтобы быть тем, чем стал ты»[778].
Выходило, что Мирович действовал один, без наущения, а единственной побудительной причиной его поступка являлось честолюбие. Однако краткий рассказ княгини Дашковой в мемуарах оставляет много вопросов. После дела Хитрово она была уже не в тех отношениях с Екатериной, чтобы разделить путешествие в Лифляндию. Княгиня жила в Петербурге. Когда дядя ее мужа Петр Панин был назначен сенатором, она предложила ему остановиться в ее доме, «а сама переселилась с детьми во флигель, где была и баня». «Генерал Панин занимал мой дом до отъезда императрицы в Ригу, куда он ее сопровождал. В качестве сенатора он каждый день принимал большое количество просителей; наши выходы и входы были на противоположных концах дома; кроме того, прием дяди происходил в весьма ранние часы, так что я никогда не видела его посетителей и не знала даже, кто они. В числе их, как оказалось впоследствии, был и Мирович…
…Дядя сказал мне, что во время своего пребывания в Риге императрица получила письмо от Алексея Орлова, сообщавшее ей про заговор Мировича; это известие очень встревожило императрицу, и она передала письмо своему первому секретарю Елагину; письмо содержало приписку, гласившую, что видели, как Мирович несколько раз рано утром бывал у меня в доме».
Елагин предложил Екатерине переговорить с Паниным, который, по словам Дашковой, сказал следующее: «Действительно Мирович бывал рано по утру в моем доме, но он приходил к нему, Панину, по одному делу в Сенате… Меня это все повергло в печаль. Я увидела, что мой дом, или, скорее, дом графа Панина, был окружен шпионами Орловых; я жалела, что императрицу довели до того, что она подозревала даже лучших патриотов»[779].
«Лучшие патриоты»
Дашкова так старательно расставляла акценты, так очевидно наводила читателя на мысль: она не встречалась и не могла встретиться с Мировичем — тут и флигель, и разные выходы, и ранние часы приема, — что сомнения возникают сами собой.
Письмо Орлова с известием о деле Мировича и с клеветой на Екатерину Романовну не сохранилось. Биографы Алексея Григорьевича сомневаются в его существовании[780]. Однако реверанс в сторону противной партии весьма удобен, чтобы показать, откуда императрица узнала о причастности княгини к делу. Между тем смутные слухи о поведении Дашковой в дни заговора пересказывались в среде европейских дипломатов. Бёкингхэмшир информировал свое правительство в июльских донесениях 1764 года: «Княгиню Дашкову видели в мужской одежде среди гвардейцев, но за ее шагами внимательно следят, и ей скоро придется отправиться в Москву. Разочарованное тщеславие и неугомонная амбиция этой молодой леди, кажется, каким-то образом повлияли на ее чувства»[781].
Но слухи и подозрения к делу не подошьешь. А идея пытать Мировича и дознаться правды, как видно, смущала Екатерину. Уже во время суда один из членов судебной коллегии барон Александр Иванович Черкасов обратился к товарищам с повторным предложением подвергнуть Мировича пытке, прежде чем написать окончательную «сентенцию». С досадой Черкасов заявил: «Нам необходимо нужно жестоким розыском… оправдать себя… а то опасаюсь, чтобы не имели причины почитать нас машинами, от постороннего вдохновения движущимися, или комедиантами»[782].
В сокрытии истины винили именно Екатерину. Дашкова весьма подробно пересказала, что именно говорили о государыне: «За границей же, искренно ли или притворно, приписывали всю эту историю ужасной интриге императрицы, которая будто бы обещаниями склонила Мировича на его поступок и затем предала его… Мне в Париже стоило большого труда оправдать императрицу в этом двойном преступлении… Странно именно французам, имевшим в числе своих министров кардинала Мазарини, приписывать государям и министрам столь сложные способы избавиться от подозрительных людей, когда они по опыту знают, что стакан какого-нибудь напитка приводит к той же цели гораздо скорей и секретнее»[783]. Мемуаристка упоминала, что в интриге винили именно императрицу, но фраза «государям и министрам» ее выдает. Вместе с Екатериной подозрение падало и на Панина.
Биографы Дашковой не допускают мысли о причастности княгини. Однако был эпизод, за который цепляется внимание исследователя. 26 июня 1764 года Петербург навсегда покинул Одар — прежде близкое доверенное лицо Панина и Дашковой. Перед отъездом он беседовал с Беранже, которому, в частности, сказал: «Императрица окружена предателями, поведение ее безрассудно, поездка, в которую она отправляется, — каприз, который может ей дорого обойтись». По свидетельству саксонского посланника графа И. Г. фон Сакена, Одар перед отъездом проклинал бывших покровителей — Никиту Ивановича и Екатерину Романовну[784]. Таким образом, в дипломатических кругах ожидали некоего взрыва во время путешествия государыни. Сама она — по природе человек не «капризный» и не «безрассудный» — о многом должна была догадываться. Вопрос о том, кто подтолкнул Мировича, оставляет широкое поле для толкований.
Задумаемся: чем могло грозить Екатерине недолгое путешествие, во время которого произошла попытка освободить еще одного претендента на престол? Сам по себе Иван Антонович был не опасен, но в руках честолюбцев превращался в мощное оружие. Потенциально царь-узник угрожал не одной императрице. Волнения гвардии после переворота и мелкие заговоры в Москве показали, что, пока он жив, никто всерьез не говорит о правах Павла. По этой причине сторонники великого князя также были заинтересованными лицами. «Стакан какого-нибудь напитка» решал дело тихо, но ничего принципиально не менял в расстановке сил. Зато похищение давало возможность построить интригу в несколько ходов.
Ивана увозят и представляют артиллерии. Мятеж локальный, легко устранимый, но при его подавлении все командиры получают приказы от Никиты Папина, как от первого лица, оставленного императрицей в городе. Со своей стороны Панин говорит от имени цесаревича — который суть законный государь. При расторопности воспитателя имелся шанс склонить на сторону наследника гвардейцев и высшее чиновничество. После победы над мятежниками сын мог встретить мать, вернувшуюся из Лифляндии, хозяином положения.
Это лишь реконструкция. Но поскольку именно так Никита Иванович будет действовать в 1774 году, во время Пугачевщины, то реконструкция, обладающая правом на существование. Екатерине было за что благодарить Бога, «безрассудный coup» сорвался в самом начале. Возможно, упрек, брошенный Дашковой относительно «шпионов Орловых», следивших за «лучшими патриотами», — не проявление нервной раздражительности княгини, а фиксация реальности.
Как бы там ни было, но после гибели Ивана Антоновича наша героиня попала в щекотливую ситуацию. Во время суда над Мировичем она принуждена была сдерживать рвение дознавателей, отодвигая в тень людей, которые подкапывались под ее же власть. Дошло до того, что сам Панин высказался за применение к Мировичу пытки, демонстрируя свою непричастность. Он ничем не рисковал. Екатерина ни за что не позволила бы следствию дойти «до фундамента» и тем самым обнаружить перед подданными глубину раскола в правительстве.
Большинство судей возмутились предложением Черкасова и отвергли его как оскорбительное. Дело действительно получилось «публичным», как хотела Екатерина. Верховный суд, состоявший из сенаторов, президентов и вице-президентов коллегий, генералов петербургской дивизии, приговорил Мировича к отсечению головы. При этом во время разбирательства была обойдена молчанием инструкция Панина, предписывавшая в случае опасности убить узника. Речь шла только о старых приказах Елизаветы Петровны и Петра III А. И. Шувалову. Трех унтер-офицеров и трех солдат, поддержавших Мировича, решено было прогнать сквозь строй 12 раз, а затем сослать на каторжные работы. Остальных участников мятежа помиловали[785].
15 сентября 1764 года приговор над Мировичем был приведен в исполнение. Толпа до последней минуты ждала помилования, не веря, что после двадцати двух лет милосердия смертная казнь будет возобновлена. Г. Р. Державин вспоминал: «Народ, стоявший на высотах домов и на мосту, не обыкший видеть смертной казни и ждавший почему-то милосердия Государыни, когда увидел голову в руках палача, единодушно ахнул и так содрогся, что от сильного движения мост поколебался и перила отвалились»[786].
Императрица явно вознамерилась дать урок. И не только мелким военным заговорщикам, среди которых высокие персоны искали легковерных исполнителей. Дашкова вспоминала, какое тягостное впечатление произвела на нее казнь: «Когда Мировича казнили, я радовалась тому, что никогда не видела его, так как это был первый человек, казненный смертью со дня моего рождения, и если бы я знала его лицо, может быть, оно преследовало бы меня во сне под свежим впечатлением казни»[787].
За границей, особенно во Франции, возникли слухи, о которых упоминает княгиня: «Все иностранные кабинеты, особенно в Париже, завидуя возвышению России при просвещенной и деятельной государыне, выискивали любой повод, который дал бы им возможность ее оклеветать»[788]. Интересы России и Франции в тот момент скрестились в Польше, и Екатерина выиграла, продвинув на трон своего кандидата Станислава Понятовского в ущерб «саксонским принцам», детям покойного короля Августа III, за которых выступал Париж. Нет ничего удивительного, что оскорбленные противники дали императрице бой на газетных страницах. Они вовсе не махали кулаками после драки, ибо драка только начиналась. На протяжении двух десятков лет Франция будет противостоять всем «видам» России. А показать своего врага злодеем — значит заручиться поддержкой общественного мнения. Екатерина отыгрывала брошенные шары, склоняя на свою сторону «республику философов», которым на родине не оказалось места. Они вербовали императрице друзей среди читающей публики, и с их помощью наша героиня воевала с Людовиком XV, отказывавшим ей даже в признании императорского титула…
Вольтер всецело стоял на стороне Екатерины. Еще в конце сентября 1762 года он писал: «Я крепко боюсь, чтобы Иоанн не сверг с престола нашей благодетельницы, а ведь этот молодой человек, воспитанный в России монахами, далеко, вероятно, не будет философом»[789].
Однако в 1764 году, после смерти Ивана Антоновича, нашей героине пришлось несладко. На нее вылился ушат грязи в европейской прессе. Если два года назад, когда погиб Петр III, императрицу понуждали к уходу под давлением русского «общественного мнения», то теперь организовалось международное. Остается удивляться той нарочитой глухоте, с которой чуткая Екатерина игнорировала подобные сигналы. Появился памфлет «Заметки немецкого путешественника о манифесте 17 августа 1764 г.», где объявлялось, что убийство узника — низкое преступление, а официальные сентенции по делу Мировича — ложь. Стражники должны были «до последней капли крови» защищать несчастного, но умертвили «спящего принца Иоанна, что казалось им, конечно, более выгодным для их карьеры». Подобное может быть «оправдываемо только в России»[790]. В Лондоне анонимный автор издал брошюру «Заметки свободного Англичанина на манифест Российской императрицы от 17 августа 1764». Впрочем, не следует полагать, что писал именно британец: в свободной стране легко было напечатать присланное из-за пролива и создать, таким образом, впечатление «общего фронта». Встречный шаг Екатерины показал, что она прекрасно поняла, откуда дует ветер. В Лондоне же, но по-французски, опубликовали «Ответ несвободной русской слишком свободному англичанину», где на десяти страницах излагались события смерти Ивана Антоновича. Выбор международного языка позволял этой книжице быть прочтенной и в Париже, и в Берлине, и в Вене, и в Варшаве — везде, где следили за развитием событий.
В России же особенно резко отзывались о случившемся французские и саксонские дипломаты, утверждая, что дело Мировича «не более как комедия, разыгранная с ведома Екатерины единственно для эпилога — умерщвления ненавистного ей Ивана». Саксонская династия так никогда и не простила императрице потери Польши. Много лет спустя именно саксонский резидент Г. Гельбиг, высланный из Петербурга за сбор сведений, станет одним из наиболее плодовитых политических памфлетистов. Однако и среди европейцев не наблюдалось единства. «Все разговоры, что она была заодно с убийцами, — чистая клевета, — возмущался очарованный Екатериной Казанова. — Душа у нее была властная, но не черная»[791].
Напрасно в 1764 году поверенный в делах при русском дворе Беранже писал в Париж, что заговор Мировича встречен русскими равнодушно и «в Петербурге царит полнейшее спокойствие»[792]. В Версале хотели верить, что волнения не за горами. Подыгрывая настроениям начальства, Беранже добавлял: «Русская государыня сделала бы лучше, если бы это событие (смерть Ивана Антоновича. — О. Е.) было пройдено молчанием».
Но, как мы видели, Екатерина хотела как раз обратного. Более того, ее начинали раздражать чересчур навязчивые советы. Мадам М. Т. Жоффрен, которая взялась высказать недовольство самой императрице, находя манифест о гибели принца Ивана «смешным», наша героиня ответила так, точно ударила по пальцам линейкой: «Вы рассуждаете о манифесте, как слепой о цветах. Он был сочинен вовсе не для иностранных держав, а для того, чтобы уведомить российскую публику о смерти Иоанна… я думала, что всего лучше сказать правду… Верно то, что здесь этот манифест и голова преступника прекратили всякую болтовню… ergo он был хорош»[793].
«Мучительница и душегубица»
Было еще одно важное дело, которое ждало Екатерину в Петербурге. Разобраться с ним оказалось не проще, чем провести секуляризацию или осудить Мировича, не тронув действительно причастных лиц. Перед отъездом в Москву на коронацию до Екатерины дошла жалоба крестьян помещицы Д. Н. Салтыковой. С тех пор тянулось долгое и мучительное следствие.
«Какая вековая низость — шулерничать этой Салтычихой, самой обыкновенной сумасшедшей», — писал И. А. Бунин в «Окаянных днях»[794]. Действительно, потрясенные историей помещицы-изуверки читатели вот уже третье столетие готовы видеть в каждом дворянском гнезде по Салтычихе, а крепостной быт России XVIII века изображать на основе следственных дел и отрывков книги А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Тем не менее Дарью Салтыкову трудно признать «обыкновенной сумасшедшей», ибо власть над людьми предала ее сумасшествию чудовищный размах, превратив в фигуру титанического масштаба.
Известный американский историк-русист Ричард Пайпс обоснованно писал: «Крепостничество было хозяйственным инструментом, а не неким замкнутым мирком, созданным для удовлетворения сексуальных аппетитов. Отдельные проявления жестокости никак не опровергают нашего утверждения. Салтычиха… говорит нам о царской России примерно столько же, сколько Джек-потрошитель о викторианском Лондоне»[795]. Удачный образ. Однако Джек-потрошитель, если присмотреться, кое-что может поведать об Англии времен королевы Виктории, где подавленная сексуальность порой вырывалась наружу в самой уродливой форме. Точно так же и Салтыкова. Рассматривая ее историю, подмечаешь множество черт русской действительности.
Прежде всего проясним один историографический казус. Поскольку расследованы преступления Салтыковой были при Екатерине II, то образ мучительницы крепостных прочно соотносится именно с ее царствованием. Происходит аберрация сознания — перенос событий из времени, когда они произошли, во время, когда были раскрыты. Мы далеки от стремления уверить читателя, будто во второй половине XVIII века не было жестоких бар. Однако зверства Салтыковой могли так долго укрываться от внимания властей именно потому, что творились в Москве середины столетия.
Дарья Николаевна Салтыкова родилась в 1730 году и происходила из семьи известного в петровские времена думного дьяка Автонома Ивановича Иванова, руководившего Иноземным, Поместным, Рейтарским и Пушкарским приказами. Еще молодой женщиной она овдовела, оставшись после мужа, ротмистра Конной гвардии Глеба Салтыкова, с двумя детьми Федором и Николаем. Ей принадлежали имение Троицкое в Теплом Стане и каменный дом в Москве на Сретенке. В конце 50-х годов по Первопрестольной начали витать слухи о зверствах, творимых вдовой. Шепотом рассказывали о пытках и убийствах, но никто ничего толком не знал. Доведенные до отчаяния крепостные Салтыковой подали несколько жалоб, но московские чиновники были подкуплены богатой барыней. В качестве взяток они получали от нее не только деньги, но и возы сена, овес, муку, гусей и уток. Даже обнаруженное тело дворовой девушки, которую убийца обварила кипятком, было сокрыто. «Вы мне ничего не сделаете! — в исступлении кричала Салтыкова на схваченных жалобщиков. — Мне они все (полицейские чиновники. — О. Е.) ничего не сделают и меня на вас не променяют!»[796]
У преступницы были основания так говорить. За порядок в Москве отвечали Полицмейстерская канцелярия, Сыскной приказ, секретная Тайная контора. Ни одно из этих учреждений не попыталось возбудить уголовного дела против Салтыковой. Ее крестьяне признавались лжедоносчиками, наказывались кнутом и возвращались помещице… Летом 1762 года два крепостных Салтыковой отправились искать правды в столицу. Там им несказанно повезло: сразу же после переворота 28 июня они сумели подать жалобу лично Екатерине II. С этого, собственно, и началось расследование, вскрывшее чудовищные факты. Согласно челобитной дворового Николая Ильина стало известно, что барыня убила одну за другой трех его жен. Он же показал, что всего помещицей замучено около ста душ. На следствии удалось доказать причастность Салтыковой к тридцати семи убийствам, в остальных случаях недоставало улик. Но и это цифра потрясала. Стандартным обвинением в адрес несчастных была «нечистота в мытье платьев и полов».
Крестьяне соседних деревень подтвердили, что видели летом, как дворовые Салтыковой везли в лес хоронить тело Феклы Герасимовой. Сопровождавшие рассказывали, что «девка та убита помещицею, и они видели на теле ее с рук, и с ног кожа, и с головы волосы сошли». Салтыкова обварила дворовую кипятком, приказала сечь розгами, потом била скалкой, заставляя снова и снова мыть полы, хотя жертва уже не держалась на ногах. Эта сцена, повторявшаяся многократно с разными женщинами, позволяет заподозрить у Салтыковой особую форму психоза, помешательства на почве чистоты, когда человек боится замарать руки, не может прикасаться к предметам без перчаток и т. д. Весной 1759 года после поездки на богомолье в Киев (Салтыкова, как и многие изуверы, считала себя религиозным человеком) помещица заехала в имение и убила девку Марью Петрову. По приказу госпожи гайдук избивал провинившуюся езжалым кнутом, загнал по горло в пруд, с которого едва сошел лед, после чего снова заставил мыть пол. «Но от таких побоев и мучений она мыть уже не могла, и тогда помещица била ту девку палкою… и от тех побоев та девка Марья в тех же хоромах того же дня умерла»[797]. Свидетели показали, что, когда забитую до смерти дворовую Прасковью Ларионову повезли хоронить, стоял сильный холод. На труп несчастной бросили ее грудного ребенка, который замерз.
Начало следствия оказалось для Салтычихи полной неожиданностью. Она свято верила в свою безнаказанность и отрицала вину. Но запирательство ни к чему не привело. Улик было более чем достаточно. В 1768 году Салтыкову лишили дворянского достоинства и имени, ей запрещалось носить фамилию мужа и отца. Она была приговорена к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Перед этим Салтыкову подвергли гражданской казни. Ее выставили в цепях на Красной площади у позорного столба с прикрепленным к шее листом: «Мучительница и душегубица»[798]. После чего в кандалах посадили в подземную тюрьму Ивановского девичьего монастыря, чтобы «лишить злую ее душу в сей жизни всякого человеческого сообщества, а от крови смердящее ее тело предать Промыслу Творца»[799].
В низком погребе преступница пребывала в полной темноте, пищу ей подавали со свечой, которую тут же гасили, как только она брала хлеб. Там Салтыкова провела 11 лет, после чего в 1779 году была переведена в застенок на поверхности земли с тыльной стороны монастырского храма. Любопытные приходили поглазеть на нее через решетку, она рычала и с криками бросалась на прутья. Видимо, к этому времени заключенная окончательно лишилась рассудка. По некоторым сведениям, в тюрьме Салтыкова родила ребенка от своего караульного. Скончалась она в 1801 году, так и не раскаявшись в содеянном. В общей сложности ей довелось просидеть под замком 34 года, ни разу не мывшись и почти не видя человеческих лиц.
Историки, работавшие с делом Салтыковой, знают, что оно никогда не было бы доведено до суда без настойчивого вмешательства императрицы, постоянно подталкивавшей Сенат. И так расследование затянулось на шесть лет. Опытные чиновники старались замотать процесс не из любви к изуверке, а из опасения будоражить народ, вынося сор из избы. Для этого были основания: даже не сам суд, а только арест барыни вызвал к жизни поток жалоб, о котором идет речь в указе 1767 года. Изветы дворовых на генерала Леонтьева, генеральшу Толстую, подполковника Лопухина и бригадира Алсуфьева оказались ложными, бар не уличили ни в «изменном деле», ни в покушении на «государское здоровье». После чего воспоследовало повторное разъяснение и дополнение к указу[800]. Но остановить доносы было труднее, чем их спровоцировать.
Сложилась ситуация обратная той, которая обычно излагается в историографии: возросшее число жалоб и заставило освободить от них собственные Ее императорского величества руки. Их рассмотрением занимались разные органы от Тайной экспедиции Сената до канцелярий полицмейстерских дел, губернских правлений, нижних земских судов и т. д. Часто документы кочевали от инстанции к инстанции, что до бесконечности затягивало расследование. Однако общая тенденция изменилась — отношение помещиков с крестьянами стало сферой применения уголовного права.
«Предрасположение к деспотизму»
Наказание Салтыковой было в известной степени воспитательной мерой. Тот факт, что оно прошло в Москве в дни заседания Уложенной комиссии, придавало случившемуся государственный статус. Власть демонстрировала, что не будет равнодушно смотреть на преступления подобного рода. Крепостной человек — такой же подданный, как и любой другой.
К тому времени 4 процента населения страны принадлежало к дворянам, 82 процента — к крестьянам, а на остальные 14 процентов приходились и казаки, и однодворцы, и купцы, и инородцы. Таким образом, взаимоотношения двух важнейших сословий определяли дальнейшее развитие России.
Больше половины крестьян — 56 процентов — относились к помещичьим, остальные принадлежали государству. Последние считались вольными, имели развитую систему самоуправления и обладали некоторыми гражданскими правами, например, присягали монарху, посылали депутатов в Уложенную комиссию. То есть в определенном смысле могли влиять на жизнь страны, настаивая на рассмотрении своих проблем. В то же время для нужд казны их можно было продать, а чиновники, руководившие ими, нередко творили произвол, так как благосостояние не своих пахарей интересовало таких «опекунов» весьма мало. В екатерининское царствование землями с казенными крестьянами награждали за службу крупных военачальников и государственных деятелей. Правда, императрица старалась делать такие пожалования из территорий, оказавшихся в составе России после разделов Польши. Это не всегда нравилось новым хозяевам. Их отношение блестяще описала E. Р. Дашкова, получившая в 1782 году имение Круглое в Белоруссии:
«Потемкин… передавал мне от имени императрицы, что так как она приняла за правило не раздавать больше казенных земель, она просит меня выбрать подходящее поместье, которое она купит для меня… Императрица не распространяет принятого ею правила на земли в Белоруссии, которые она, наоборот, желала бы видеть в руках русских дворян; некоторые из этих имений не были еще розданы; сам князь советовал мне выбрать одно из них… Я в продолжение двадцати лет управляла поместьями своих детей, и могу с гордостью представить доказательства, что за этот период крестьяне стали трудолюбивее, богаче и счастливее; я решила и впредь руководствоваться теми же принципами, но не была убеждена, что они принесут такие же плодотворные результаты среди полупольского-полуеврейского населения, язык и быт которого были мне совершенно незнакомы… Императрица жаловала мне местечко Круглое со всеми угодьями и двумя тысячами пятьюстами крестьянами. Это поместье принадлежало гетману Огинскому и было очень велико… Каково же было мое удивление, когда съездив туда на следующий год, я увидела истощенных, крайне грязных, ленивых и бедных крестьян, к тому же преданных пьянству. Не было даже топлива, чтобы приводить в действие маленький винокуренный завод… На десять душ обоего пола приходилось в среднем по одной корове и по одной лошади на пять душ; кроме того, на 2500 душ, дарованных мне, не хватало 167, так как управляющие казенными имениями высасывают из крестьян всё, что только могут. Поэтому во всей России нет крестьян несчастнее тех, которые принадлежат казне»[801].
Подобные сетования были характерны для вельмож, получавших пожалования на бывших польских землях. К ним прибавлялись рассуждения, будто государственные хлебопашцы — несчастнейшие из смертных. Но Екатерина II твердо придерживалась избранной линии по увеличению числа казенных крестьян. Что свидетельствовало о ясном понимании ею крепостной проблемы. Вопреки распространенному мнению, приписка украинских крестьян к земле, осуществившаяся в 1783 году, не имела столь судьбоносного значения, какое ей обычно отводилось в советской историографии. Она юридически закрепила давно сложившиеся в Малороссии отношения между бывшей казацкой старшиной и простыми земледельцами.
Крепостное хозяйство в тот момент находилось на подъеме и давало значительный экономический эффект, обеспечивавший России стабильный рост внутреннего рынка и положительное сальдо во внешней торговле. Недаром во время Уложенной комиссии 1767 года вместо чаемого императрицей согласного порицания депутатами некоторых неприглядных сторон крепостной действительности представители всех сословий в той или иной форме выразили желание получить право владеть землей с людьми. Это возмутило Екатерину, но открыто демонстрировать свое отношение она не рискнула. В заметках, написанных для себя, императрица с горечью констатировала: «Предрасположение к деспотизму… прививается с самого раннего возраста к детям, которые видят, с какой жестокостью их родители обращаются со своими слугами. Ведь нет дома, в котором не было бы железных ошейников, цепей и разных других инструментов для пытки при малейшей провинности тех, кого природа поместила в этот несчастный класс, которому нельзя разбить свои цепи без преступления. Едва посмеешь сказать, что они такие же люди, как мы, и даже когда я сама это говорю, я рискую тем, что в меня станут бросать каменьями; чего я только не выстрадала от этого безрассудного и жестокого общества… Я думаю, не было и двадцати человек, которые по этому предмету мыслили гуманно и как люди… Я думаю, мало людей в России даже подозревали, чтобы для слуг существовало другое состояние, кроме рабства»[802].
Характерно, что все обличения крепостного права, написанные современниками, рассматривали чисто моральный аспект проблемы. Необходимость свободных рук для дальнейшего развития хозяйства еще не осознавалась. Тем более что значительное число крестьян, особенно в центральных и северных губерниях, находилось на отходе, зарабатывая деньги для оброка. Эта практика продолжалась и в дальнейшем. А. С. Пушкин в критической заметке «Путешествие из Москвы в Петербург» писал: «Вообще повинности в России не очень тягостны для народа. Подушная платится миром. Оброк не разорителен (кроме в близости Москвы и Петербурга, где разнообразие оборотов промышленности умножает корыстолюбие владельцев). Во всей России помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своему крестьянину доставать оный как и где он хочет. Крестьянин промышляет, чем вздумает, и уходит иногда за 2000 верст вырабатывать себе деньгу. И это называете вы рабством?»[803]
Тем не менее именно Екатерина II впервые поставила вопрос о необходимости постепенного освобождения крестьян. Она же и определила примерный срок, за который в России произойдет эта реформа, — сто лет. Императрица предложила возможный способ: обязать помещиков при продаже земли отпускать своих крестьян на волю. За столетие, по ее мысли, все владения делают оборот, переходя из рук в руки, стало быть, и хлебопашцы понемногу освободятся[804]. Однако этот план был неосуществим, поскольку дворяне вряд ли остались бы равнодушны к такому «грабежу», а власть в высшей степени зависела от солидарной поддержки благородного сословия. Да и само это сословие, для того чтобы служить, нуждалось в средствах. Разорять его — значило наносить удар по стране в целом. Екатерина же преследовала цель реформировать, а не ломать социальную структуру общества.
На этом пути ею было сделано немало. В 1762 году вышел указ, запрещающий покупать крепостных крестьян для работы на заводах, тогда же правительство прекратило приписку государственных земледельцев к предприятиям. Сама императрица называла заводских рабочих «роптунами по справедливости», поскольку условия их труда были исключительно тяжелы. Секуляризация церковных земель, осуществленная в 1764 году, перевела из монастырских в так называемые экономические более полутора миллионов мужских душ (вместе с женщинами и детьми цифра возрастает до трех миллионов). Совсем неплохо для страны с населением в 18 миллионов в начале царствования и 36 миллионов в конце! Этот важнейший законодательный шаг следует считать начальным этапом крестьянской реформы в России.
В 1775 году императрица подписала указ, запрещавший свободным людям и отпущенным на волю крестьянам вписываться в крепостные, поступая на службу к господам, — это был первый законодательный акт о защите личности в России[805]. Для вновь учрежденных городов правительство специально выкупало частновладельческих крестьян и превращало их в горожан, то есть в «вольных обывателей».
Эти примеры способны поколебать мнение о царствовании Екатерины II как о периоде расцвета крепостничества. Однако из всего комплекса екатерининских мероприятий в литературе предшествующего периода обычно выделялись два. В 1765 году помещики получили разрешение ссылать своих крепостных в Сибирь с зачетом их как рекрутов, а в 1767-м крестьянам запрещалось жаловаться на господ императрице. Рассмотрим эти случаи внимательнее. Первое утверждение ошибочно. Указ о ссылке провинившихся крепостных в Сибирь был издан на пять лет раньше, в 1760 году, Елизаветой Петровной. А в 1765 году появился другой документ — рескрипт Адмиралтейской коллегии о приеме присылаемых от помещиков крепостных «для смирения в тяжкую работу»[806]. Таковых государство брало на казенное обеспечение едой, одеждой и обувью, возлагая заботы на Адмиралтейскую коллегию, которая вела широкие строительные работы. Указ о ссылке крепостных в Сибирь с зачетом их за рекрут действовал в течение всего екатерининского и последующих царствований, до 1828 года. В среднем по этому закону в восточные губернии страны отправлялось 107 человек в год[807]. Однако до места назначения они чаще всего не доезжали, их помещали на поселения в малолюдных осваиваемых районах, в первую очередь в Новороссии, а затем в Крыму, переводя в категорию государственных. Жизнь там также была трудной — распашка нетронутых земель, непривычные климат, еда, вода… Но сравнивать ее с рудниками не следует.
Жалобы же крестьян не отменялись вовсе, а переключались с императрицы на нижние судебные инстанции. Причиной тому послужил вал доносов крепостных на высочайшее имя, в которых помещики обвинялись в злоумышлениях «про государское здоровье или какое изменное дело». После осуждения господ их земли передавались в опеку и до совершеннолетия наследников управлялись специально назначенными чиновниками. Такое изменение собственного положения было желанно для крепостных, что и породило обилие «изветов». «Не удивительно, что в России было среди государей много тиранов, — рассуждала Екатерина. — Народ от природы беспокоен, неблагодарен и полон доносчиков и людей, которые под предлогом усердия ищут лишь, как обратить в свою пользу все подходящее… Человек, не имеющий воспитания, в подобном случае будет или слабым, или тираном, по мере его ума»[808]. Ни слабым, ни тираном императрица быть не хотела и раз и навсегда прекратила практику приема доносов.
Однако это не значило, что правительство вовсе отказывалось рассматривать жалобы. Указ требовал: «дабы никто Ее императорскому величеству в собственные руки мимо учрежденных на то правительством и определенных особо для того персон челобитен подавать отнюдь не отваживался»[809]. Этот запрет не помешал расследованию в 1768 году дела помещицы-изуверки Салтычихи на основании жалобы ее крепостных.
Вряд ли стоит представлять себе отмену крепостного права как одномоментный акт, осуществленный в 1861 году. В реальности это был длительный и поэтапный процесс, занявший столетие. Каждый следующий за Екатериной император вносил свою лепту. Именно от времени Екатерины до современных читателей дошли многочисленные уголовные дела о жестоком обращении помещиков с крестьянами. То, что прежде было сокрыто непроницаемой мглой, теперь обнаружилось во всей своей неприглядности.
В 1767 году орловский помещик Шеншин соорудил у себя в деревне Шумово застенок, где подвергал провинившихся крестьян пытке на дыбе. Во время следствия обнаружилось, что от его рук пострадало 59 человек, среди которых были и свободные: однодворец, подканцелярист, священник соседнего села.
Приехав в 1769 году в Москву, злодей повздорил с купцом, велел избить его батогами и посадить в чулан. Выйдя оттуда, купец прямиком направился в полицию, и Шеншин оказался под судом. На что же смотрели орловские власти? Видимо, до них еще не дошли новые веяния.
В 70-х годах администрация действовала шустрее, если преступления обнаруживались в городах, но до сельских глубин рука правосудия дотягивалась только в том случае, если о жестокости тамошних помещиков становилось известно. Глушь и дальние расстояния охраняли изуверов. Это хорошо заметно в деле ярославского помещика Шестакова. В 1779 году, живя в городе, он вздумал избить плетьми дворового, которого отвезли в больницу. Барина взяли под стражу. Эта мера не подействовала на него: напиваясь, он впадал в бешенство и гонялся за дворовыми с ножом. Те отправились с жалобой по начальству, заявив, что Шестаков, будучи вечно пьян, «людей своих сечет днем и ночью». Второго избитого им холопа доставили сначала для освидетельствования в участок, а оттуда в больницу. Чтобы избежать разбирательства, барин уехал в деревню. Посланную за ним драгунскую команду он обстрелял из окна, после чего открыл огонь по находившимся во дворе крестьянам. Чуть ранее Нижний земский суд Любимовского уезда, вызванный для усмирения крестьян, не нашел в селе бунта, зато обвинил Шестакова в «развратном и непристойном поведении» и взял с него подписку «вести себя порядочно». Чего тот, конечно, не исполнил. Наконец по доносу хозяина дома в Ярославле и еще троих независимых свидетелей Шестаков попал под суд.
В 1782 году тамбовский помещик Лизунов ударил ножом корнета Малахова, который, будучи проездом в его деревне, стал упрекать хозяина за то, что тот засек насмерть несколько крепостных. Это послужило началом расследования[810]. Было бы естественно ожидать, что в подобных ситуациях дворяне проявят сословную солидарность. Однако соседи — не чиновники, которым можно дать взятку. Большинство розыскных дел возбуждено именно по требованию окрестных помещиков, которые опасались, что крестьяне, принадлежащие изуверам, взбунтуются и спровоцируют неповиновение их собственных крепостных. Последние всегда были недовольны барщиной и оброком. Не стоило подносить спичку к соломе, от одного самодура мог пострадать целый уезд.
В 1786 году во Владимирской губернии генерал-губернатор граф Салтыков начал дело против помещика Карташова по обвинению в жестоком обращении с людьми. Был произведен обыск, от соседних помещиков собраны сведения. 164 человека заявили, что видели, как крестьяне Карташова ходят по ночам просить милостыню, и слышали от них о побоях и мучительстве. Полторы сотни жителей деревни Карташова ударились в бега, их дома стояли пустыми и разваливались. Понятно, что милостыню крепостные просили не только под барскими окнами. Демонстрируя свои увечья, они способны были вызвать возмущения и в спокойных селах. Беглые же, скитаясь по губернии, создавали угрозу мятежа. Поэтому повязать злодея по рукам и ногам часто было в интересах самих помещиков[811].
Обычным приговором по таким делам было годовое покаяние на хлебе и воде в каком-нибудь отдаленном монастыре, а затем ссылка в Сибирь на каторжную работу без срока. Известны и случаи клеймения помещиков-изуверов на лбу и щеках.
Глава десятая МИР И ВОЙНА
В конце апреля 1767 года Екатерина отправилась в новое путешествие. На этот раз не к западным границам империи, а, напротив, вглубь страны — в Азию, как она сама говорила. Ее целью было знакомство с пестрым, разноплеменным и многоконфессиональным населением, заметно отличавшимся от жителей Северо-Запада и Центра России. Перед началом работы Уложенной комиссии такое предприятие было далеко не бесполезным, поскольку позволяло нашей героине своими глазами увидеть национальный и религиозный «срез» России.
«Idee на десять лет»
Путешествие началось в Твери, где еще с декабря 1765 года строились галеры. К апрелю 1767 года эскадра была готова, командовал ею вице-президент Адмиралтейств-коллегии Иван Григорьевич Чернышев. Уже 10 апреля на дороге от Москвы выставили более тринадцати тысяч лошадей. Императорский кортеж состоял из одиннадцати карет, сорока трех колясок и тридцати кибиток[812]. В Тверь государыня прибыла 29 апреля, а 2 мая отплыла в сопровождении огромной свиты. Она планировала останавливаться почти во всех поволжских городах: Костроме, Ярославле, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Симбирске. 5 июня плавание должно было завершиться. 16 июня Екатерина вновь увидела Первопрестольную.
Вниз по Волге двинулось 25 кораблей с двумя тысячами пассажиров. На галере «Тверь» находилась сама государыня. «Волга», «Казань», «Ярославль», «Симбирск», «Лама» и «Севостьяновка» предназначались для свиты. Причем две последние галеры были собственностью Захара Чернышева и Григория Орлова соответственно, в чем выразилось их скрытое соперничество. На корабле «Вом» от Костромы до Ярославля плыли иностранные послы. «Нижний Новгород» предназначался для провизии, его сопровождали два кухонных судна — «Углич» и «Кострома». Имелась и госпитальная галера «Ржев Володимеров» для заболевших в пути матросов[813].
В отечественных газетах того времени проводилась мысль о слиянии Европы и Азии в пределах единой России под скипетром благодетельной государыни, заботившейся о подданных без различия национальности и веры. Именно такую трактовку происходящего хотела утвердить в сознании современников Екатерина. «Множество различного одеянием и верами, но единодушно восклицающего народа, видно было, что казалось, будто Азия с Европою соединились, для встречи с Ее величеством вышли»[814].
Императрицу, как обычно, беспокоило мнение сторонних наблюдателей, в частности иностранных дипломатов. Она не взяла их в Казань, где жило множество покоренных иноверцев, с которыми государыня разумно хотела повидаться без чужих глаз. 14 мая 1767 года на пути из Ярославля в Кострому Екатерина провела целый день в обществе путешествовавших «посланников», оказывая им «отменные» любезности[815], а затем продолжила путь одна. Из Чебоксар она писала госпоже Бьельке: «Сегодня вечером или завтра утром я уезжаю в Казань вопреки трусам»[816]. Государыню предостерегали против визита в сердце «иноверческого» края. Слух о рискованности предприятия обсуждался и во Франции, чей кабинет был весьма чуток к «русской теме» и выступал рассадником самых неприятных для Екатерины разговоров.
На борту галеры повседневная, канцелярская работа не прекращалась, хотя Панин, остававшийся с цесаревичем в столице, старался стянуть нити управления к себе. Из Ярославля императрица писала Никите Ивановичу: «Изволь прислать ко мне дела, я весьма праздно живу». А месяцем позже из Алатыря жаловалась, что не получила «грамоты к подписанию»[817]. В это путешествие, как и во все другие, Екатерина не взяла сына, поскольку не хотела лишний раз привлекать к нему внимание публики. Все волны восхищения и обожания должны были направляться лично к ней. Только так она могла утвердиться во мнении подданных как единственная фигура на троне. Более того — персонифицировать в себе императорскую власть.
Однако частным образом Екатерина писала тринадцатилетнему Павлу, рассказывая обо всем примечательном: «Очень весело по воде плыть, сожалею только, что вы не со мною… Места прекрасные по берегам, селения весьма частые»; «Люди все очень рады моему приезду и ласковы, а я знаю пословицу „рука руку моет“, сама с ними таковое же имею обхождение»[818].
Для Панина предназначались более вдумчивые отзывы, но и ему государыня сообщала далеко не все: «Здесь народ по всей Волге богат и весьма сыт, и хотя цены везде высокие, но все хлеб едят, и никто не жалуется, никто нужду не терпит»; «Нигде голоду нет, по деревням везде излишество: нынче ж на все Бог дал цену, хлеб дорог и лошади дороги, все дорого, и за то Бога благодарят… а скирдов с сеном — бесчисленное множество». Современному читателю не сразу становится понятно, за что волгари благодарят Бога, если «все дорого»? Но крестьяне, составлявшие большинство населения, продавали хлеб и отдавали внаем лошадей, поэтому дороговизна была им на руку. «Сии люди Богом избалованы, все в изобилии, все есть, все дешево»[819].
Екатерина посещала как раз те места, которые через шесть лет займутся огнем Пугачевщины. Но пока об этом не подозревали ни правительство, ни сами «мирные обыватели». До первой войны с Турцией, увеличения податей, рекрутских наборов и обнищания жителей, казалось, еще далеко. Крепостное право в плодородных регионах Поволжья — бочка со слежавшимся порохом. Если не подносить к ней спичку, не вспыхнет. Но горючий материал имелся в избытке. Императрице было подано более 600 челобитных, большей частью касавшихся злоупотреблений местной администрации.
Могла ли Екатерина не заметить ростки будущего возмущения? Не услышать в приветственных криках грозное эхо грядущих событий? При ее остром чутье, конечно, нет. И она даже знала, как ей казалось, способы борьбы с бедствием. Нужно понять, в чем состоят недостатки существующей системы, и пригласить «общество» к их искоренению путем созыва депутатов…
Из Казани 29 мая Екатерина писала Вольтеру, что путешествие необходимо ей для изучения России, без этого не создать новых законов, которые «должны служить и Азии, и Европе, и притом какая разница в климате, в людях, в привычках, даже в мыслях! В здешнем городе есть до двадцати различных народов, которые не похожи друг на друга, а между тем им нужно сделать платье, которое бы годилось для всех. Это почти то же, что создать мир»[820].
В скромности нашу героиню не упрекнешь. Ее успехам немало способствовала глубокая вера в исполнимость задуманного. Внутренняя бодрость, отсутствие желания опускать руки перед громадностью России, ее вековой, неповоротливой толщей, с которой сколько ни работай — ничего путного не добьешься. Напротив — сложность задачи только раззадоривала Екатерину. Она пребывала в восхищении от будущего мероприятия и умела передать это чувство корреспондентам. Через два дня после письма Вольтеру она повторила Панину почти то же самое, но другими словами: «Отсель выехать нельзя, столько разных объектов, достойных взгляду, idee здесь на десять лет собрать можно. Эта империя совсем особенная, и только здесь можно видеть, что значит огромное предприятие относительно наших законов, и как нынешнее законодательство мало сообразно с состоянием империи вообще»[821].
Вольтер тут же подхватил брошенный камень, написав повесть «Царевна Вавилонская», где вывел премудрую правительницу киммерийцев, отправившуюся обозреть свои необъятные владения. Почитатели фернейского мудреца должны были увидеть в России «страну, с некоторых пор ставшую такой же цветущей, как государства, которые хвалятся тем, что просвещают другие» народы. Счастье снизошло на киммерийцев, благодаря их государыне, которая «в ту пору объезжала страну от границ Европы до границ Азии, желая собственными глазами увидеть своих подданных, узнать об их нуждах, найти средства помочь им, умножить благосостояние, распространить просвещение»[822].
Перед самой поездкой Екатерина получила в подарок от Ж. Ф. Мармонтеля его новый роман «Велизарий», где к немалому соблазну коронованных учеников Просвещения был показан идеал разумного монарха, мудреца на троне. Автор выбрал излюбленную философами форму диалогов: старый, некогда ослепленный императором полководец Велизарий в тюрьме беседует с молодым придворным Тиберием, фаворитом Юстиниана. Базилевс сам неузнанным присутствует при разговорах и слышит много неприятного. Узник в просвещенческом ключе излагает теорию государственного права, доказывая, что истинная монархия противостоит деспотизму и тирании.
На борту галеры Екатерина и ее свита занимались переводом романа. «Эта книга имеет целью доказать царям, — рассуждал писатель, — что их могущество, их величие, их слава требуют, чтобы они были справедливы»[823]. Спутники Екатерины перевели по главе. Сама императрица нарочно выбрала девятую, где говорилось об обязанностях государя. Среди ее помощников были статс-секретари И. П. Елагин, С. М. Козмин, Г. В. Козицкий, Д. В. Волков, военные и государственные деятели граф З. Г. Чернышев, граф Г. Г. Орлов, А. В. Нарышкин, князь С. Б. Мещерский и А. И. Бибиков, которому в скором времени предстояло стать маршалом (распорядителем) Уложенной комиссии. Показательно, что окружение императрицы восприняло как абсолютную новость мысль: «Нет самовластья, кроме закона»[824].
Совместный перевод ставил цель гораздо более серьезную, чем салонная игра. Он воспитывал и развивал мысли тех, кто являлся ближайшими сотрудниками Екатерины. Еще совсем недавно Бретейль с презрением писал о вчерашних гвардейцах: «У этой государыни нет никого, кто бы мог помогать ей в управлении… она должна выслушивать и в большей части случаев следовать мнениям этих отъявленных русаков, которые… осаждают ее беспрестанно для поддержания своих предрассудков относительно государства»[825]. Но Екатерина ставила целью сделать образованных людей именно из «русаков». Чтобы, как позднее с неудовольствием заметит Фридрих II, «Россия управлялась русским умом». В противном случае любые, самые просвещенные начинания не могли привиться.
Мармонтель пришел в восторг от «развлечений законодательницы Севера». Его труд обрел шанс послужить не только развитию ума европейских интеллектуалов, но и реальному изменению законов. «Ни при одном дворе в мире истине не было оказано подобного почета»[826], — восхищался он. В России книга была опубликована в следующем, 1768 году под заглавием «Велицер, роман г. Мармонтеля, переведен с французского».
«Указ есть не вредить»
В «Азии» государыню встречали торжественнее, чем в западных губерниях, и готовились к ее приезду тщательнее. В этом сказывались не только «азиатская пышность» или «азиатское раболепие», но и тот простой факт, что большинство городов в центральных и поволжских регионах выглядели хуже, чем лифляндские, во всяком случае казались менее «европейскими». Поэтому если жители Риги ограничились поливом дороги водой во время жары, то в Твери главная улица была посыпана песком и можжевельником, а в Казани — обсажена деревьями. По пути перед императрицей разбрасывали травы и цветы.
Во время путешествия решалось множество дел, до которых руки в Петербурге не дошли бы никогда. Имелись способы на месте помочь беде, погасить конфликт, выступить судьей в споре. Однажды в беседе с бароном Гриммом Екатерина заметила, что «от хозяйского взгляда лошади жиреют». Еще в 1763 году Тверь страшно пострадала от пожара. За четыре года город был восстановлен, главным образом из казны, и теперь местная администрация хотела поставить императрице памятник за ее щедроты. Государыня, понятно, не согласилась, предложив «собранные для сего деньги на полезное всему обществу строение употребить»[827]. Газеты немедленно прославили ее скромность. Всем жителям, успевшим возвести каменные дома, бесплатно выделялось листовое железо для кровель, на что пошло около 100 тысяч рублей. А близлежащий к Твери город Торжок, тоже погоревший, получил 50 тысяч рублей. Повсеместно строились пристани для судов императорской флотилии, многие из которых стали впоследствии основой для «регулярно» устроенных портов в торговых волжских городах.
Огорчил государыню Нижний Новгород — некогда очень богатый, а теперь хиревший на глазах купеческий город. Правительственные учреждения предстали в жалком виде, а купцы не могли «расторговаться». Первые предстояло восстанавливать на казенные средства, а вторым помогать, организовав акционерное общество и вложив в него начальный капитал из казны. Панину Екатерина писала: «Сей город ситуациею (положением. — O.E.) прекрасен, а строением мерзок, только поправится вскоре, ибо мне одной надо строить как соляные, так и винные магазейны, так [же] губернаторский дом, канцелярию и архив, что все или на боку лежит, или близко того»[828]. Екатерина учредила в Нижнем торговую компанию, в которую мог войти всякий, кто вложит не менее 25 рублей. Незначительность суммы и пример государыни привели к тому, что многие из состоятельных путешественников поучаствовали, дабы заслужить высочайшую похвалу.
В Ярославле передрались купцы разных статей из-за того, кому доплачивать недостающие деньги в казну, и обратились к императрице с просьбой о примирении. Удалось уговорить членов первой гильдии внести 10 тысяч рублей недоимок за все «общество».
Под занавес путешествия Екатерина попала в Симбирск, жители которого годами отказывались вносить налоги. Администрация принялась конфисковывать жилища злостных неплательщиков; в результате значительное число горожан лишилось крова, строения разрушались без хозяев, а деньги в казну все равно не поступали. Императрица писала Панину о «самом скаредном» городе, который только встречала: «Не полезнее ли вернуть людям их домы, нежели… иметь их в странной собственности, из которой ни коронные деньги, ни люди не сохранены в целости. Я теперь упражняюсь искать способы, чтобы деньги были возвращены, домы попусту не сгнили, и люди не приведены были в истребление»[829].
Кажется, что перед нами частные случаи. Но в каждой из шестисот поданных челобитных был зафиксирован именно «частный случай», мешавший жить обитателям того или иного населенного пункта. Русские газеты неизменно писали о путешествии именно как о способе «недостатки отвратить» в «отдаленных провинциях»: «Первый Ее предмет есть польза и благополучие государства»; «Во все время путешествия… не бывает дня такого, в который бы государыня… имела отдохновение», но «всегда упражняться изволит»; «Не взирая ни на чувствительную стужу, ни на непрестанно лиющийся дождь… веселым духом принимала неприятность непогод, утешаясь тем, что сии труды и беспокойства суть основания» к пользе Отечества[830].
Численность караулов на станциях следования императорского поезда (один обер-офицер, один капрал и десять солдат)[831] свидетельствовала о том, что Екатерина не боялась населения, спокойно вверяясь жителям тех губерний, через которые проезжала. Никакой угрозы ее безопасности в тот момент не было. Напротив, государыню буквально носили на руках. Люди за сотни верст приезжали, чтобы «удостоиться видеть ее царственное лицо». В Ярославле приветственными криками жители заглушали гром пушечного салюта, а некоторые «от невместного в сердце веселия… бросались в воду у пристани»[832], чтобы плыть к галерам и поскорее увидеть императрицу. Владимир Орлов записал слова одной бабы на пристани: «Ну уж я ее теперь, матушку, совсем высмотрела». «Государыня куда ни выходила, народ не мог на нее насмотреться, — продолжал брат фаворита. — …иной называл ее ягодкой, иная баба — солнышком, иная — кормилица наша». Говоря о восхищении, которое вызывала особа императрицы, не стоит забывать такую важную черту тогдашней жизни, как отсутствие зрелищ. Приезд августейшего лица, да еще такой пышный, запоминался на всю жизнь и пересказывался бесчисленное количество раз в разговорах с соседями и родней. Ради такого случая стоило тащиться за сто верст. Наша героиня умела разговаривать с людьми, и те быстро переставали ее смущаться: рассматривали, брали за руки, заводили беседы. Вот еще одна зарисовка из дневника Владимира Орлова: «Посмотри, — говорила одна горожанка другой, — старуха-то у нее насильно руку тащит, а она, матушка, смеется»[833]. 29 мая в Рыбной слободе женщины поверх белого холста постилали под ноги императрице шелковые платки и целовали оставленные ею следы, о чем с умилением писали газеты[834]. О жителях Казани Екатерина сама сообщила Панину: «Если б дозволили, они б себя вместо ковра постлали, и в одном месте по дороге мужики свечи доставали, чтоб передо мною поставить, с чем их и прогнали»[835]. Проявления любви к монарху считались тогда в порядке вещей. Благоговение еще не воспринималось как унижение. Но, описывая подобные сцены в посланиях к Панину, императрица знала, что и кому говорит: она нарочно подчеркивала привязанность народа к своей особе, чтобы лишний раз напомнить — потеснить ее с трона нелегко.
Особое внимание императрица уделяла купечеству. Купцы жаловались к руке вместе с дворянами и чиновниками, а посещениям фабрик Екатерина отдала основное время. Это не удивительно. Она находилась в богатом регионе с громадным потенциалом торгово-промышленного развития. Особые отношения подчеркивались тем, что с купеческими женами императрица целовалась по русскому обычаю в щеку. В Казани она выбрала для проживания дом купца Осокина — «девять покоев анфиладою, все шелком обитые, кресла и канапе вызолоченные, везде трюмо и мраморные столы под ними». Довольные ее обхождением купцы провожали царицу от города к городу в лодках, украшенных лентами и колокольчиками. Пройдет всего несколько лет, и когда в Поволжье вспыхнет крестьянская война, обитатели зажиточных городов, боясь за свое имущество, будут закрывать перед пугачевцами ворота. А за сто лет до того, при Разине, поволжские города, напротив, сами отворялись перед восставшими, что говорит об изменении социального состава их населения в пользу состоятельных слоев.
В Ярославле Екатерину интересовали шелковые фабрики, куда она отправилась в сопровождении иностранных послов. Она спрашивала купцов о прибыли, уменьшении численности рабочих на определенных операциях за счет машин, расширении производства. Допытывалась, нет ли препятствий административного характера «к поощрению и размножению сих нужных мануфактур», обращала внимание хозяев на «те производства, в которых иностранным государствам более надобности» и которые «торгу нашего отечества прибыточественнее». В Казани, куда, кроме местных, приехали за 700 верст еще кунгурские мыловары и кожевенники, подзадоривала их к конкуренции, «дабы казанские заводчики старались перед кунгурскими своими изделиями кожевенными щеголять, а кунгурские равномерным образом хотели бы казанских кож своими славу затмить»[836]. Именно казанские купцы татарского происхождения, главным образом, поддерживали торговые связи России со Средней Азией и Востоком[837].
Во время плавания по Волге ярко проявилась веротерпимость Екатерины — не только личная, но и возведенная в ранг государственной политики. Императрица всегда умела не оскорбить окружающих, проявить почтение к традициям, что бы там ни думала «в тайне». «Предрассудки — дело важное и деликатное, — писала она. — …Философ знает, что существуют национальные предрассудки, которые нужно уважать, предрассудки воспитания, с которыми надо обходиться бережно, предрассудки религии, которые должно поддерживать»[838].
Именно путешествуя по Волге и наблюдая «разницу… в привычках и даже в мыслях» жителей, Екатерина сделала вывод о неэффективности прежней конфессиональной политики. Она прямо писала своему давнему стороннику новгородскому митрополиту Дмитрию Сеченову о недовольстве местными епископами, которые то «люди слабые», то «простяки», то есть мало образованы. Особенно досталось нижегородскому епископу Феофану (Чарнуцкому). После общения с волжскими старообрядцами последовал рескрипт Сеченову «о мерах снисхождения в отношении раскольников»[839].
Последние жаловались Елагину в Городце, что местные священники обходятся с ними, «как с басурманами», «гнушаясь ими, не хотят ни молитвы давать, ни крестить младенца»[840]. Таким образом, раскольникам отказывали в отправлении обрядов даже тогда, когда они сами прибегали к священникам. В годы грядущей Пугачевщины многие из повстанцев, начиная с самого предводителя, будут старообрядцами. Неурегулированные отношения с ними подбросят дров в разгоревшийся огонь. Елагин сообщил императрице о жалобах и от ее имени дал распоряжение нижегородскому епископу крестить детей староверов. Однако требовалось менять политику в целом.
О понимании ситуации свидетельствовало письмо государыни Дмитрию Сеченову, который перед тем прославился именно христианизацией края. В землях, населенных иноверцами, особенно важно было иметь пастырей «нрава кроткого и доброго жития, кои тихостью, проповедью и беспорочностью добронравного учения подкрепляли во всяком случае Евангельское слово… поскольку один человек своей небрежностью может испортить то, что насилу и в 20 лет исправить возможно»[841].
Отношения с мусульманами Поволжья беспокоили императрицу не меньше, чем восстановление внутреннего мира с раскольниками. 30 мая в Казани губернатор А. Н. Квашнин-Самарин представил ей «абызов татар с их женами». В то время у представителей мусульманского духовенства — абызов — еще не было официального статуса. Абызы читали молитвы, выступали как судьи и главы общин, обучали детей. Милостивое обращение с ними Екатерины должно было обнадежить татар. В 1730-х годах, при Анне Иоанновне, в Поволжье разрушили немало мечетей. Теперь императрица дала разрешение возводить мечети из камня; первая — «Марджани». соборная, — была построена к 1770 году на средства прихожан[842].
Екатерина с любопытством осмотрела развалины древней столицы Булгарии — города Булгар, где раскопки проводились еще в 1740-х годах. Она писала Панину, что нашла «остатки больших, но не весьма хороших строений, два турецких минарета, весьма высокие, и все, что тут ни осталось, построено из плиты очень хорошей; татары же великое почтение имеют к сему месту и ездят Богу молиться в сии развалины. Сему один гонитель, казанский архиерей Лука, при покойной императрице Елизавете Петровне, позавидовал и много разломал, а из иных построил церковь, погреба и монастырь, хотя Петра I указ есть не вредить и не ломать сию древность»[843]. Орлов отметил в дневнике, что государыня запретила казанскому губернатору «растаскивать» для строительства «камни с надписями». Окружение императрицы не испытывало неприязни к иноверцам. Брат фаворита, посетив одну из мечетей, писал: «Служба их проста и кажется очень богопочтительна, смиренности и внимания во время оной более быть не может»[844].
Обобщить приобретенный в Поволжье опыт Екатерина намеревалась во время работы Уложенной комиссии. Правда, депутаты оказались не готовы ко многим просвещенческим идеям, в частности к веротерпимости. Зерна новых взглядов надо было еще посеять. В 1773 году Екатерина подписала указ «О терпимости всех вероисповеданий и о запрещении архиереям вступать в дела, касающиеся до иноверных вероисповеданий и до построения по их законам молитвенных домов».
«Справедливый, просвещенный и сильный человек»
Дело Салтыковой и поданные во время путешествия по Волге жалобы погружали Екатерину в темные глубины русской реальности. Куда проще было воображать будущие благодеяния, гуляя с томиком Вольтера по паркам Царского Села. Еще увлекательнее оказалось обсуждать свои проекты с живыми энциклопедистами: ведь захватив корону, императрица сделалась сама необычайно интересной для «республики философов».
Дружеские отношения с монархами таили огромный соблазн для кумиров поколения — стать наставниками, педагогами, поводырями, воспитать умы и добиться претворения своих теорий на практике. До определенного момента Россия воспринималась философами-просветителями как место реализации их идей. Екатерина поддерживала подобное представление. Она и сама осознавала себя ученицей французской философии, многие ее политические шаги были продиктованы именно просветительскими взглядами.
В круг политико-философских размышлений французских писателей Россия вошла примерно с середины XVIII века. Ее стремительное «перерождение» под скипетром Петра I в начале столетия и превращение в одну из наиболее могущественных стран, двигавшуюся по пути европейского просвещения, возбуждали немало споров. Не было ни одного хоть сколько-нибудь значимого французского автора, который не уделил бы феномену «Скифии» толику внимания. Фонтенель, Монтескьё, Вольтер, Дидро, Руссо, Д’Аламбер, Мабли, Мармонтель сочиняли о России оды, поэмы, драмы, романы, исторические труды, рассуждения на юридические и экономические вопросы, памфлеты и похвальные слова. «В общем, русская нация в настоящий момент положительно находится в моде»[845], — писал по этому поводу барон Гримм. С другой стороны, в России с середины века наблюдался нарастающий интерес к трудам французских просветителей. Правда, за неимением развитого третьего сословия, их идеями увлекалась в основном аристократия, получившая образование за границей[846]. Впрочем, и сам Вольтер считал, что его тексты «не для портных и сапожников». В царствование Екатерины на русский язык было переведено около 60 книг «фернейского патриарха». Широкую известность получили «Философский словарь», «Кандид», «Людовик XIV», «Опыт о духе и правах народов»[847]. Еще Елизавета Петровна заказала Вольтеру труд о Петре Великом и снабдила его необходимыми материалами.
«В то время образованные русские, военные и статские, знали, читали, славили одного Вольтера и полагали, прочтя все сочиненное им, что стали столь же учеными, как их апостол»[848], — вспоминал Дж. Казанова, посетивший Россию в 1767 году. Мода на вольтерьянство, которой покровительствовала императрица, быстро охватила двор. Щедрым патроном для философов-просветителей стал граф А. П. Шувалов, которого Вольтер называл «Северным Меценатом» и которому посвятил трагедию «Олимпия». На средства князя Д. А. Голицына в Гааге печаталось первое издание труда Гельвеция «О человеке», запрещенное во Франции. Г. Г. Орлов, выполняя рекомендацию Екатерины, пригласил высланного из Франции Руссо поселиться в его поместье в Гатчине. А К. Г. Разумовский предлагал знаменитому изгнаннику свое имение на Украине. E. Р. Дашкова печатала в журнале «Невинные упражнения» отрывки из книги Гельвеция «Об уме», переводы Руссо «Рассуждения о происхождении и основах неравенства среди людей» и «Новую Элоизу». При дворе совместные переводы статей из «Энциклопедии» и их обсуждения сделались излюбленным салонным времяпрепровождением. Особенно охотно русская публика восприняла уже упоминавшийся роман Мармонтеля «Велизарий», вызвавший во Франции нападки на автора. Воспитатель наследника С. А. Порошин в дневнике заметил, что такие книги «для всякого состояния к просвещению необходимы»[849].
Многих вельможных вольтерьянцев «отрезвила» Пугачевщина. В 1775 году директор придворного театра и статс-секретарь императрицы И. П. Елагин, переводивший вместе с ней «Велизария», заметил, что только «благодать Божия не попустила ни вольтерову писанию, ни прочих так называемых философов и энциклопедистов сочинениям вовсе преобратить душу проповедями их»[850]. Однако семена уже были брошены. Многочисленные переводы западных политических авторов провоцировали развитие отечественной философии, журналистики и литературы. Изменялось представление общества о самом себе. «Часто лучше внушать преобразования, чем их предписывать»[851], — замечала Екатерина.
Вскоре после переворота между нею и Вольтером завязалась переписка. Сначала она велась полуанонимно: императрица выступала от имени своего библиотекаря, философ — от имени некоего «племянника аббата Базена»[852]. Они как бы пробовали почву, не очень уверенные в том, что обмен посланиями продлится долго.
Зачем вообще понадобился эпистолярный диалог? Помимо интеллектуального интереса Екатерина преследовала и прагматические цели. В глазах общественного мнения, на которое влиял ее корреспондент, она оставалась узурпатором, не имевшим прав на корону. Правам юридическим императрица противопоставила права духовные, сделавшись кумиром просвещенной публики. Она достойна занимать престол, потому что ведет свою страну к тем ценностям, которые выработаны западной политической мыслью, но отвергнуты западными монархами.
Екатерина никогда не забывала о том, что Людовика XIV и Фридриха II называли Великими не только за их государственные и военные успехи, но и за покровительство науке и литературе[853]. Императрица показывала, что готова отложить в сторону скипетр и корону, чтобы взять свиток законов. Она предложила изгнанным из Франции энциклопедистам продолжить публикацию «Энциклопедии» в России. Это был широкий жест, сразу вызвавший восхищение у поклонников Просвещения. Дидро писал по этому поводу своей приятельнице госпоже Волань: «Нам предлагают полную свободу, покровительство, почести, деньги, блестящее положение, что скажете Вы на это? Во Франции, стране образованности, науки, искусства, хорошего вкуса, философии, нас преследуют, а там… в ледяных пустынях Севера, нам дружески протягивают руку»[854]. Почти с теми же словами обращался к самому Дидро Вольтер: «Ну вот, прославленный философ, что скажете Вы о русской императрице? В какое время мы живем? Франция преследует философию, скифы ей покровительствуют»[855].
Екатерина превратилась во Франции в монарха людей мыслящих. В первые годы ее царствования версальский кабинет отказывался признавать за «узурпаторшей» императорский титул. Каково же было Людовику XV и его министрам наблюдать, как читающая публика вслед за запрещенными писателями прославляет русскую императрицу и утверждает, что «свет в Европу приходит с Севера»?
Ожидая осуществления своих идей «сверху», просветители жаждали появления королей-философов, которые, основываясь на началах разума, преобразуют мир. «Велением судьбы, — писал Гольбах, — на троне могут оказаться просвещенные, справедливые, мужественные и добродетельные монархи, которые, познав истинную причину человеческих бедствий, попытаются исцелить их по указанию мудрости»[856]. Дидро, отвечая на сомнения Гельвеция, придет ли такой необычный монарх, писал: «Он придет когда-нибудь, тот справедливый, просвещенный и сильный человек, которого Вы ждете, потому что время приносите собой все, что возможно, а такой человек возможен».
Общаясь с друзьями-философами, Екатерина никогда не выпускала из виду материальную сторону. Ведь на нее смотрели не только как на коронованную ученицу, в ней видели подательницу всяческих благ, недаром на аллегорических картинах того времени у ног монархов всегда изображался рог изобилия. Узнав, что Дидро нуждается в деньгах, императрица купила в 1765 году его библиотеку и оставила книги в пожизненное пользование владельца, назначив его библиотекарем с жалованьем 1000 ливров в год. Сумма была выплачена на 50 лет вперед, а для энциклопедиста приобрели дом в Париже.
Пригласив Д’Аламбера стать воспитателем наследника Павла Петровича, Екатерина предложила ему жалованье в 1000 ливров в год и статус посла иностранной державы при ее дворе. «Если же Вам трудно расстаться со своими друзьями, — писала императрица, — Вы можете забрать их всех с собой. Я обещаю сделать для них все, что в моих силах, и возможно, они будут здесь более свободны и счастливы, чем у себя на родине».
Делать подобные предложения было относительно безопасно, поскольку мало кто из людей с именем и положением пустился бы в далекий путь, чтобы поселиться в «варварской» стране с суровым климатом, «диким» народом и отсутствием привычного комфорта. Д’Аламбер отклонил приглашение, но принял пенсион и до конца дней оставался ревностным защитником интересов Екатерины на международной арене. Положение полуофициального представителя России за рубежом обрел известный критик и философ барон М. Гримм. Он неоднократно приезжал в Петербург, был избран почетным членом Российской академии наук, помогал Екатерине с приобретением научных и художественных коллекций. Императрица поддерживала с ним многолетнюю дружескую переписку. Служба Гримма была щедро вознаграждена званием статского советника, орденом Святого Владимира, драгоценными подарками и солидными денежными пожалованиями[857].
Удивительно ли, что после таких милостей просветители, как некогда елизаветинские старушки, которым великая княгиня посылала фрукты на именины, воздавали «хвалу» ее «уму и сердцу»?
Единственным, с кем Екатерина не сумела установить приятельских отношений, был Руссо. «Пламенный Жан Жак», как его называли, не раз с крайним раздражением высказывался о России. Согласно его построениям, цивилизация ломает естественного человека, до того жившего в первозданной простоте и гармонии с природой. Дикарь по натуре честен, благороден, добр, щедр и простодушен. Но стоит ему вкусить плодов современной культуры, как она начинает развращать его душу, он становился жестоким варваром. Нечто подобное произошло и с русскими в результате их приобщения к европейской цивилизации. Напрасно Екатерина предлагала Руссо переселиться в Россию и своими глазами увидеть плоды просвещения, сулила единовременное пособие в размере 100 тысяч ливров. Философ заявлял, что императрица пытается его «обесчестить», называл ее «тираном» и «не разбирающимся в средствах чудовищем», а относительно русских писал, что «их следует загнать обратно в леса, откуда они так опрометчиво выбрались». После смерти Руссо в 1790 году его жена Тереза, оказавшись в трудном положении, обратилась к Екатерине с просьбой о помощи. Ее письмо осталось без ответа[858].
«Памятник моему самолюбию»
Львиная доля благодеяний императрицы предназначалась, конечно, Вольтеру. К началу их переписки Вольтера уже называли великим мыслителем, основателем целого философского направления. По своим убеждениям он был деистом, то есть обожествлял Мысль, считая Бога разумным первоначалом всего живого. Однако Вольтер находился в острейшей конфронтации с католической церковью, высмеивая фанатизм, невежество и ханжество римского духовенства. Его призыв «раздавить гадину» стал лозунгом французских безбожников, хотя сам философ никогда не симпатизировал атеизму. Не одобрял «фернейский мудрец» и социальных взрывов, которые, по его убеждению, вели к регрессу общества. «Если бы Бога не было, то его следовало выдумать», считал Вольтер, поскольку религия помогает «держать на цепи под страхом виселицы и ада» чернь, желающую, чтобы «богатые были ограблены бедными». Предотвратить революции, подобные Английской, когда народ сам «разорвет свои оковы», можно посредством просвещения и реформ, к которым должны стремиться мудрые государи. Республика никогда не провозглашалась Вольтером лучшей формой правления, напротив, «философия, облеченная монаршими полномочиями», — вот идеальное устройство для государства.
Такие взгляды были близки Екатерине. Именно на них она построила идеологию собственного царствования. Вольтер же в стремлении европейских государей получать от него наставления видел первые плоды просвещенной монархии. Своим поведением на троне русская императрица как бы подтверждала правильность политических построений философа. Они были нужны друг другу, и это создало прочную основу для сотрудничества.
Не были забыты и материальные выгоды. По высокой цене у Вольтера покупалась продукция его швейцарского часового завода. В виде гонораров за заказанные статьи Екатерина посылала в Ферне крупные суммы, меха, ювелирные изделия. После смерти философа императрица купила у его племянницы мадам Дени библиотеку покойного в семь тысяч томов, а поскольку католическая церковь отказывалась хоронить «безбожника» на родине, предложила принять прах «старого учителя» в России.
Зная, как чувствителен философ к лести, Екатерина не боялась переборщить. «О, как я люблю Ваши сочинения! По мне — нет ничего лучше их»[859], — писала она. Или: «Я больше дорожу Вашими сочинениями, чем всеми подвигами Александра»[860]. Вольтер не оставался в долгу, он называл императрицу «Полярной звездой», «Екатериной, затмившей святых Екатерин — Сьенскую и Александрийскую».
На наш взгляд, неосновательна мысль М. В. Нечкиной, будто Вольтер, прибегая к преувеличенным похвалам в письмах, высмеивал императрицу. Екатерина была чутким читателем, и не всякая лесть доставляла ей удовольствие. В 1781 году в руки государыни попала брошюра под названием «Похвала Екатерине Второй», изданная в Лондоне шестью годами ранее. «Кажется мне, что это какой-нибудь студент, желавший начертать пример для государей, — рассуждала Екатерина в коротенькой записке „Памятник моему самолюбию“. — Он, должно быть, очень мало образован и, несмотря на чрезмерные похвалы кстати и некстати, никакая книга не доставила мне более скуки»[861]. Вольтер, в отличие от безвестного студента, прославлял императрицу «кстати» и настолько умело, что это не вызывало у нее ни скуки, ни нравственного протеста. Кроме того, формулы вежливости эпохи абсолютизма сильно отличались от современных, и если бы в письмах к монархам не появлялись льстивые обороты, их сочли бы грубыми.
Насколько искренен был «фернейский патриарх», именуя Фридриха II «Соломоном Севера», а Екатерину «Семирамидой Севера»? Пятнадцать лет он поддерживал переписку с последней, невзирая ни на какие колебания ее правительственного курса. Только ли щедрые подарки заставляли его не прерывать эпистолярный диалог? Вероятно, Вольтер лучше многих в «республике философов» понимал, что монархи работают не на бумаге, а на «шкурах своих подданных», как позднее выразится Екатерина в беседе с Дидро. Из этого рождалось то снисхождение, которое Вольтер демонстрировал в письмах друзьям. «Соглашусь с Вами, что философия не может слишком гордиться такого рода учениками, — писал он Д’Аламберу, — но что поделать, надо любить друзей и с их недостатками»[862].
Впрочем, поводы гордиться Екатериной у Вольтера были. Императрица сообщала корреспонденту об интересных явлениях в научной жизни России и, конечно, не могла обойти молчанием такое важное событие, как оспопрививание. Она решилась сделать прививку себе, великому князю и начать широкую вакцинацию в столицах. Для этого в Петербург был приглашен английский врач Томас Димсдейл (Димсдаль, Димсдал). «Я рассудила, что из всего лучшим будет то, когда сама собою покажу такой пример, который бы учинился человеческому роду полезным, — писала Екатерина 17 декабря 1768 года. — Мне пришло на память, что по счастью не имела я еще оспы. Итак, приказано было выписать из Англии оспенного врача; вследствие чего славный доктор Димсдал решился приехать в Россию и прошлого октября 12 числа привил мне оспу».
Шаг Екатерины был, без сомнения, смелым. Когда-то от оспы чуть не умер ее жених Петр Федорович, заразы смертельно боялась Елизавета Петровна. Среди простонародья болезнь не переводилась. В Европе целые дворы оказывались жертвами эпидемий. Зная, что есть способ победить хворь, императрица без колебания пошла на вакцинацию и сумела выжать из своего поступка все выгоды. «Не отлагая времени, прикажу я привить к единородному моему сыну. Генерал-фельдмаршал князь Орлов… усомнился, был ли сею болезнию болен, отдался также в руки нашего англичанина. Примеру его последовали многие придворные, а прочие к тому же готовятся. Сверх того в Петербурге прививают оспу в трех домах, определенных для воспитания и обучения юношества, и в особливой больнице, учрежденной под смотрением господина Димсдаля».
Не без самодовольства Екатерина замечала, что во время болезни «не лежала в постели, и каждый день к себе принимала». Хваля презрение к опасности в Орлове, она косвенным образом подчеркивала и собственную отвагу: «Это герой, уподобляющийся тем древним римлянам, кои существовали в цветущее состояние республики, и имеющий свойственную тем временам храбрость и великодушие. По учинении над ним операции, [он] на другой день ездил в поле на охоту в превеличайший снег»[863]. Именно такие поступки Екатерины заставляли Вольтера подписываться: «Ваш старый фернейский россиянин». В послании 26 февраля 1769 года он пенял своим «одноземцам, которые подавали некогда во всем великие примеры, но ныне… учинились варварами… и до того доходили, что требовались уже парламентские приговоры к прививанию оспы». Восхищение философа адресовалось не только императрице, оно транслировалось сотням его корреспондентов во всех уголках Европы. «Какими поразительными примерами… Вы научаете наших вертопрашных французов, наших мудрецов Сорбоннских и наших Ескулапов! Вы решились привить себе оспу с меньшими приготовлениями, нежели иная старица приступает к промывательному лекарству; чему последовал и великий князь Российской империи! Граф Орлов, будучи уже одержим оспою, отправился на охоту, невзирая на снег; таким образом, поступил бы и Сципион, ежели б сия распространившаяся из Аравии болезнь в его время существовала»[864].
К чести Екатерины, ее высказывания о Вольтере не изменились и после смерти философа, когда он уже ничем не мог помочь ей. «Дайте мне 100 полных экземпляров сочинений моего учителя, — обращалась она к Гримму, собиравшему подписку, — я хочу, чтобы их читали, чтобы их учили наизусть, чтобы умы питались ими; это образует граждан, гениев, героев и авторов; это разовьет сто тысяч талантов»[865].
Однако Екатерина не приветствовала обнародования своего эпистолярного диалога с «фернейским пустынником». Когда Карон Бомарше, став издателем полного собрания сочинений Вольтера, объявил, что опубликует и переписку философа с Екатериной, императрица повела через Гримма переговоры об исключении ее писем из издания. Они не содержали политических тайн, но сам их откровенный тон, насмешки над соседними государями и легкий цинизм, столь свойственный Вольтеру, могли осложнить и без того трудные отношения нашей героини с Версалем, Веной, Папским престолом. Драматург предложил формулировку: «Печатано в Царскосельском дворце», но государыня отклонила посвящение ей этого издания. Она договорилась, чтобы в Петербург был прислан том, содержавший письма, из которого изъяла несколько страниц. Но «Сеньор Фигаро», как Екатерина дразнила Бомарше, пошел на хитрость: он сохранил параллельный текст в другой, более дешевой публикации, а на возмущение Гримма отвечал: «Я торговец, я купил и продаю. Разве я пошел бы на такую глупость — покупать за 100 000 экю сочинения Вольтера, печатавшиеся вот уже сорок лет во всей Европе»[866]. Иными словами: именно переписка с Екатериной придавала изданию особую ценность в глазах подписчиков.
Охлаждение к вольтерьянству у императрицы произойдет только после Французской революции, когда она осознает связь между проповедями фернейского мудреца и гильотинами на улицах Парижа. Екатерина прикажет вынести мраморный бюст философа из своего кабинета, но и тогда не перестанет называть давнего корреспондента своим учителем. «Я хотела позаимствовать мудрости у ваших знаменитых писателей и приглашала их к себе, они не поняли меня, — с грустью говорила уже пожилая государыня французскому послу графу Луи де Сегюру. — Один добрый Вольтер сумел постичь мою душу, я многим ему обязана».
Однако Екатерина позволяла учить себя далеко не каждому прославившемуся в Европе политическому автору. Во время путешествия в Крым в 1787 году она рассказала Сегюру «историю про Мерсье де да Ривиера, писателя с замечательным талантом, издавшего в Париже сочинение „О естественном и существенном порядке политических обществ“. Книга эта пользовалась блестящим успехом по соответствию содержавшихся в ней мыслей с началами, принятыми экономистами. Так как Екатерина хотела познакомиться с этой политико-экономической системой, то она пригласила нашего публициста в Россию».
Дело было в 1763 году, когда двор находился в Москве на коронационных торжествах, поэтому гостя попросили дождаться возвращения императрицы в Петербурге. «Господин де ла Ривиер, — вспоминала императрица, — …по приезде своем немедленно нанял три смежных дома, тотчас же переделал их совершенно и из парадных покоев поделал приемные залы, а из прочих — комнаты для присутствия. Философ вообразил себе, что я призвала его в помощь мне для управления империей и для того, чтобы он сообщил нам свои познания и извлек нас из тьмы невежества. Он над всеми этими комнатами прибил надписи большими буквами: Департамент внутренних дел, Департамент торговли, Департамент юстиции, Департамент финансов, Отделение для сбора податей и пр. Вместе с тем он приглашал многих из жителей столицы, русских и иноземцев, которых ему представляли как людей сведущих, явиться к нему для занятия различных должностей… Я приехала и прекратила эту комедию. Я вывела законодателя из заблуждения. Несколько раз поговорила с ним о его сочинении, и рассуждения его, признаюсь, мне понравились, потому что он был неглуп, но только честолюбие немного помутило его разум. Я, как следует, заплатила за все его издержки… Он оставил намерение быть первым министром и уехал довольный как писатель, но несколько пристыженный как философ, которого честолюбие завело слишком далеко».
Через четверть века после этого казуса Екатерина всего лишь подтрунивала над амбициозным писателем. Но ее письмо к Вольтеру, отправленное по горячим следам и приведенное Сегюром, дышит раздражением: «Г. де ла Ривиер приехал к нам законодателем. Он полагал, что мы ходим на четвереньках, и был так любезен, что потрудился приехать из Мартиники, чтобы учить нас ходить на двух ногах»[867].
«Всякое другое правление было бы России вредно»
Выучиться «ходить на двух ногах», то есть обзавестись современным государственным аппаратом, русские должны были сами. Мы уже говорили о том, что на пути в Петергоф, в ночь с 28 на 29 июня 1762 года, то есть в первые сутки своего царствования, Екатерина обсуждала с Дашковой планы будущих преобразований. Утомленные дорогой амазонки ночевали на одном, брошенном на кровать плаще. «Нам необходим был покой, особенно мне», — вспоминала Дашкова. Всю ночь дамы обсуждали черновики манифеста и первых указов Екатерины. «Мы не могли уснуть, — писала княгиня, — и Ее величество начала читать мне целый ряд манифестов, которые подлежали опубликованию по нашем возвращении в город»[868].
Нервы подруг были слишком возбуждены, и они до рассвета проговорили о грядущем благоденствии, которое ожидало империю под скипетром просвещенного монарха. Как, должно быть, непохожи оказались радужные видения на реальность с ее кропотливой повседневной работой. Но Екатерина обожала не только эффектные театральные сцены. Она была предрасположена к усидчивому труду в тиши кабинета. Ей нравилось работать. Особенно когда усилия венчал успех и они приносили славу мудрой правительницы.
Екатерина считается одним из наиболее удачливых реформаторов в истории России. Начатые ею преобразования укрепили государственный аппарат, законодательно оформили права и обязанности разных сословий, значительно повысили военную мощь империи и обеспечили широкое культурное развитие страны. Недаром императрица видела себя продолжательницей дел Петра Великого. Она была глубоко убеждена, что место России — в Европе. Поэтому практически все ее реформы в конечном счете были направлены на сокращение разрыва между просвещенными нациями Запада и Россией.
«Россия есть Европейская держава», — писала она в «Наказе». По ее мнению, Петр I вводил «нравы и обычаи европейские в европейском народе» и «тем удобнее успех получил». Что касается прежнего, московского, уклада, то он, по мысли императрицы, стал результатом «смешения разных народов и завоевания чуждых областей»[869]. Однако бездумное, неумелое перенесение на русскую почву западного опыта грозило, на взгляд Екатерины, неудачей реформ. Чужой росток не привьется, и все начинания пропадут втуне.
«Когда хочешь сделать новый рассадник устриц, — писала она, — недостаточно взять их с одного места и перенести в другое… Надо еще наблюдать глубину воды в приливе и отливе, природу дна, положение берегов, подобно тому, как хороший садовник рассматривает свойства почвы, когда хочет пересадить какой-нибудь куст. Время года, соленость воды и морские растения, на которых устрицы помещаются, — также предметы, которыми не надо пренебрегать»[870].
Екатерину не смущал тот факт, что реальность и политические теории нередко приходили в прямое противоречие. Напротив, она радовалась тому, что может попытаться хотя бы отчасти преобразовать мир на началах разума, терпимости и смягчения нравов. Та программа реформ, с которой молодая императрица пришла к власти, годилась бы для любой средней европейской страны (без учета национальных, культурных, религиозных и географических особенностей), поскольку была вычитана из книг Вольтера и Дидро. Она явилась плодом кабинетных размышлений, и в этом уже крылась известная слабость задуманных преобразований. В дальнейшем знакомство с повседневной жизнью громадной империи внесло серьезные коррективы в само направление екатерининских реформ.
В часто цитируемом письме Вольтеру из Казани о «20 различных народах», представляющих собой «целый особый мир», который надо еще «создать, сплотить, охранять», Екатерина верно нащупала суть проблемы: «Легко положить общие начала, но частности?»[871] В эти «частности» и уперлось ее правительство.
Одним из важных шагов нового кабинета, предпринятым в просвещенческом ключе, было Генеральное межевание 1766 года. Необходимость этой меры осознавало еще правительство Елизаветы Петровны, но, как водится, не решилось на нее[872]. Дворянские земельные отношения были запутаны бесконечными тяжбами, многие владельческие документы утрачены или никогда не существовали, споры о границах велись годами. Это порождало рой злоупотреблений, незаконных захватов или, напротив, потерю имущества. Кроме того, государь по традиции считал себя вправе забирать имения провинившихся служилых людей, чем охотно пользовались и Петр I, и Анна Иоанновна, и Елизавета. Собственность в России не была защищена законом. «Ни к чему я не имею такого отвращения, как к конфискации имущества виновных, — рассуждала Екатерина, — потому что кто на земле может отнять у детей… таких людей наследство, какое получают они от самого Бога?»[873]
Генеральное межевание — трудный, но необходимый процесс, в ходе которого были обмерены, описаны и юридически оформлены все земельные наделы, — четко закрепило за каждым владельцем его имущество. Помещики получили от государства гарантии неприкосновенности их собственности. Теперь император уже не мог конфисковать у подданных достояние ни в случае опалы, ни после осуждения преступника. Собственность переходила по наследству к членам семьи или сохранялась за осужденным до окончания срока приговора[874]. Показательно, что попытка Павла I вернуться к прежней системе вызвала дружное противодействие дворянства и стала одной из причин гибели монарха.
В случае с Генеральным межеванием Екатерина ради осуществления реформы, которую считала необходимой и справедливой, пожертвовала частью прав самодержавного государя. В вопросах собственности подданный перестал быть беззащитен перед лицом монарха. Совсем иначе она поступала, когда дело касалось размеров ее личной власти.
Сразу после коронации Н. И. Панин обратился к Екатерине с проектом ограничения ее полномочий. Глава партии великого князя надеялся, что в шаткой политической обстановке ему удастся склонить императрицу к чисто представительской роли при сильном и властном Совете. Последний и должен был, по мысли Никиты Ивановича, сосредоточить в своих руках законодательные функции. Позднее французский дипломат шевалье М. Д. Корберон писал, что Панин представил Екатерине «проект, следствием которого было бы управление, как в Польше»[875]. Нечто подобное за тридцать лет до этого навязывали Анне Иоанновне члены Верховного тайного совета. Но последняя разорвала уже подписанные «Кондиции». Ее примеру последовала и Екатерина.
Согласно составленному Паниным «Манифесту об учреждении Императорского совета и разделении Сената на департаменты», в России создавался высший орган — Императорский совет — из шести несменяемых членов, который служил для «законодания». Без него императрица не могла подписывать указов. Таким образом, в стране возникло бы олигархическое правление. Разделение же Сената на самостоятельные департаменты вело к падению его значения. Из органа, руководившего государственным аппаратом, он превращался в высшее административное и судебное учреждение. Екатерина очень ловко отбила панинский политический мяч: не отвергла проект в целом, а приняла только его вторую часть. В 1763 году Сенат был разделен, а Императорский совет не создан (лишь в 1768 году во время войны с Турцией возник Совет при высочайшем дворе — совещательный орган).
Нетрудно догадаться, что благодаря этой реформе власть монарха только возросла[876]. Поступая так, Екатерина отнюдь не нарушала просветительских идеалов, разве что наступала на «сердце республиканки». Вслед за Вольтером и Монтескье она была убеждена, что лучшей формой правления для обширных в территориальном смысле стран является монархия. «Пространное государство предполагает самодержавную власть в той особе, которая им правит, — писала императрица в „Наказе“ в Уложенную комиссию в 1767 году. — Надлежит, чтобы скорость в решении дел, из дальних стран присылаемых, награждала медленность, отдаленностью мест причиняемое. Всякое другое правление не только было бы России вредно, но и в конец разорительно»[877].
«Платье из павлиньих перьев»
Другой важнейшей задачей, стоявшей перед кабинетом Екатерины, была работа по упорядочиванию старых законов и созданию новых. В 1767 году в Москве собралась Комиссия по составлению кодекса вместо «Соборного уложения» царя Алексея Михайловича 1649 года. Созыв комиссии виделся Екатерине чем-то вроде Земского собора, а сами соборы, по ее мысли, были прерванной традицией сословного представительства в России. Кодекс должен был стать своего рода «общественным договором» между различными слоями населения.
В работе комиссии приняли участие 573 депутата: 28 — от учреждений, 161 — от дворянства, 208 — от горожан и 167 от остальных сословий. Они доставили 1465 «наказов» с мест. Представители духовенства и крепостные крестьяне не получили прав представительства. Первые должны были, по мысли Екатерины, находиться вне политики; интересы вторых, как считалось, представляли владельцы.
Позднее в заметке, не предназначенной для посторонних глаз, Екатерина, обрушиваясь на крепостное право, вспоминала: «Когда в комиссии для составления нового Уложения стали обсуждать некоторые вопросы, относящиеся к этому предмету, и когда невежественные дворяне, число которых было неизмеримо больше, чем я могла когда-либо предполагать… стали догадываться, что эти вопросы могут привести к некоторому улучшению в настоящем положении земледельцев, разве мы не видели, как даже граф Александр Сергеевич Строганов, человек самый мягкий и в сущности самый гуманный… с негодованием и страстью защищал дело рабства»[878].
Неудивительно поэтому, что «Наказ» императрицы был роздан депутатам для чтения, но не оглашен с трибуны публично. Каждому следовало познакомиться с брошюрой в уединении, не испытывая давления «безрассудного общества». Предварительно из текста императрица, по совету Н. И. Панина и Г. Г. Орлова, вымарала значительную часть[879]. Мало того что в «Наказе» встречались понятия, большинству собравшихся просто незнакомые, — естественные права человека, равенство перед законом, веротерпимость, презумпция невиновности[880]. Сам дух этого документа противоречил всему строю старого законодательства.
Императрица работала над «Наказом» с большим увлечением и называла свое состояние «законобесием». Бывали дни, когда она просиживала за редактированием текста по 15 часов. В результате документ был скомпилирован из произведений французских энциклопедистов и обосновывал принципы просвещенного абсолютизма. Екатерина писала по этому поводу другому «философу на троне», прусскому королю Фридриху II: «Ваше величество не найдет там ничего нового, ничего неизвестного для себя; Вы увидите, что я поступила, как ворона из басни, сделав себе платье из павлиньих перьев. Во всем труде мне принадлежит лишь распределение предметов по статьям и в разных местах — то строчка, то слово. Если бы собрали все прибавленное туда мною, я не думаю, что вышло бы свыше двух, трех листов». О том же она говорила в письме Д’Аламберу: «Вы увидите, как в нем (в „Наказе“. — О. Е.) для пользы моего государства я ограбила президента Монтескье, не называя его; но надеюсь, что если он с того света увидит мою работу, то простит мне этот плагиат во имя блага двадцати миллионов людей, которое должно от этого произойти. Он слишком любит человечество, чтобы на меня обидеться»[881].
Императрица лукавила, принижая свою роль в создании «Наказа». Этот документ был исключительно дорог ей не только как государственному деятелю, но и как политическому писателю. Недаром в письме госпоже Жоффрен Екатерина называла «Наказ» «исповедью своего здравого смысла»[882]. По ее собственному выражению, она «обобрала» философов-просветителей, то есть создала текст на основе наиболее передовых общественных идей того времени. Главными трудами, которыми воспользовалась Екатерина, были «Дух законов» Монтескье и «О преступлении и наказании» аббата Беккария. В первом обосновывалась точка зрения, что законы «должны соответствовать физическим свойствам страны, ее климату… положению, размерам, образу жизни ее народов» (то есть для России наилучшей формой правления является абсолютная монархия); второе доказывало пагубность применения пыток и иных средневековых форм судопроизводства. Книга Беккария имела огромный резонанс в Европе и способствовала смягчению уголовного права[883]. В России пытка при дознании была в первый раз отменена Екатериной в 1763 году. Однако от подписания указа до изменения повседневной практики большая дистанция. Со вступлением на престол Павел I отменил материнское законодательство, и в 1801 году, после переворота, Александр I вновь повторил запрет на ведение дознания с пристрастием. «Наказ» Уложенной комиссии также должен был подтвердить депутатам непреклонное желание правительства следовать избранным курсом на «смягчение нравов».
Довольная своим детищем императрица писала Вольтеру: «Надеюсь, что каждый честный человек ни одной строке не откажется дать своего одобрения»[884]. Екатерина стала первым монархом Европы, превратившим плоды просветительской мысли в конкретный государственный документ и попытавшимся руководствоваться им в реальной внутренней политике. Недаром Вольтер увидел в «Наказе» пример добровольного претворения в жизнь его философских взглядов. «Ликург и Солон одобрили бы Ваше творение, — с восторгом писал он, — но не могли бы, конечно, сделать подобное. В нем все ясно, кратко, справедливо, исполнено твердости и человеколюбия»[885]. Тот факт, что во Франции король приказал изъять все экземпляры «Наказа» и сжечь их на рыночной площади, только прибавил Екатерине во мнении просветителей.
Однако реальная жизнь оказалась очень далека от блестящих теоретических выкладок. Первое, что депутаты сделали, — попытались преподнести государыне титул «Великой и Премудрой Матери Отечества». Это не на шутку разозлило императрицу: «Я собрала их для составления законов, а они делают анатомию моих качеств!»[886] Забавная оговорка: видимо, Екатерина считала величие и премудрость своими неотъемлемыми качествами.
Уложенная комиссия заседала больше года, и порой прения в ней были очень яростными. Обсуждался огромный круг вопросов: от борьбы с эпидемиями до изъятия права наказания еретиков из юрисдикции Церкви. Остро обозначились и социальные противоречия: например, однодворцы заявляли о своих правах войти в состав дворянского сословия; депутаты-казаки жаловались на злоупотребления правительственных чиновников и неясность своего правового статуса. Выдвигались предложения перевести всех крепостных крестьян в особую группу государственных, а из получаемых с них в виде оброка денег платить помещикам «жалование». Последняя идея очень напоминала то, что произошло с монастырскими крестьянами в результате секуляризации, и поэтому вызвала серьезные опасения. Именно при ее обсуждении граф Александр Сергеевич Строганов «с негодованием и страстью защищал дело рабства».
Для характеристики той разномастной публики, которую представляли собой съехавшиеся депутаты, показательны истории инородцев, также приглашенных в комиссию. Большинство из них не привезли с собой никаких «поверенностей», не могли толком рассказать, в чем состоят нужды народов, которые они представляли, а пределом мечтаний для иных было увидеть государыню, проезжающую по улице[887]. К «татарам и иноверцам» были приставлены «опекуны», следившие за тем, чтобы «подопечные» являлись на заседания в европейском платье, и выступавшие от их имени, «по той причине, что они недовольно знают русский язык». Позднее Екатерина рассказала Сегюру: «Выборные от самоедов, дикого племени, подали мнение, замечательное своей простодушной откровенностью. „Мы люди простые, — сказали они, — мы проводим жизнь, пася оленей; мы не нуждаемся в Уложении. Установите только законы для наших русских соседей и наших начальников, чтобы они не могли нас притеснять; тогда мы будем довольны, и больше нам ничего не нужно“»[888].
Чем дольше заседала комиссия, тем яснее становилось, что никакого «общественного договора» она выработать не может, — слишком разные стремления были у различных категорий населения. Порой правительство являлось единственной силой, которая удерживала сословия от драки. В одном представители всех слоев были едины: и купцы, и казаки, и промышленники, и инородцы требовали права владеть землей с населявшими ее людьми. В то время как Екатерина стремилась к сокращению числа несвободных жителей страны, общество жаждало обратного и не стеснялось высказывать претензии подобного рода.
«Жить в довольстве и приятности»
Постепенно деятельность комиссии зашла в тупик. Часто можно встретить точку зрения, что Уложенная комиссия была распущена под предлогом начала первой Русско-турецкой войны (1768–1774 годов). Весьма веский предлог, надо признать. Помимо того, что в условиях боевых действий невозможно было тратить большие суммы на содержание депутатов, содержать просто-напросто стало некого. С открытием кампании залы Уложенной комиссии начали стремительно пустеть. Большинство депутатов — дворяне и казачество — обязаны были уехать к месту службы. 18 декабря 1768 года Екатерина подписала указ о прекращении пленарных заседаний. «Конечно, сей труд (составление уложения. — О. Е.) учинился по открытии войны не главным уже предметом, — писала императрица Вольтеру в начале 1769 года, — однако же оттого нисколько не потеряют. Законы сии позволяют каждому свою веру исповедывать; никого не будут ни гнать, ни убивать, ни сожигать»[889].
Однако императрица не была довольна результатами столь представительного собрания и даже высмеяла их на страницах «Всякой всячины», поместив там сказку про кафтан. «Мужик» вырос из старого, «добрый приказчик» выбрал материю и позвал портных, которые «решили кроить в запас». Однако посреди работы «вошли четыре мальчика, коих хозяева недавно взяли с улицы, где они с голода и с холода помирали… сии мальчики умели грамоте, но были весьма дерзки и нахальны: зачали прыгать и шуметь». В результате они помещали портным, кафтан остался не сшит, а мужик «дрожит от холода на дворе». Сказка, как и история о созыве депутатов, осталась без окончания. Екатерине ничего не оставалось, как сделать хорошую мину и подвести итог: «Комиссия Уложенная, быв в собрании, подала мне совет и сведения о всей империи, с кем дело имеем и о ком пещись должны»[890].
Работа комиссии не пропала втуне. Громадные материалы, накопленные в процессе слушаний, затем были употреблены Екатериной во время составления важнейших законодательных актов ее царствования: «Учреждения о губерниях» 1775 года, «Жалованных грамот» дворянству и городам 1785 года, а также множества указов и рескриптов. Но своей главной цели комиссия не достигла, «Уложение» так и не было составлено. Императрица решила сама обобщить собранные сведения и сделать то, на что «множество голов оказались неспособны». Отрицательный опыт Уложенной комиссии повлиял на изменение ее политических взглядов куда больше, чем Пугачевщина. Екатерина осознала, что нарождающееся в России общество крайне незрело и его следует вести по пути Просвещения. Себе лично императрица отводила роль поводыря с неограниченными полномочиями, которые она, конечно, не употребит во зло.
Они и не были употреблены ею во зло. Но сам принцип самодержавной власти, который при этом сохранялся, встретил порицание у друзей-философов. Вольтер готов был поддержать Екатерину и здесь. «Подумайте, — писал он герцогу Ришелье в июле 1770 года, — что эта императрица в своем кодексе законов… утверждает всеобщую терпимость первым из своих законов»[891].
В отличие от «фернейского россиянина», Дидро оставил весьма резкие комментарии на «Наказ»: «Русская императрица, несомненно, является деспотом. Входит ли в намерения ее сохранение деспотизма и на будущее, для ее наследников, или же она намерена отказаться от него? Если она сохраняет деспотизм для себя и для своих наследников, пусть составит свой кодекс так, как ей заблагорассудится, народ явится лишь свидетелем сего. Если же она желает отказаться от деспотизма, пусть отказ этот будет сделан формально, и, если он явится искренним, пусть совместно со своей нацией она изыщет наиболее надежные средства к тому, чтобы воспрепятствовать возрождению деспотизма. Пусть тогда в первой же главе народ прочтет непреклонную гибель тому, кто станет стремиться к деспотизму в будущем. Отказаться властвовать по произволу — вот что должен сделать хороший монарх, предлагая наказ своей нации. Если, читая только что написанные мною строки, она обратится к своей совести, если сердце ее затрепещет от радости, значит, она не пожелает больше править рабами. Если же она содрогнется, и кровь отхлынет от лица ее, и она побледнеет, признаем же, что она почитает себя лучшей, чем она есть на самом деле… Если предположить, что самые размеры России требуют деспота, то Россия обречена быть управляемой дурно. Если — по особому благоволению природы — в России будут царствовать подряд три хороших деспота, то и это будет для нее великим несчастьем, как, впрочем, и для всякой другой нации, для коей подчинение тирании не является привычным состоянием. Ибо эти три превосходных деспота внушат народу привычку к слепому повиновению; во время их царствования народы забудут свои неотчуждаемые права; они впадут в пагубное состояние апатии и беспечности и не будут испытывать той беспрерывной тревоги, которая является надежным стражем свободы…
Я говорил императрице, что если бы Англия имела последовательно трех таких государей, как Елизавета Английская, то она была бы порабощена навеки… Поэтому во всякой стране верховная власть должна быть ограниченной, и притом ограниченной наипрочнейше. Труднее, нежели создать законы, и даже хорошие законы, обезопасить эти законы от всяких посягательств со стороны властителя»[892].
Как, должно быть, удобно давать советы, думала Екатерина, читая подобные пассажи. Все это очень умно, тонко и справедливо. Но она в Уложенной комиссии не только не смогла «совместно со своей нацией» изыскать средства против «возрождения деспотизма», но и даже «формально» осудить его. Требовалась многолетняя кропотливая работа по изменению фундаментальных представлений русского общества о самом себе. После фиаско с уложением Екатерина начала это понимать. Вольтер, вероятно, понимал всегда: он был большой хитрец, этот фернейский философ, считавший других политических писателей пустомелями.
Дидро же не понял этого никогда, даже побывав в России. В 1774 году он посетил Петербург и в долгих ежедневных беседах с Екатериной изложил ей приведенные выше взгляды. Она не бледнела, не содрогалась, кровь не отливала от ее лица, но реакция императрицы на советы философа показательна. «Я долго с ним беседовала, — рассказывала она много позже Сегюру, — но более из любопытства, чем с пользою. Если бы я ему поверила, то пришлось бы преобразовать всю мою империю, уничтожить законодательство, правительство, политику, финансы и заменить их несбыточными мечтами. Однако так как я больше слушала его, чем говорила, то со стороны он показался бы строгим наставником, а я — скромной его ученицею. Он, кажется, сам уверился в этом, потому что, заметив наконец, что в государстве не приступают к преобразованиям по его советам, он с чувством обиженной гордости выразил мне свое удивление. Тогда я ему откровенно сказала: „Г. Дидро, я с большим удовольствием выслушала все, что вам внушил ваш блестящий ум. Но вашими высокими идеями хорошо наполнять книги, действовать же по ним плохо. Составляя планы разных преобразований, вы забываете различие наших положений. Вы трудитесь на бумаге, которая все терпит: она гладка, мягка и не представляет затруднений ни воображению, ни перу вашему, между тем как я, несчастная императрица, тружусь для простых смертных, которые чрезвычайно чувствительны и щекотливы“. Я уверена, что после этого я ему показалась жалка, а ум мой — узким и обыкновенным. Он стал говорить со мною только о литературе, и политика была изгнана из наших бесед»[893].
Дидро уехал из Петербурга обиженным. Он жаловался на невнимание императрицы, хотя Камер-фурьерский журнал показывает, что во время его пребывания при дворе Екатерина беседовала с ним по часу каждый день — редкая милость при ее занятости. Скорее, философ сетовал на равнодушие к его теориям, чем к нему лично[894].
Со своей стороны, Екатерина продолжала заочную полемику с философом. Как видно, его критика в адрес «Наказа» и слова о «деспотизме» больно задели ее. В заметке «О величии России» императрица писала: «Если бы кто был настолько сумасброден, чтобы сказать: вы говорите мне, что величие и пространство Российской империи требует, чтобы государь ее был самодержавен; я нимало не забочусь об этом величии и об этом пространстве России, лишь бы каждое частное лицо жило в довольстве; пусть лучше она будет поменее; такому безумцу я бы ответила: знайте же, что если ваше правительство преобразится в республику, оно утратит свою силу, а ваши области сделаются добычей первых хищников; не угодно ли с вашими правилами быть жертвою какой-нибудь орды татар, и под их игом надеетесь ли вы жить в довольстве и приятности?»
«Гром победы…»
Дальнейшее развитие событий подтвердило ее слова. В конце декабря 1768 года войска крымского хана Каплан-Гирея начали новый набег на южные земли России. 80-тысячная татарская армия по приказу султана Мустафы III разорила города Бахмут и Елисаветград, огнем и мечом прошла по землям колонии Новая Сербия, созданной еще при Елизавете Петровне на правом берегу Северского Донца, и захватила громадный полон из нескольких тысяч человек — русских, украинских и сербских переселенцев. Однако крымчаки вскоре наткнулись на 35-тысячную армию генерал-аншефа П. А. Румянцева, двигавшуюся им навстречу из-под Полтавы. Русские оттеснили захватчиков от Азовского моря и, ведя преследование, блокировали Крым. Донская флотилия под командованием вице-адмирала А. Н. Синявина вышла в море и попыталась блокировать полуостров. Вскоре на сторону русских перешли союзники крымского хана — ногайцы, открывшие Румянцеву прямой путь на Бахчисарай.
Это было последнее нашествие крымских татар на южные земли России, захлебнувшееся в самом начале, но послужившее прологом к большой войне. Ее принято называть первой Русско-турецкой, и действительно в царствование Екатерины она была первой. Хотя с конца XVII столетия Россия воевала с Оттоманской Портой уже в пятый раз. Два Азовских похода Петра I 1695 и 1696 годов, неудачный Прутский поход 1711 года, Крымская война 1735–1739 годов, когда русская армия под предводительством Б. X. Миниха впервые овладела Очаковом, и, наконец, новое столкновение.
У каждого конфликта были свои конкретные поводы, главная же причина оставалась неизменной — желание России обезопасить свои земли от непрекращающихся набегов крымских татар и закрепиться в Северном Причерноморье, куда на плодородные черноземные земли переезжало все больше колонистов. Со времен Петра I государство начало оказывать последним серьезную поддержку и защищать их. При Анне и Елизавете продолжались покровительство вновь образуемым колониям и привлечение переселенцев из южнославянских стран, находившихся под властью Турции. На екатерининское царствование пришелся пик переселенческой активности[895].
Турки не раз поощряли крымских татар к набегам на русские колонии, сами оставаясь как бы в стороне. Глубокий внутренний кризис, поразивший Османскую империю, проявлялся, кроме прочего, и в недостатке денег на войну, и в отсутствии хорошо обученной армии[896]. Однако воинственный пыл османов умело поддерживали европейские дворы, вручая Стамбулу крупные субсидии на вооружение войска. В первую Русско-турецкую войну (1768–1774) таким «донором» для Порты стала Франция. Версаль являлся самым последовательным и опасным неприятелем России в Европе, создав так называемый «Восточный барьер» — полукольцо из своих сателлитов: Турции, Польши и Швеции[897].
В течение XVIII столетия французы одного за другим теряли своих союзников. Первой пала Швеция. После поражения в Северной войне там началась так называемая «эра золотой свободы», партии в риксдаге боролись друг с другом, а Петербург открыто перекупал голоса и оказывал жесткое давление на политику соседней страны. Противники России называли такое положение «русским игом»[898].
С середины 60-х годов вслед за Швецией Франция начала заметно терять свои позиции в Польше. В 1764 году на польский престол был избран ставленник России Станислав Понятовский, после чего русское правительство возбудило вопрос о предоставлении православному населению Речи Посполитой равных прав с католиками[899]. Проблема имела давние корни. Польское католическое дворянство владело тысячами душ украинских крестьян, православных и униатов по вероисповеданию. На Украине не затихали волнения православного населения, порой принимавшие кровавые формы. В качестве решения проблемы Петербург предложил предоставить так называемым «диссидентам», то есть иноверцам (не только православным, но и протестантам), равные права с католиками. Если бы новый король пошел на это, то собственно польское католическое население Речи Посполитой оказалось бы в меньшинстве перед лицом православных украинцев. Понимая это, Станислав Август медлил с решением, а в письмах к Екатерине II пытался убедить ее, что «свобода» и «равноправие» несовместимы. «Природа свободной страны, такой, как наша, — писал он 5 октября 1766 года, — несовместима с допущением к законодательству тех, кто не исповедует господствующую религию. Чем больше национальных свобод заключено в конституции, тем более соразмерно должны действовать граждане… Мы рассматриваем всё, что расширяет границы веротерпимости, как величайшее зло… Ваш посол заявляет, что Ваша армия готова употребить в этой стране всю власть своих шпаг, если сейм не допустит иноверцев к законодательству… Нет, и еще раз нет: я не верю, что Вы начнете войну в Польше… Рекомендуя этой нации избрать меня королем, Вы, несомненно, не желали сделать меня объектом проклятий… Молния — в Ваших руках. Обрушите ли Вы ее на ни в чем не повинную голову?»[900]
Екатерина II «обрушила молнию». Из этого письма она ясно поняла, что король боится «нации», то есть польской шляхты, заседавшей в сейме, и совершенно не контролирует ситуацию в стране. Она не только приказала действовать русским войскам, расквартированным в Польше, но и ввела туда дополнительные части. В ответ противники России собрали в городе Барре конфедерацию из шляхты. Ее отряды были рассеяны русскими войсками под командованием Н. В. Репнина и А. В. Суворова. Однако положение оставалось опасным. Преобладанием русского влияния в Польше не могли быть довольны соседние державы Австрия и Пруссия, рассчитывавшие на свой «кусок пирога». Тем более была раздражена Франция, старая союзница и покровительница Речи Посполитой. С избранием Понятовского ее «инфлюенции» был нанесен сильный удар, а с началом боевых действий против конфедератов она и вовсе потеряла влияние на польские дела.
Тогда Версаль и вспомнил о Турции. «Я с печалью убедился, что север Европы все более и более подчиняется русской императрице, — писал министр иностранных дел Франции герцог Э. Ф. Шуазель послу в Константинополе графу Ш. Г. Вержену, — что на севере приготовляется лига, которая станет страшной для Франции. Самое верное средство разрушить этот проект и низвергнуть императрицу с захваченного ею трона — это было бы возбудить против нее войну. Только турки в состоянии оказать нам эту услугу»[901]. Вержен блестяще справился с задачей. Он передал султану Мустафе III три миллиона ливров на подготовку к войне[902].
В Европе считали, что новое столкновение между Россией и Турцией окончится в пользу султана. Шуазель писал французскому поверенному в Петербурге Сабатье де Кабру: «Его величество желает, чтобы война России с Турцией продолжалась до тех пор, пока петербургский двор, униженный или, по крайней мере, истощенный, не перестанет помышлять об угнетении соседей и о вмешательстве в общеевропейские дела»[903]. Этим надеждам не суждено было оправдаться. Ход войны показал, что французский кабинет ошибся в своих прогнозах. Активные военные действия в Молдавии, Валахии, Закавказье и удачная экспедиция русского флота из Балтики в Средиземное море увенчались каскадом побед. 16 сентября 1770 года командовавший 2-й армией генерал П. И. Панин взял Бендеры. В течение осени генерал Г. К. Тотлебен, поддержанный грузинскими волонтерами, захватил турецкие крепости в Имеретии: Кутаиси, Багдади и Шорапани.
Крупнейшим событием кампании 1770 года было появление в водах Средиземного моря трех русских эскадр под общим командованием А. Г. Орлова. В прошлом гвардейский офицер, Алексей Григорьевич не имел опыта управления морскими силами, поэтому ему в помощь были приданы два опытных адмирала — Г. А. Спиридов и С. К. Грейг. Весной адмирал Спиридов произвел высадку русского десанта в Морее, это послужило сигналом для восстания местных греков против турок. Русскими и греческими войсками были заняты Миситрия, а также порт Наварин. 24 июня русские моряки нанесли турецкому флоту сильный удар в Хиосском проливе, а через два дня настигли его в Чесменской бухте, куда турецкая эскадра скрылась под защиту береговых батарей. В ночь на 26 июня турецкие корабли были почти полностью уничтожены. «Турки прекратили всякое сопротивление даже на тех судах, которые еще не загорелись, — писал в рапорте Грейг. — Бо́льшая часть гребных судов или затонули, или опрокинулись от множества людей, бросавшихся в них. Целые команды в страхе и отчаянии кидались в воду»[904]. Орлов распорядился спасать и втаскивать на борт всех уцелевших — русских и турок без разбора. По его приказу флот направился к Дарданеллам, чтобы блокировать пролив и перерезать морские коммуникации противника.
«Земля и море колебались»
Екатерина знала одну «низкую истину»: мало одержать победу, нужно, чтобы о ней заговорили в европейских газетах и политических салонах. Тогда она станет фактом дипломатической игры. Поэтому в письмах Вольтеру наша героиня всегда подробно рассказывала о крупнейших сражениях. О Чесменской битве она писала: «Турки имели… против девяти больших кораблей шестнадцать линейных же кораблей; а в фрегатах и прочих судах неравенство было еще большее. Граф Орлов остался в кордебаталии. Адмирал Спиридов, имевший у себя на корабле Федора Орлова, предводительствовал авангардом, а контр-адмирал Элфинстон — ариергардом… Огонь производим был несколько часов с обеих сторон чрезмерный; корабли подошли друг к другу столь близко, что ружейные выстрелы помогали пушечным. Корабль адмирала Спиридова сцепился с капитан-пашинским, девяностопушечным, его зажег, но усилившийся от того огонь дошел до нашего [корабля], и оба поднялись на воздух… Сказывают, что земля и море колебались от поднявшихся на воздух великого числа кораблей неприятельских… Граф Орлов уведомляет, что на другой день после истребления турецкого флота вода Чесменской гавани… наполнилась кровию… Без малого сто кораблей всякого роду в пепел превращено». Турецкая эскадра состояла из 70 судов, в том числе 15 линейных, но для большего впечатления Екатерина преувеличила потери противника. «Всегда я была того мнения, что герои для великих происшествий родятся»[905], — писала она об Алексее Орлове.
В таком же приподнятом тоне Екатерина сообщала Вольтеру о победах П. А. Румянцева при Ларге и Кагуле в 1770 году. 4 июля отряды турок были обнаружены между реками Ларга и Бибикул. В ночь с 7 на 8 июля русские войска сосредоточились на правом фланге неприятеля и на рассвете атаковали его. Турки оставили более тысячи убитых на поле боя и, бросив 33 пушки, бежали к реке Кагул, где находилась 150-тысячная армия великого визиря. Ночью 21 июля русские добровольцы проникли в турецкий лагерь, перерезали подпруги у лошадей и канаты шатров. А едва забрезжил рассвет, войска Румянцева, разделенные на несколько отрядов, подошли к позициям противника и ударили на них одновременно с фронта, флангов и тыла. Завязалось сражение. Охваченные паникой турки бросились к переправам через Дунай, где их ждала засада русских карабинеров. Потери неприятеля составили 20 тысяч убитыми. Русская сторона лишилась 988 человек.
У Екатерины был повод ликовать. «Правое наше крыло примыкалось к реке Пруту; турецкий лагерь защищен был четырьмя ретраншементами, кои взяты войсками моими приступом, с примкнутыми штыками, — писала она Вольтеру. — Кровопролитие продолжалось четыре часа… С нашей стороны урон весьма маловажен». 27 тысяч русских разбили 150-тысячную турецкую армию и 100-тысячную татарскую конницу, угрожавшую тылу. Перефразируя известное выражение Румянцева, императрица с гордостью писала: «Войска мои, равные древним римским, никогда не спрашивают, сколько неприятелей, но где они находятся»[906].
По словам философа, он близко к сердцу принимал все события на русско-турецком театре военных действий и подзадоривал Екатерину к новым победам: «Мучусь я… от Браилова и Бендер бессоницею, ибо мне часто грезится, что я вижу гарнизоны их военнопленными»[907]. Однако свои дальнейшие планы Екатерина всегда обходила молчанием.
Даже в самых критических обстоятельствах она продолжала повторять, что ее дела идут «наилучшим образом». Тем более приподнятым настроение императрицы было в дни побед. 4 декабря 1770 года из Петербурга Екатерина писала о распространявшейся уже на юге чуме: «Не смешно ли Вам кажется, что в самое то время, когда моровая язва свирепствует в одном только Константинополе, в котором она и никогда не прекращалась, тогда целая Европа в странном заблуждении, что будто бы зараза повсюду уже распространилась? А по сему одному воображению принимают совсем ненужные предосторожности! Я и сама тому же примеру последую везде и всех окуривать столько, что даже опасно, чтоб не передушились, хотя и очень можно сомневаться, чтоб язва за Дунай перешла»[908].
Однако через несколько месяцев начнется эпидемия чумы в Москве — зараза будет привезена в город с мотком шерсти, а за ней и страшный Чумной бунт 1771 года.
В ответ Вольтер извинился за то, что «вообразил, будто декабрьские дожди и опасность от морового поветрия и голоду могли остановить течение побед»[909]. В Русско-турецкой войне он видел способ ослабления международных позиций ненавистного ему французского абсолютизма и, кроме того, поход разума и просвещения против варварства и фанатизма. «Страстно желаю, чтобы она (Екатерина II. — О. Е.) восторжествовала над Кораном так же, как она сумела взять в свои руки власть над Евангелием, — писал он И. И. Шувалову. — Было бы чудесно, чтобы женщина низвергла варваров, которые заточают женщин, и чтобы покровительница наук наголову разбила врагов изящных искусств. Я бы очень хотел дожить до того дня, когда евнухи константинопольского сераля отправятся в Сибирь! Прекрасен будет тот миг, когда Греция увидит, как разбиваются ее цепи»[910].
Свобода Эллады всегда оставалась одной из любимых тем философа: «Позвольте мне, Ваше величество, потужить о бедных греках… Что станется с бедною моею Грециею? Неужели буду я столько несчастливым, что увижу детей любви достойного Алцибиада повинующимся иным, а не Екатерине Великой?»[911] Однако императрица, готовая поддержать эллинскую тему в беседах об искусстве и политике, была разочарована «детьми Алцибиада» на ратном поле. «Греки и спартане совсем переродились, — писала она, — они больше стараются о грабежах, нежели о вольности»[912].
Самой России, по общему мнению корреспондентов, война должна была принести пользу. «Ваше величество справедливо мыслите, — писал Вольтер 21 сентября 1770 года, — что война для такого государства полезна, которое производит оную с успехом на границах. Народ становится тогда трудолюбивее, деятельнее, а с сим вкупе и страшнее»[913]. Однако именно затянувшиеся боевые действия, возросшие налоги и увеличившиеся рекрутские наборы дали толчок к Пугачевщине.
«Ангел мира»
После нескольких сокрушительных поражений Порте ничего не оставалось, как продемонстрировать готовность к мирным переговорам. В мае 1771 года из Семибашенного замка в Стамбуле был освобожден русский посол А. М. Обресков. Для проведения мирной конференции выбрали Фокшаны. Туда из Петербурга в качестве «первого посла» отправился Г. Г. Орлов.
В письме своей французской корреспондентке госпоже Бьельке Екатерина писала 25 июня: «Мои ангелы мира, думаю, находятся теперь лицом к лицу с этими дрянными турецкими бородачами. Граф Орлов, который без преувеличения самый красивый мужчина своего времени, должен казаться действительно ангелом перед этим мужичьем… Это удивительный человек; природа была к нему необыкновенно щедра относительно наружности, ума, сердца и души. Но госпожа натура также его и избаловала, потому что прилежно чем-нибудь заняться для него труднее всего, и до тридцати лет ничто не могло его к этому принудить. А между тем удивительно, сколько он знает; и его природная острота простирается так далеко, что, слыша о каком-нибудь предмете в первый раз, он в минуту отмечает сильную и слабую его сторону и далеко оставляет за собою того, кто сообщил ему об этом предмете»[914].
Конечно, императрица очень пристрастна в описании своего «ангела мира». Дипломатия, к несчастью, не относилась к числу тех предметов, в которых Григорий Григорьевич начинал разбираться, едва о них услышав. С его именем обычно связывают провал переговоров, однако в реальности дело обстояло гораздо сложнее. Дипломатическое фиаско фаворита было старательно подготовлено его противниками.
Управляя страной, государь всегда опирался не только на специально назначенных чиновников, но и на особо близких к нему лиц, пользовавшихся его полным доверием. Эти доверенные лица могли занимать множество государственных должностей, как Г. А. Потемкин при Екатерине, или, напротив, не проявлять никакого интереса к служебной карьере, как И. И. Шувалов при Елизавете. Их основная функция от этого не менялась. Она состояла в посредничестве между государем и остальными чиновниками, в толковании воли монарха. Фаворит представлял перед императрицей интересы той придворной партии, которая его выдвинула. Каждая крупная группировка готовила своего претендента. Система фаворитизма дорого стоила казне. Благодаря ей, «на верх» нередко попадали люди, плохо подготовленные для государственной деятельности. Но она имела в глазах монарха одно немаловажное преимущество — в случае неудачи того или иного крупного мероприятия он оставался незапятнанным, а фаворита, виновного в «неверной» трактовке распоряжений государя, можно было сместить.
Подобная ситуация сложилась в 1772 году, когда посланный на мирный конгресс Г. Г. Орлов начал с такой недипломатической бескомпромиссностью проводить в жизнь указания императрицы, что фактически провалил переговоры. Турецкая сторона покинула Фокшаны[915]. Авторитет «укротителя» московской чумы, а вместе с ним и авторитет всей его партии оказался сильно подорван, чему немало способствовали действия главы противоборствующей группировки — Панина. Никита Иванович сумел представить неудачу переговоров как вину одного Орлова[916]. Между тем провал конференции был предопределен заранее, поскольку в русском правительстве не было единства по вопросу о мире. Так, Панин стремился к скорейшему заключению договора и именно в этом ключе наставлял Румянцева и Обрескова. Со своей стороны, братья Орловы отстаивали идею «константинопольского похода», с которой Григорий Григорьевич впервые выступил на Государственном совете еще в 1770 году.
Предполагалось, что при удачном развитии военных действий Россия может нанести удар по столице Оттоманской Порты со стороны Дарданелл силами средиземноморской эскадры Алексея Орлова. Падение Стамбула должно было понудить турок к скорейшей капитуляции. Екатерина писала по этому поводу Вольтеру: «Что касается взятия Константинополя, то я не считаю его столь близким. Однако в этом мире, как говорят, не нужно отчаиваться ни в чем»[917]. Императрица в душе не могла не сочувствовать смелому проекту Григория Григорьевича, сулившему ей неувядаемую славу. Поэтому в то время когда Никита Иванович смотрел на конгресс в Фокшанах как на дорогу к миру, Екатерина и ее фаворит стремились лишь к временному перемирию, которое даст передышку для подготовки похода на Царьград.
Отсутствие единства в русской делегации привело к разноречивым требованиям первого посла Орлова и второго посла (его заместителя) Обрескова. Турки заметили колебания русской стороны и начали затягивать подписание конвенции. И тут Григорий Григорьевич совершил крупнейшую дипломатическую ошибку. Он поставил крайне щекотливый вопрос о признании Турцией независимости Крымского ханства главным условием заключения договора. Между тем собственноручная инструкция Екатерины предписывала ни в коем случае не начинать обсуждение условий мира с вопроса о Крыме. Несогласие по основному пункту повлекло за собой разрыв переговоров. Екатерина писала: «Сие требование наше есть прямо узел Гордианской»[918]. Его-то и предстояло развязать, а не разрубить послам.
Но прямой и не склонный к хитрости Орлов пошел напролом. Переговоры полностью сосредоточились на проблеме Крыма, которую, как карту, следовало держать в рукаве. Ведь борьба шла за важнейшую стратегическую позицию на Черном море, которую Порта не хотела выпускать из рук. 22 августа турецкие послы были отозваны великим визирем. Орлов, не дожидаясь их отъезда, первым покинул Фокшаны. Его партия могла торжествовать, она добилась своего: мир не был заключен, все лето прошло в переговорах, передышка была использована для наращивания сил. Однако обстановка внутри страны и на ее границах серьезно изменилась, отодвинув перспективу похода на Константинополь.
В конце августа в Петербург пришло известие о государственном перевороте в Швеции. Король Густав III, поддержанный армейскими офицерами, дворянством и горожанами, восстановил абсолютную монархию, отняв у риксдага законодательные права. Густав был молод, амбициозен и вынашивал в отношении России планы реванша за проигранную его предками Северную войну. Момент для этого казался удобным: Петербург прочно увяз в польских и турецких делах, войск на севере почти не было.
В самой России обстановка также накалялась. С января 1772 года из Оренбурга стали приходить сообщения о стычках яицких казаков с местными чиновниками, тревожные вести о волнениях поступали с Дона. На Волге в Царицыне обнаружились подстрекатели к мятежу. Донские казаки укрепили Черкасск, готовясь к открытым боям с регулярной армией. То тут, то там вспыхивали локальные восстания, грозившие слиться воедино. Казалось, удача в одно мгновение отвернулась от Екатерины: ни один из насущных вопросов не был решен и даже не подвигался к решению.
В этих условиях императрица встала на сторону Панина в вопросе о мире. В Фокшаны был послан гонец с рескриптом, государыня предписывала Орлову всеми мерами избегать разрыва переговоров. В случае продолжения войны, говорила она, «дела империи будут находиться в самом важном… кризисе, какого со времен императора Петра I для России не настояло»[919]. Но было уже поздно. Ее «ангел мира» вез домой сломанную пальмовую ветвь.
Орел в клетке
К этому времени личные отношения императрицы с Григорием Григорьевичем разладились. Причина этого крылась в органическом нежелании фаворита трудиться на государственном поприще. После переворота 1762 года Орлова ждала власть, но именно этой-то власти, а вернее связанной с ней повседневной, кропотливой работы и не выдержал сильный, но бесшабашный и ленивый Гри Гри. Он был человеком одаренным: выступал на сцене, ставил физические опыты. Но для того чтобы заняться чем-то надолго и всерьез, ему не хватало усидчивости.
В минуты острой необходимости, например во время московской чумы 1771 года, Орлов умел собрать всю свою энергию и направить ее на разрешение поставленной задачи. Однако подобные всплески случались у него изредка. Екатерина все более и более погрязала в государственных делах, а Григория Григорьевича все сильнее одолевала скука. Его безделье начинало раздражать государыню. В письме госпоже Жоффрен она замечает: «Он отъявленный лентяй, хотя очень умный и способный»[920].
Екатерина пожертвовала проектом нового брака ради укрепления на престоле. Ее шаг был весьма показателен. Она неуклонно подчиняла личные привязанности политическим интересам. Орлов двенадцать лет оставался фаворитом, обеспечивая государыне прочную поддержку своей партии. Честность и открытость делали его привлекательным в роли временщика даже для представителей дворянской оппозиции. Князь М. М. Щербатов писал о нем в памфлете «О повреждении нравов в России»: «Среди кулачных боев, борьбы, игры в карты, охоты и других шумных забав, почерпнул и утвердил в сердце своем некоторые полезные для государства правила… Никому не мстить, отгонять льстецов, оставлять каждому месту и человеку непрерывное исполнение их должностей… Хотя его явные были неприятели графы Никита и Петр Ивановичи Панины, никогда не малейшего им зла не сделал, а напротиву того во многих случаях им делал благодеяния и защищал их от гневу государыни… Во время его случая дела весьма порядочно шли… Но все его хорошие качества были затмены его любострастием… не было ни одной почти фрейлины у двора, которая бы не подвергнута была к его исканиям»[921].
И действительно, Григорий все чаще пренебрегал хрупкими сердечными узами, связывавшими его с Екатериной, ища развлечений на стороне. Виной тому было чувство обиды и разочарования, которое постепенно охватывало душу первого из екатерининских орлов. Императрица не вышла за него замуж, сделав тем самым положение Григория Григорьевича крайне шатким, более того — унизительным.
При дворе вельможе в «случае» всегда завидовали, всегда льстили в глаза и его же презирали и травили за глаза. Близость с императрицей перечеркивала все реальные заслуги временщика, внушала к ним скептическое, высокомерное отношение со стороны общества. А Григорий Григорьевич, от природы мужественный и честный, с трудом переживал подобное положение.
Была и другая причина душевного отдаления между императрицей и Орловым — ее ум. Мало найдется мужчин, готовых осознать, что любимая женщина умнее и талантливее их самих. Но еще меньше тех, кто, осознав, согласится переносить такую женщину рядом с собой. Григорий Григорьевич не был самодовольным ничтожеством и поэтому скоро понял: Екатерина намного одареннее, работоспособнее и мудрее его. Но чувство уязвленного самолюбия все же кололо ему душу. Вкупе с многочисленными интригами, путем которых придворные группировки старались внести раскол между Екатериной и Орловым, чтобы впоследствии заменить его более послушным фаворитом, это чувство стало катализатором разрыва.
Однако за сердечным охлаждением политический раскол последовал очень нескоро. И здесь мы сталкиваемся с яркой чертой характера императрицы. Екатерина всегда подчиняла движения сердца государственной необходимости. Уже остыв к Григорию Григорьевичу, она в течение нескольких лет терпела его неверность, пьянство и даже, как шептались, побои, случавшиеся под горячую руку[922]. Зачем же Екатерина позволяла подобное обращение с собой?
Союз с партией Орловых был слишком ценен для нее как для государя. Она не могла позволить себе показать истинные чувства и своими руками разрушить опору, которая помогала ей держаться у власти. Императрице нужен был противовес враждебной группировке Панина.
После неудачи в Фокшанах позиции Орловых значительно ослабли. И тогда Екатерина пошла на разрыв, поскольку сохранение за Григорием поста фаворита уже не соответствовало его реальному влиянию на государственные дела. «Ангел мира» справедливо увидел в случившемся козни своих противников. Он бросился в столицу, но, не доехав до Царского Села, был остановлен и водворен к себе в поместье под предлогом карантина[923]. (На юге, откуда прибыл Орлов, свирепствовала чума.) Его сказочно наградили, но потребовали на год удалиться от двора[924]. Партии Орловых был нанесен удар сокрушительной силы.
Императрица взяла себе в фавориты предложенного панинской группировкой Александра Семеновича Васильчикова, человека тихого, недалекого и во всем подчинявшегося Никите Ивановичу[925]. В «Чистосердечной исповеди» Потемкину государыня признавалась, что во время связи с Васильчиковым «более грустила, нежели сказать могу». «Я думаю, что от рожденья своего я столько не плакала, как сии полтора года… Признаться надобно, что никогда довольнее не была, как когда осердится и в покое оставит, а ласка его меня плакать принуждала»[926].
Странные слова. На первый взгляд государыня могла выбрать себе в качестве фаворита кого ей вздумается. На самом же деле она оказалась заложницей боровшихся за власть группировок. Северная Мессалина, как Екатерину именовали в Европе, могла удержать избранника возле себя ровно столько, сколько позволяла политическая ситуация, и ни минутой дольше. Личная жизнь императрицы превращалась в приводной ремень государственной машины, а сама Екатерина и близкие ей люди становились пленниками придворного механизма.
Трудно было назвать Паниных, представлявших интересы цесаревича Павла, идеальной опорой для императрицы. В 1772 году великому князю справили совершеннолетие. В дипломатических кругах ожидали, что государыня поделится с сыном властью[927]. Панины, находившиеся около года вне конкуренции, пытались подтолкнуть Екатерину к уступкам[928].
С 1771 года в донесениях иностранных дипломатов замелькали отрывочные сообщения о том, что «низкие люди», как писал 2 августа 1771 года английский посланник сэр Каскарт, «желали свергнуть императрицу с престола под тем предлогом, что ей была вручена корона лишь на время малолетства сына, и возвести на престол великого князя, что они и намеревались исполнить в день св. Петра»[929]. Годом позднее новый британский посол сэр Роберт Гуннинг сообщал в Лондон о цепи неудачных придворных заговоров в России. Правительство удовольствовалось наказанием рядовых членов. Среди влиятельных лиц, «руководивших предприятием», назывались братья Панины и княгиня Дашкова, но Екатерина предпочла «не разглашать дела»[930]. Плотная стена сторонников сына вокруг императрицы замкнулась.
Ответный удар Екатерины доказывал, что она многому научилась у своего вице-канцлера. Императрица объявила о желании женить наследника. Казалось, это был триумф партии цесаревича, так как, по понятиям того времени, брак доказывал совершеннолетие человека. Дело выглядело так, будто Екатерина спешит выполнить все формальности для передачи сыну короны. Именно Никите Ивановичу было поручено подыскать кандидатуру невесты. Тем временем Екатерина предприняла шаги для возвращения Орловым былого политического значения. Весной 1773 года князь Григорий Григорьевич вернулся ко двору[931]. Ему оказывали небывалое почтение. Именно он, а не Никита Иванович, отправился вместе с императрицей встречать невесту великого князя принцессу Вильгельмину Гессен-Дармштадтскую, прибывшую с матерью в Россию. Васильчиков все еще занимал покои в Зимнем дворце, но функции доверенного лица отчасти вернулись к Орлову.
После свадьбы цесаревича в сентябре 1773 года Екатерина отстранила Никиту Ивановича от должности воспитателя, поскольку совершеннолетний женатый наследник уже официально не нуждался в наставнике[932]. Сохранивший пост вице-канцлера Панин был осыпан милостями и огромными пожалованиями. Внешне все выглядело очень благовидно. Но момент для решительных действий был упущен. На время установилось шаткое равновесие сил между сторонниками и противниками Екатерины. Как следствие встал вопрос о фаворите.
Решено было выпустить на большую политическую сцену партию главнокомандующего Румянцева[933]. Ее претендент в качестве промежуточной фигуры удовлетворял обе основные группировки. Они на мгновение расступились, давая ему дорогу, чтобы в следующую минуту с еще большим ожесточением броситься друг на друга. Этим претендентом был 35-летний генерал-поручик и кавалер Григорий Александрович Потемкин.
Глава одиннадцатая УРОКИ «МАРКИЗА ПУГАЧЕВА»
Императрица остро нуждалась в человеке, который был бы предан лично ей и всем обязан только ее милости. В фаворите, готовом оставить свою группировку и проводить линию, выгодную самой государыне, укрепляя, таким образом, лишь ее власть. Все говорило в пользу Потемкина — его многолетняя безответная страсть, о которой Екатерина знала, опыт государственной работы, сильные покровители, обширные связи в военной и чиновничьей среде. К тому же о Потемкине все уши Екатерине прожужжала ее ближайшая подруга Прасковья Александровна Брюс, сестра П. А. Румянцева, представлявшая как бы петербургское «отделение» его партии.
В течение 1770–1773 годов Румянцев несколько раз посылал своего протеже ко двору с важными поручениями. Однажды, в 1773 году, Потемкину пришлось отстаивать в Совете мнение, противоположное мнению императрицы[934]. Екатерина прислушалась к его словам и позволила себя убедить.
«Сей новый актер»
Принято считать, что императрица вызвала Потемкина с театра военных действий письмом от 4 декабря 1773 года[935]. По дороге в столицу Григорий Александрович сделал крюк и завернул в Москву. Он намеревался добиться поддержки Паниных. В последнее время партия Румянцева фактически блокировалась с ними по вопросу о мире и расходилась с Орловыми, не расставшимися с идеей «константинопольского похода». Это вселяло надежду на то, что общий язык будет найден. В старой столице «на покое» жил генерал-аншеф граф Петр Иванович Панин, человек едва ли не столь же влиятельный, как и его брат — Никита Иванович[936]. Один из виднейших русских масонов своего времени, Петр Иванович вместе с братом долгие годы руководил партией наследника престола. При всей внешней несхожести братья как нельзя лучше дополняли друг друга: мягкий, вкрадчивый, неторопливый дипломат и мрачный неразговорчивый генерал с крутым решительным характером — при дворе и в армии они охватывали своим влиянием всех сторонников великого князя[937].
Императрица направила главнокомандующему старой столицы князю Михаилу Никитичу Волконскому строжайшие инструкции следить за деятельностью Панина в Первопрестольной[938]. Петр Иванович при любом удобном случае подвергал строгой критике правительственные меры, и Волконский не раз жаловался Екатерине на «известного большого болтуна». Панин настойчиво твердил, что после совершеннолетия Павла Петровича корона должна быть передана ему[939]. Результатом этой «пропаганды» стало изменение общественного мнения Москвы в пользу наследника престола. Московские поэты-масоны А. П. Сумароков, А. Н. Майков и М. И. Богданович обращались к Павлу с одами, подчеркивая предпочтительность мужского правления перед женским, отмечали черты характера цесаревича, присущие истинному государю, восхваляли воспитателя наследника — Н. И. Панина и «незабвенного завоевателя Бендер» — П. И. Панина. Все это были явные знаки подспудного брожения в дворянском обществе.
Но имелась и другая, тайная сторона жизни Петра Панина, о которой свидетельствует его переписка с Д. И. Фонвизиным, секретарем и ближайшим сотрудником Никиты Панина в Петербурге. Письма Фонвизина с февраля 1771-го по август 1772 года предоставляли отставному генералу подробную информацию о политической жизни двора, о ходе войны, продвижениях чиновников по службе. По приказу Никиты Ивановича Фонвизин снимал копии с многочисленных документов, проходивших через Коллегию иностранных дел: инструкций императрицы послам России за границей и отчетов последних в Петербург, донесений с театра военных действий, докладов братьев Орловых. Через специальных курьеров эти копии отправлялись в Москву Петру Ивановичу. В личный архив «покорителя Бендер» попало немало секретных документов, и в частности «Дневная записка пути из острова Пароса в Сирию лейтенанта Сергея Плещеева» — донесение С. И. Плещеева графу А. Г. Орлову о разведывательной миссии русских моряков в Сирии и Ливане[940]. Таким образом Фонвизин передавал информацию секретного характера частному лицу. Это было вопиющим нарушением служебных инструкций, пойти на которое секретарь мог лишь будучи уверен в своей безнаказанности. Подобную уверенность давала надежда на скорое изменение «царствующей особы» на российском престоле.
Петр Иванович знал Потемкина по Русско-турецкой войне и имел возможность оценить его характер. Он первым из панинской группировки установил контакт с будущим фаворитом и попытался сделать его своей креатурой. Потемкин встретился с опальным генералом в Москве[941]. Их разговор не мог не затронуть болезненной темы: беглый казак Емельян Пугачев, объявив себя спасшимся императором, вел успешные военные действия в Оренбуржье, правительственные войска терпели от него поражения. Уже к декабрю под знаменами восставших собралась армия, по численности не уступавшая армии Румянцева. Петр Панин заверил Потемкина в своем желании «послужить Отечеству». Будущий фаворит обещал дать генералу такую возможность взамен на поддержку его группировки. «Сей новый актер станет роль свою играть с великой живостью и со многими переменами, если только утвердится»[942], — писал 7 марта 1774 года Петр Иванович своему племяннику камер-юнкеру А. Б. Куракину.
Снова Екатерина заставляла свое сердце идти на поводу у политики. Она вызвала любящего ее человека с театра военных действий в столицу, ввела в фавор для того, чтобы он разблокировал вокруг нее кольцо сторонников цесаревича Павла, снизил вес этой партии, помог заключить мир с Турцией и организовал переброску войск внутрь страны, где уже бушевала Пугачевщина. Эту работу императрица намеревалась щедро оплатить. Потемкин получал ее самою и все, что прилагается к любви венценосной особы, — титулы, богатства, власть и… презрение общества, замешенное на зависти. В зените своего 45-летия здравая, рассудительная, немолодая женщина вела взвешенный политический торг. Однако претендент сразу смешал карты. Он повел игру по непредвиденным правилам — потребовал от императрицы отчета в ее далеко небезупречном поведении, а потом обрушил на нее такой шквал своего долго сдерживаемого чувства, что под его напором и она не устояла на позиции холодного рассудка.
«Какие счастливые часы я с тобою провожу… — пишет Екатерина в одной из ранних записок Потемкину. — Я отроду так счастлива не была, как с тобою. Хочется часто скрыть от тебя внутреннее чувство, но сердце мое обыкновенно пробалтывает страсть. Знатно, что полно налито, и оттого проливается»[943]. «Нет, Гришинька, — продолжает императрица в другом письме, — статься не может, чтоб я переменилась к тебе, отдавай сам себе справедливость, после тебя можно ли кого любить? Я думаю, что тебе подобного нету, и на всех плевать. Напрасно ветреная баба меня по себе судит, как бы то ни было, но сердце мое постоянно»[944]; «Мое сердце, мой ум, мое тщеславие одинаково довольны Вами»[945]. В отсутствие возлюбленного ее охватывали тоска и досада: «Батинька, мой милый друг, приди ко мне, чтоб я могла успокоить тебя бесконечной лаской моей»[946]; «Боже мой, увижу ли я тебя сегодни? Как пусто, какая скука!»[947]
Его короткие и очень сбивчивые «цидулки» тоже полны нежных излияний: «Дай Вам Бог безчетные счастья и непрерывнаго удовольствия, а мне одну Вашу милость»[948]; «Моя душа безценная. Ты знаешь, что весь я твой. И у меня только ты одна. Я по смерть тебя верен»[949].
В конце 1774-го — начале 1775 года состоялось тайное венчание Екатерины и Потемкина в церкви Самсония, что на Выборгской стороне[950]. А летом 1775 года во время торжеств по случаю заключения мира с Турцией у морганатических супругов родилась дочь Елизавета[951]. Память о тайном браке осталась в семейных преданиях нескольких русских и польских дворянских фамилий, чьи предки присутствовали во время обряда в храме, — Воронцовых, Голицыных, Чертковых, Энгельгардтов, Самойловых и Браницких. Эти рассказы собрал и изучил известный русский публикатор конца позапрошлого века Петр Иванович Бартенев. Версию о браке Екатерины II и Г. А. Потемкина подтверждает их переписка, где они часто именуют друг друга «мужем» и «женой», «дорогими супругами», соединенными «святейшими узами», а также посылают поздравления с неким «собственным праздником», ведомым только им.
В отличие от Орлова, желавшего гласного и открытого союза с императрицей, Потемкин согласился на тайный брак. Почти никто при дворе не знал о венчании. Это делало положение нового фаворита очень двойственным. Муж по сути, он должен был на людях играть роль любовника. Такая ситуация, естественно, не доставляла Григорию Александровичу удовольствия. Ради возможности провести лишний час в обществе любимой женщины, к тому же своей законной супруги, ему приходилось преодолевать тысячи трудностей: вставать раньше придворных истопников и лакеев, ждать, пока императрица, поминутно рискуя быть замеченной, доберется до его комнат, или самому под покровом ночи прокрадываться в ее спальню. Но все эти трудности не шли ни в какое сравнение с тем поистине аховым положением, в котором оказалась государыня из-за неоконченной войны с Турцией и развернувшейся в стране Пугачевщины.
«Нежданный мир»
«Этот мир достался нам нежданно-негаданно. Он хорош и почетен, и все им довольны… — писала 3 августа 1774 года Екатерина II своему старому корреспонденту барону М. Гримму. — Я вяжу теперь постельное одеяло для Томаса (левретки императрицы. — О. E.), моего друга, которое генерал Потемкин собирается у него украсть. Ах, какая славная голова у этого человека! Он более чем кто-либо участвовал в этом мире, и эта славная голова забавна, как дьявол»[952].
Так игриво императрица сообщала другу-философу об одном из самых трудных дел, которое ей удалось, как гору, свалить с плеч в 1774 году. «Нежданным» мир, конечно, не был. Прежде чем заключить его, русская сторона провела с турками четыре тяжелые дипломатические конференции. Согласований и поправок к пунктам договора было очень много. Далеко не «все» оказались довольны окончанием войны. Екатерине пришлось выдержать серьезную борьбу и проявить характер, чтобы довести дело с подписанием трактата до конца.
«Забавный, как дьявол», генерал Потемкин — в это время уже вице-президент Военной коллегии и член Государственного совета, заседания которого вел именно он, а не Панин и не Разумовский. Общность позиции фаворита и главы наиболее влиятельной придворной группировки сыграла решающую роль в том, что переговоры с Турцией удалось сдвинуть с мертвой точки и, несмотря на решительное сопротивление Орловых, подготовить русский проект мирного трактата[953]. Князь Григорий Григорьевич отправил по этому поводу горячее объяснение императрице и отбыл в Москву, что называется, «хлопнув дверью». Он пригрозил даже уехать за границу, если государыня не одумается. Но это уже не могло поколебать решимости Екатерины подписать трактат.
Пункты Кючук-Кайнарджийского мира были чрезвычайно выгодны для русской стороны. В них оговаривалась независимость Крымского ханства от Турции, что повлекло в дальнейшем его присоединение к империи. Россия получила право свободного плавания по Черному морю, закрепила за собой ряд южных территорий, обрела право защищать интересы христианских народов Оттоманской Порты, то есть беспрепятственно вмешиваться во внутренние дела соседней державы[954].
Мир был заключен 10 июля[955]. А 23-го в Петергофе было получено известие об этом. Екатерина писала Алексею Орлову, уже отбывшему в Архипелаг: «Вчерашний день здесь у меня ужинал весь дипломатический корпус, и любо было смотреть, какие рожи были на друзей и недрузей. А прямо рады были один датский и английский»[956]. Характерно донесение в Париж французского министра при русском дворе Дюрана де Дистрофа 16 августа 1774 года: «Мир заключен, и очень странно, что это произошло в тот самый момент, когда мятежники достигли наибольшего успеха, когда имелась наибольшая вероятность переворота, вызванного всеобщим недовольством, когда Крым (русские войска в Крыму. — О. Е.) оказался без достаточных сил, чтоб оказать сопротивление турецким войскам и флоту, когда истощение казны вынудило правительство частично прекратить выплаты. В этих условиях я поражен тем, что Россия получает все то, в чем ей было отказано в Фокшанах»[957].
Подписание мира было большой победой для Екатерины, получившей возможность подавить внутреннюю смуту, и для Потемкина, одержавшего верх над группировкой Орловых. Но в дальнейшем логика развития событий должна была привести к его столкновению с теперешним покровителем — Паниным.
«Диктатор»
Сразу же после заключения мира правительство приняло меры по переброске войск с одного театра военных действий на другой, против Пугачева[958]. Победоносная, но тяжелая война истощила ресурсы страны, население нищало. Недовольство крестьян давало себя знать в многочисленных локальных выступлениях. В 1773 году вспыхнуло казацкое восстание, вскоре переросшее в страшную по своей жестокости крестьянскую войну. Екатерина хорошо понимала тяжесть положения населения на окраинах империи и называла поддержавших Пугачева горнозаводских рабочих «роптунами по справедливости». Поэтому на первом этапе войны столь часты были издаваемые правительством «увещевательные» манифесты, предлагавшие рядовым участникам восстания отправиться по домам и гарантировавшие им полное прощение. Екатерина надеялась, что поимка «злодея» поможет «утушить» возмущение, предписывала командующим карательными армиями не применять при допросах пленных пытки, напоминая, что дознания «с пристрастием» законодательно отменены ею. Однако реалии крестьянской войны вступали в явное противоречие с «философским» образом правления. 12 июля Пугачев взял Казань, в которой был небольшой гарнизон из 400 человек, жители и солдаты укрылись в крепости, окруженной горящими посадами. Сожжение Казани потрясло императрицу. Теперь повстанцам открывался путь на Москву. 26 июля Екатерина отбыла в Ораниенбаум, где состоялось заседание Государственного совета[959]. Никита Панин обвинил главнокомандующего войсками против Пугачева князя Ф. Ф. Щербатова в нерешительности и потребовал назначить на его место своего брата — генерал-аншефа П. И. Панина[960]. Вот когда встал вопрос о возможности «послужить Отечеству», о которой Потемкин и Панин говорили в Москве.
Вице-канцлер прямо объяснился с фаворитом, и тот настойчиво повторил Екатерине предложение Панина. В тот же вечер императрица вернулась в Петергоф. Она была подавлена. Шаг, на который ее толкали, грозил потерей короны: государыня должна была своими руками вверить войска человеку, поставившему целью возвести на престол Павла. Никита Иванович сообщал брату, что его назначение дело почти решенное[961].
Московский затворник выставил свои условия. Он желал получить полную власть над всеми воинскими командами, действующими против армии самозванца, а также над жителями и судебными инстанциями четырех губерний, включая Московскую. Особо оговаривалось право командующего задерживать любого человека и вершить смертную казнь на вверенной ему территории[962]. Никита Иванович вручил императрице подготовленный им черновой проект рескрипта о назначении брата главнокомандующим и целый ряд других необходимых для этого документов, которые предоставляли неограниченные полномочия новому главнокомандующему. 29 июля все поданные Никитой Ивановичем бумаги были утверждены императрицей, но с некоторыми поправками, ограничивавшими предоставляемую Панину власть[963].
В течение суток с 28 по 29 июля 1774 года могла появиться отчаянная записка Екатерины к Потемкину по поводу предоставления графу Панину «диктаторских» полномочий. «Увидишь, голубчик, — писала императрица, — из приложенных при сем штук, что господин граф Панин из братца своего изволит делать властителя с беспредельной властью в лучшей части империи, то есть в Московской, Нижегородской, Казанской и Оренбургской губерниях… Что если сие я подпишу, то не токмо князь Волконский будет огорчен и смешон, но я сама ни малейше не сбережена»[964]. Переслав Потемкину требования Петра Панина, императрица просила у него совета: «Вот Вам книга в руки: изволь читать и признавай, что гордыня сих людей всех прочих выше». Волнение и крайнее раздражение Екатерины прорвались в последних строках: «Есть ли же тебе угодно, то всех в одни сутки так приберу к рукам, что любо будет. Дай по-царски поступать — хвост отшибу!»
Однако Григорий Александрович сдерживал гнев императрицы, понимая, что резкие меры не позволят достичь желаемого. По его совету Екатерина внесла ряд поправок в подготовленные вице-канцлером документы: главнокомандующему против «внутреннего возмущения» было отказано в начальстве над Московской губернией[965], а обе следственные комиссии, которые Петр Панин хотел подчинить себе, оставались в непосредственном ведении императрицы[966]. Таким образом, Петр Иванович и получал, и не получал желаемое. Он не отказался от командования, хотя не все его условия были выполнены, ведь и такая, урезанная власть предоставляла ему в руки большие шансы для политической борьбы. Но теперь у императрицы имелась реальная возможность противостоять возможному «диктатору», тем более что самая важная Казанская следственная комиссия оставалась в управлении троюродного брата Потемкина — Павла Сергеевича. Основываясь на его донесениях, Григорий Александрович регулярно делал доклады в Совете по вопросам суда и следствия, подчеркивая, что данные полномочия не отошли к новому командующему[967].
Но для Петра Ивановича настоящая борьба только начиналась. Получив назначение, он не поехал сразу в Казань, поскольку военные действия захватывали уже и Московскую губернию. Панин намеревался превратить старую столицу в свою штаб-квартиру и сосредоточить власть над Москвой в своих руках. В этом случае исполнить его далекоидущие политические замыслы было бы куда легче. Однако Петр Иванович промедлил, выгадывая наиболее удачный момент. Когда волны мятежников под ударами регулярной армии стали откатываться, угроза Первопрестольной миновала, и у главнокомандующего не оказалось никакого предлога для задержки в Москве. Сначала он руководил операциями из ближнего к старой столице города Шацка, а затем вынужден был последовать за карательными отрядами в Симбирск[968]. 25 августа Пугачев потерпел сокрушительное поражение от отряда подполковника И. И. Михельсона в 105 верстах ниже Царицына. Из 14–15 тысяч повстанцев спаслось около тысячи человек. Настигнутые при переправе через Волгу у Черного Яра остатки пугачевцев были рассеяны, за Волгу ушли полторы сотни казаков во главе с самозванцем. Прибыв в Царицын, генерал-поручик А. В. Суворов забрал у Михельсона его авангард — кавалеристов графа Б. П. Меллина — и бросил его в погоню за Пугачевым[969]. Как раз в это время Потемкин «отправлял на почтовых противу злодея полки и команды… Он отправил против него с Дону войска 10 полков, чем и лишил его надежды на подкрепление с той стороны»[970]. Как и следовало ожидать, повстанцы не выдержали удара регулярных войск и побежали.
На охваченных мятежом землях Петр Панин действительно повел себя как настоящий диктатор. Ни при одном из прежних командующих — А. И. Бибикове или Ф. Ф. Щербатове — край не видел ничего подобного от представителя правительственной власти. Террор охватил очищенные от повстанцев земли, для устрашения крестьян Панин приказал казнить мятежников прямо на месте поимки, без суда и следствия. Именно тогда вниз по рекам поплыли плоты с колесованными и подвешенными за ребра пугачевцами. Число подвергшихся разного рода наказаниям по приговорам Панина составило около двадцати тысяч человек[971]. Пугачев был арестован 9 сентября своими сообщниками, которые передали «злодея» А. В. Суворову. 18 сентября Суворов выступил из Яицкого городка во главе отряда, конвоировавшего Самозванца. Петр Панин заставил его свернуть в Симбирск и там 2 октября сдать ему пленника.
На заседании 18 сентября Совет слушал и обсуждал проект манифеста об окончании следствия над Самозванцем[972]. Настало время приступать к суду. Сама Екатерина официально самоустранилась от процесса, но ее переписка с П. С. Потемкиным, М. Н. Волконским и генерал-прокурором Сената А. А. Вяземским доказывает, что она ни на минуту не выпускала из рук нитей разбирательства и проводила через своих приверженцев нужные ей решения[973].
Панинская группировка добивалась сурового наказания вожаков восстания, в частности смертной казни через четвертование, по крайней мере для тридцати — пятидесяти человек. Целью этого шага было не только устрашение. Со времен казни стрельцов при Петре I Москва не видела такого числа жертв. За время царствования Елизаветы Петровны в России вообще отвыкли от подобных зрелищ. Н. И. Панин помнил, как неприятно был поражен Петербург казнью Мировича. Обильная кровь на московских плахах не могла вызвать восторга в обществе. Партия наследника стремилась прочно связать имя императрицы со страшными событиями крестьянской войны и жестокой расправой над повстанцами. Одно дело вешать мятежников в далеком Оренбуржье, и совсем другое — в сердце страны. Сам собой напрашивался вопрос: а достоин ли царствовать государь, допустивший в России новую смуту?
Екатерина прекрасно понимала эту логику. Ей выгодно было сократить число жертв. Сторонникам императрицы на заседаниях порой приходилось очень непросто, ведь ни Волконский, ни Вяземский не могли гласно заявить: такова воля Ее величества. Петр Панин обвинял их в недостатке рвения, легкомыслии, чуть ли не в измене, и суд едва не пошел у него на поводу. Однако Екатерина в нужный момент осуществила нажим, и Волконский с Вяземским настояли на смягчении приговора. Именно желание Екатерины сыграло решающую роль в принятом судом решении: наказать смертью только самого Пугачева и пятерых его ближайших сподвижников, которые были повешены.
Самозванца казнили 10 января на Болотной площади[974]. По закону Пугачева следовало четвертовать, но палачу передали тайное приказание императрицы «промахнуться» и сначала отрубить «злодею» голову.
Нелегко прошло и подписание Манифеста о прощении бунта. Провозглашение подобного документа прекращало преследования бывших повстанцев. Оно ставило точку в крестьянской войне, а значит, и в полномочиях П. И. Панина. В этом вопросе братья Панины решили действовать через великого князя Павла, которого Екатерина призывала для обсуждения документа. В записке Потемкину 18 марта 1775 года императрица говорила: «Вчерась Великий Князь поутру пришед ко мне… сказал… прочтя прощение бунта, что это рано. И все его мысли клонились к строгости»[975]. Однако императрица не вняла доводам сына. На другой день в Сенате она огласила Манифест, и, по ее словам, «многие тронуты были до слез». Внутренняя смута закончилась.
«Буйство человеческого рода»
Тема крестьянской войны, конечно, не могла быть обойдена молчанием в эпистолярном диалоге между императрицей и Вольтером. Как хорошая актриса, Екатерина тянула паузу, сколько могла. Философ не вытерпел и проявил любопытство первым. Еще 4 марта 1774 года он сообщал герцогу Ришелье о европейских слухах по поводу восстания: «Меня несколько встревожили моею Северною Семирамидой, но Нины появляются с того света только лишь в элегантной трагедии Кребильона или в моем произведении. Сама императрица написала мне очень милое письмо о воскрешении из мертвых ее супруга. Это единственная в своем роде дама: она играет империей в две тысячи лье и заставляет двигаться эту огромную махину с той же легкостью, с какой иная женщина вертит свою прялку»[976].
Что же это за «очень милое письмо», которым наша героиня успокоила своего фернейского почитателя? 19 января 1774 года она впервые упомянула о Пугачеве, «который грабит Оренбургскую губернию и который, чтоб устрашить крестьян, называет себя иногда Петром III, а иногда доверенной от него особой. Оная пространная провинция… имеет недостаток в жителях; нагорная ее часть занята татарами, которых башкирцами называют и которые от начала света превеликие грабители; долины же населены всеми мошенниками, от коих Россия себя освобождала в продолжение сорока лет, подобным же почти образом, как и американские поселения людьми снабдевались».
И тут же, чтобы успокоить корреспондента, Екатерина сообщала о принятых мерах: «Для восстановления нарушенной тишины отправлен генерал Бибиков с корпусом войск. Дворянство оного царства (Оренбургской губернии. — О. E.), явясь к нему, предложило, чтобы он их с четырьмя тысячами человек, хорошо вооруженных, добрыми лошадьми снабженных и их иждивением содержимых, присоединил к своему войску. Оное предложение им принято». Этих сил казалось достаточно, и у Вольтера отлегло от сердца. Теперь он с чистой совестью мог, как бы из первых рук, доносить до своих многочисленных корреспондентов, что в России не происходит ничего страшного.
Чтобы закрепить это впечатление, Екатерина в письме перешла от рассказа о бунте к более интересной для философа теме — характеристике гостившего у нее Дидро. «Вы легко можете усмотреть, что оное буйство человеческого рода не расстраивает моего удовольствия, которое я имею от собеседования с Дидеротом. Ум сего человека составляет некоторую редкость; что же принадлежит до свойства сердца его, то надобно, чтоб все человеки таковые же имели»[977]. Ни к чему не обязывающие слова. Мы видели, что на самом деле Екатерина оценивала Дидро не столь восторженно. Но, будучи передана Вольтером, ее похвала должна была укрепить гостя в благоприятном мнении о ней.
Вольтер, со своей стороны, поддерживал и ободрял императрицу: «Нынешние времена уже не те, в коих Димитрий (Лжедмитрий. — О. Е.) жил! А потому та самая комедия, которая перед сим за двести лет с успехом была играна, теперь освистана будет»[978]. Понимая, какие непростые вопросы в тот момент задавала себе Екатерина, философ как бы снимал с нее ответственность за случившееся: держава большая, за всем доглядеть невозможно. «Сия страна варварская, наполненная побродягами и злодеями. Лучи Ваши не могут вдруг повсюду озарять; две тысячи миль имеющая империя может только в течение многих лет сделана быть благоустроенною»[979].
Хотя послания Екатерины этого периода, как обычно, дышали уверенностью, события на Волге упоминались практически в каждом письме. Однако наша героиня умела оборачивать рассказ о восстании в десятки забавных случаев и любопытных анекдотов из придворной жизни, как горькую пилюлю закатывают в шоколадный шарик. «Приметно, что Ваше величество не много предприятиями Пугачева встревожены!» — отвечал ей Вольтер.
Чем серьезнее было положение, тем презрительнее отзывалась Екатерина о своих врагах. «Государь мой! Одни только „Ведомости“ увеличивают шум о разбойнике Пугачеве». Однако в другом письме, извиняясь за долгое молчание, признавала: «Маркиз Пугачев понаделал мне в нынешнем году премножество хлопот; я принуждена была с лишком шесть недель беспрерывно и с великим вниманием сим делом заниматься»[980].
Когда опасность миновала, многие в Европе заговорили о том, что Пугачев мог быть игрушкой в руках противоборствовавших России дворов — Версаля, Вены, Варшавы, Константинополя. Вольтер советовал императрице внимательно расследовать вопрос, чьим оружием являлся яицкий казак, кто стоял за его спиной и действовал ли он «сам собою». 2 ноября 1774 года Екатерина удовлетворила любопытство корреспондента: «Пугачев ни читать, ни писать не умеет, однако же он чрезвычайно смелый и решительный человек. До сего времени нет ни малейшего признака, чтобы он от которой державы был орудием или чтобы он поступал по чьему-нибудь внушению… Он вешал без всякой отсрочки и без всякого разбирательства всех вообще дворян, как то мужчин, женщин и младенцев, всех офицеров»[981].
С облегчением Вольтер резюмировал: «Подлинно, что этот Маркиз Пугачев черт, а не человек». В ходе следствия мнение императрицы об отваге казачьего предводителя изменилось: «Маркиз Пугачев… жил злодеем, а умрет в скором времени подлым трусом. Он оказался в заключении своем столь робким и малодушным, что при объявлении ему приговора должно было взять некоторые предосторожности, из опасения, чтоб он в ту же минуту от страха не умер»[982].
Эти слова Екатерины вызывали бурю негодования советских историков. Но, кроме эмоций оскорбленного классового сознания, никаких доказательств храбрости Пугачева в тюрьме не предъявлялось.
Соперники
Практически весь 1775 год Екатерина провела в Москве. После подавления крестьянской войны императрице необходимо было показаться в Первопрестольной, еще так недавно трепетавшей при приближении войск самозванца. Вереница блестящих праздников и красочных зрелищ, продолжавшихся от самого прибытия двора до первой годовщины Кючук-Кайнарджийского мира, призвана была изгладить мрачное впечатление от недавней казни «злодея».
22 января царский поезд прибыл в подмосковное село Всесвятское, а через три дня торжественно въехал в Первопрестольную[983]. Иностранные наблюдатели подчеркивали, что горожане Москвы холодно встретили государыню. А вот за каретой великого князя Павла бежали восторженные толпы. Молодой друг цесаревича Андрей Разумовский, склонившись к уху Павла, многозначительно прошептал: «Если бы вы только захотели…»[984]
Екатерине необходимо было вернуть популярность. Ей казалось, что она придумала способ. Война закончилась, внутреннее возмущение тоже, казна могла позволить себе снизить подати. Ко дню рождения императрицы был приурочен указ о снижении налогов на соль. 21 апреля «для народной выгоды и облегченья» цена соли с каждого пуда была уменьшена на 5 копеек[985]. Против ожидания, высочайшая милость не произвела никакого впечатления на горожан. Французский дипломат Дюран де Дистроф писал, что «императрица нарочно выбрала день своего рождения, чтобы обнародовать известие, которое способно было вызвать если не энтузиазм, то, по крайней мере, благодарность населения большого города. Она уменьшила налог на соль, и полицеймейстер вышел с поспешностью из дворца, чтобы сообщить народу об облегчении… Вместо радостных восклицаний, к которым она приготовилась, эти мещане и мужичье перекрестились и, даже слова не вымолвив, разошлись. Императрица, стоявшая у окна, не могла удержаться, чтобы не сказать громко: „Какая тупость!“ Но остальные из зрителей почувствовали, что ненависть народа к Екатерине столь велика, что ее благодеяния принимаются равнодушно»[986]. Зато, по словам английского посла сэра Роберта Гуннинга, большой любовью пользовался в это же время великий князь Павел Петрович. «Популярность, которую приобрел великий князь в день, когда он ездил по городу во главе своего полка, разговаривал с простым народом и позволял ему тесниться вокруг себя так, что толпа совершенно отделяла его от полка, и явное удовольствие, которое подобное обращение доставило народу, как полагают, весьма не понравились» Екатерине[987]. Государыня была задета, она считала, что цесаревич еще ничего не сделал для подданных, чтобы заслужить их любовь. Но в том-то и заключена разгадка симпатий к Павлу: он почти никому не был известен, а его мать царствовала уже четырнадцать лет. И добавим: лет непростых. Война, чума, внутренняя смута — достаточно, чтобы охладеть к монарху и возложить чаяния на нового правителя.
Отношения Екатерины с сыном становились всё напряженнее, и Потемкин играл в этом семейном расколе не последнюю роль. В государственном управлении России он занял место, которое по достижении совершеннолетия сторонники прочили Павлу. Стал членом Совета, фактическим главой Военной коллегии, первым человеком после государыни. С ним, а не с наследником, императрица обсуждала все важнейшие дела.
Вскоре до Екатерины дошли сведения о связи молодого Разумовского с великой княгиней и об их честолюбивых планах[988]. Информацию подобного характера передавали своим дворам иностранные дипломаты. Особенную заинтересованность в ней проявил французский посол Дюран. Именно он в 1775 году через Разумовского предложил цесаревичу крупный денежный заем, узнав о котором Екатерина сделала сыну суровый выговор[989].
Франция долгие годы была самым опасным врагом России на международной арене, она приложила огромные усилия для того, чтобы лишить Петербург возможности заключить выгодный мир с Турцией, больше всех сожалела о прекращении войны и о подавлении Пугачевского бунта. Направляя в Париж нового посла И. С. Барятинского, вице-канцлер предупреждал его, что служить ему придется «в таком месте, где концентрируется злоба, ненависть и ревность против Империи». «Общая система Франции против нас, — писал в инструкции Никита Иванович, — состоит в том, чтобы… стараться возвратить Россию в прежнее положение державы, действующей не самостоятельно, а в угоду чужим интересам»[990].
В этих условиях сближение Павла с французами выглядело в глазах Екатерины как измена. Такой поступок стоял в ряду других «промахов» наследника, который, казалось, противопоставлял свою позицию всему, что делала мать на внутри- и внешнеполитической арене. Еще в 1774 году великий князь подал императрице созданный им совместно с братьями Паниными проект «Рассуждение о государстве вообще». Этот труд возник одновременно с подготавливаемым Екатериной для введения в действие «Учреждением о губерниях…». Он содержал завуалированную критику курса тогдашнего правительства и был встречен государыней более чем сдержанно. В ответ на свою «неуместную» активность Павел не получил места ни в Сенате, ни в Совете[991].
История с займом у Франции доказывала, что цесаревич и его окружение не оставили попыток продвинуться к власти. Денег Павел получить не успел[992]. Дюрану дали понять, что он в России больше не ко двору. Его сменил маркиз Жак-Габриель Луи де Жюинье[993].
Внести в царскую семью хотя бы внешний мир могло появление у великокняжеской четы наследника. Екатерина с нетерпением ждала этого события, поскольку оно укрепляло ее ветвь на престоле. Из Москвы императрица сообщала своему старому «конфиденту» барону М. Гримму: «Вы желали, чтобы от моего богомолья к Троице сделалось чудо и чтобы Господь послал молодой великой княгине то, что некогда даровал Сарре и престарелой Елисавете; желание Ваше исполнилось: молодая принцесса уже третий месяц беременна, и здоровье ее, по-видимому, поправилось»[994]. Однако надеждам не суждено было осуществиться: 15 апреля 1776 года в Петербурге, куда вернулся двор, супруга великого князя скончалась в присутствии тринадцати докторов, хирургов и повивальной бабки, так и не произведя на свет желанного наследника[995].
В письме Гримму императрица рассказывала: «10 апреля в 4 ч. утра сын мой пришел за мною, так как великая княгиня почувствовала первые боли. Я вскочила и побежала к ней, но нашла, что ничего особенного нет, что… тут нужны только время и терпение. При ней находились женщина и искусный хирург. Такое состояние продолжалось до ночи, были спокойные минуты, она иногда засыпала, силы не падали… Кроме ее доктора, который сидел в первой комнате, приглашены были на совет доктор великого князя и самый лучший акушер. Но они не придумали ничего нового для облегчения страданий и во вторник потребовали на совет моего доктора и старого искусного акушера. Когда те прибыли, то было решено, что нужно спасать мать, так как ребенок, вероятно, уже не жив. Сделали операцию, но по стечению различных обстоятельств, вследствие сложения и других случайностей наука человеческая оказалась бессильною… Я не имела ни минуты отдыха в эти пять дней и не покидала великой княгини ни днем, ни ночью до самой кончины. Она говорила мне: „Вы отличная сиделка!“ Вообразите мое положение»[996].
На следующий день Екатерина продолжает свой рассказ Гримму: «Мы чуть живы… Были минуты, когда при виде мучений я чувствовала, точно и мои внутренности разрываются: мне было больно при каждом вскрикивании. В пятницу я стала точно каменная, и до сих пор все еще не опомнилась. Вообразите, что я, известная плакса, не пролила ни единой слезы… я себе говорила: „Если ты заплачешь, другие зарыдают, коли ты зарыдаешь, те упадут в обморок и все потеряют голову; тогда не с кого будет взыскать“»[997].13-го в пятом часу утра Екатерина наспех писала своему статс-секретарю Козмину: «Сергей Матвеевич, дело наше весьма плохо идет. Какою дорогою пошел дитя, чаю, и мать пойдет. Сие до времени у себя держи, а теперь напиши письмо к Кашкину (коменданту Царского Села. — О. E.), чтоб покои в Царском Селе приготовили и держали, будто к моему рождению, не равно — приеду. Кой час решится, то сына туда увезу»[998]. В этот момент Екатерина уже знала и о неверности Натальи Алексеевны Павлу, и о том, что сам цесаревич замешан в очередном заговоре.
Дипломаты сообщали своим дворам, что государыня недолюбливала невестку, сколачивавшую вокруг Павла группу сторонников и подталкивавшую мужа к решительным действиям. Вскоре после кончины великой княгини в Европе распространились слухи об убийстве несчастной Натальи Алексеевны по приказанию императрицы. Источником этих слухов были рассказы принцев Гессен-Филиппстальских, состоявших в родстве с покойной и повторявших слова ее брата — принца Людвига Гессен-Дармштадтского[999], за полгода до смерти сестры выставленного с русской службы. Его кутежи и слишком вольные рассказы о государыне не могли быть терпимы.
Сразу после смерти Натальи Алексеевны императрица вывела пораженного горем сына из комнаты покойной и, никуда не заходя, села с ним в дорожный экипаж. Они вдвоем немедленно отбыли в Царское Село[1000]. Этот поступок очень материнский по своей сути — закрыть Павла от всего света, защитить его, дать ему возможность побыть в стороне от людей. Однако дальнейшие действия Екатерины будут продиктованы уже волей государыни.
В Царском Селе через несколько дней непрерывных слез и стенаний Павла императрица сочла нужным ознакомить его с выкраденными у покойной великой княгини письмами А. К. Разумовскому. Эти бумаги содержали сведения не только о любовной связи последних[1001], но и о заговоре в пользу цесаревича[1002]. Декабрист М. А. Фонвизин со слов своего отца (брата Д. И. Фонвизина) записал, что Павел Петрович знал о заговоре и даже собственноручно подписал какие-то документы, составленные Н. И. Паниным. Узнав, что заговор раскрыт, великий князь принес повинную, раскаивался перед императрицей и передал ей список участвовавших в деле лиц[1003]. Переписка великой княгини изобличала не только саму Наталью Алексеевну, но и Павла Петровича. Продемонстрировав сыну эти письма, Екатерина поставила его в известность: она все знает.
После состоявшегося между ними разговора императрица писала Потемкину: «Говорил сквозь слез, прося при том… не лишить его милости моей и устроить его судьбу на то и на другое. Я ответствовала, что его прозбы справедливы и чтоб надеялся иметь и то и другое»[1004]. Разговор Екатерины с Павлом стоит в ряду подобных, крайне неприятных, бесед государей и претендентов. Петр Великий допрашивает царевича Алексея; правительница Анна Леопольдовна за день до переворота предупреждает Елизавету, чтобы та поумерила свою дружбу с гвардейцами; сама Елизавета дважды допрашивает великую княгиню Екатерину по делу канцлера Бестужева, Павел I посылает сыну Александру дело царевича Алексея. Каждый раз царствующая особа показывает, что ей известны политические интриги наследника, и она может поступить с ним по своему разумению…
Что означала просьба великого князя «устроить его судьбу на то и на другое»? Павел Петрович намеками просил мать: во-первых, не лишать его права наследовать корону (что императрица могла сделать, согласно законодательству Петра I) и, во-вторых, устроить его судьбу. Этим вторым пунктом Екатерина занялась незамедлительно. Видимо, она не собиралась менять своего наследника, по крайней мере до тех пор, пока у нее не появится выбор. Дать сыну новую жену, получить внуков, обеспечить таким образом стабильность русского престола — вот ее цель.
На другой же день по смерти Натальи Алексеевны гостивший в Петербурге принц Генрих Прусский писал по просьбе императрицы своей племяннице, принцессе Вюртембергской Фредерике Доротее Софии и приглашал ее приехать в Берлин с дочерьми — Софией Доротеей и Фредерикой Елизаветой. Он сообщал, что в прусскую столицу прибудет цесаревич Павел, чтобы познакомиться с Софией Доротеей и затем просить ее руки[1005].
«Источник государственного благосостояния»
Как бы трагически ни складывались отношения в августейшей семье, дела не стояли на месте. Теперь, по окончании войны с Турцией и Пугачевщины. Екатерине предстояло вернуться туда, где остановились ее законодательные упражнения. Ни умиление сенаторов при чтении Манифеста о прощении бунта, ни желание императрицы предать случившееся забвению не снимали с повестки дня крестьянский вопрос — поистине неразрешимый для правительства Екатерины. Благосостояние крестьян было главным залогом богатства помещика, и забота о поддержании хозяйства крепостных диктовалась в первую очередь не добротой сердца или просвещенностью ума владельца, а насущной экономической необходимостью.
В сельскохозяйственной, крестьянской стране продукты питания стоили сравнительно дешево. Только вино выбивалось из общего списка — ведро в зависимости от сорта могло оцениваться в пределах 2 рублей 23 копеек — 3 рублей, в то время как годовой оброк с государственных крестьян редко превышал 3–4 рубля, а общие ежегодные выплаты помещичьих крестьян составляли 8–10 рублей[1006]. Рожь стоила 60 копеек —1 рубль за четверть (в Петербурге и Москве из-за спроса значительно выше — 2–3 рубля), пшеница, считавшаяся едой для богатых, — 1 рубль 50 копеек — 2 рубля, пуд соли — 35 копеек. Быков продавали по 3–4 рубля за голову, овец — по 50–70 копеек, баранов — по 30–50 копеек, свиней — по 60–80 копеек, цыплят — по 5–15 копеек, индеек — по 20–40 копеек.
Из поездки по Волге в 1767 году Екатерина писала Вольтеру о богатстве и сытости простонародья[1007]. Перефразируя знаменитую фразу Генриха IV: «Я хотел бы, чтобы каждый француз имел курицу в супе», императрица заявляла: «В России подати столь умеренны, что нет у нас ни одного крестьянина, который бы, когда ему вздумается, не ел курицы, а в иных провинциях с некоторого времени предпочитают курам индейских петухов»[1008]. На фоне приведенных цен эти слова вовсе не выглядят издевательством. Одно крестьянское хозяйство содержало 10–12 лошадей и 15–20 коров, от 5 до 50 кур, уток, гусей и индюшек. (Это положение полностью изменилось в послереформенной русской деревне, обнищавшей из-за малоземелья и выкупных платежей.) Простая сивка-бурка стоила от 4 до 7 рублей (в столицах породистые лошади оценивались от 20 до 70 рублей). Покупка буренки могла облегчить семейную кубышку на 2–3 рубля[1009]. Знакомая нам со школьной скамьи картинка крестьянского обеда у А. Н. Радищева — хлеб «из трех частей мякины и одной несеяной муки» и «кадка с квасом, на уксус похожим»[1010], — результат трехлетней засухи и неурожая, охвативших в 1787–1790 годах Центральную и Восточную Европу. Затянувшаяся война с Турцией и Швецией тоже не способствовала повышению благосостояния, ибо налоги росли. Однако назвать крестьянскую трапезу по Радищеву типичной для всего XVIII века нельзя. Недовольство населения вызывал отнюдь не голод, а злоупотребления местной администрации и притеснения помещиков[1011]. Недаром E. Р. Дашкова в разговоре с Дидро о просвещении и освобождении крестьянства сравнивала русский народ со слепым младенцем, который сидит на краю пропасти и «хорошо ест». Откройте ему глаза — он немедленно испугается, забудет про аппетит и чего доброго свалится вниз. «Приходит глазной врач и возвращает ему зрение… И вот наш бедняк… умирает в цвете лет от страха и отчаяния»[1012]. Другими словами, русские крестьяне не просвещены, несвободны, но сыты.
Этим не могли похвастаться более цивилизованные страны. Побывав в 1777–1778 годах во Франции, Д. И. Фонвизин был потрясен нищетой простонародья. Драматург писал из Парижа брату своего покровителя Петру Ивановичу Панину, что «русские крестьяне при хороших хозяевах живут лучше, чем где бы то ни было в мире», у них есть чем растопить печь, согреть и накормить семью. «Ни в чем на свете я так не ошибался, как в мыслях моих о Франции… Мы все, сколько ни есть нас русских, вседневно сходясь, дивимся и хохочем, соображая то, что видим, с чем мы, развеся уши, слушивали»[1013]. Наполеон позднее говорил, что избежать революции можно было только «позолотив цепи», то есть накормив голодные рты, а на это у королевской власти не было средств.
Даже очень критично настроенный по отношению к русской реальности французский дипломат М. Д. де Корберон описывал в дневнике 1779 года изобилие продуктов в Петербурге: «Мы… посетили тот знаменитый рынок близ крепости (Петропавловской. — О. E.), где выставлены все съестные припасы в замороженном виде, привезенные из внутренних мест страны. Эта армия мороженых свиней, баранов, птицы и т. д. — удивительное зрелище, способное излечить от обжорства»[1014]. Столь же недорого, как продукты питания, стоили дрова, домотканый холст, овчины, из которых шилась зимняя одежда. В целом, прожить в России простонародью было значительно проще, чем в более цивилизованных европейских странах, где потребности намного превосходили возможности низших слоев населения. Отсюда частые комментарии иностранных авторов о более высоком качестве жизни русских крестьян и неизбежное в таких условиях противопоставление сытого рабства голодной свободе.
Прослуживший много лет в России французский посол Луи де Сегюр писал: «Русское простонародье, погруженное в рабство, незнакомо с нравственным благосостоянием, но оно пользуется некоторой степенью внешнего довольства, имея всегда обеспеченное жилище, пищу и топливо; оно удовлетворяет своим необходимым потребностям и не испытывает страданий нищеты, этой страшной язвы просвещенных народов…
Помещики в России имеют почти неограниченную власть над своими крестьянами, но надо признаться, почти все они пользуются ею с чрезвычайной умеренностью»[1015]. Сегюру вторили и другие наблюдатели. Испанский дворянин дон Франсиско де Миранда (впоследствии один из французских революционных генералов) в 1787 году совершил поездку по России. Возле Вышнего Волочка он обратил внимание на множество новых срубов, выставленных на продажу. «Справился у моего слуги и извозчика, сколько стоит такой дом, который можно купить в разобранном виде при въезде в любую деревню, и они сказали, что обычная цена всего лишь от 20 до 24 рублей». Миранда писал об изобилии леса, который крестьяне могут вырубать беспошлинно, что позволяло им в самые лютые морозы поддерживать в домах тепло. В печально знаменитой по Радищеву Спасской Полести путешественник «зашел в несколько крестьянских домов… внутри они очень опрятны и удобны для жилья… почти всюду имеется ткацкий станок, на котором ткут белое полотно из местного льна; из него шьют неплохую одежду для людей низшего сословия. Заплатил 30 копеек за чай, хлеб и т. д.; наблюдал за девушкой, доившей корову: она прятала от меня лицо, но в то же время выставляла напоказ свои ляжки»[1016].
Простодушное кокетство деревенской девки — совсем не то же самое, что вид голодной бабы, месившей тесто «из трех частей мякины и одной несеяной муки» у Радищева. А ведь два описания разделяет всего пара лет. Видимо, стандарты чистоты и благополучия у авторов были разными. Гостившая у E. Р. Дашковой Марта Вильмот писала: «На небольшом лугу против моего окна около 150 мужчин и женщин косят траву. Все мужчины в белых льняных рубахах и штанах (это не выдумка, штаны действительно белые), а рубахи подпоясаны цветным поясом и вышиты по подолу ярко-красной нитью. Вид у них очень живописный; лгут те иностранцы, кои изображают русских крестьян погруженными в праздность, живущими в нищете… Если, сравнивая два народа, посчитать основными вопросами те, что относятся к условиям жизни (достаточно ли еды, есть ли жилище, топливо и постель), то русские вне всякого сомнения окажутся впереди. Да, они рабы, однако в интересах самих господ хорошо обращаться со своими крепостными, которые составляют их же богатство; те помещики, которые пренебрегают благосостоянием своих подданных и притесняют их, либо становятся жертвами мести, либо разоряются»[1017].
Можно с усмешкой констатировать, что если самодержавие в России было ограничено удавкой, то крепостное право — топором и красным петухом. Подчас эти ограничения оказывались очень действенными. Но был и другой способ, державший помещиков в узде. Религиозные запреты значили для огромного большинства жителей страны больше, чем указы.
Современные исследователи сходятся во мнении, что главным злом крепостного права была не жестокость помещиков и не бедность крестьян, а отсутствие закона в сфере, регулировавшей отношения барина и его холопа. То, что целый клубок социальных связей как бы выпадал из правовой зоны, порождало массу злоупотреблений. В традиционном обществе практически вся жизнь контролировалась либо религиозными нормами поведения, либо обычным правом — то есть правом, основанным на обычае. Собственно законодательство в современном смысле проникало лишь в те бреши, которые освобождала для него традиция. По мере развития юридического сознания и усложнения законодательства государство все настойчивее вмешивалось в отношения бар и крестьян. Симптоматично, что все принятые акты были запретительного характера, ограждая холопов от произвола господ. Здесь интересы дворянства и интересы верховной власти приходили в столкновение. Каждая из сторон считала, что защищает крестьянина от хищных рук другой. Между двумя «благодетелями» мужик оказывался как между молотом и наковальней. Однако этот же противовес порой помогал ему выжить, ища защиты от барина у государственных инстанций, а защиты от податей и рекрутчины под крылом рачительных хозяев.
«Тишина и спокойствие»
Пугачевщина наглядно продемонстрировала правительству Екатерины, что Российская империя нуждается в межсословном мире. В годы крестьянской войны целые дворянские роды оказались выбиты повстанцами с необычайной жестокостью. До губернской реформы Екатерины II и до преобразований, предпринятых правительством в отношении казачества, превративших бунтарей с окраин в «цепных псов самодержавия», Россию примерно раз в 70 лет сотрясали крестьянские войны. Современные историки склоняются к тому, что их правильнее было бы именовать гражданскими, ибо они втягивали в борьбу разные слои общества, а также инородцев Поволжья и Урала, сосланных польских конфедератов, раскольников и т. д. Рассматривать подобные явления только как столкновение крестьян и помещиков значит упрощать картину. Восстания И. И. Болотникова, С. Т. Разина, К. А. Булавина и, наконец, Е. И. Пугачева зарождались на окраинах, в казацких областях, среди вчерашних беглых, и постепенно охватывали широкие регионы, населенные крестьянством. Крепостные становились мышечной силой, но никогда не управляющей элитой этих движений. Вольные казаки четко отделяли себя от мужиков и при случае не упускали возможности покуражиться над ними: ограбить, забрать скот, деньги, девок. Потому-то слух о приближении атамана-батюшки заставлял одних отправляться ему навстречу в надежде «показачиться», то есть вступить в отряд, других — встречать пришлых хлебом-солью: Бог даст, пройдут мимо и не тронут, а третьих — собирать скарб и уходить в леса. При подавлении восстаний крестьяне в равной мере страдали как от правительственных войск, так и от повстанцев.
Каждое крупное народное движение возникало именно тогда, когда страна находилась в состоянии войны и социальная жизнь была расшатана. Восстание Болотникова (1606–1607) приходится на Смуту начала XVII века. Разинщина (1670–1671) разразилась в условиях войны на Украине, когда Московское царство вело боевые действия против Польши и Швеции. Булавин взбунтовал казаков (1707–1708) в период Северной войны и преобразований Петра I. Пугачев назвался Петром III и поднял мятеж (1773–1775), когда Россия вела на юге трудную войну с Турцией. Причины этого понятны: внешний кризис вызывал повышение податей, дополнительные наборы в армию, недостаток рабочих рук на полях и, как следствие, нехватку продуктов. Кроме того, война оттягивала вооруженные силы из центра на границы, и когда разражался мятеж, на первых порах его просто нечем бывало подавить. Этим объясняется успешность каждого из названных восстаний на начальном этапе. Как только правительство организовывало переброску армии в места, охваченные волнениями, подавление мятежа становилось делом времени. Однако размеры России, плохие дороги и суровый климат превращали такую переброску в задачу крайне непростую. Порой проходил не один месяц, прежде чем верные войска оказывались там, где надо. Пока помощь добиралась, не только представители благородного сословия, но и священники, множество горожан, купцов и те из крестьян, кто не желал отдавать хлеб и скот, могли быть вырезаны.
Пугачевщина была вторым после Уложенной комиссии горьким уроком для Екатерины. Императрица поняла, что реальная жизнь России очень далека от мира идей, в котором вращались ее друзья-философы. Кроме нововведений, подходивших для любой европейской страны того времени, громадная империя нуждалась в особых, только ей присущих реформах. Необходимо было четко определить права и обязанности сословий, упорядочить взаимоотношения государства с нерусскими народностями и старообрядцами, а кроме того, сделать так, чтобы законы Российской империи действовали на всей ее огромной территории, а не только в Петербурге. Именно на решение этих задач и было направлено внимание Екатерины после подавления крестьянской войны. Наступил второй этап реформ.
Уже в 1775 году было принято «Учреждение для управления губерний»[1018] и проведена губернская реформа, которая усилила власть государственного аппарата на местах. Она позволила низовой администрации своевременно откликаться на любые нарушения «тишины и спокойствия», не дожидаясь помощи из столицы. В соответствии с «Учреждением» вступило в силу новое административно-территориальное деление, были внесены большие изменения в местное управление. Эта система просуществовала почти столетие.
Реформа разукрупнила губернии: вместо двадцати трех в конце концов было образовано пятьдесят губерний по 300–400 тысяч жителей. Уезды, «чтобы порядочно управляться», насчитывали по 20–30 тысяч ревизских душ. Все вновь образованные губернии и уезды получили единообразное устройство, основанное на строгом разделении административных, финансовых и судебных функций. Во главе губернии стоял назначаемый правительством губернатор со своим заместителем — вице-губернатором. Иногда две или три губернии объединялись под управлением наместника — генерал-губернатора. Органу исполнительной власти (губернскому правлению) подчинялись исполнительные органы уездов — нижние земские суды. Во главе последних стояли капитаны-исправники, избираемые на три года из уездных дворян. Полицейский надзор в городе был вверен особому лицу — городничему, назначаемому правительством[1019]. Финансовыми делами (казенными доходами, постройками, подрядами и т. д.) ведали казенные палаты (в губернских городах), а также губернские и уездные казначейства. В уездных городах существовала и так называемая Дворянская опека — орган, занимавшийся делами малолетних дворян и дворянских вдов. Для городского населения в такой же роли выступал Сиротский суд. В губернских городах находился и Приказ общественного призрения — специальный орган, который ведал делами просвещения (школами), благотворительности (приютами, богадельнями) и здравоохранения (больницами, аптеками).
Одновременно с губернской реформой была проведена судебная, по которой создавалась сеть местных судов, особых для каждого сословия: для дворян, городского населения и государственных крестьян. Суды имели соответствующие названия: в уездных городах — уездный суд, Городовой магистрат, Нижняя земская расправа; в губернских — Верхний земский суд, Губернский магистрат, Верхняя земская расправа. Высшей инстанцией для всех судов являлись палаты Уголовного и Гражданского суда, находившиеся в губернских городах. Для разрешения трений между представителями разных сословий в каждой губернии специально создавались общесословные Палаты уголовного и гражданского суда. «Общество получило возможность иметь суд на местах», о чем неоднократно просили депутаты в наказах Уложенной комиссии[1020].
Надзором за соблюдением законности ведали губернские прокуроры и их помощники — стряпчие (уголовные и гражданские). Были прокуроры и при сословных судах в губернских городах, а при уездных судебных учреждениях их заменяли уездные стряпчие. Новая система позволяла разбирать большую часть дел на местах, не загромождая работу высших судебных инстанций малозначительными вопросами.
Современному человеку трудно разобраться в тонкостях местной реформы Екатерины. Между тем императрице удалось совершить настоящее административное чудо: она передала значительную часть правительственных функций на места, поделившись полномочиями с губернскими органами, и таким образом… усилила власть центра. Коллегии перестали задыхаться под грудами бумаг, приходивших с окраин. Местные же учреждения получили право решать дела своих регионов, которые прежде приходилось отправлять в столицу. Перераспределив функции разных частей государственного аппарата и пустив бумажные потоки по новым руслам, Екатерина добилась, чтобы механизм заработал более слаженно[1021]. Кроме того, на местном уровне ей удалось частично реализовать идею разделения властей: управленческий аппарат, финансы и суд стали действовать независимо друг от друга. Не без злоупотреблений, но аппарат осуществлял свои функции. Введение же внесословных Палат уголовного и гражданского суда впервые демонстрировало практику равенства граждан перед законом.
Это были реальные шаги на пути изменения старого законодательства. Куда более скромные, чем ожидали друзья-философы и чем по молодости хотела сама Екатерина, писавшая некогда: «Свобода — душа всего, без нее все мертво»[1022]. Закономерно, что в ее реформах «второй волны», как будто отражавших доктрины просвещенного абсолютизма и даже отвечавших просьбам с мест, сторонники передовых политэкономических теорий не видят большого смысла. Ведь проводить в жизнь просветительскую политику правительства могли только чиновники «высокого уровня административно-правовой культуры». А именно их в России не было. Поэтому «создаваемые в ходе реформ местные органы… начинали жить собственной административной жизнью», «в равной мере оторванной и от нужд местного населения, и от требований общегосударственной политики»[1023]. Так стоило ли браться за оружие?
С точки зрения Екатерины, стоило без малейших сомнений. Именно благодаря проведенной реформе на местах еще только начинали создаваться гражданские сообщества и появлялась региональная элита, «болеющая душой за территорию, на которой живет». Контроль вышестоящих учреждений прививал ей привычку «действовать в пределах закона, с учетом интересов значительных слоев населения»[1024].
Теперь императрица понимала, каким узким было поле приложения просветительских идей в несвободном обществе, где даже дворянство в полной мере не обладало правами европейских благородных сословий. Она далеко не сразу решилась направить Вольтеру перевод «Учреждения об управлении губерний». Эта конкретная, кропотливая работа — платье по росту для империи, чей цивилизационный разрыв с Европой составлял не одно столетие, — не могла не вызвать у философа разочарования. С «высот» вольнодумного «Наказа» ему предстояло «упасть» в недра прямо-таки средневекового общества, где сословия не расставались с привилегиями ради свободы, равенства и братства. Напротив, они только-только юридически закрепляли свой статус.
Если в начале царствования Екатерина, подобно многим русским европейцам, полагала, что страна может в развитии перескакивать через целые ступени, то теперь, видимо, пришла к выводу: России придется пройти всю лестницу, пусть и очень быстро. Поэтому знакомство старого учителя Северной Семирамиды с «Учреждением» должно было повлечь неприятные объяснения. Сначала «ученица» просто оттягивала момент: «Требуемое Вами „Учреждение“ переведено и напечатано только еще на немецком языке. Ничего нет труднее, как иметь хороший французский перевод с российского языка; последний столь богат, столь силен в выражениях и столь удобен, что оным всячески управлять можно; Ваш же так умен и беден, что надобно Вами сделаться, чтоб возмочь столь успешно его употреблять». Когда же перевод все-таки был готов, Екатерина сопроводила текст целым пояснительным письмом, в котором растолковывала особенности России и доказывала, что «Учреждение» — суть прямое продолжение «Наказа». «Наказ» обозначил цели, к которым надо стремиться, а новые законодательные акты изыскивают средства и приноравливают высокие идеалы к реальности. «Помянутое „Учреждение“ сему предназначению не только не противоречит, — рассуждала она, — но и бытие свое от него приемлет»[1025].
Избегнуть разочарования не удалось, хотя узы взаимной выгоды прочно связывали императрицу с фернейским пустынником. Но слишком долог был путь, намеченный ею для своего государства. Еще в августе 1774 года Вольтер с негодованием жаловался на отсутствие вестей из России: «Вы никакого уважения моей старости не сделали»; «Вы меня забываете»[1026]. Однако в январе 1776 года сам извинялся, что «уже с лишком год не писывал»[1027]. Исчезала внутренняя потребность корреспондентов друг в друге. Императрица продолжала уверять: «Никогда я Вас не променивала ни на Дидерота, ни на Гримма, ни на другого какого фаворита»[1028]. Но уже не спешила знакомить старика с новыми законодательными актами.
«Высшая степень благополучия»
В «Наказе» Екатерина писала, что ее цель — «довести империю до высшей степени благополучия»[1029]. Путь оказался тернист, а благополучие понималось разными слоями общества по-разному. Еще в Уложенной комиссии каждое из представленных сословий требовало расширения прав. Беда в том, что реализовать их все стремились за счет «соседей» — то есть других социальных групп. На правительство ложилась обязанность по разведению противоборствующих сторон и наделению их юридически оформленным статусом.
В 1785 году были изданы две «Жалованные грамоты» — дворянству и городам, оговаривавшие привилегии и обязанности различных сословий перед государством. Благодаря этим документам впервые в истории России все сословия, за исключением крестьянства, приобретали юридические права.
Жаждало ли русское дворянство такого изменения? Без сомнения. В данном случае перед нами обоюдный процесс: движение государя навстречу обществу и общества навстречу государю. Императрица давала благородному сословию то, чего оно давно и с нетерпением ждало.
В феврале 1762 года правительство Петра III сделало, казалось бы, беспроигрышный ход, издав Манифест о вольности дворянства. После переворота Екатерина не подтвердила, но и не отменила Манифест, de facto предоставив дворянству широчайшие льготы, как то: отставка по желанию, переход с военной службы на гражданскую, свободный выезд за границу. И уж конечно гарантированную защиту от телесных наказаний. Лишь через двадцать три года императрица даровала «Жалованную грамоту дворянству», в которой преобразовала это сословие по европейскому образцу, закрепив перечисленные права. Кроме того, были созданы органы дворянского самоуправления — Дворянские собрания и суды, — в которые представители благородного сословия могли выбирать и быть избранными. Теперь, даже уйдя в отставку, дворянин имел шанс принять участие в общественной жизни. К изменениям своего статуса дворянство было не просто готово, оно настойчиво добивалось их. Предоставив «шляхетству» институты сословной самоорганизации, императрица превзошла ожидания. Недаром известный мемуарист начала XIX века Ф. И. Вигель позднее назвал царствование Екатерины «временем нашего блаженства»[1030].
Адмирал П. В. Чичагов вспоминал о временах своей молодости: «В Петербурге были так же свободны, как в Лондоне, а веселились не меньше, чем в Париже… Полиция была соразмерна скромным требованиям поддержания порядка. Военных застав у каждых городских ворот не существовало, равно и паспортов, являемых и проверяемых при каждой перемене места жительства. Каждый уезжал и приезжал, как и куда хотел, и никто не думал ни дезертировать, ни убегать»[1031].
Именно такой ситуации Екатерина хотела добиться не только для дворянства, но и для всего общества в целом: «Не будет более опасности отпускать в путешествие наших молодых людей (бегства которых часто боятся), когда сделают им их отечество любезным… государство, конечно, немногого бы лишилось во всякое время от потери двух-трех ветреных голов, и, если бы отечество было таким, каким я хотела бы его видеть, мы имели бы больше рекрутов, чем дезертиров. Издалека приезжали бы за нашими девушками и нам бы привозили своих, и раз бы дело пошло, то на несколько поколений раньше оно смягчило бы все то, что еще не образовано. Снисходительность, примиряющий дух властителя сделали бы больше, нежели тысячи законов»[1032]. Длительность царствования Екатерины сыграла важную роль в либерализации жизни русского общества. Она в корне изменила сам тон отношений государя с двором, офицерством, чиновничеством и жителями столиц — со всем, что в те времена могло считаться обществом и влиять на жизнь в стране.
Ожидала ли императрица, что со временем общество пойдет дальше пределов дозволенного? Что в стране появятся свои «жакобиты» и ядовитые критики ее политического курса? Издаваемый ею журнал «Всякая всячина» в мягкой форме высмеивал недостатки окружающего мира: ветреность, щегольство, ханжество, жестокие семейные нравы и бездумное копирование иностранных обычаев. Под крылом «Всякой всячины» оперились другие русские сатирические журналы, но недостаточно хлесткий тон издания императрицы вскоре перестал удовлетворять стремлениям более молодой плеяды издателей. Среди них видное место занимал Николай Иванович Новиков, выступивший с критикой «Всякой всячины». Поскольку руководство журналом со стороны императрицы было анонимно, имелась возможность вести с ним открытую полемику.
Екатерина советовала своим оппонентам: «Никогда не называть слабости пороками». Новикова такая позиция чрезвычайно раздражала. «Госпожа прабабка наша (так называла себя „Всякая всячина“. — О. E.), — восклицает он, — …порокам сшили из человеколюбия кафтан… Но таких людей человеколюбие приличнее было бы называть пороколюбием». «Кто только видит пороки, не имев любви, — возражала Екатерина, — тот не способен подавать наставления другому»[1033].
Воспитанной во времена елизаветинских строгостей государыне показались оскорбительными вопросы Д. И. Фонвизина, заданные ей как автору «Былей и небылиц»: отчего в России ничтожные люди ходят в больших чинах, а достойные пребывают в тени? Драматург намекал на судьбу своего старого покровителя Н. И. Панина, к этому времени уже оказавшегося не у дел. Екатерина ответила от лица некого «дедушки», помнившего прежние царствования: «Молокососы! Не знаете вы, что я знаю. В наши времена никто не любил вопросов, ибо с иными и мысленно соединены были неприятные обстоятельства; нам подобные обороты кажутся неуместны… Отчего? Отчего? Ясно, оттого, что в прежние времена врать не смели, а паче — письменно»[1034].
Этой резкой отповедью императрица как бы показывала границу, за которую не следовало заходить благонамеренным людям. Но куда там! Собственный либерализм Екатерины к концу века уже казался пресным и недостаточно радикальным. На фоне гильотины, под рукоплескания парижской толпы отсекавшей королевские головы, право покритиковать Ее величество в журнале уже не впечатляло отечественных ревнителей свободы. Между тем именно в лоне екатерининского либерализма началось формирование российского гражданского общества.
Преобразования второй половины царствования Екатерины стабилизировали ситуацию в стране и открыли возможность дальнейшего развития. Однако сама императрица не была довольна тем, что ей не удалось завершить сословную реформу, ведь за «Жалованными грамотами» дворянству и городам должна была последовать «Жалованная грамота» крестьянству. Именно по этому поводу Екатерина незадолго до своей смерти в письме барону Гримму с горькой иронией называла себя «прошедшее несовершенное».
«Учение образует ум, воспитание образует нравы»
Куда больших успехов правительству Екатерины удалось добиться на ниве просвещения. В программе преобразований важное место императрица отводила «смягчению нравов русского общества» путем воспитания его членов в духе просвещения и гуманного отношения друг к другу. Она ставила целью «исправить сердца и нравы народа своего через воспитание, которое почитается источником всего в свете человеческого благополучия». В русле этих идей один из ближайших сподвижников Екатерины И. И. Бецкой предложил провести реформу образования.
Иван Иванович считал, что преобразовывать общество можно только через воспитание подрастающего поколения. В «Генеральном учреждении о воспитании обоего пола юношества» 1764 года Бецкой впервые в России сформулировал само понятие «воспитания», которое должно «придать известное направление воле и сердцу, выработать характер, внушить согласное с природой человека здравое чувство, нравы и правила, искоренить предрассудки»[1035]. Все программные документы, подготовленные Бецким, редактировала сама императрица и многое вписывала в них сама.
Результатом воспитания в просвещенном ключе становилось создание «новой породы людей», свободных от пороков окружающего мира. Для этого маленьких детей следовало изолировать от воздействия тлетворной среды, в частности семьи, в закрытых учебных заведениях, где и выращивать «совершенного человека».
В основе таких воззрений Екатерины и Бецкого лежала педагогическая система английского психолога и врача Джона Локка, согласно которой ребенок рождается на свет ни плохим, ни хорошим, он напоминает чистый лист бумаги. Идея создания «новой породы людей» посредством ограждения их от воздействия внешнего мира была очень популярна в эпоху Просвещения. Исповедуя суровый метод отрыва ребенка от семьи и воспитания его с пяти-шести до восемнадцати-двадцати лет под присмотром чужих, пусть и очень просвещенных людей, Бецкой был убежден в необходимости мягкого, человечного обращения с воспитанниками. «Одно только просвещение наукой разума не делает еще доброго гражданина, — писал Бецкой, — но во многих случаях паче во вред бывает, если кто от юношеских своих лет воспитан не в добродетели». Причинами человеческих пороков он называл окружающие ребенка с детства страх, насилие, а также «безумных родителей и наставников». Основными принципами воспитания, по мысли Бецкого, должны были стать терпение и уважение к воспитанникам. «Если обходиться с ними как с рабами, то воспитаем рабов»[1036], — писал он.
Подобные взгляды Ивана Ивановича заставили Екатерину поручить ему воспитание собственного сына от фаворита Григория Орлова — Алексея Григорьевича Бобринского. Мальчик несколько лет жил в доме Бецкого и обучался в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе под присмотром Ивана Ивановича. Согласно проектам Бецкого, разработанным в 60–70-е годы XVIII века, в России должна была возникнуть целая сеть закрытых учебно-воспитательных учреждений, которая включала бы низшие и средние учебные заведения для дворян («благородного сословия») — пансионы, а для лиц «третьего чина» (мещан и купцов) — воспитательные дома, педагогические, художественные, медицинские, коммерческие и театральные училища[1037]. Высшими учебными заведениями для представителей всех сословий были университет и Академия художеств. Осуществить всю программу не удалось. Но и то, что было сделано, вызывает уважение. Был преобразован Сухопутный шляхетский корпус, учреждено первое женское учебное заведение — Воспитательное общество благородных девиц в Смольном монастыре, а также коммерческие училища для мещан и воспитательные дома в Петербурге и Москве для сирот и подкидышей.
Устав Воспитательного общества при Воскресенском Смольном монастыре был подписан императрицей 5 мая 1764 года. В этом закрытом учебном заведении в течение двенадцати лет должны были воспитываться девочки благородного происхождения, но туда же сразу стали принимать и дочерей солдат и матросов, а также петербургских мещан. Через четыре года английский посланник в Петербурге лорд Чарльз Каскарт (Каткарт) писал, что И. И. Бецкой «имел любезность показать мне так называемый монастырь, где императрица воспитывает на собственный счет 250 девиц из знатных фамилий и 350 дочерей мещан и вольных крестьян. Принимают их в заведение в четырехлетием возрасте, а выходят они девятнадцати лет… Полный недостаток средств к образованию, особенно между женщинами, и множество французов низкого происхождения, сумевших сделаться необходимыми во всех семействах, вот два обстоятельства, подавших императрице эту мысль, выполняемую под ее личным наблюдением и с величайшим усердием»[1038].
Программа Смольного была выдающейся для своего времени по сложности и в наборе наук мало уступала Сухопутному корпусу, где получали образование предполагаемые мужья «монастырок». Девушки изучали Закон Божий, русский, французский, немецкий и итальянской языки, арифметику, физику, историю, географию, архитектуру, геральдику, рисование, танцы, музыку, рукоделие и даже токарное ремесло. Искусства преподавали учителя из Академии художеств. Большое место было отведено сценическому мастерству, поскольку в Смольном существовал свой театр, где воспитанницы пели, танцевали, ставили трагедии и комические оперы. Недаром художник Д. Г. Левицкий, исполнявший в 1772–1776 годах по заказу Бецкого серию портретов смольнянок, изобразил большинство девушек именно в сценических амплуа. Е. И. Нелидова, А. П. Лёвшина и Н. С. Борщева танцуют, Г. И. Алымова играет на арфе, E. Н. Хрущева и E. Н. Хованская исполняют роли в комической опере итальянского композитора Кампи «Капризы любви, или Нинетта при дворе».
Заботами о Смольном монастыре Екатерина охотно делилась с Вольтером. 30 января 1772 года она писала: «Прошу советов Ваших… Вам известно, что у нас в некоторой обители ныне преподается воспитание пятидесяти девицам. Сии девицы подают о себе надежду, превосходящую наше чаяние; они преуспевают удивительным образом, так что все согласно утверждают, что сколько они соделываются любви достойными, столько же научаются полезных для общежития познаний. Их нравы отчуждены от всякого порока… В течение же двух зим заставляют их представлять трагедии и комедии… Но я должна Вам признаться, что очень немного можно найти таких театральных сочинений, которые были бы для них приличны… настоятельницы их тщатся, чтобы их не допускать представлять сочинения, способствующие к преждевременному в них возбуждению страстей. Но почти все французские театральные сочинения… наполнены слишком любовью»[1039]. Вольтер не замедлил оказать императрице услугу и прислал несколько пьес, где «любовь, можно сказать, нисколько не действует»[1040].
Иногда после обеда Екатерина оставляла все дела и отправлялась навестить воспитанниц Смольного общества благородных девиц. С одной из них — Александрой Лёвшиной — она состояла в переписке. «Черномазая Лёвушка! Я хотела садиться в карету, когда получила твое приятное письмо, и намерена была ехать прямо в монастырь тебя увидеть, — сообщала государыня. — Но, извините, великий холод меня удержал… Когда большие морозы убавятся, я приеду на целое послеобеденное время присутствовать при всех ваших различных занятиях, ежели мои то позволят».
Со своей стороны, императрица приглашала девушек к себе. Камер-фурьерский журнал запечатлел визиты смольнянок в загородные резиденции. Так, в мае 1776 года в Царском Селе регулярно бывали четыре воспитанницы Смольного — Александра Лёвшина, Глафира Алымова, Наталья Борщева и Екатерина Нелидова — все будущие фрейлины.
Смольнянки «с энтузиазмом говорили о посещениях Екатерины», нетерпеливо ждали ее. «Ах, Лёвушка! — восклицала императрица в одной записке. — …Неужели ты каждый день отмериваешь двести двадцать одну ступеньку, чтобы издали взглянуть на мой дворец, который вы не любите за то, что он так далеко разлучен с вами?» Провожая государыню, воспитанницы плакали, что несколько смущало жизнерадостную Екатерину: «Вы горюете, когда не видите меня. Вы, напротив, очень веселы, когда видите меня. Увы! погода дождливая. Путешествие в Москву печалит вас; слезы ручьем текут, и когда я видела вас в последний раз, следы их были заметны»[1041].
Образ старшей подруги — женщины искушенной, светской, способной дать ответы на вопросы, волнующие молодую девушку, — не редкость ни в быту, ни в литературе того времени. Государыне вовсе не хотелось, чтобы воспитанницы росли дикарками. Ей нравилось показывать их публике, когда они посещали резиденции или выступали на сцене. В Уставе общества было записано: «Для большей привычки к честному обхождению, то есть чтобы придать девушкам приличную смелость в поведении, необходимо установить в сем обществе по праздничным и по воскресным дням собрания для приезжающих из города дам и кавалеров»[1042]. Поэтому торжества и спектакли в монастыре были открыты для благородных господ обоего пола. Императрица не обманула ожидания «пилигримок». Пять лучших воспитанниц попали ко двору, но лишь «Черномазая Лёвушка» была назначена фрейлиной к самой Екатерине, остальные — в свиту великой княгини.
«Ни откуда детей не бить»
Воспитательные дома, организованные для детей «третьего чина», существенно отличались от дворянских учебных заведений. Они были предназначены для «невинных детей, которых злосчастные, а иногда и бесчеловечные матери покидают»[1043], то есть для подкидышей, сирот и незаконнорожденных младенцев.
Следует сказать, что отношение общества в XVIII веке к детям, рожденным вне брака, а также к матерям, имеющим незаконнорожденных детей, было крайне отрицательным. Такие дети не имели права носить фамилию отца, а с их матерями окружающие обращались неуважительно и грубо. Это вызывало стремление избавиться от нежеланных младенцев, а также приводило к частой смертности подкидышей и рожениц, вынужденных скрывать свои роды и обходиться без медицинской помощи. Екатерина смотрела на дело принципиально иначе, как бы с женской точки зрения. В начале ее царствования произошел коренной перелом в отношении государства к проблеме незаконнорожденных детей. Перу Бецкого принадлежал «Генеральный план императорского воспитательного для приносимых детей дома и госпиталя для бедных родильниц в Москве». Во главе Московского воспитательного дома стоял Опекунской совет, куда входили крупные жертвователи. При доме был открыт госпиталь для женщин, вынужденных рожать тайно. Роженицы могли приходить в госпиталь в любое время дня и ночи, не называя своих имен и даже не открывая лиц.
В обществе, где воспитание было основано, главным образом, на наказании, осознаваемом как единственное средство воздействия на ребенка, Бецкой провозгласил новый принцип: «Единожды навсегда ввести в сей дом неподвижный закон и строго утвердить — ни откуда и ни за что не бить детей». Он внушал наставникам, что розга приводит воспитанников «в посрамление и уныние, вселяет в них подлость и мысли рабские, приучаются они лгать, а иногда и к большим обращаются порокам»[1044].
В Москве нашелся большой круг лиц не только среди аристократии и купечества, но и среди мещан и даже окрестных крестьян, которые охотно жертвовали деньги на дом для подкидышей. Самым крупным меценатом оказался известный московский богач и оригинал П. А. Демидов, передававший в пользу сирот миллионные суммы.
15 марта 1770 года было принято решение об открытии Воспитательного дома в Петербурге. Екатерина II положила «на доброе начинание 5000 рублей из Кабинета». Однако далеко не все складывалось гладко. Собрать совестливых и просвещенных педагогов было чрезвычайно трудно, многие попечители в опекунских советах не отличались чистотой рук. Надежда, что чужие люди будут «любить воспитанников как своих детей», оказалась иллюзорной. Отрыв юношей и девушек от семей тяжело сказывался на их судьбах: по выходе из закрытых учебных заведений они ощущали себя чужими в кругу родственников, незнакомыми с окружающим миром и не готовыми к его трудностям.
Постепенно осознав, что просветительская идея создания «новой породы людей» неосуществима, охладела к ней и сама императрица. Какими бы «безумными» ни были родители, изъятие их из процесса воспитания пагубно сказывалось на детях. Это не подтолкнуло Екатерину к свертыванию реформы. Напротив, дало иное, более реалистичное направление деятельности государыни.
Несмотря на все усилия, в России еще не существовало сети средних и младших учебных заведений, не хватало учителей, не было единых программ; набор предметов, с которыми должен был знакомиться ученик, зависел от вкуса родителей. В это время в соседней Австрии — Священной Римской империи — с 1774 по 1777 год успешно осуществлялась школьная реформа. Императрица Мария Терезия унифицировала образовательную систему, изъяв ее из церковной юрисдикции и приведя учебные программы к единообразию. Преобразования возглавлял аббат И. И. Фельбигер, создавший новую методику учебного процесса: систему уроков, организацию детей по классам, одновременное занятие с целой группой учеников, использование наглядных пособий. На землях, населенных православными сербами, реформу удачно провел сербский ученый и просветитель Теодор Янкович де Мириево, верховный директор школ в Темишварском Банате. За короткое время ему удалось добиться того, чтобы каждая сербская община получила свою школу[1045]. В 1782 году Екатерина II дала поручение русскому послу в Вене Д. М. Голицыну найти человека, «способного к заведению в нашем отечестве нормальных школ»[1046]. По рекомендации союзника России императора Иосифа II был приглашен Янкович де Мириево, получивший на новой родине имя Федора Ивановича Мириевского. Сорокалетний педагог прибыл в Петербург в августе 1782 года. Ему предстояло проработать здесь 32 года и в корне реформировать школьную систему.
Первым детищем Янковича де Мириево стала Учительская семинария, открытая в столице и предназначенная для подготовки преподавательских кадров. Она была основана при Главном народном училище — прообразе народных училищ для всех губернских городов России. В качестве наставников в ней служили ученые из Академии наук, а студентами стали слушатели духовных семинарий. Самых способных предназначали для работы в старших классах, остальных — в младших. Помимо прочего, подбор будущих учителей из духовной среды должен был, по мысли императрицы, устранить разрыв между образованием и церковью. Учительская семинария, просуществовавшая с 1783 по 1803 год, была первым учебным заведением в России, где готовили профессиональных педагогов. Из ее стен вышло более четырехсот воспитанников — по тому времени цифра весьма солидная.
На базе Учительской семинарии Янкович издал около семидесяти наименований учебников, в числе которых были десять, написанных им самим. В 1786 году Екатерина подписала «Устав народным училищам в Российской империи» — главный документ образовательной реформы. В губернских городах создавались четырехклассные, а в уездных — двухклассные общеобразовательные школы, доступные для представителей всех свободных сословий. Они именовались народными училищами. Первые 25 были открыты в сентябре того же 1786 года, а к концу царствования их число перевалило за три сотни.
В народных училищах преподавание велось в обязательном порядке по-русски. Прежде в класс набирали детей разного возраста, и педагог работал с каждым учеником в отдельности. От этого в комнате стоял постоянный гул. Теперь же учитель обращался ко всем одновременно и задавал общие задания. Появились большая общая доска с мелом и классный журнал. Перед началом занятий проводилась перекличка. Тот, кто хотел спросить или ответить, должен был поднять левую руку. Были введены обязательные экзамены и каникулы[1047].
Таким образом, школьная реформа вышла из замкнутых сословных рамок и приобрела широкий размах. Именно этого добивалась Екатерина.
Глава двенадцатая «БЕЗ НАС В ЕВРОПЕ НИ ОДНА ПУШКА НЕ ВЫСТРЕЛИТ»
«Мир необходим для этой обширной империи; мы нуждаемся в населении, а не в опустошениях; заставьте кишеть народом наши обширные пустыни, — писала Екатерина в особых заметках, предназначенных только для себя. — Вот что касается внутренних дел. Что касается внешних, то мир гораздо скорее даст нам равновесие, нежели случайности войны, всегда разорительной»[1048].
Тем не менее Екатерина воевала много и с большим успехом. Она щепетильно следила за тем, чтобы никогда не делать «первый выстрел», что, впрочем, не спасло ее от звания «агрессора» ни во французских памфлетах, ни в русской либеральной литературе последующего столетия.
Внешняя политика считается одной из самых блестящих сфер деятельности Екатерины. Может показаться, что удача сопутствовала государыне практически во всех международных начинаниях. Две выигранные войны с Турцией и одна со Швецией, присоединение Крыма, разделы Польши заметно округлили границы и создали такое положение, при котором, по словам императрицы, «без нас в Европе ни одна пушка не выстрелит». Однако знакомство с дипломатическими и административными документами открывает картину тяжелейшего, прямо-таки каторжного труда, который пришлось затратить правительству Екатерины для решения насущных внешнеполитических задач того времени. Удивление от череды побед сменяется осознанием колоссальной работы, которой они были обеспечены.
Императрица не любила изменять старые, хорошо продуманные планы, отказываться от заранее подготовленных проектов ради случайностей военного счастья. Она была сторонником усидчивого кабинетного труда, а не блестящих импровизаций. Но быстро менявшаяся внешнеполитическая ситуация иногда требовала перестраивать курс на ходу. Не раз и не два кабинет Екатерины оказывался над пропастью: один неверный шаг, и кампания могла быть проиграна, территории потеряны, а сама императрица лишена короны.
Счастье сопутствовало ей. Екатерина была хладнокровным и вместе с тем азартным политическим игроком. Для нее характерно стремление использовать любой подворачивающийся шанс и выжать из него максимум выгод. Даже случайные удачи она превращала в ступени достижения крупных целей.
С самого начала царствования Екатерина настаивала на том, чтобы лично руководить внешней политикой. «Я хочу управлять сама, и пусть знает это Европа», — писала она. По ее мысли, Россия должна была «следовать своей собственной системе, согласной с ее истинными интересами, не находясь постоянно в зависимости от желаний иностранного двора». «Время всем покажет, что мы ни за кем хвостом не тащимся», — замечала государыня. Жесткий по сути отказ подчиняться влиянию какого-либо другого двора Екатерина умела облекать в мягкие формы. «Весьма ошибутся те, кто по персональным приемам будут судить о делах»[1049], — писала императрица о своем стиле дипломатических переговоров.
«Самый искусный… человек при моем дворе»
Долгие годы руководителем внешней политики Екатерины оставался Никита Иванович Панин, на мнение которого в международных делах императрица полагалась безусловно. При этом она не могла опереться на его личную преданность, что придавало их альянсу неповторимое своеобразие. Оба держались друг за друга и в то же время желали избавиться от взаимного контроля, обретя полноту власти. Каждый их шаг был пропитан взаимным недоверием. Тем не менее Екатерина терпела Панина — «самого искусного, самого смышленого, самого ревностного человека» при ее дворе. А Никита Иванович, несмотря на досаду, сознавал, что только с энергией императрицы можно воплотить в жизнь его проекты.
«Когда хочешь рассуждений и хороших общих принципов, нужно советоваться с Паниным, — писала Екатерина в начале царствования, разбирая характеры сотрудников, — но отнюдь не в делах частных, ибо тут он начинает увлекаться, и так как он очень упрям, то он только введет вас в заблуждение. Его доля — дела иностранные»[1050]. Под «частным» императрица понимала личные отношения министра, например, его любовь к Дашковой или руководство великим князем Павлом. Но она никогда не забывала об «общем».
«Мною всегда было очень легко руководить, — рассуждала наша героиня уже под старость, — чтобы достигнуть этого, следовало только представить мне идеи, несравненно лучшие и более основательные, чем мои. Тогда я делалась послушной, как овечка». Панин умел познакомить императрицу с кругом идей, которые ее увлекли, поэтому она прислушивалась к его мнениям и даже следовала им. «Причина этого крылась в сильном и постоянном желании, чтобы все делалось на благо государству… Несмотря на мою природную податливость, я умела быть упрямой, твердой, если хотите, когда мне казалось это необходимым»[1051].
В первые два десятилетия царствования Панин — неизменный сотрудник-соперник — безраздельно господствовал в сфере «дел иностранных». Екатерине было за что сказать ему спасибо, так как его идеями оказалась вымощена дорога к успеху. Буквально в первые дни после переворота 28 июня 1762 года Никита Иванович повел себя очень активно. Он словно взял с места в карьер, подавая императрице одно «рассуждение» за другим. Еще раньше, чем на стол Екатерины лег проект создания Совета, будущий вице-канцлер вручил новой государыне записку касательно внешней политики, которая в основных чертах совпадала с ее собственным мнением.
«В чем состоит, независимо от течения в Европе дел, внутренняя отечества нашего польза? — писал Панин. — Если взять одну пределов обширность в уважение, то следует уже из того — 1) что вообще не нужны России новые завоевания, потому что у нас есть множество своих земель, кои в пусте лежат; 2) что по сей самой причине надобен больше покой, дабы новыми учреждениями ободрить земледелие, фабрики и мануфактуры; 3) что всякая война, кроме законной обороны… предосудительна; 4) что для сохранения себя от неприятельских нашествий надобно иметь верных и надежных союзников, кои бы в состоянии нашем собственную находили пользу… 5) что к приобретению и удержанию союзников не меньше и им в случае надобности помогать… 6) для сохранения приобретенной в Европе знатности (которая иногда больше оружия служить может) в генеральных делах… участие… принимать должно, стараясь наипаче, чтобы оное не зависело ни от кого более»[1052].
Независимость внешней политики России от иностранного влияния — вот пункт, объединявший Панина с Екатериной. На обоих повлиял опыт Семилетней войны, когда сильной, но неумелой державой вертели то из Версаля, то из Берлина. Составляя инструкцию для князя Барятинского, направлявшегося в 1773 году послом во Францию, Никита Иванович возвращался к тем дням. «Руководство общими делами разделяется главными державами по мере умения каждой себе его присвоить, — с долей цинизма писал он. — До царствования Великой Екатерины Россия при всех своих успехах в прусской войне играла только второстепенную роль, выступая везде вслед за своими союзниками. При вступлении Ея величества на престол в Европе были две стороны: в первой находились Франция и Австрия… на другой стороне Англия и король прусский… с последним же сделался вдруг из неприятеля теснейшим союзником император Петр III; следовательно, и тут Россия, переменив политическую систему, осталась все же в значении державы, от посторонних интересов зависимой… Мудрость и твердость Ея императорского величества превозмогли, однако, скоро эту трудность, и свет увидел вдруг с удивлением, что здешний двор начал играть в общих делах роль, равную роли главных держав, а на севере — первенствующую»[1053].
Эта «в общих делах роль» не могла устроить прежних хозяев положения, поскольку им приходилось потесниться, чтобы дать Петербургу место на политическом Олимпе. Соответственно, появились рассуждения о том, что Россия самим фактом своего существования нарушает равновесие в Европе. Новый глава тайной дипломатии Людовика XV граф де Брольи писал королю: «Что касается России, то мы причисляем ее к рангу европейских держав только затем, чтобы исключить ее из этого разряда, отказывая ей даже в том, чтобы помыслить об участии в европейских делах… Нужно заставить ее погрузиться в глубокий летаргический сон, и если иной раз и выводить ее из этого состояния, то лишь путем конвульсий, например, внутренних волнений, заблаговременно подготовленных»[1054]. Король полностью разделял подход де Брольи, его приближенные тоже. «Эта государыня — наш заклятый враг», — писал о Екатерине министр иностранных дел герцог Этьен Франсуа Шуазель в Вену своему коллеге канцлеру Венцелю Антону Кауницу.
Попытка Екатерины выступить посредницей при заключении мира после Семилетней войны не была и не могла быть воспринята всерьез. Держава обанкротилась в результате разрыва Петром III союзнических связей, а новая императрица еще слишком непрочно сидела на престоле. Игнорирование прежними «друзьями» Австрией и Францией мирных инициатив России способствовало сближению Петербурга и Берлина. Последние сделались на время товарищами по несчастью и постарались извлечь максимум пользы из создавшегося положения.
В октябре 1763 года Екатерина подписала указ о назначении Панина «первоприсутствующим» в Коллегии иностранных дел, то есть фактическим главой этого учреждения вместо отправившегося в заграничное путешествие М. И. Воронцова. Теснейшая связь последнего с Францией сделала его непригодным для реализации новой политики: канцлеру просто не доверяли.
Уже в 1764 году Панин использовал проект русского посла в Дании Н. А. Корфа об основах русско-датского альянса против Швеции для создания своего, более масштабного документа. Творчески переработав предложения Корфа, Никита Иванович внес в альянс еще одного союзника — Пруссию и еще одну контролируемую сторону — Польшу. Затем он выступил перед императрицей с концепцией «Северного аккорда» — союза России, Пруссии и Дании как держав «активных», призванных контролировать Северную и Центральную Европу, подчиняя своей воле державы «пассивные», в частности Польшу и Швецию[1055]. В апреле 1764 года был заключен союз Петербурга и Берлина, через два года аналогичный договор подписала Дания, а в 1767 году — Польша. Русский двор под водительством Панина искал сближения и с Лондоном, рассчитывая включить его в систему «Северного аккорда», но здесь Никиту Ивановича ждала неудача. Англию вполне устраивал торговый альянс, но к политическому она относилась с большим предубеждением, поскольку в предыдущее царствование и так потратила в России много денег на субсидии. Теперь, обжегшись на молоке, британцы дули на воду, и надо признать, у них были основания.
Однако и сам по себе союз с Пруссией в 60-х годах XVIII века дал Петербургу больше, чем ожидалось. Его секретные пункты предусматривали денежные субсидии России от Пруссии в случае войны с Турцией, единство действий в Швеции и недопущение изменений в конституции Польши. Сохранение «счастливой анархии», как выражалась Екатерина, гарантировало слабость Речи Посполитой и ее безопасность для соседей. «Мы потеряем треть своих сил и выгод, если Польша не будет в нашей зависимости»[1056], — писал Панин.
Начальный план императрицы и ее вице-канцлера состоял в том, чтобы подобно Курляндии, где престол занимал послушный России герцог, посадить в Польше «своего» суверена. План этот удался благодаря присутствию русских штыков. Екатерина даже поздравила Панина «с королем, которого мы с вами делали»[1057]. Фридрих II благосклонно отнесся к кандидатуре Станислава Понятовского, а затем подтолкнул союзницу к желанному для обоих разделу. Идея была не нова. За предшествовавшее столетие соседними державами выдвигалось пять проектов раздела Польши между Россией, Пруссией и Саксонией. Еще в октябре 1763 года президент Военной коллегии З. Г. Чернышев внес на рассмотрение императрицы план «округления» границ по реке Двине, согласно которому, воспользовавшись междуцарствием, следовало получить польскую Лифляндию, а также воеводства Полоцкое, Витебское и Мстиславское. Однако в тот момент Екатерина еще не готова была к решительным действиям.
После начала первой Русско-турецкой войны Фридрих II настойчиво повторял предложения о разделе Польши. Екатерина и Панин ловко уходили от прямого ответа, все больше увязая в польских делах с диссидентами и конфедератами. Вольтер на всю Европу прославлял действия своей покровительницы, рассматривая Польшу как оплот католической реакции. Удар по Варшаве был для него ударом по Риму. «Северная Семирамида направляет 50 тысяч человек в Польшу, чтобы утвердить там терпимость и свободу совести, — писал он в 1768 году друзьям в Париж. — …Вот первый случай, когда знамя войны разворачивается только для того, чтобы достичь мира и сделать людей счастливыми»[1058].
Австрия, чувствуя, что ее вот-вот обойдут при дележе земель, в 1771 году заключила союз с Турцией. На деле она не собиралась воевать ни с Петербургом, ни с Берлином, ее демарш был лишь способом попасть в число пайщиков. Но Вена намеревалась воспрепятствовать подписанию выгодного для России мира с Портой и приращению территории за счет Крыма. Чтобы развязать уже туго затянувшийся узел конфликта в Восточной Европе, Польшу принесли в жертву.
На карикатуре, посвященной первому разделу Польши, изображены четыре монарха. Екатерина II и Фридрих II держат карту, как бы беседуя и указывая на куски, которые им нравятся. А Мария Терезия и ее сын Иосиф II, стыдливо отвернувшись от соучастников, тоже тычут пальцами в западные районы Речи Посполитой. Мария Терезия так темпераментно отстаивала права польских католиков, что заслужила у нашей героини презрительное прозвище «Святой Терезии». Тем не менее именно Австрия начала раздел. Когда А. В. Суворов взял штурмом Краковский замок — последний оплот конфедератов, Вена ввела войска в Галицию. Фридрих II советовал давним противникам: «Велите посмотреть в ваших архивах, не найдутся ли там кое-какие притязания на то или другое польское воеводство… Нужно воспользоваться случаем: я возьму свою долю, Россия свою»[1059]. Договор был заключен 5 августа 1772 года. Австрия удержала те земли, на которые вошла. Пруссия получила Померанию, Россия — восточную часть Белоруссии до Минска и часть Ливонии. Кауниц назвал действия русского кабинета «образцом политической мудрости».
Сколько бы ни возмущалась Франция, у Екатерины были защитники с блестящим пером. Вольтер предрекал августейшей корреспондентке по поводу раздела: «В числе ваших верноподданных находиться будет и папский в Польше нунций, который с такой святостью взбесил турков против терпимости иноверия… Ваше величество сделаете ему тогда с кротостью хорошее наставление и опишите, сколь гнусно и ужасно возбуждать гражданскую войну, чтоб лишить разномыслящих отечественных прав… Сии страшные и ужасные дела подадут случай к начертанию на медалях Ваших следующей надписи: „Победительница Оттоманской империи и Миротворица Польши“»[1060].
Однако среди французских памфлетистов были и такие, кто увидел в разделе первый шаг русской экспансии: «Они позавтракали в Варшаве, но где будут обедать?» Этот вопрос интересовал не только европейские кабинеты, но и Стамбул. Там, узнав о судьбе Польши, решили, что дворы-участники имеют тайный договор и в отношении Турции.
«Любезный мой питомец»
Эта страница царствования Екатерины больше связана с именем ее фактического соправителя Потемкина. С середины 70-х годов Григорий Александрович стал ближайшим сотрудником императрицы во всех вопросах, касавшихся внешней политики. Екатерина называла его своим «учеником» и «питомцем», ему была предоставлена реализация самых смелых планов русского правительства. Разработанные им проекты «О Крыме», «О Польше», «О Швеции» легли в основу русской внешней политики второй половины екатерининского царствования.
Роман Потемкина с императрицей продлился около двух лет — с 1774 по 1776 год. И вина за охлаждение во многом лежала на самом Григории Александровиче. Его политическое положение было исключительно трудным. Придворные партии видели в нем преходящую фигуру, вся сила которой основывалась на переменчивой сердечной привязанности государыни. Было непонятно, почему Потемкин получил от Екатерины так много власти по сравнению с прежними фаворитами; новому «случайному» вельможе всячески старались напомнить его место. Неудивительно, что Потемкин внутренне терзался, а на людях проявлял надменность и высокомерие. С годами он научился сдерживать себя, но опыт и знание истинной цены придворных связей пришли не сразу.
Екатерина, как могла, сглаживала ситуацию. С ревнивым и вспыльчивым Потемкиным она вела себя очень тонко, понимая, чего стоит его «золотая голова», и до тех пор, пока взаимная страсть связывала их, старалась терпеть его бурные сцены и мелочные придирки. «Я верю, что ты меня любишь, — урезонивала она супруга, — хотя и весьма часто и в разговорах твоих и следа нет любви. Верю для того, что я разборчива и справедлива, людей не сужу и по словам их тогда, когда вижу, что они не следуют здравому рассудку… Хотя ты меня оскорбил и досадил до бесконечности, но ненавидеть тебя никак не могу… Милый друг, душа моя, ты знаешь чувствительность моего сердца»[1061].
Если Орлов не был в полном смысле слова государственным человеком, то кипучая деятельность Потемкина привносила в жизнь Екатерины другую проблему. Новый фаворит работал дни и ночи. Когда императрица, проснувшись в 5–6 часов утра, являлась в покои к возлюбленному, то она с досадой замечала, что тот уже на ногах, а его секретари снуют по коридору с бумагами. Талантливый политик и деятельный сотрудник, Потемкин кипел энергией, быстро учился и норовил все делать сам. Беда была не в том, что порученную работу он исполнял плохо — наоборот, Григорий Александрович блестяще справлялся со сложнейшими проблемами, но, к сожалению, слишком редко спрашивал позволения своей августейшей супруги. «Муж, пророчество мое сбылось, — с горечью писала в одной из записок Екатерина, — неуместное употребление приобретенной Вами поверхности причиняет мне вред, а Вас отдаляет от Ваших желаний, и так прошу для Бога не пользоваться моей к Вам страстью… Хотя бы единожды послушай меня, хотя бы для того, чтоб я сказать могла, что слушаешься»[1062].
В таких условиях ссоры были неизбежны. Два одаренных политических деятеля с трудом уживались вместе, споры из кабинета переходили в спальню. «Дав мне способы царствовать, — писала Екатерина о событиях 1774 года, — отнимаешь силы души моей»[1063]. «Мы ссоримся о власти, а не о любви», — грустно замечала императрица в другом письме.
Как бы сильно Екатерина и Потемкин ни любили друг друга, долго вытерпеть подобное они не могли. В 1776 году придворные группировки, почувствовав угрозу во всевозрастающей власти нового фаворита, ополчились на него общим фронтом. И тогда Екатерина совершила страшный для женщины, но единственно верный для государыни шаг. Все еще любя своего вспыльчивого героя, все еще очень страдая из-за их разлада, она решила пожертвовать им как фаворитом, удалив с поста «случайного» вельможи и тем самым успокоив его недоброжелателей. Зажав собственные чувства в кулак, императрица не посчиталась и с чувствами любимого человека. Потемкин устроил ряд сцен, бросил двор, ускакал в Новгородскую губернию якобы на инспекцию крепостей… Пока он страдал и метался, Екатерина сохраняла внешнее спокойствие, ожидая, что буря стихнет и разум возобладает в голове мужа. Так и произошло. Императрица слишком хорошо знала людей: для Потемкина, как и для нее самой, главным в жизни была работа, и удаление отдела он переживал болезненнее, чем удаление от своей супруги. Поэтому князь вернулся. Екатерина выиграла этот раунд. Она сохранила для себя блестящего сотрудника и ближайшего друга, но… потеряла возлюбленного.
Постепенно Григорий Александрович набрал нужный политический вес, стал главой крупнейшей придворной группировки — так называемой русской партии. Прочность положения самой Екатерины на престоле стала зависеть от его поддержки. Именно с этого момента императрица обрела подобие семьи — того спокойного и надежного места, где она могла расслабиться, быть самой собой, получить помощь, совет, душевную поддержку. С годами Екатерина и Григорий Александрович даже на людях стали держаться как супружеская пара. «Десятилетняя разница в возрасте между ними, — пишет английская исследовательница И. де Мадариага, — значила все меньше по мере того, как оба они старели. К концу жизни Потемкина… он был велик сам по себе… Вероятно, его пребывание рядом с Екатериной в масштабах страны играло стабилизирующую роль. Отчасти он удовлетворял потребность русских в мужской власти»[1064].
Это была семья, где мужа и жену объединяли не любовь, а дружба, не ложе, а кабинет. Императрица оказывала знаки внимания поклонницам светлейшего князя. С другой стороны, каждый новый фаворит Екатерины мог занять свое место только после согласия Потемкина — слишком уж важен был с политической точки зрения пост «случайного» вельможи, чтобы сквозь пальцы смотреть на людей, сменяющихся на нем.
На личных взаимоотношениях Екатерины и Потемкина это отражалось мало: оба стояли слишком высоко над остальными и слишком ценили свой союз, дававший огромные государственные плоды. После смерти Григория Александровича в 1791 году императрица писала о нем барону Гримму: «В нем было… одно редкое качество, отличавшее его от всех других людей: у него была смелость в сердце, смелость в уме, смелость в душе. Благодаря этому, мы всегда понимали друг друга и не обращали внимания на толки тех, кто меньше нас смыслил»[1065].
Встречались, правда, недоразумения. Ведь каждый следующий фаворит, ощущая свою силу, рано или поздно пытался вступить в противоборство с Потемкиным. Тогда Екатерина отказывалась от «случайного», обычно без сожаления и даже с чувством гнева на слишком много возомнившего о себе любовника. В этом смысле характерен эпизод с Иваном Николаевичем Корсаковым, «Пирром, царем Эпирским», как называла его Екатерина, подчеркивая античную красоту фаворита. В 1778 году он был удален с поста временщика. При дворе дело объясняли тем, что Корсаков изменил Екатерине с графиней Прасковьей Александровной Брюс. Однако в личной записке бывшему любовнику императрица дала другую версию событий. Оказывается, очаровательный «Пирр» сблизился с недоброжелателями Потемкина и назвал князя «общим врагом». Этого было достаточно, чтобы самоуверенный мальчик, как ядро из пушки, вылетел из покоев Зимнего дворца и, не оглядываясь, домчался до самой Москвы. «Ответ мой Корсакову, который назвал князя Потемкина общим врагом, — писала императрица. — …Буде бы в обществе справедливость и благодарность… превосходили властолюбие, то бы давно доказано было, что никто вообще друзьям и недругом… не делал более неисчислимое добро. Но как людским страстям нередко упор бывает, того для общим врагом наречен»[1066].
Потемкин именно потому и был ценен для Екатерины, что умел давать «упор», то есть отпор, «людским страстям», в частности «властолюбию», кипевшему вокруг трона. Любовника выставили из дома за попытку конфронтации с мужем. Этот урок должны были усвоить и другие кандидаты на пост фаворита.
Долгие годы никто из цепи «случайных» глубоко не затрагивал сердце Екатерины. Императрица была уже немолода и, видимо, решила, что с нее довольно бурных романов. О том, как она теперь воспринимала своих возлюбленных, свидетельствовала ее переписка 1776–1777 годов с Петром Васильевичем Завадовским. «Я повадила себя быть прилежной к делам, — говорила она, — терять время как можно менее, но как необходимо надобно для жизни и здоровья время отдохновения, то сии часы тебе посвящены, а прочее время не мне принадлежит, но Империи»[1067]. На слезы и жалобы фаворита, что он давно ее не видит, Екатерина отвечала очень характерным пассажем: «Царь царствовать умеет. А когда он целый день, кроме скуки [ничего] не имел, тогда он скучен. Наипаче же скучен, когда милая рожа глупо смотрит, и царь вместо веселья имеет прибавленье скуки и досады»[1068].
Итак, «царь» хочет отдыха, и именно для отдыха существуют «милые рожи». Все остальное — работу, споры, политическое партнерство, интересные беседы, духовную близость — может дать Потемкин.
Граф Готландский
В мае 1777 года Екатерина получила известие о том, что шведский король Густав III едет к ней в гости. Подобного сюрприза никто не ожидал, поскольку приглашения Густаву русский двор не делал. Тем не менее северный сосед посчитал себя вправе нарушить дипломатический этикет и явиться в Петербург запросто.
Взаимоотношения России и Швеции вовсе не располагали к подобному панибратству. Густав III был союзником Турции, и его поведение в годы минувшей войны нельзя было назвать дружеским. Агрессивные выпады молодого монарха оставили неприятный след в душе Екатерины. Еще в 1775 году шведский король заверял соседку в письме: «Я люблю мир и не начну войны. Швеция нуждается в спокойствии». Одновременно он составил записку о неизбежности разрыва между обеими державами. «Все клонится к войне в настоящем или будущем году, — говорилось в этом документе, — чтобы окончить по возможности скорее такую войну, я намерен всеми силами напасть на Петербург и принудить таким образом императрицу к заключению мира»[1069]. Этот план Густав III попытался исполнить тринадцатью годами позднее, в 1787 году, однако напряжение в отношениях между Россией и Швецией явно сказывалось уже в 70-е годы.
Официальным поводом для встречи стало желание шведского короля сгладить неприятное впечатление от государственного переворота 1772 года, в результате которого Густав III отказался от старой конституции и стал абсолютным монархом. Усиление Швеции, последовавшее за этим событием, не могло быть приятно России, так же как и широкие экспансионистские планы молодого монарха. Согласно старой конституции 1720 года, в стране существовала партийная система. В риксдаге боролись за власть две группировки: так называемых «шляп» и «колпаков». Первые стояли за союз с Францией, вторые — с Англией и Россией. В бытность кронпринцем Густав благоволил «шляпам», позднее Екатерина даже назвала его «француз с ног до головы». Именно активное дипломатическое содействие Франции и ее субсидии помогли Густаву восстановить абсолютную монархию. Поскольку слабость Швеции после Северной войны рассматривалась ее соседями как гарантия собственной безопасности, то незадолго до переворота, почувствовав настроения в Стокгольме, Россия и Дания заключили договор, по которому изменение конституции рассматривалось как агрессия и должно было вызвать интервенцию союзников с целью восстановления прежнего строя.
Однако Густав совершил переворот в разгар войны России с Турцией, и Екатерина не могла осуществить операцию против северного соседа, намеченную на весну 1773 года. С наступлением мира вопрос повис в воздухе. Руки России по-прежнему были связаны на юге татарскими делами, и Петербург не хотел серьезного конфликта на Балтике. А Швеция, со своей стороны, несколько отошла от Франции после смерти Людовика XV в 1774 году. Новый французский монарх Людовик XVI не был щедр на субсидии[1070].
В этих условиях неожиданный визит Густава оказался с политической точки зрения как нельзя кстати. Он позволял обеим странам сохранить лицо: сделать вид, будто конфликт из-за переворота улажен, и не тратиться на военные приготовления. Придать внешнюю благопристойность экстравагантной выходке шведского короля мог тот факт, что они с Екатериной состояли в родстве. Поэтому на дипломатическом уровне встреча трактовалась как частный приезд кузена. Незадолго до прибытия Густава III в Петербург Екатерина писала Потемкину о госте: «Хочет во всем быть на ровном поведении и ноге, как император (Иосиф II. — О. Е.) ныне во Франции, всем отдать визиту, везде бегать и ездить, всем уступить месту… и никаких почестей не желает принимать. Будет же он под именем графа Готландского и просит, чтоб величеством его не называли»[1071].
Ранним утром 5 июня яхта шведского монарха бросила якорь в Ораниенбауме. Густав III в сопровождении шведского посланника барона Нолькена отправился в посольский дом, а затем нанес визит жившему неподалеку Панину[1072]. К семи часам вечера «графа Готландского» ожидали в Царском Селе. Густав — натура артистическая — верил в силу своего обаяния и попытался очаровать Екатерину. Он даже привез копию своего портрета кисти Александра Рослина и подарил его «всем петербургским дамам». Конечно же императрица сделала вид, что гость добился успеха. Однако после его отъезда передала картину в Смольный монастырь[1073]. Видимо, ей все-таки не хотелось видеть у себя во дворце лицо «братца Гу», как она за глаза называла короля.
А вот сам Густав, кажется, был готов поверить в искренность и теплоту приема. Из России он писал брату Карлу: «Императрица выказывает мне все возможное внимание, она необычайно обходительна и вежлива — ее просто не знают в Швеции. Все мои предосторожности при отъезде кажутся мне излишними, с тех пор как я узнал ее манеры и склад ума». «У нас с императрицей установились весьма дружеские отношения, — продолжал король в следующем письме, — и она по-прежнему относится ко мне со всей сердечностью и радушием, чем доводит до белого каления министра моего дорогого дяди (Фридриха II. — О. Е.)… У меня действительно есть причины не жалеть об этой поездке, которая запомнится мне на всю оставшуюся жизнь»[1074].
Личная встреча монархов разрядила русско-шведские отношения. После возвращения Густава из Петербурга в Стокгольме заметно упало влияние Франции. В 1780 году Густав подписал предложенное Екатериной соглашение о вооруженном нейтралитете, и политические контакты стали еще более тесными. До поры до времени обе стороны были довольны этим.
Встреча в Могилеве
Однако Россия нуждалась не только в поддержании покоя на севере, но и в приобретении союзника на юге. Новые политические идеи, которые выдвигал Потемкин, позволяли разрешить наболевшие проблемы в татарско-турецких отношениях. Для того чтобы успешно справиться с ними, предстояло переориентировать внешнюю политику России на союз с Австрией.
Между тем уклонение «на восток» — такое естественное, с точки зрения Екатерины, — не вдохновляло Панина. Он вынашивал идеи господства Петербурга на северо-западе, а столкновение с Турцией, обладание Крымом представлялись ему недопустимым распылением сил. Двигаясь в данном направлении, Россия неизбежно покинула бы своего «естественного союзника» Пруссию и сблизилась бы с Веной. Что, на взгляд вице-канцлера, было ошибкой.
Он попытался воздействовать на императрицу через наследника. В 1774 году Павел, как уже упоминалось, подал августейшей матери пространную записку «Рассуждение о государстве вообще, относительно числа войск, потребных для защиты оного, и касательно обороны всех пределов». В ней через призму чисто военных вопросов цесаревич старался показать несостоятельность внешнеполитического курса России: первой Русско-турецкой войны и попыток решить вопрос отношений с Турцией и Крымом силовым путем[1075]. Великий князь, как девять лет назад Панин, говорил о близости интересов Петербурга и Берлина, а от себя добавлял, что необходимо жестко регламентировать жизнь страны на прусский манер и перестроить войска по образцу «лучшей армии мира». К составлению проекта привлекались секретари Панина — Д. И. Фонвизин и П. И. Бакунин, то есть те лица, которые вместе с покровителем трудились над конституционным актом, долженствовавшим ознаменовать вступление Павла на престол[1076]. Можно сказать, что рукой наследника во внешнеполитической части проекта водил Панин. Однако если в международных вопросах мысли учителя и ученика совпадали, то внутренняя политика государства виделась им по-разному. Даже за два дня до своей смерти в марте 1783 года Никита Иванович продолжал убеждать будущего императора установить после восшествия на престол конституционную монархию[1077]. Умение великого князя не сказать ни «да», ни «нет» порождало у сторонников Павла много иллюзий на счет будущего правления. Но уже наиболее ранний из его проектов выдержан в гораздо более самовластном духе, чем «Учреждения о губерниях» Екатерины II.
«Рассуждение…», а также написанное примерно тогда же «Мнение о государственном казенном правлении и производстве дел по свойству их рассмотрения и распоряжения его зависящих» содержат предложение отказаться от выборности дворянских судей, отменить генерал-губернаторов, как лиц, мешающих осуществлению принципа единоначалия. Сам факт подачи «Рассуждения…» свидетельствовал об уверенности сторонников партии наследника в своих силах. И они отчаянно сопротивлялись так называемой «новой восточной системе», предложенной Потемкиным. Но Григорий Александрович сумел настоять на своем.
На протяжении полутора десятилетий, прошедших после Семилетней войны, Петербург и Вена были противниками на международной арене. Однако у великих держав нет постоянных союзников, а есть постоянные интересы. Интересы же подталкивали прежних врагов друг к другу, поскольку и Россия, и Австрия желали присоединить к себе ряд турецких земель. Именно на это обратил внимание императрицы Потемкин.
Момент для сближения был выбран удачно. Воспользовавшись тем, что Англия и Франция погрузились в пучину колониальной войны, Фридрих II в июле 1778 года напал на Австрию. Боевые действия велись вяло, без особого успеха для Пруссии (из-за мелочности событий острословы даже прозвали их «картофельной войной»), и в конце концов обе стороны согласились на посредничество Франции и России в разрешении конфликта. В марте 1779 года в Тешене начались переговоры, а 13 мая был подписан договор, восстанавливавший мир на немецких землях. Австрия возвращала себе небольшую часть Баварии, а взамен соглашалась поддержать претензии Пруссии на два соседних маркграфства, когда там пресечется правящая династия[1078]. Удачные для держав-посредников переговоры в Тешене позволили сгладить русско-австрийские противоречия и дали Петербургу и Вене шанс на сближение.
Зимой 1780 года венский и петербургский кабинеты известили о намерении своих монархов встретиться будущей весной в Могилеве. «Император, шутя, намекнул мне о своем желании повидаться… с русской императрицей, — писала Мария Терезия в Париж австрийскому послу Мерси д’Аржанто, — можете себе представить, насколько неприятен был мне подобный проект… по тому отвращению и ужасу, которые мне внушают подобные, как у русской императрицы, характеры»[1079]. Но не одни «отвращение и ужас» перед Екатериной заставляли престарелую императрицу-королеву беспокоиться за сына. Его визит в Россию мог означать серьезную переориентацию внешней политики Австрии, следовавшей в профранцузском русле[1080].
Не менее негативной была реакция в петербургских политических кругах. Еще недавно английский посол сэр Джеймс Гаррис сообщал в Лондон о безусловном перевесе влияния Фридриха II в России над «инфлюенцией» любого другого двора[1081]. Теперь его тон изменился. «Прусская партия крайне встревожена тем, что пребывание императора в России будет столь продолжительным»[1082], — писал он. Панин позволил себе в резких выражениях осудить «страсть» Иосифа II к путешествиям[1083].
За сближение с Австрией выступали Г. А. Потемкин и статс-секретарь А. А. Безбородко, приобретавший, благодаря своим недюжинным талантам, все больше влияния. Идея свидания с Екатериной принадлежала Иосифу II. 4 февраля императрица ответила, что намерена весной отправиться в Белоруссию и прибудет в Могилев 27 мая[1084]. 9 мая Екатерина покинула Царское Село. С дороги она часто писала Потемкину, который заранее отбыл навстречу Иосифу II и уже начал предварительные переговоры[1085]. «Ласкательные речи графа Фалькенштейна (Иосиф II путешествовал инкогнито. — О. Е.) приписываю я более желанию его сделаться приятным, нежели иной причине; Россия велика сама по себе, а я что ни делаю, подобно капле, падающей в море»[1086], — писала Екатерина 22 мая.
Смысл «ласкательных речей» Иосифа II можно восстановить по его корреспонденции. С дороги он писал брату Леопольду Тосканскому: «Эта страна с начала века изменилась совершенно, была, так сказать создана заново». Австрийский император как бы упражнялся в будущих любезностях. Одновременно в письмах матери, подыгрывая антироссийским настроениям Марии Терезии, Иосиф II особо подчеркивает именно слабые стороны в хозяйственном развитии соседней империи: низкую плотность населения, плохие почвы. «Всё почти леса и болота… население ничтожно»[1087], — говорил он о присоединенных по разделу Польши землях Белоруссии и Литвы.
В свою очередь, Екатерина старалась создать у домашних и европейских корреспондентов впечатление, что она взволнована и даже смущена предстоящим свиданием. Подобные известия, дойдя через третьи руки до августейшего гостя, должны были польстить ему. Из Полоцка императрица писала Павлу: «Вы угадали, что мне будет очень жарко; я в поту от одной только мысли о свидании»[1088]. «Боже мой, не лучше ли было бы, если б эти господа сидели дома, не заставляя других людей потеть страшно»[1089], — продолжала она те же рассуждения в письме барону Гримму.
Иосиф II приехал в Могилев одним днем раньше императрицы. 24 мая состоялось их свидание. После обеда в присутствии множества гостей беседа двух монархов продолжалась наедине. Была выражена общая неприязнь к прусскому королю. Далее Екатерина как бы в шутку осведомилась, не собирается ли Иосиф II занять папскую область и завладеть Римом, на это император, тоже шутя, отвечал, что ей гораздо легче захватить «свой Рим», то есть Константинополь, Екатерина заверила собеседника в желании сохранить мир[1090]. Пробные камни были брошены. Между Потемкиным и австрийским посланником в России графом Людвигом Кобенцелем начались переговоры о заключении австро-русского оборонительного союза[1091].
Переговоры продолжались в Царском Селе. «Однажды она мне сказала, — писал Иосиф матери о беседе с Екатериной, — что если бы даже завладела Константинополем, то не оставила бы за собою этого города и распорядилась бы им иначе. Все это меня приводит к мысли, что она мечтает о разделе империи и хочет дать внуку своему, Константину, империю востока, разумеется, после завоевания ее»[1092].
Вскоре стороны согласились гарантировать друг другу не только существующие владения, но и те завоевания, которые каждая из них может сделать в дальнейшем. 8 июля Иосиф II покинул Петербург. «Граф Фалькенштейн нанес ужасный удар влиянию прусского короля, такой удар, что, как я полагаю, это влияние никогда более не возобновится»[1093], — доносил по случаю его отъезда английский посол Джеймс Гаррис.
«Империя Константинова»
18 мая 1781 года состоялся обмен письмами между Иосифом II и Екатериной о заключении союзного договора[1094]. В переписке оба монарха не раз касались вопроса о возможном разделе Турции. Императрица жаловалась на постоянные беспорядки в Крыму, подстрекаемые из Константинополя, а ее австрийский корреспондент изъявил неизменную готовность содействовать прекращению этих смут, прося Екатерину точнее определить свои желания[1095]. Наконец, 10 сентября 1782 года из Петербурга в Вену было направлено пространное письмо императрицы, в котором она говорила о вероятности разрыва с Турцией, о необходимости заранее определить план похода и обсудить приобретения сторон в случае успеха.
Россия хотела получить город Очаков с областью между Бугом и Днестром, а также один или два острова в Архипелаге Средиземного моря для безопасности и удобства торговли. Австрии предоставлялась возможность присоединить несколько провинций на Дунае и ряд островов в Средиземном море. «Я думаю, что при тесном союзе между нашими государствами почти все можно осуществить»[1096], — заканчивала свое послание Екатерина.
Потемкин составил для Екатерины особую записку «О Крыме», в которой обосновывалась необходимость присоединения полуострова: «Если же не захватить ныне, то будет время, когда все то, что ныне получили даром, станем доставать дорогою ценою»[1097]. Присоединение Крыма, осуществленное Потемкиным в следующем, 1783 году, многими современниками и потомками воспринималось как первая ступень знаменитого «Греческого проекта».
Под «Греческим проектом» принято понимать планы по разделу турецких земель, совместно разрабатывавшиеся Россией и Австрией в начале 80-х годов XVIII века. Целью этих планов было: во-первых, полное изгнание турок из Европы; во-вторых, восстановление Византийской империи, корона которой предназначалась внуку Екатерины II великому князю Константину Павловичу; в-третьих, образование из Молдавии и Валахии буферного государства Дакии, на границах России, Австрии и Греции; в-четвертых, передача западной части Балканского полуострова Австрии[1098]. Само понятие «Греческий проект» почерпнуто историками из донесений английского посла Джеймса Гарриса. В 1779 году он доносил своему двору, что Потемкин буквально «заразил» императрицу идеями об «учреждении новой Византийской империи»[1099]. Это замечание Гарриса дало основание считать именно Потемкина создателем «Греческого проекта»[1100]. Однако вопрос об авторстве плана вызывает у историков серьезные разногласия. Некоторые склоняются к тому, что создателем планов по разделу турецких земель и восстановлению независимого греческого государства следует считать А. А. Безбородко. Его перу принадлежит так называемый «Мемориал по делам политическим», составленный для Екатерины в 1780 году и уже содержавший идеи будущего «Греческого проекта»[1101].
Изучение неосуществленного «Греческого проекта» и успешно реализованной записки «О Крыме» показывает, что два плана были выдвинуты разными политическими партиями. Первый принадлежал проавстрийской группировке А. Р. Воронцова, А. А. Безбородко и П. В. Завадовского, сложившейся в ходе заключения русско-австрийского союза. Второй был всецело детищем Потемкина[1102]. Проекты ставили перед Россией разные цели. «Греческий» ориентировал страну на решение грандиозной задачи полного изгнания турок из Европы силами двух союзных государств с возможным привлечением Франции и Англии и раздела владений Оттоманской Порты. Записка «О Крыме» предусматривала присоединение полуострова и уничтожение ханства силами одной России. Именно этот проект и был впоследствии успешно реализован.
Однако сам по себе выход империи к берегам Черного моря и обладание Крымом неизбежно ставили перед ней те вопросы, ответы на которые и содержались в «Греческом проекте». В переписке императрицы и светлейшего князя проблема о прохождении черноморских проливов поднималась не раз. К возможности ее решения через воссоздание «империи Константиновой» оба корреспондента относились серьезно. Это был перспективный план, рассчитанный на долгий срок, трудную дипломатическую работу, возможные военные столкновения, но вполне осуществимый при благоприятных внешнеполитических условиях, например, при создании общей европейской коалиции для изгнания турок из Европы.
«Дружба этой страны похожа на ее климат»
До начала 80-х годов Потемкину пришлось делить влияние на внешнюю политику России с группировкой Н. И. Панина, которая была еще далека от потери могущества. Екатерина не могла не считаться с ней, и 1780 год стал временем своеобразного равновесия сил. Чтобы проводить свою линию, от каждой из сторон требовались уступки. Со стороны Потемкина это было согласие на Декларацию о вооруженном нейтралитете.
Необходимость этой меры отстаивал Панин. С началом войны Англии в колониях торговля на морях стала делом крайне опасным. Суда нейтральных держав, шедшие с грузами к противникам Великобритании, например, во Францию, задерживались и конфисковывались британской стороной как имущество врага. В том числе страдали и русские корабли. Поэтому в желании России вооруженной рукой защитить свои суда и товары не было ничего удивительного.
Впервые Панин выразил протест против британской практики задержания кораблей нейтральных стран в декабре 1778 года. Тогда же новый британский посланник сэр Джеймс Гаррис настойчиво добивался у императрицы заключения между Россией и Англией политического союза. Англия обещала России субсидию на случай Русско-турецкой войны, за это русский флот вступал в военные действия против Франции[1103].
В начавшейся в 1775 году войне американских колоний за независимость Великобритания столкнулась не только с восставшими подданными на заокеанских территориях, но и со своими европейскими противниками, и в первую очередь с французами. В 1778 году Париж выступил на стороне американцев, за ним последовал Мадрид. Англичанам пришлось туго. В этих условиях союз с Россией казался Англии выгодным. В минувшую Русско-турецкую войну Британия способствовала проходу русской эскадры из Балтики в Средиземное море, предоставив порты базирования для починки кораблей и пополнения их продовольствием. Король Георг III ожидал от Екатерины взаимных услуг[1104]. Однако он требовал слишком многого, помощь Англии была мирного, хозяйственно-дипломатического порядка. А от России желали военного вмешательства, вплоть до посылки в Америку русского экспедиционного корпуса.
Екатерина повела себя очень осторожно. Она переслала Потемкину примерный проект ответа английскому королю: «По благополучном окончании мирного дела между всеми воюющими державами, предложения всякие от дружеской таковой державы, как Великобритания, которая всегда дружественнейшие трактаты с моею империею имела, я готова слушать; теперь же чистосердечное мое поведение со всеми державами не дозволяет мне ни с какою воюющею заключить трактат настоящий, с опасением тем самым продлить пролитие невинной крови»[1105].
Фактический отказ от союза произвел на нового посланника самое неблагоприятное впечатление. «Дружба этой страны похожа на ее климат, — доносил он в Лондон, — ясное, яркое небо, холодная, морозная атмосфера, одни слова без дела, пустые уверения, уклончивые ответы»[1106]. Екатерина всячески избегала каких бы то ни было обещаний, даже личных встреч с послом. Ей нужны были свободные руки, чтобы действовать на юге, в Крымском ханстве, присоединение которого уже исподволь готовилось.
В феврале 1779 года Екатерина заявила, что намерена снарядить небольшую эскадру для охраны русских грузов. А в самом начале 1780 года русский корабль был задержан испанцами. Этот инцидент, внешне не имевший отношения к Англии, послужил поводом для провозглашения Декларации, крайне невыгодной для Британии. Терпение Екатерины иссякло. 28 февраля она предложила нейтральным странам создать Лигу для вооруженной защиты своих судов. К России присоединились Голландия, Дания и Швеция. Не желая терять вес в русских делах, декларацию немедленно поддержал Фридрих II. В 1781 году в лигу вступила Австрия, в 1782-м — Португалия и в 1783-м — Королевство обеих Сицилий[1107].
Этот документ был важным шагом в развитии международного права. Екатерина выступила в своей излюбленной роли законодательницы. Влияние России на европейские дела заметно расширилось. Но отношения с Англией были безнадежно испорчены.
Утверждение политики вооруженного нейтралитета было последним успехом Панина. Шаги Потемкина по сближению с Австрией показали, что влияние Никиты Ивановича подорвано. Он не играл важной роли в переговорах с Веной, которые вели Потемкин и Безбородко. Перед самым подписанием договора Никита Иванович заявил, что не хочет «пачкать руки» этим документом, и удалился в деревню. Когда в сентябре 1781 года он вернулся, Екатерина приказала ему сдать дела вице-президенту Коллегии иностранных дел Ивану Андреевичу Остерману.
«Приобретение Крыма»
«Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить Вас не может, а только покой доставить, — писал в 1782 году императрице Потемкин. — …С Крымом достанете и господство в Черном море»[1108]. В этих двух строчках коротко выражены основные цели восточного направления русской внешней политики второй половины XVIII столетия: спокойствие границ от набегов крымских и ногайских орд и обладание Черным морем. Стратегически одну задачу невозможно было решить без другой. Нельзя прочно закрепиться в Северном Причерноморье и построить флот, имея под боком враждебное, всегда готовое к нападению ханство. Нельзя уничтожить ханство, получающее по морю помощь из Турции, не построив собственного боеспособного флота. В начале 80-х годов XVIII века обе цели были достигнуты.
Присоединение Крыма — одна из наиболее удачных внешнеполитических акций правительства Екатерины. Этому важному шагу предшествовали долгая подготовка, выжидание удобного международного момента, многочисленные промежуточные ступени на пути вхождения полуострова в состав империи. Например, получение Крымом независимости от Оттоманской Порты, избрание ханом русского ставленника Шагин-Гирея, вывод христиан из Крыма и т. д. За аннексией полуострова последовали широкое освоение его земель, поток переселенцев, строительство крепостей и флота, что собственно и сделало Крым по-настоящему российским.
Кючук-Кайнарджийский договор при безусловной выгоде для России все же не решил проблему безопасности южных границ. Каждая попытка правительства реализовать полученные по договору права еще туже затягивала узел противоречий между Россией и Турцией. От «злой» воли Екатерины и Потемкина уже не зависели процессы, пробужденные в Крыму самим фактом его отделения от Оттоманской Порты. Петербург мог лишь более или менее оперативно реагировать на развивающиеся на полуострове события.
С 1776 года Потемкин вплотную занялся осуществлением разработанной им «новой восточной системы», которая должна была позволить России в полной мере воспользоваться результатами мирного договора. В начале 1777 года петербургский кабинет был взбудоражен известием об убийстве русских промышленников, доставлявших провиант в крепости Керчь и Еникале. Это событие послужило прологом кровавого возмущения сторонников хана Девлет-Гирея, преследовавших цель возвращения Крыма под протекторат Порты. Черные времена переживали христианские общины греков и армян, а также сторонники «русской» партии в Крыму. Ее глава, наследник престола Шагин-Гирей потребовал немедленной вооруженной помощи от Петербурга. В свою очередь, Девлет-Гирей ожидал прибытия турецкого флота. Угроза нового военного столкновения между Россией и Турцией повисла в воздухе.
Только очень быстрые действия могли спасти положение. Князь А. А. Прозоровский со своим корпусом занял Перекоп, а сменивший его А. В. Суворов, присланный в Крым по приказу Потемкина, одним маневром конницы рассеял сторонников Девлет-Гирея. Русские войска встретили в Карасубазаре Шагин-Гирея, который 29 марта был избран бахчисарайским диваном (советом вельмож) на ханский престол. «Курьер от Прозоровского приехал. Хан выбран», — писала Екатерина Потемкину в начале апреля 1777 года. Турецкий флот потерял официальный повод для высадки своих десантов, так как новый хан провозгласил себя союзником России, а русская армия приобрела законные основания для присутствия в Крыму.
Осенью 1777 года положение в Крыму вновь осложнилось. 5 октября взбунтовалась личная гвардия Шагин-Гирея, выступившая против реформ нового хана, направленных на европеизацию страны[1109]. К повстанцам примкнуло множество недовольных. Порта вновь готовилась выслать флот к берегам Крыма, а Россия — ввести на полуостров войска. Возникла угроза очередного столкновения между Константинополем и Петербургом.
С декабря 1777 года в Ахтиярской гавани находился большой отряд турецких кораблей, готовый высадить десанты[1110]. Для русской стороны встал вопрос о заведении собственных верфей на так называемом Днепровском лимане. «Надлежит сделать на Лимане редут, в котором бы уместились адмиралтейские верфи и прочее, по примеру здешнего адмиралтейства, и назвать сие Херсоном, — писала императрица Потемкину, — тамошний Кронштадт естественный есть Очаков» [1111].
Место, избранное светлейшим князем для строительства Херсона, имело ряд преимуществ, связанных с непосредственной близостью каменоломни и возможностью доставлять лес, железо и провиант прямо по Днепру[1112]. Через два года в Херсон уже приходили крупные корабли и отправлялись назад с тяжелыми грузами. Известный баснописец И. И. Хемницер, проезжая в 1782 году в Константинополь, писал 8 июля своему другу архитектору Н. А. Львову: «Ну, братец, Херсон, подлинно, чудо. Представить нельзя, чтоб в три года столько сделать можно было. Представь себе совершенную степь, где ни прутика — не только дому, сыскать можно было. Теперь — крепость, и крепость важная, такая, например, какие из лучших мы в Нидерландах видели. Строение в ней по большей части все сделано из тесаного камня, какой, например, парижский»[1113].
Во время мятежа 1777 года христианские общины греков и армян поддержали русские войска, и теперь при каждом новом возмущении звучали призывы фанатиков вырезать христиан. Поэтому Потемкин решил предпринять крайне сложную операцию — вывезти из Крыма христианские семьи и поселить их в своем наместничестве в Новороссии. Сделать это было нелегко, так как и христиане боялись покидать насиженные места, и хан Шагин-Гирей поначалу не соглашался отпустить иноверцев в «землю обетованную» — ведь налоги с христиан давали большие поступления в казну. Но Потемкин напомнил ему, на чьих штыках держится власть в Крыму, и хану пришлось сдаться[1114].
В мае 1781 года был подписан русско-австрийский союз, позволивший Екатерине заручиться благожелательным нейтралитетом империи Габсбургов на случай решительных действий в восточном вопросе. Это было своевременное событие, потому что новая критическая ситуация в Крыму не заставила себя ждать. Спустя год, в мае 1782-го, турецкая партия избрала ханом брата Шагин-Гирея, Батыр-Гирея, и обратилась к Порте за помощью. Низложенный хан бежал на русском корабле из Кафы в Керчь[1115].
В рескрипте на имя Потемкина Екатерина передавала ему полную власть «сделать все потребные распоряжения, кои были бы достаточны к защищению хана Шагин-Гирея и к приведению нами в повиновение ему татарских народов»[1116]. Ситуация в Крыму и на Тамани складывалась крайне опасная. Кровавые волнения татар на полуострове, далеко не в первый раз подавленные с помощью русского оружия, убедили светлейшего князя в необходимости менять политику России по отношению к ханству. По его мнению, следовало переходить от поддержки русского ставленника к прямому включению Крыма в состав империи. «Я все, всемилостивейшая государыня, напоминаю о делах, как они есть, — писал он. — …Крым положением своим разрывает наши границы. Нужна ли осторожность с турками по Бугу или с стороной Кубанской, в обоих сих случаях и Крым на руках… Положите и теперь, что Крым Ваш, и что нету уже сей бородавки на носу. Вот вдруг положение границ прекрасное. По Бугу турки граничат с нами непосредственно, потому и дело должны иметь с нами прямо сами, а не под именем других. Всякий их шаг тут виден… Мореплавание по Черному морю свободное… Нет державы в Европе, чтобы не поделили между собою Азии, Африки, Америки. Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить Вас не может, а только покой доставить. Удар сильный, да кому? Туркам. Сие Вас еще больше обязывает… Сколько славно приобретение, столько Вам будет стыда и укоризны от потомства, которое при каждых хлопотах так скажет: вот она могла да не хотела или упустила»[1117].
Русская партия среди татарских вельмож, существовавшая на деньги Петербурга, предложила светлейшему князю понудить хана к отречению от престола и организовать со стороны жителей Крыма просьбу о принятии их в русское подданство[1118]. 14 декабря 1782 года императрица вручила Григорию Александровичу секретный рескрипт о необходимости присоединить Крым к России «при первом к тому поводе»[1119].
Начало операции по присоединению Крыма было запланировано на середину весны 1783 года, когда в степи появится подножный корм для лошадей. 8 апреля Екатерина подписала Манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу»[1120]. «Как хан уедет, то крымские дела скоро кончатся, — писал ей Потемкин из Херсона, — я стараюсь, чтоб они сами попросили подданства»[1121]. Пребывание Шагин-Гирея на полуострове ставило его подданных в неудобное положение. Одно дело искать нового сюзерена, когда прежний владыка покинул свой народ, и совсем другое — уходить под руку России, когда хан не выехал еще за пределы собственных владений. Потемкин понимал колебания татарской знати. Он предпочитал терпеливо ждать, пока татары сами не подадут просьбу о вступлении в подданство России, а уж потом вводить войска на полуостров. И не ошибся. Русская партия действовала успешно и вскоре после отречения Шагин-Гирея обратилась к Екатерине с адресом, в котором просила ее присоединить Крым к России[1122].
«Дай Боже, — восклицает Екатерина в письме Потемкину 30 мая, — чтоб татарское или, лучше сказать, крымское дело скоро кончилось… лучше бы турки не успели оному наносить препятствия… а на просьбу татар теперь не смотреть»[1123]. Императрица, как видно из этих строк, считала возможным пренебречь при занятии Крыма формальным волеизъявлением его жителей, которому такое большое значение придавал светлейший князь. Ее беспокоили сроки осуществления операции, так как она опасалась, что Порта может, собрав войска, помешать присоединению ханства.
10 июля из лагеря при Карасубазаре Потемкин сообщил императрице о присяге татарской знати. «Знатные уже присягнули, теперь за ними последуют и все… Со стороны турецкой по сие время ничего не видно. Мне кажется, они в страхе, чтоб мы к ним не пришли, и все их ополчение оборонительное»[1124]. Действительно, вскоре состоялась присяга мусульманского духовенства и простого народа. «Говорено было мне всегда, что духовенство противиться будет, а за ними и чернь, но вышло, что духовные приступили из первых, а за ними и все». Мусульманское духовенство Крыма было настолько раздражено пренебрежением бывшего хана к религиозным традициям, что, получив от Потемкина заверение «соблюдать неприкосновенную целость природной веры татар», не только само согласилось присягнуть, но и склонило к этому основные слои населения[1125].
Потемкин разработал основы переселенческой политики. Главенствующим стал принцип раздельного проживания народов с разной религией и культурой: переселенцы занимали только пустующие земли, создавали новые города и деревни и практически не соприкасались с кочевниками в хозяйственных занятиях. Это предотвращало конфликты между разными, подчас враждебно настроенными друг к другу народами. Христиане селились на побережье, а татары — в основном в центральных степных районах. Такое положение не позволяло татарам в случае удара Турции сразу прийти на помощь единоверной Порте — на берегу размещались базы русской армии и флота.
Еще находясь в лагере у Карасубазара, Потемкин получил письмо Екатерины от 26 июля 1783 года. Императрица сообщила ему, как воспринято в России известие о присоединении Крыма. «Публика здешняя сим происшествием вообще обрадована, цапано — нам никогда не противно, потерять же мы не любим»[1126].
Фридрихсгам
Во время операции по присоединению Крыма беспокойство Екатерины вызывало поведение ее шведского соседа. Густав III отправился в Финляндию, где разбил военные лагеря у русской границы и предложил императрице встретиться с ним в любом удобном месте. Екатерина назначила Фридрихсгам. «Король шведской, взяв у французов денег для демонстрации, делает из шести полков лагерь у Тавастгута, — сообщала она Потемкину, — а в самое то же время нам подтрушивает свидание».
Князь постарался ободрить императрицу и советовал ей действовать твердо: «На шведского короля смотреть не надобно, а сказать его величеству, что Вы собрания лагерные близ Ваших границ в другое время сочли бы забавою, но в обстоятельствах настоящих это пахнет демонстрациею. Объявите ему серьезно, что Вы не оставите употребить всего, что возможно к избавлению себя вперед от таковых забот»[1127].
3 мая 1783 года между Парижем и Стокгольмом был срочно возобновлен трактат 1778 года о субсидиях. Густав III получил право на ежегодную финансовую поддержку в размере 1 миллиона 500 тысяч ливров[1128]. Добившись выплаты этой суммы, шведский король и приступил к строительству лагерей в Финляндии.
При этом у Густава III были и свои планы. Он не собирался становиться во всем послушной игрушкой Парижа. Ему казалось, что две могущественные державы — Россия и Франция — соперничают друг с другом за влияние на Швецию, и в этих условиях у него появился шанс сделать самостоятельный выбор в пользу того союзника, который заплатит больше. Поскольку Россия занята на юге, рассудил король, шведы могут попробовать разделаться со своим старинным врагом Данией. Шведский штаб подготовил план молниеносной войны против соседей, но для начала следовало заручиться гарантией ненападения со стороны Петербурга[1129]. Для этого Густав и звал соседку на новое свидание во Фридрихсгам.
Екатерина согласилась крайне неохотно. В конце июня она отправилась на рандеву, но только для того, чтобы потянуть время и разузнать об истинных намерениях соседа. Ее раздражение против Густава проявилось в ряде колких замечаний. Осматривая шведские войска у Тавастгута, король упал с коня и сломал левую руку[1130]. В письме Потемкину императрица по этому поводу съязвила, что Александр Великий не свалился бы с лошади на виду у своей армии. Гримму она сообщила, что есть прекрасный способ сделать Густава счастливым — предоставить ему место напротив зеркала, дабы он мог постоянно любоваться собственным отражением.
Политические предложения шведского короля Екатерина не приняла всерьез. Они представлялись ей своего рода мистификацией, годной только для того, чтобы посеять раскол между Россией и ее реальными союзниками. А вот сам Густав придавал своим инициативам большое значение. Во Фридрихсгаме он вручил императрице записку на французском языке, которая содержала проект союза между Россией и Швецией. Стороны обязывались никогда не оказывать поддержки противникам друг друга и даже начать войну в случае, если одна из них подвергнется нападению. Ради подписания такого документа Густав был готов даже разорвать союз с Турцией. Но Екатерина посчитала идеи августейшего кузена обманкой, инспирированной Францией. Поэтому она отвечала, что никогда не ведет переговоров с иностранными державами частным образом и направит план Густава на рассмотрение своих министров. Это был вежливый отказ.
Не сумев повлиять на Россию через Швецию, Версаль в 1783 году попытался действовать сам, но тоже потерпел неудачу. 26 июня французский посланник маркиз де Верак зачитал вице-канцлеру графу И. А. Остерману так называемую «Вербальную ноту» своего правительства, в которой Франция выражала недовольство активизацией действий России в Крыму и настаивала на своих «добрых услугах», то есть на посредничестве в урегулировании конфликта с татарами. Документ был переслан Потемкину, и тот 16 июля отправил Безбородко «Политические замечания».
«Французская нота, доказательство их наглости, — писал Потемкин. — …Препятствует ли им Россия удерживать за собой завоевание важнее гораздо Крыма? Они карабкаются все господствовать и вмешиваться в чужие дела, где их не просят… выдают себя быть арбитром наших дел и будто мы от них зависимы»[1131]. После совета с Потемкиным Екатерина санкционировала ответ на ноту. Франции напомнили о захвате ею Корсики в 1768 году и заявили, что намерение России присоединить Крым «никак уже отменено быть не может». Таким образом, дипломатические усилия ни одной из европейских держав воспрепятствовать действиям Петербурга на юге не смогли.
«Водные пузыри»
Осенью 1783 года в Санкт-Петербурге разразился скандал, связанный с «Санкт-Петербургскими ведомостями», которые редактировались в Академии наук. В них за все время путешествия императрицы в Финляндию рядом с именем Екатерины не было упомянуто ни одного имени, за исключением E. Р. Дашковой, недавно вернувшейся из-за границы и назначенной директором академии. Молодой фаворит императрицы А. Д. Ланской потребовал от княгини объяснений. Екатерина Романовна ответила ему весьма заносчиво: «Как ни велика честь обедать с государыней… она меня не удивляет, так как с тех пор как я вышла из младенческих лет, я ею пользовалась… Следовательно, вряд ли я стала бы печатать в газетах о преимуществе… которое мне принадлежит по праву рождения»[1132].
Однако предмет для спора имелся. Отмечая поименно, с кем обедала, гуляла или играла в карты Екатерина, газета давала знать столичным чиновникам и придворным, кто из вельмож находится «в силе», чьи распоряжения отныне являются прямой передачей воли государыни. Не упоминая Ланского, «Ведомости» как бы сообщали своим читателям, что он больше не занимает прежнего положения.
Между тем Екатерина вовсе не собиралась расставаться с мягким и сговорчивым Александром Дмитриевичем. Можно сказать, что и императрице, и ее фактическому соправителю Потемкину повезло с Ланским, который нарочито не вмешивался в государственные дела. Он был на 19 лет моложе Екатерины, однако современники единодушны, отмечая искреннее чувство, которое Ланской питал к государыне. Александр Дмитриевич происходил из-под Смоленска, пользовался покровительством Потемкина, некоторое время был его адъютантом, а в 1779 году стал новым фаворитом. «Ланской молод, хорошо сложен и, говорят, человек очень покладистый, — доносил о нем Гаррис. — Это событие усилило власть Потемкина»[1133]. Прусский посол фон Герц сообщал, что новый фаворит — «добрый малый, приятен, скромен, любит заниматься немецким языком и выслушивать за это похвалы»[1134].
Лишь двое мемуаристов были не расположены к Александру Дмитриевичу. Князь М. М. Щербатов, который бранил Екатерину и окружавших ее людей в принципе за все, писал: «Каждый любовник… каким-нибудь пороком за взятые миллионы одолжил Россию… Ланской жестокосердие поставил быть в чести»[1135]. Впрочем, Щербатов не приводил ни одного примера жестокости Александра Дмитриевича.
Княгиня Дашкова куда говорливее. Кажется, она была единственным человеком при дворе, кто не сошелся с Ланским характером. Как-то княгиня рассуждала о превосходстве итальянских мастеров и «выразила сожаление, что в России нельзя получить бюст Ее величества». В опровержение этих слов императрица решила подарить ей свой бюст работы Ф. И. Шубина. «Увидев это, Ланской воскликнул:
— Но ведь это бюст мой, он мне принадлежит!
Императрица уверяла его, что он ошибается. Во время этого маленького спора он злобно посматривал на меня, — писала Дашкова, — а я бросила на него презрительный взгляд».
Сцепившись с фаворитом из-за «Санкт-Петербургских ведомостей», Екатерина Романовна в праведном гневе произнесла «пророческие слова»: «Лицо, во всех своих поступках движимое только честностью… нередко переживает те снежные или водяные пузыри, которые лопаются на его глазах… Через год, летом, Ланской умер и в буквальном смысле слова лопнул: у него лопнул живот»[1136]. Весьма прискорбный факт, по поводу которого княгиня в «Записках» испытывала почти торжество. Что же произошло?
Со времени начала фавора минуло более четырех лет, а «случай» Ланского и не думал клониться к закату. Однако в 1784 году молодой человек подхватил скарлатину, осложнившуюся грудной жабой, и буквально угас на глазах. В записках его лечащего врача доктора Вейкарта сказано, будто больной истощил свои силы приемом возбуждающих средств, вроде шпанской мушки. Но при дворе говорили, что Вейкарт обижен на Ланского за то, что тот предпочел ему русского врача Соболевского[1137]. К несчастью, услуги последнего не помогли. 25 июня Александр Дмитриевич скончался.
Императрица была потрясена случившимся. Она-то думала, что, наконец, нашла тихую гавань, что подле нее человек, рядом с которым она сможет спокойно стареть. Ей исполнилось пятьдесят пять — не время для новых привязанностей. Горе Екатерины было так велико, что она на два с половиной месяца затворилась в своих покоях и почти никого не принимала, кроме сестры покойного фаворита, которая была очень похожа на него лицом. Из своего добровольного заточения императрица писала Гримму: «Я, наслаждавшаяся таким большим личным счастьем, теперь лишилась его. Утопаю в слезах… Вот уже три месяца, как я не могу утешиться после моей невознаградимой утраты. Единственная перемена к лучшему состоит в том, что я начинаю привыкать к человеческим лицам, но сердце так же истекает кровью, как и в первую минуту»[1138].
Был лишь один способ привести Екатерину в чувства и вернуть к работе. 29 июня А. А. Безбородко отправил Потемкину на юг письмо о состоянии государыни: «Нужнее всего стараться об истреблении печали и всякого душевного беспокойства… К сему одно нам известное есть средство, скорейший приезд Вашей светлости, прежде которого не можем мы быть спокойны. Государыня меня спрашивала, уведомил ли я Вас о всем прошедшем, и всякий раз наведывается, сколь скоро ожидать Вас можно»[1139]. После возвращения князя в Северную столицу Екатерина постепенно пришла в себя. Но лишь 8 сентября она впервые появилась «на публике». Двор и дипломатический корпус увидели ее на торжественной обедне.
«Я не могу пожаловаться на отсутствие вокруг себя людей, преданность и заботы которых не способны были бы развлечь меня и придать мне новые силы», — писала Екатерина Гримму. Лишь через десять месяцев после смерти Ланского императрица, повинуясь своей всегдашней склонности «ни на час быть охотно без любви», взяла нового фаворита, Александра Петровича Ермолова.
«Воля короля»
2 февраля 1784 года Потемкин получил чин фельдмаршала, стал президентом Военной коллегии и генерал-губернатором присоединенных земель[1140]. Он предлагал широкую программу развития новых территорий, включавшую строительство городов, портов и верфей, заведение в Крыму пашенного земледелия, виноградарства, шелководства, элитного овцеводства, а также заселение пустынных территорий многочисленными колонистами[1141].
Осуществление этих замыслов требовало серьезных финансовых вложений. Даже среди сторонников продвижения России к Черному морю мало кто верил, что «бесплодные» крымские земли способны приносить казне доход. Противники же светлейшего князя называли деньги, потраченные на освоение земель, пущенными на ветер[1142]. Эту мысль проводила проавстрийская группировка А. Р. Воронцова и П. В. Завадовского, повторявшая скептические отзывы Иосифа II о нецелесообразности хозяйственного развития Крыма[1143].
«Говорено с жаром о Тавриде, — записал 21 мая 1787 года в своем дневнике статс-секретарь императрицы А. В. Храповицкий. — Приобретение сие важно; предки дорого заплатили зато; но есть люди мнения противного… А. М. Дмитриев-Мамонов молод и не знает тех выгод, кои через несколько лет явны будут»[1144]. 20 мая 1787 года Екатерина писала из Бахчисарая московскому генерал-губернатору П. Д. Еропкину: «Весьма мало знают цену вещам те, кои с уничижением бесславили приобретение сего края: и Херсон, и Таврида со временем не только окупятся, но надеяться можно, что если Петербург приносит осьмую часть дохода империи, то вышеупомянутые места превзойдут плодами бесплодные места»[1145], то есть балтийское побережье.
Сама Екатерина, в отличие от скептиков, оказалась способна оценить выгоды «приобретения», но для этого ей необходимо было увидеть земли Новороссии и Тавриды собственными глазами. 1 января 1787 года началось знаменитое путешествие Екатерины в «Киев и область Таврическую». Поездка носила характер важной дипломатической акции. Эта грандиозная политическая демонстрация имела целью показать дипломатическим представителям европейских держав, что русские уже закрепились на берегах Черного моря и изгнать их будет не так-то легко[1146].
Императрицу сопровождало самое блестящее общество, состоявшее из придворных и многочисленных иностранных наблюдателей. По дороге Екатерину встречали высокопоставленные чиновники местной администрации, желавшие быть представленными. Главный «виновник торжества», генерал-губернатор Новороссии и Тавриды, должен был присоединиться к своей царственной покровительнице по пути.
За несколько месяцев до намечавшейся поездки польский король Станислав Август II начал настойчиво добиваться встречи с северной соседкой. Его просьбу поддерживал Потемкин. Императрица с самого начала была не расположена к рандеву. 22 ноября 1786 года Безбородко сообщал светлейшему князю: «Король польский прислал генерала Камержевского для условия о свидании его с государынею. Ее величество назначить изволила против Трехтемирова, на галере, так располагая, чтобы там не более нескольких часов для обеда или ночлега останавливаться»[1147].
20 марта 1787 года в местечке Хвостове Потемкин провел предварительные переговоры с польским королем, продолженные затем Безбородко[1148]. Станислав Август передал для императрицы записку под названием «Souhaits du roi», то есть «Пожелания короля» или «Воля короля», написанную на французском языке. В этом документе он предлагал Екатерине оборонительный союз и обещал выставить в случае войны вспомогательный корпус против турок в обмен на поддержку со стороны России реформ, призванных покончить со шляхетской вольностью[1149].
Императрица холодно встретила подобные идеи, поскольку именно сохранение существующей в Польше государственной системы, по ее мнению, гарантировало безопасность России и позволяло Петербургу беспрепятственно вмешиваться во внутренние дела Варшавы. Усиление королевской власти, неизбежное в случае отмены liberum veto, представлялось Екатерине крайне невыгодным.
Станислав Август и поддерживавшая его партия желали союза с Россией, надеясь на серьезные территориальные приобретения для Польши за счет турецких земель[1150]. В то же время и многие члены враждебной королю партии искали сближения с Екатериной, ожидая больших выгод в результате разрыва России и Порты. Собравшиеся в Киеве к приезду императрицы представители старошляхетской оппозиции, по словам путешественника Ф. де Миранда, открыто заискивали перед Екатериной и Потемкиным[1151]. Переменчивость политических настроений аристократических группировок в Польше смущала императрицу. Но имелась и другая причина, по которой Екатерина старалась уклониться от прямого согласия на союз с Польшей. Трудно было ожидать от Австрии, альянсом с которой государыня очень дорожила, согласия на появление в блоке нового члена, претендующего на значительные земельные приобретения.
Подтверждением недовольства Австрии возможным русско-польским союзом стала активизация проавстрийской группировки. Руководили этой партией президент Коммерц-коллегии Воронцов и управляющий Дворянским и Государственным заемными банками Завадовский. Они обладали при дворе большим влиянием, не столько благодаря занимаемым должностям, сколько в силу связи с союзной Австрией. Учитывая позиции разных сил, Екатерина избрала компромиссный вариант. Она подтвердила согласие встретиться с польским королем, но так, чтобы это свидание длилось не более нескольких часов[1152].
В воскресенье 25 апреля в десятом часу утра великолепная флотилия из двенадцати галер и множества более мелких судов приблизилась к Каневу[1153]. Это место было выбрано не случайно: здесь польская граница выходила к Днепру, и король мог, не нарушая закона, запрещавшего ему без позволения сейма покидать пределы Польши[1154], встретиться с Екатериной.
Станислав Август ожидал обстоятельного делового разговора. Однако Екатерина предупредила его, что день встречи будет посвящен исключительно веселью. Она провела Станислава Августа в свою каюту. Их беседа с глазу на глаз продолжалась не более получаса. Король передал императрице еще одну собственноручную записку о польских делах и выразил надежду, что пребывание Екатерины будет более продолжительным.
Французский посол граф Луи де Сегюр описывал, как выглядела со стороны эта несколько натянутая встреча. «Флот наш остановился под Каневом, в котором выставлены были польские войска в богатых мундирах, с блестящим оружием. Пушки с кораблей и из города возвестили прибытие обоих монархов». Парад польской армии был рассчитан на то, чтобы произвести на императрицу впечатление и убедить ее в готовности военных сил возможного союзника. Однако Екатерина не проявила никаких эмоций по этому поводу и держалась с королем холодно. «Когда он вступил на галеру императрицы, — продолжал Сегюр, — мы окружили его, желая заметить первые впечатления и слышать первые слова двух державных особ… Но мы обманулись в наших ожиданиях, потому что после взаимного поклона, важного, гордого и холодного, Екатерина подала руку королю, и они вошли в кабинет, в котором пробыли с полчаса. Они вышли, и так как мы не могли слышать их разговор, то старались прочитать в чертах их лиц помыслы их, но в них ничего не высказалось ясно. Черты императрицы выражали какое-то необыкновенное беспокойство и принужденность, а в глазах короля виднелся отпечаток грусти, которую не скрыла его принужденная улыбка»[1155].
Светлейший князь, поддерживавший идею союза с Варшавой, был раздражен не менее Екатерины и вполголоса выговорил ей за то, что она скомпрометировала его перед королем и всей Польшей, столь сократив это свидание[1156]. Великолепное торжество, устроенное в Каневе, напоминало именины без именинника и наводило на грустные мысли несоответствием своей пышности столь мизерным результатам политической встречи. «Когда наступила ночная темнота, — рассказывал Сегюр, — каневская гора зарделась огнями; по уступам ее была прорыта канава, наполненная горючим веществом, его зажгли, и оно казалось лавою, текущей с огнедышащей горы… на вершине горы взрыв более 100 000 ракет озарил воздух и удвоил свет, отразившись в водах Днепра… Король дал великолепный бал, но императрица отказалась участвовать в нем. Напрасно Станислав упрашивал ее остаться еще хоть сутки: пора милостей для него миновала!»[1157]
Каневская встреча была серьезной неудачей сторонников русско-польского союза. Станислав Август ждал императрицу шесть недель, потратил на путешествие три миллиона злотых, но делового разговора так и не получилось. Перед расставанием Екатерина сказала ему: «Не допускайте к себе черных мыслей, рассчитывайте на мою дружбу и мои намерения, дружелюбные к Вам и к Вашему государству». Вряд ли подобные уверения могли успокоить короля. Неудача Станислава Августа была сразу же использована его противниками: в Варшаве распространились слухи, что во время каневского свидания король, Екатерина и Потемкин составили заговор против Польши, заключив тайный договор о ее новом разделе[1158].
«Шествие в край полуденный»
Практически все авторы, писавшие о путешествии Екатерины на юг, согласны во мнении, что творцом легенды о «потемкинских деревнях», то есть о том, что на юге императрице были показаны декорации вместо реальных городов и деревень, был саксонский дипломат Г. А. В. Гельбиг, работавший в России секретарем посольства в 1787–1796 годах и лично не участвовавший в поездке[1159]. Фактически выполняя роль резидента, он активно собирал в России информацию о жизни императрицы и двора, пользовался разного рода слухами и сплетнями. Вскоре его деятельность привлекла внимание правительства, однако выставить секретаря из Петербурга оказалось не так-то легко — дипломат имел влиятельных друзей в окружении великого князя Павла Петровича, чье положение в последние годы царствования Екатерины усилилось. Удалить Гельбига из России удалось только в год смерти императрицы. Вернувшись на родину, Гельбиг начал анонимную публикацию в гамбургском журнале «Минерва»[1160] книги «Потемкин Таврический». Это сочинение пользовалось большой популярностью в Европе и в первой четверти XIX века было переиздано шесть раз в Голландии, Англии и Франции. Сам Гельбиг назвал свой труд сборником анекдотов. Сильное предубеждение против России, откровенно высказанная автором ненависть к Екатерине и ее ближайшему сподвижнику превратили книгу в политический памфлет.
Изучая текст Гельбига, Е. И. Дружинина пришла к выводу, что именно он познакомил европейскую публику с феноменом «потемкинских деревень». «Гельбиг объявляет несостоятельными все военно-административные и экономические мероприятия Потемкина в Северном Причерноморье, — писала исследовательница. — Саму идею освоения южных степей он пытается представить как нелепую и вредную авантюру… Изображение всего, что было построено на юге страны в виде бутафории — пресловутых „потемкинских деревень“ — преследовало… задачу предотвратить переселение в Россию новых колонистов… Описываются мнимые „деревни“, жители которых призваны были с лишком за 200 верст „по наряду“. „Стада скотов, — говорится далее, — перегоняли ночью из места в место, и нередко одно стадо имело счастье предстать монархине от пяти до шести раз“. По поводу построек в Херсоне, понравившихся императрице, сказано: „Только ближние здания были настоящие; прочие же написаны на щитах… из тростника, связанных и прекрасно размалеванных“. Даже военный флот, показанный императрице в Севастополе… „состоял из купеческих кораблей и старых барок, кои отовсюду согнали и приправили в вид военных кораблей“»[1161].
Однако не следует приписывать все лавры в создании этой легенды одному саксонскому резиденту. Современный российский историк В. С. Лопатин справедливо указывает, что дипломат застал в Петербурге слухи, появившиеся перед самой поездкой императрицы в Крым[1162]. Гельбиг только собрал их воедино и представил европейской публике. Письма Екатерины к разным корреспондентам, отправленные с дороги во время путешествия, пронизаны полемикой с недоброжелателями светлейшего князя, объявлявшими всю его деятельность в Причерноморье мистификацией. Так, 1 мая государыня рассуждала в послании Н. И. Салтыкову: «Легкоконные полки, про которые покойный Панин и многие иные старушонки говорили, что они только на бумаге, но вчерась я видела своими глазами, что те полки не картонные, но, в самом деле, прекрасные». «Чтобы видеть, что я не попусту имею доверенность к способностям фельдмаршала князя Потемкина, — продолжала она 3 мая, — надлежит приехать в его губернии, где все части устроены, как возможно лучше и порядочнее: войска, которые здесь, таковы, что даже чужестранные оные хвалят неложно; города строятся, недоимок нет»[1163].
Н. И. Панин, которого назвала императрица, умер еще в 1783 году. Это означает, что слухи о выброшенных на ветер миллионах и «картонной» коннице циркулировали уже тогда. Панин стоял во главе партии наследника престола Павла. Именно из этих кругов вышли россказни о колоссальном спектакле, устроенном Потемкиным на юге, чтобы скрыть свою несостоятельность как наместника. Одним из центров возникновения слухов о картонных избах и игрушечном флоте был дом Александра Романовича Воронцова. Переписка русского посла в Англии С. Р. Воронцовых и графа А. А. Безбородко пестрит намеками на то, что Потемкин не построил флот, израсходовав отпущенные ему средства. Часто Безбородко держал сторону светлейшего князя. 4 апреля 1788 года он писал в Лондон Семену Романовичу: «Ваше сиятельство не верит, что флот наш на Черном море в 40 судах. Прилагаю записку оному»[1164].
Объективно легенда о «потемкинских деревнях» сильно повредила России в преддверии войны. Императрица ехала в Крым показать иностранным дипломатам готовность страны к возможному конфликту. Это должно было предостеречь европейских покровителей Порты от подталкивания турок к нападению. Однако усиленно распространявшиеся слухи о картонных городах и гнилых кораблях перевесили в Париже, Лондоне, Берлине и Стокгольме отчеты собственных представителей и резидентов из России.
Примером может послужить история дона Франсиско де Миранды, собиравшего сведения для британской стороны. В 1787 году он приплыл из Стамбула в Херсон и посетил те самые земли, которые в наибольшей степени интересовали европейских оппонентов Петербурга. Дорогой путешественник вел подробный дневник, в который заносил информацию о численности русских войск, их дислокации по разным городам и населенным пунктам, уровне обучения, снабжения, о качестве крепостных построек, дорогах, верфях, числе и типах военных кораблей, количестве и национальном составе населения, по возможности точно указывал глубину бухт и фарватеры на реках и каналах. Рассказ Миранды ценен тем, что показывает положение на юге буквально накануне приезда Екатерины. Путешественник отмечал слабые и сильные стороны: удобное обмундирование и тесноту жилищ, высокое качество постройки судов и плохие госпитали, здоровый вид людей и скудное питание. Однако он ни словом не упоминал о картонных домах и декорированных под военные купеческих судах. Из дневника Миранды британцы должны были увидеть, что русская сторона прочно закрепилась на южных землях. Но в Лондоне старательно собранная резидентом информация оказалась не ко двору. Когда Миранда прибыл в британскую столицу, премьер-министр Уильям Питт Младший не проявил к нему особого интереса. Уже было решено играть в надвигающемся конфликте против России, и сведения, ложившиеся на другую чашу весов, только раздражали.
30 апреля к обеду галеры прибыли в Кременчуг. Продолжив путь вниз по Днепру и сойдя на берег неподалеку от Новых Кайдаков, государыня встретилась в степи с Иосифом II и уже вместе с ним отправилась к месту закладки Екатеринослава, а затем в Херсон. 31 мая императрица сообщала Гримму: «Каневское свидание продолжалось 12 часов и долее не могло продолжаться, потому что граф Фалькенштейн скакал во весь карьер к Херсону, где было назначено свидание… Я весьма сожалела, что не могла простоять на якоре трое суток, как того желалось его польскому величеству»[1165]. Екатерина преувеличивала в письме и свои сожаления, и то нетерпение, с каким Иосиф II, как всегда путешествовавший инкогнито, спешил на юг. В отличие от Станислава Августа, австрийский монарх вовсе не желал присоединяться к Екатерине во время ее путешествия в Крым, поскольку такой шаг ко многому обязывал его как союзника России. Однако уклониться от встречи с императрицей ему не удалось.
Вынужденность присутствия австрийского государя в свите Екатерины II весной 1787 года необходимо учитывать при трактовке политических высказываний и всего стиля поведения Иосифа II в Крыму. Неудовольствие оказанным на него давлением он выразил в ряде скептических замечаний и мрачных пророчеств относительно будущей судьбы Новороссии и Тавриды, которыми делился с Сегюром. По мнению императора, Екатеринослав (ныне Днепропетровск) «никогда не будет обитаем», а Севастополь, несмотря на все природное удобство его гаваней, не может быть защищен от нападения противника. «Его не поражали быстрые успехи русских предприятий, — рассказывает в мемуарах французский посол. — „Я вижу более блеска, чем дела, — говорил он. — Потемкин деятелен, но он более способен начинать великое предприятие, чем привести его к окончанию. Впрочем, все возможно, если расточать деньги и не жалеть людей. В Германии или во Франции мы не посмели бы и думать о том, что здесь производится без особенных затруднений“».
Иосиф II сразу же выделил Сегюра среди других представленных ему дипломатов и совершал с ним длительные пешие прогулки. «В разговорах со мной он дал мне понять, что мало сочувствует честолюбивым замыслам Екатерины. В этом отношении политика Франции ему нравилась. „Константинополь, — говорил он, — всегда будет предметом зависти и раздоров, вследствие которых великие державы никогда не согласятся насчет раздела Турции“»[1166]. Заметно стремление австрийского императора, с одной стороны, успокоить французский кабинет, а с другой — показать свою независимость по отношению к планам союзницы.
Херсон потряс путешественников и заставил на время замолчать даже самые злые языки. Сегюр описывает практически оконченную крепость, казармы, адмиралтейство с богатыми магазинами, арсенал со множеством пушек, верфи и строящиеся на них корабли, казенные здания, несколько церквей, частные дома, лавки, купеческие корабли в порту. Английский дипломат сэр Алан Фицгерберт доносил оттуда в Лондон: «По-видимому, императрица чрезвычайно довольна положением этих губерний, благосостояние которых действительно удивительно, ибо несколько лет назад здесь была совершенная пустыня»[1167].
15 мая Екатерина, облаченная в морской флотский мундир, присутствовала при спуске на воду кораблей: 80-пушечного «Иосифа», 70-пушечного «Владимира» и 50-пушечного «Александра»[1168]. Ее сопровождал граф Фалькенштейн, чей потертый сюртук упомянут во многих источниках. По правилам приличий XVIII века появиться на торжественной встрече в простом наряде значило оскорбить хозяина. Одевшись в серый сюртук, австрийский император совершал заметную бестактность по отношению к своим союзникам — хозяевам праздника. Накануне поездки в Россию Иосиф, перечисляя в письме Кауницу свои заслуги перед союзницей (из которых главной он называл помощь в присоединении Крыма), негодовал на нее за оказанное давление и обещал дать почувствовать «принцессе Цербстской, превращенной в Екатерину», что он не позволит столь бесцеремонно располагать собой[1169]. Кажется, в Херсоне маленькая месть свершилась. Император всячески старался подчеркнуть частный, не государственный характер своего визита, демонстрируя союзникам и дипломатам европейских дворов нежелание Австрии присоединяться к военным демаршам России на границе с Турцией.
Однако русская императрица, вытребовавшая Иосифа II в Крым вопреки его воле, делала вид, будто не замечает едва прикрытых бестактностей со стороны союзника. Ей не понравился поступок гостя, который посетил Херсон за несколько дней до встречи с ней, внимательно осмотрел все укрепления, а лишь затем поехал в Новые Кайдаки. 18 мая, уже после выходки Иосифа II на верфях, Екатерина с неудовольствием говорила Храповицкому: «Все вижу и слышу, хотя и не бегаю, как император. Он много читал и имеет сведения; но, будучи строг против самого себя, требует от всех неутомимости и невозможного совершенства; не знает русской пословицы: мешать дело с бездельем. Двух бунтов сам был причиною, тяжел в разговорах»[1170]. Видимо, внутренние отношения между Екатериной и Иосифом были далеки от идиллии, но, по мнению императрицы, сильный союзник любой ценой должен был остаться за Россией.
Главное «чудо», а вернее главный аргумент в политической игре, ожидало путешественников под Севастополем. В Инкерманском дворце во время торжественного обеда внезапно отдернули занавес, закрывавший вид с балкона. Взорам присутствующих предстала прекрасная Севастопольская гавань. День был солнечный, на рейде стояли три корабля, 12 фрегатов, 20 линейных судов, три бомбардирские лодки и два брандера — русский черноморский флот. Открылась стрельба из пушек[1171].
На этот раз Иосиф II воздержался от язвительных замечаний. Со всей очевидностью было ясно, что в надвигающейся войне Россия сумеет удержать приобретенные земли. А значит, пока выгоднее оставаться ее союзником.
Глава тринадцатая «ПОСРЕДИ ПЯТИ ОГНЕЙ»
Никто из участников блестящего «шествия в край полуденный» не подозревал, как мало осталось времени до начала столкновения на юге. Вторая Русско-турецкая война 1787–1791 годов стала едва ли не главным испытанием царствования Екатерины II. В ней предстояло проверить на прочность все, что было сделано за прошедшие четверть века. А самой императрице ответить на вопрос: действительно ли «пружины» ее государства «ослабли»? Пребывает ли она в золотом сне или по мере сил и таланта работает для страны, которая сделала для нее «невероятно много»?
В годы войны Россия столкнулась не только с терявшей силы Оттоманской Портой, но и с коалицией стран-покровителей турок. «Марабуты (турки. — О. Е.) кажутся целой Европе столь любезными, — писала Екатерина барону Гримму, — что… вся Европа скорее предпочтет перерезаться, чтоб потом сказать: и я вмешалась в дело, и я в нем участвовала, чем предоставить все своему естественному ходу»[1172]. России пришлось вести боевые действия на «два фронта», потому что вскоре к «марабутам» прибавился еще и шведский король. Пруссия подталкивала Польшу к вторжению и аннексии земель до Смоленска. Англия намеревалась отправить флот в Балтийское море и бомбардировать Петербург. Сама императрица признавала, что оказалась «посреди пяти огней»[1173].
Противостояние с европейской «лигой» было вызвано закреплением России на берегах Черного моря, приобретением Крыма и земель по первому разделу Польши, а также притязаниями Петербурга покровительствовать православным народам на Балканах. Реализация ключевых идей внешней политики России приходила в столкновение с «европейским равновесием». Или, говоря словами Панина, Россия сумела «присвоить» себе часть «руководства общими делами», с чем «главные державы» согласились не сразу. Понадобилась внушительная военная демонстрация.
Выйти из конфликта победительницей Екатерине оказалось крайне трудно. И если бы фактический соправитель Северной Минервы — Потемкин — не переложил половину тягот на свои плечи, можно сомневаться в успехе. Но нашей героине исключительно везло на людей. Вернее, она обладала талантом выбирать сотрудников и вручать им дело по силам. В наставлении для внука Александра Павловича венценосная бабушка писала: «Отыскивайте истинное достоинство, хотя бы оно было на краю света… Доблесть не лезет из толпы… Оказывайте доверие лишь тем, кто имеет мужество при случае Вам поперечить и кто предпочитает Ваше доброе имя Вашей милости»[1174].
«Дела… позапутываются»
Переписка Екатерины и Потемкина двух предвоенных месяцев показывает отношение корреспондентов к грядущему конфликту. «Пожалуй, пожалуй, пожалуй, будь здоров и приезжай к нам невредим»[1175], — просила императрица 13 июля из Царского Села. Она не ждала близкого разрыва с Турцией и надеялась на скорое возвращение светлейшего князя в Петербург, поскольку многие дела в его отсутствие остановились. 27 июля Екатерина рассуждала: «Дела в Европе позапутываются. Цесарь посылает войска в Нидерланды, король прусский и противу голландцев вооружается, Франция, не имев денег, делает лагери, Англия высылает флот, прочие державы бдят, а я гуляю по саду».
1 августа русский посол в Стамбуле Яков Иванович Булгаков сообщал о том, что английский, прусский и шведский министры при турецком дворе активно побуждают визиря к немедленному разрыву с Россией. Потемкин был крайне обеспокоен. «Мое представление Вашему императорскому величеству при отправлении из Петербурга было, дабы протянуть еще два года, — писал он Екатерине, — и теперь о том же дерзаю утруждать… Много бы мы сим выиграли. 1-е, вся сумма, употребленная от них на вооружение, пропала бы без пользы. 2-е, другой наряд войск им был бы весьма труден»[1176]. Тогда же в селе Михайловке светлейший князь перенес первый приступ возобновившейся у него болотной лихорадки, которой он с перерывами страдал со времен прошлой Русско-турецкой войны.
Екатерина смотрела на грядущий конфликт как на неизбежный: «Я с первым цареградским курьером ожидаю из двух приключений одно: или бешеного визиря и рейс-эфенди сменят, либо войну объявят»[1177]. Императрица рассчитывала на позицию престарелого султана Абдул-Гамида I, не желавшего войны, но он вынужден был уступить под сильным давлением верховного визиря Юсуф-паши и нескольких европейских дипломатов, обещавших Турции кредиты и военную помощь со стороны Пруссии, Англии и Швеции. 5 августа Булгаков был приглашен на дипломатическую конференцию при турецком дворе, где услышал требование о возвращении Крыма. Вслед за этим его арестовали и препроводили в Семибашенный замок. Это означало объявление войны[1178].
Известие о войне не вызвало у императрицы удивления. «Я начала в уме сравнивать состояние мое теперь, в 1787, с тем, в котором находилась в ноябре 1768 года, — писала она Потемкину 27 августа. — Тогда мы войны ожидали через год, полки были по всей империи по квартирам, глубока осень на дворе, приуготовления никакие не начаты, доходы гораздо менее теперешнего, татары на носу… Теперь граница наша по Бугу и по Кубани, Херсон построен, Крым область империи, знатный флот в Севастополе, корпуса войск в Тавриде, армии уже на самой границе». Однако Екатерина не обольщала себя этой картиной: «Я ведаю, что весьма желательно было, чтоб мира еще года два протянуть можно было, дабы крепости Херсонская и Севастопольская поспеть могли, такоже и армии, и флот приходить могли в то состояние, в котором желательно их видеть. Но что же делать, если пузырь лопнул прежде времени?»[1179]
Екатерина ощущала себя полной энергии. «В моей голове война бродит, как молодое пиво в бочке», — писала она. Убеждение в собственной правоте придавало ей сил. «Клянусь Вам торжественно, что я постараюсь ответить на мусульманскую учтивость как можно лучше, — сообщала императрица Гримму. — Вы (французы. — О. Е.) хорошо сделаете, если отступитесь от мусульман… Впрочем, всякий стряпает свои дела по-своему, и чужие дела — не мои. Что же до меня, то моя роль давно определена, и я постараюсь сыграть ее как можно лучше»[1180].
Императрица стремилась показать, что нападение со стороны Турции дает России право рассчитывать на дипломатическую поддержку европейских стран. Внешне это действительно выглядело так. Франция присоединилась к требованию русского и австрийского дворов освободить Булгакова[1181]. Но в реальности дела обстояли иначе, Париж сыграл важную роль в развязывании конфликта. Екатерина часто и не без основания жаловалась на это Гримму. «Они не чистосердечны и не так мыслят, как следовало бы великой державе», — писала она о французах. Ее оскорбляли излюбленные заявления версальской дипломатии, будто начавшаяся война должна стать прологом для перемены правления в России. «Я вовсе не разделяю мнения тех, кто думает, будто мы накануне великого переворота»[1182], — рассуждала императрица.
Переписка с философом в годы второй Русско-турецкой войны стала для Екатерины, с одной стороны, интеллектуальной отдушиной, с другой — средством повлиять на французское общественное мнение. Для Гримма вооруженный конфликт оказался крупной неприятностью, так как он исполнял обязанности агента императрицы в Европе, покупая для Эрмитажа коллекции произведений искусства. В период боевых действий закупки заметно сокращались и комиссионные падали, потому старый друг при всяком удобном случае ратовал за немедленный мир. «Послушать Вас, так подумаешь, что я нарушительница всеобщего покоя, — писала Екатерина. — Как, ни малейшего чувства миролюбия? Но толкуйте, что хотите… я не переменюсь… Не изменяйте и Вы мне»[1183]. Ей очень хотелось найти поддержку, доказать свою правоту и вместе с тем убедить европейских корреспондентов, что беспокоиться не о чем. «Турки зачинщики, они на нас напали, но до сих пор мы, слава Богу, не потеряли ни пяди земли… Я питаю большое доверие к способностям и искусству моих фельдмаршалов и льщу себя надеждой, что и они мне доверяют; войско все то же; средства — также; если что-нибудь изменилось, то, надеюсь, к лучшему. Итак, я не вижу, почему бы мне носиться с излишними заботами, это пристало туркам, но не нам»[1184].
В самом начале войны Потемкин предлагал Екатерине объединить две русские армии — Екатеринославскую и Украинскую — под общим руководством фельдмаршала Румянцева. «Теперь войска графа Петра Александровича идут сюда к соединению, — писал он, — до лета же армиям наступательно действовать и разделяться нельзя будет, то прикажите ему всю команду»[1185]. Однако Екатерина предпочла сохранить разное руководство для Екатеринославской и Украинской армий. Это решение было продиктовано не столько военным, сколько политическим расчетом, так как императрица не хотела вручать общее командование Румянцеву, которого поддерживала враждебная светлейшему князю группировка[1186].
В Петербурге в отсутствие Потемкина усилилась роль такого коллегиального органа, как Государственный совет. 31 августа Екатерина расширила его состав за счет новых членов: графа А. Н. Брюса, графа В. Я. Мусина-Пушкина, Н. И. Салтыкова, графа А. П. Шувалова, графа А. Р. Воронцова, П. И. Стрекалова и П. В. Завадовского[1187]. Бо́льшая часть назначенных принадлежала к противной Потемкину партии, и выбор пал на них, потому что в обстановке войны возник недостаток расторопных деловых людей в столице. Названные лица были хорошо известны Екатерине как способные чиновники и «уже не раз в деле употреблялись»[1188]. Однако императрица сама не чувствовала себя уверенно при усилении противников Григория Александровича. Екатерина была невесела и говорила, что «отлучка светлейшего князя, с коим в течение тринадцати лет сделала она привычку обо всем советоваться, причинила ей… печаль»[1189]. После выбора в Совет новых членов государыня дважды говорила Завадовскому, что «не соизволит терпеть, ежели только услышит, что кто-нибудь покусится причинить хотя малое его светлости оскорбление», и «особливо» рекомендовала «дать знать о сем господам графам Шувалову и Воронцову»[1190]. Таким образом, Екатерина напрямую обратилась именно к тому «триумвирату», который активно влиял на действия А. А. Безбородко и от которого она ожидала враждебных выпадов против князя. Подобное, ничем не завуалированное предупреждение свидетельствовало о большом беспокойстве и желании императрицы сохранить шаткое равновесие между различными группировками.
Тем временем на юге лихорадка Потемкина усиливалась день ото дня, и он совершенно измучился страхами, как бы из-за своей болезни не упустить каких-либо важных распоряжений по армии[1191]. Известие об ухудшении состояния князя крайне встревожило Екатерину. «Я знаю, как ты заботлив, как ты ревностен, рвяся изо всей силы; для самого Бога, для меня, имей о себе более прежнего попечение, — писала она. — …Ты не просто частный человек, ты принадлежишь государству и мне»[1192].
Но жизнь готовила корреспондентам тяжелый удар. 24 сентября Потемкин получил известие, что севастопольский флот, вышедший по его приказу в море навстречу турецкой эскадре, двигавшейся из Варны к Очакову, попал в сильный пятидневный шторм. «Матушка государыня, — писал он, — я стал несчастлив… Флот севастопольский разбит бурею… Бог бьет, а не турки!.. Ей, я почти что мертв»[1193]. Светлейший князь просил о поручении общего командования Румянцеву. Без флота невозможно было защищать Крым. Встал вопрос об эвакуации армии с полуострова.
Екатерина была с этим категорически не согласна. «Ни уже что ветер дул лишь на нас? — спрашивала она. — …Начать войну эвакуацией такой провинции, которая доднесь не в опасности, кажется, спешить не для чего»[1194]. Императрица сознавала, какой неблагоприятный международный резонанс получит вывод войск из Крыма. Она старалась ободрить князя, но сама пребывала в крайнем беспокойстве, о чем в один голос писали и управляющий имениями Потемкина в столице М. А. Гарновский, и статс-секретарь императрицы А. В. Храповицкий. Оба отмечали ее несдержанность, случаи ссор и выговоров членам ближайшего окружения. Самая кратковременная задержка известий от князя несказанно мучила Екатерину, ее тревожили городские слухи[1195]. Сдерживать раздражение государыни становилось все труднее.
Единственным способом взять себя в руки для нашей героини была работа. «Я вся обратилась в письмо, — рассказывала она Гримму, — и мысли мои расплываются в чернилах. Никогда в жизни моей я столько не писала. Когда началась война, я ничего не хотела знать и слышать, кроме войны, а теперь я должна пустить в ход все то, что залежалось. Чтоб к весне наверстать упущенное, надо идти быстрыми шагами»[1196].
25 сентября, узнав о желании светлейшего князя приехать в Петербург, Екатерина начала новое письмо на юг словами: «Я думаю, что в военное время фельдмаршалу надлежит при армии находиться». Фаворит А. М. Дмитриев-Мамонов убедил ее смягчить текст: «Не запрещаю тебе приехать сюда, если ты увидишь, что твой приезд не разстроит тобою начатое»[1197]. Это послание содержало просьбу не сдавать пока команду Румянцеву. «Ничего хуже не можешь делать, как лишить меня и империю низложением твоих достоинств человека самонужного, способного, верного, да при том и лучшего друга»[1198], — уговаривала корреспондента Екатерина. «Честь моя и собственная княжия требуют, чтоб он не удалялся в нынешнем году из армии, не сделав какого-нибудь славного дела, — говорила она Дмитриеву-Мамонову. — Должно мне теперь весь свет удостоверить, что я, имея к князю неограниченную доверенность, в выборе моем не ошиблась»[1199].
26 сентября Потемкин сообщил Екатерине счастливое известие. Разметанный бурей севастопольский флот не погиб, многие корабли лишились мачт, были сильно потрепаны штормом, но почти все уцелели и вернулись в Севастополь[1200]. Лишь один оторвался от других и был унесен в Константинопольский пролив. «Желательно, конечно, чтоб наши корабли военные узнали сей путь, но не таким образом»[1201], — отвечала командующему Екатерина. Гримму же императрица описала ситуацию как малозначительную, а положение на театре военных действий как опасное именно для турок: «Севастопольский флот пострадал от бури: несколько кораблей лишились мачт, а корабль „Магдалина“… потеряв мачту и с сильною течью очутился в Константинопольском проливе, бросив там якорь, и был взят и отведен в арсенал… Капитан его был не русский, а англичанин. Зато турецкий флот потерял под Очаковом два военных корабля и несколько фрегатов, которые Днепровский флот и Кинбурнская крепость пустили ко дну или взорвали» [1202].
«Очаков на сердце»
Турки попытались отрезать Крым от материка и взять его в блокаду: 1 октября противник высадил на Кинбурнскую косу пять тысяч янычар под командованием французских офицеров. Бой был труден и кровопролитен, он продолжался, как явствует из рапорта А. В. Суворова, с трех часов дня до полуночи[1203]. Против турок сражались четыре тысячи солдат, в подавляющем большинстве рекрут — новобранцев. Им удалось вырвать у неприятеля победу. 15 октября в Петербурге Екатерина получила известие о первой виктории и была несказанно воодушевлена. Она даже вспомнила давние планы касательно Константинополя. «Предоставьте только дела их естественному ходу, и все пойдет хорошо, — писала императрица Гримму. — Есть чему удивляться, что я в точности исполнила то, что замышляла еще год назад. Ну, так что же? Если меня рассердят, я задумаю и исполню в назначенный срок и день в день вступление для балета!» Однако, добавляла она в конце письма, «еще не пришла пора»[1204].
Главной турецкой крепостью на юге, куда стягивались основные силы противников, был Очаков. Екатерина желала скорейшего захвата твердыни, в то время как Потемкин советовал вести «формальную», или «правильную», осаду. «Если б Очаков был в наших руках, то бы и Кинбурн был приведен в безопасность»[1205], — настаивала императрица. «Кому больше Очаков на сердце, как мне? — отвечал князь 1 ноября. — …Не стало бы за доброй волею моей, если б я видел возможность. Схватить его никак нельзя, а формальная осада по позднему времени быть не может, и к ней столь много приуготовлений. Теперь еще в Херсоне учат минеров. До ста тысяч потребно фашин… Вам известно, что лесу нету поблизости. Я уже наделал в лесах моих польских, оттуда повезу к месту… Сохранение людей столь драгоценных обязывает идтить верными шагами и не делать сумнительной попытки, где может случиться, что потеряв несколько тысяч, пойдем не взявши… уменьша старых солдат, будем слабы»[1206].
Был еще ряд вопросов, по которым Потемкин хотел откровенно объясниться с императрицей. 26 октября князь направил Екатерине секретное письмо, где касался политических видов европейских держав в отношении России: «Франция и Англия делают две партии разные, обе ищут нас привлечь… К которой стороне Вы б ни пристали, везде при своих навлечете себе еще посторонние хлопоты». Сильный неурожай 1787 года обусловил резкое снижение доходов. «Недостаток в хлебе почти генеральный… а как хлеб дает всему цену, то ожидать должно, что на все вещи дороговизна расплывется. Где прежде употребляли сто тысяч, там ныне миллион. Можно ли выдержать долго такие расходы?…Теперь дошло уже до того, что промен билетов на медные деньги делается за 15 и за 10 процентов»[1207]. Закончив эту мрачную картину, Потемкин переходил к описанию возможных социальных последствий, то есть всеобщего неудовольствия, которое начнется с «бедного солдата», получающего казенное жалованье. Такой ситуации ни в коем случае нельзя было допустить, усугубляя положение излишними расходами и участвуя в чужих коалиционных столкновениях.
Екатерина полностью согласилась с корреспондентом: «В случае, если пришло решиться на союз с тою или другою державою, то таковой союз должен быть распоряжен с постановлениями, сходными с нашими интересами, а не по дуде или прихотям той или иной нации, еще менее по их предписаниям»[1208].
Как бы ни были неприятны для Екатерины слова князя о тяжелом финансовом положении, она с благодарностью приняла его прямоту: «Спасибо тебе за то, что ко мне пишешь откровенно свои мысли, я из оных не сделаю употребления иного, нежели то, которое сходно будет с моею к тебе дружбою и с общею пользою». Положение действительно было серьезно. Английский посол Алан Фицгерберт доносил по этому поводу в Лондон: «Ничего не может быть грустней известий, получаемых нами ежедневно из внутренних губерний, о той чрезвычайной нищете, в которую повергнут народ дороговизной хлеба… Дух возмущения грозит разлиться при первом удобном случае»[1209]. Екатерина приняла решение закупить за границей зерно на пять миллионов рублей для раздачи малоимущим[1210].
Не гладко складывались и отношения с союзниками. Австрия не спешила вступить в войну, зато направила в ставку Потемкина своего официального представителя принца Шарля-Жозефа де Линя. Дружеские отношения де Линя с русской царицей и Потемкиным времен путешествия в Крым, казалось, гарантировали широкое поступление информации и влияние на союзников. Поведение нашей героини разочаровало Иосифа II. «Он думал иметь команду, взять Белград, — писала императрица о де Лине 18 октября, — а вместо того его шпионом определяют». Из перлюстрированного письма Иосифа II к де Линю Екатерина увидела, что союзники желали отдалить русских от Молдавии и Валахии. «Да и из Галиции пропитания не обещают, а оставляют всё себе, — замечала она, — но следует привести их в разсудок и заставить действовать сообразно с тем, что приличествует нам равно как и им»[1211].
Промедление Вены объяснялось волнениями в австрийских провинциях Нидерландов. Иосиф II вынужден был отрядить войска на подавление сепаратистов. Уже после смерти австрийского императора в 1790 году Екатерина рассказывала Гримму: «Неустрашимость Иосифа II, которая, смею сказать, иногда вредила ему, представилась мне воочию, когда мы получили в Крыму первое известие о смутах в Нидерландах. Он стал говорить со мной об этом, я решила откровенно высказать ему свое мнение; признаюсь Вам, его ответ испугал меня». Екатерина имела в виду решимость союзника немедленно подавить мятеж вооруженной рукой. Она готова была возразить и посоветовать ему прислушаться к требованиям голландцев. «Но, видя, что он остроумнее и красноречивее меня, я замолчала, дав ему, однако, почувствовать, как бы я стала рассуждать в подобном случае».
Трудно поверить, но Екатерина принадлежала к числу людей, которые не сразу находились в споре, были крепки задним умом, терялись во время разговора с более речистым и напористым собеседником. Нашей героине, прежде чем принять решение, нужно было долго его обдумывать, поэтому она и не любила резких поворотов в политике, отступлений от ранее намеченного плана. Но интересы своей державы императрица помнила твердо и не позволяла себя сбить. Заканчивая отзыв об Иосифе, она писала: «Он, конечно, знал местные условия, которые мне не были известны, а мои мысли по обыкновению были приложимы только к моей стране»[1212].
Венцом политической бестактности австрийцев был план военных действий, предложенный Иосифом II русскому командующему. «Вот письмо императора, которое должно служить общим планом войне, оно содержит в себе ход военных действий, исполнение которых предоставляется Вашим войскам, смотря по обстоятельствам». Названный план не обнаружен, но о сути предложений Иосифа II известно из его перехваченного письма к принцу де Линю. Император высказывал непонимание «растянутостью коммуникаций» у русских. Он считал, что союзникам незачем держать дополнительные силы на Кавказе, тогда как их можно употребить против Турции в помощь австрийцам. По его мнению, Россия напрасно разбрасывала корпуса на необозримом пространстве.
Еще в письме Потемкину 18 октября Екатерина весьма здраво рассудила: «Что император пишет о стороне Кавказа, он худо понимает, что тем самым турецкая сила принуждена делиться и, естыти б у нас тамо не было войска, то бы татары и горские народы к нам бы пожаловали по-прежнему»[1213]. Между тем Кавказ располагался куда ближе к театру боевых действий, чем Нидерланды, ссылаясь на волнения в которых Иосиф II медлил с объявлением войны Порте.
Каждый из союзников тянул одеяло на себя. А пока австрийский двор находился в нерешительности, Потемкин советовал императрице воспользоваться посредничеством Пруссии в каком-нибудь малозначительном деле в Константинополе, чтобы тем самым продемонстрировать туркам, что они напрасно рассчитывают на помощь этой державы. Ситуация была удобной: прусский король только что заявил о своем благорасположении к России в связи с тем, что не она первая начала войну.
Екатерине идея крайне не понравилась, она восприняла ее как колебания и отход от ранее намеченного плана. «Система с венским двором есть Ваша работа, — писала императрица. — Сам Панин, когда он не был еще ослеплен прусским ласкательством, на иные связи смотрел как на крайний случай»[1214]. Екатерина была раздражена против складывавшегося англо-прусского альянса, имевшего ярко выраженную антирусскую направленность, и презрительно именовала политику нового прусского короля Фридриха Вильгельма II и Георга III — geguisme (от прозвищ этих королей «frere Gu» и «frere Ge»). Эта политика включала в себя противодействие видам России на Черном море и на Балтике руками ее соседей, то есть Турции, Швеции и Польши, при сохранении за Англией и Пруссией внешне нейтральной, а если возможно и посреднической роли. «В настоящую минуту нет насчет проектов никого выше братьев Ge и Gu. Перед ними все флаги должны опуститься… О, как они должны быть довольны собой, подстрекатели турок»[1215], — писала императрица осенью 1787 года Гримму.
Екатерина предпочитала держаться с Пруссией твердо и решительно. «Излишнее смирение нездорово для государства»[1216], — рассуждала она. «Вследствие происков Ge и Gu в Константинополе, последний по наущению первого предложил мне свое посредничество. Вы можете судить, было ли оно принято: пусть их стряпают где угодно, только не у меня»[1217].
Прекрасно понимая, что сближением с Пруссией Екатерина не хочет обидеть союзников, Потемкин прямо сказал де Линю: «На что так грубо отвечать услужливой Пруссии, которая предлагает 30 000 человек или деньги? Излишняя гордость всегда вредна». В данном случае он демонстрировал австрийцам, что, если они в ближайшее время не вступят в войну, Россия может повернуться лицом к пруссакам.
Наконец 30 декабря, в канун Нового года, Екатерина сообщила корреспонденту, что Австрия предприняла неудачную попытку овладеть Белградом. «Лучшее в сем случае есть то, — заметила она, — что сей поступок обнаружил намерения цесаря перед светом и что за сим уже неизбежно война воспоследует у него с турками»[1218]. Однако официально разорвать отношения с Портой Иосиф II отважился только через месяц — 29 января (9 февраля).
Записки императрицы к Безбородко этого же времени ясно показывают, что она отдавала себе отчет в двойственном поведении австрийцев. «Берегитесь от цесарской совершенной опеки, — предупреждала Екатерина, — и не ждите от них помощи военной, от которой отклоняться будут; не забывайте, что мы имели от цесарцев дурной мир, и что мы ими оставлены были двойжды»[1219].
«Государства не канавы»
Шаткая позиция австрийцев заставила Екатерину внимательнее отнестись к предложениям союза с Польшей. С конца января 1788 года между Петербургом и Елисаветградом начался обмен документацией по этому поводу. «Не давайте сему делу медлиться, — убеждал Потемкин Екатерину в письме 15 февраля, — ибо медленность произведет конфедерации, в которые, не будучи заняты, сунутся многие»[1220].
Единственным способом привлечь Польшу на свою сторону князь считал обещание земельных приобретений: «Им надобно обещать из турецких земель, дабы тем интересовать всю нацию… Они, ласкаясь получить государству приобретение и питаясь духом рыцарства, все бы с нами пошли… Тут иногда сказываются люди способностей редких, пусть здесь лучше ломают себе головы, нежели бьют баклуши в резиденциях и делаются ни к чему не годными»[1221].
Согласно проекту союзного договора, который постепенно начал осуществляться еще до его официального подписания, польская сторона обязывалась сформировать на средства России три бригады так называемой «народовой кавалерии». Командовать ими намеревался Ксаверий Браницкий, зять светлейшего князя, и, таким образом, эти части переходили под непосредственное руководство русского фельдмаршала. 26 февраля Екатерина наконец согласилась обещать Польше приобретения за счет Турции. Однако ее отношение к альянсу с Варшавой оставалось скептическим. «Выгоды им обещаны будут. Если сим привяжем поляков и они нам будут верны, то сие будет первым примером в истории постоянства их», — замечала императрица. Уже четверть века участвуя во внутренних делах Польши, Екатерина вынесла твердое убеждение, что близкий контакт представителей русского и польского дворянства вреден для ее державы. Те олигархические претензии на власть, которые в России предъявляла только высшая аристократическая «фронда», в Польше, казалось, были неотъемлемой частью общих для всей шляхты настроений. Поэтому императрица стремилась уклониться от возможной службы поляков в составе русской армии. «Поляков принимать в армию подлежит рассмотрению личному, ибо ветреность, индисциплина… и дух мятежа у них царствуют; оный же вводить к нам ни ты, ни я, и никто, имея рассудок, желать не может»[1222].
Среди богатых польских магнатов было немало таких, о чьей службе в русской армии Екатерина не хотела и слышать. «Если кто из них, исключительно пьяного Радзивилла и гетмана Огинского, которого неблагодарность я уже испытала, войти хочет в мою службу, — рассуждала императрица, — то не отрекусь его принять, наипаче же гетмана графа Браницкого, жену которого я от сердца люблю и знаю, что она меня любит и помятует, что она русская. Храбрость же его известна. Также воеводу Русского Потоцкого охотно приму, понеже он честный человек и в нынешнее время поступает сходственно с нашим желанием»[1223]. Екатерина старалась опереться на людей, которым она более или менее доверяла, но трагизм ситуации состоял как раз в том, что именно ненадежные представители шляхты, не будучи связаны личной выгодой с Россией и не участвуя в набираемом войске, немедленно откатывались в сторону Пруссии. 14 марта из Елисаветграда Григорий Александрович писал Екатерине о пользе службы поляков в русских войсках: «Пусть они ветренны и вздорны, но… ежели удастся их нам связать взаимной пользою с собою, то они не так полезут, как союзники наши теперешние, которые щиплют перед собой деревнишки турецкие, и те не все с удачею»[1224].
Однако русская сторона была неприятно удивлена размерами территориальных притязаний Польши. Секретный первый артикул присланного из Варшавы проекта предусматривал присоединение к Польше Бессарабии (современной территории Молдавии) и Молдавии по реку Серет (северо-восточной части современной Румынии). Такое требование неизбежно вело к конфликту с Австрией, желавшей получить земли вниз по Дунаю. Потемкин считал, что Польша просит о многом, чтобы получить хоть что-нибудь, и в результате переговоров удовольствуется синицей в руке, мечтая «о журавле в небе»[1225]. «Надобна крайняя осторожность, чтоб конфедерация наша не вожзгла другой, по видам прусским», — предупреждал князь. С этой целью «прусский двор и английский надлежит менажировать»[1226]. Такое предложение не нравилось Екатерине, так как, получив текст замечаний, она пометила на полях: «Колико прилично по собственному тех дворы поведению»[1227].
Собственное же «поведение» Ге и Гю оставляло желать лучшего. Их попытки узнать, на каких основаниях Россия согласилась бы заключить мир, оскорбило Екатерину: «Я всякий вопрос от нации к нации считаю оскорблением, так как никто не имеет права допрашивать другого; всякий волен действовать сообразно со своими интересами». Императрица презирала Георга III за слабость, проявленную в войне с колониями, дразнила «королем-буржуа» и заявляла, что если бы ей пришлось лишиться богатых земель империи, она предпочла бы застрелиться. «Братец Ge величайший политик, — писала она Гримму. — …Он потерял 15 провинций; я смотрю на это, как на высшее государственное преступление, которое заслуживало бы строгого наказания, что до меня касается, то я не желаю потерять ни одного вершка земли. Ведь государства не канавы, от которых чем более отнимают земли, тем они становятся больше»[1228].
Когда-то, возражая против политики вооруженного нейтралитета, Потемкин указывал императрице именно на то недоброжелательство, которое Россия может встретить со стороны Англии в случае новой войны. Теперь его мрачные «пророчества» оправдывались. Но Екатерина храбрилась, особенно в письмах Гримму: «Братец Ge полагает, что очень насолил мне, запретив своим подданным снабжать меня за деньги кораблями; эти корабли доставили бы им миллионы; ну так у меня будут же корабли, а подданные его моих денег не получат». И в следующем письме: «Братец Ge сделал великолепную декларацию, будто он станет держаться строгого нейтралитета, и на этом основании отказал нам в транспортных кораблях, а потом тонкий и весьма тонкий плут послал в Константинополь корабль с громадными транспортами военных припасов».
Естественно, никакое мирное посредничество от Ге и По не могло быть принято. «Меня преследуют, чтоб я постановила условия мира, чтоб я объяснилась на счет этого мира, — с раздражением писала она в апреле 1788 года. — …Мне хотелось бы сказать всем: оставьте меня в покое»; «Война еще и не началась… Мы не можем знать, какой оборот примут дела… мы не должны ронять себя в глазах Порты, которая все еще дерзка»;
«Недавно дерзкое предложение возвратить Крым было возобновлено»; «Надо побить их и потом уже говорить о мире»; «Так как об этом мире хлопочет вся Европа, то было бы желательно, чтоб она отказалась от этих хлопот для того, чтоб мир мог состояться. Видали Вы когда-нибудь, как маленькие дети тащат в разные стороны какой-нибудь лоскут, пока не разорвут его?»[1229]
Тем временем подготовка договора с Польшей шла полным ходом. Казалось, даже Екатерина, наконец, склонилась к этому. Однако таинственность, которой Станислав Август окружал в Варшаве обсуждение проекта, вызывала большие подозрения в обществе. Опасались, что происходит сговор между королем и Россией, ведущий к новому разделу Польши. В этих условиях прусской дипломатии было особенно легко действовать. Уже в мае 1788 года Потемкин с беспокойством сообщал императрице: «В Польше в большой ферментации, а особливо молодежь»[1230].
Возбуждение, или «ферментация» (от французского fermentation — волнение), в которой пребывали поляки в связи с неизвестностью относительно действий короля, толкала многих в объятия Пруссии, обещавшей помощь против русской агрессии. Чтобы хоть как-то воспрепятствовать прусской агитации, петербургский кабинет предложил созвать в Польше чрезвычайный сейм по вопросу о подписании договора. «В Польшу давно курьер послан и с проектом трактата, — писала Екатерина Потемкину 27 мая, — и думаю, что сие дело уже в полном действии. Универсал о созыве Сейма уже в получении здесь».
Императрица очень рассчитывала на то, что сейм поддержит предложения о создании вспомогательного польского войска. Однако время было упущено. К началу сейма Россия сражалась уже не с одной Турцией. 26 июня шведский король Густав III атаковал крепость Нейшлот. Страна, воюющая на два фронта, не могла восприниматься как сильный и желанный союзник.
В этих условиях Станислав Август неожиданно смешал карты своих петербургских покровителей. Он присовокупил к русскому контрпроекту отдельное условие, о котором не знали ни Екатерина, ни Потемкин. Король хотел, чтобы Россия дала согласие на установление в Польше института престолонаследия вместо выборности монарха, а наследником польской короны был бы назначен его племянник Станислав Понятовский. Заколебавшаяся императрица указывала, что на это требуется согласие двух других гарантов польской конституции — Австрии и Пруссии. Старошляхетская оппозиция, недовольная как идеями короля о престолонаследии, так и возможным союзом с Россией, резко выступила против всего букета предложений в первый же день открытия сейма 25 сентября 1788 года[1231]. Под влиянием прусских обещаний возвратить земли, утраченные Польшей по первому разделу, сейм занял антирусскую позицию.
Таким образом, Россия лишилась возможного союзника в войне, которая уже начала перерастать в коалиционную. В скором времени со стороны Польши, вместо планируемой поддержки, будет исходить реальная угроза.
«Северный Амадис»
В годы первой Русско-турецкой войны и Пугачевщины Густав III не решился воспользоваться бедственным положением России, чтобы вернуть потерянные при Карле XII земли, и потом горько сожалел об этом. С началом второй Русско-турецкой войны, когда основные войска соседнего государства оказались оттянуты на юг, у шведского короля появился новый шанс.
В 1787 году Турция обратилась к Густаву III с просьбой объявить войну России на основании союзного трактата, заключенного между Стокгольмом и Константинополем в 1740 году. Если в 1768 году Швеция проигнорировала этот документ, то теперь ссылка на него оказалась весьма кстати. В ноябре 1787 года Екатерина сообщала Потемкину о тайной поездке Густава III в Берлин для получения денежной субсидии[1232]. Императрица весьма серьезно относилась к угрозе с севера, тем не менее в письме Гримму она осмеяла саму возможность иностранной субсидии шведскому королю, которого дразнила то Амадисом, то Антонином, то Фальстафом. «Теперь он дает денег Антонину, — писала Екатерина о Георге III, — чтоб вооружить его на суше и на море; ну так что ж из этого выйдет? Антонин возьмет с него деньги, а воевать со мной не станет, разве потеряет последнюю искру здравого смысла, а если он на то решится, то покусает себе пальцы»[1233].
К несчастью, Густав III действительно потерял «искру здравого смысла». Хотя и кусать пальцы ему тоже пришлось. 8 ноября на заседании Совета было прочитано письмо русского посла в Стокгольме А. К. Разумовского о намерении шведского короля присоединить Лифляндию. Совет решил, «соображая сие известие с беспокойным нравом и легкомыслием оного соседа нашего… укомплектовать гарнизонные батальоны в Ревеле и Аренбурге»[1234].
В феврале 1788 года Густав III получил в Амстердаме заем на 600 тысяч рейхсталеров[1235] и принялся за подготовку своего военно-морского флота и войск в Финляндии к походу. Тем временем Екатерина писала Гримму, надеясь, что через него ее мнение о выходках Густава III станет известно европейской публике: «Мой многоуважаемый братец и сосед, тупая голова, вооружается против меня на суше и на море. Он произнес в Сенате речь, в которой говорил, что я его вызываю на войну, что все донесения его посланника о том свидетельствуют. Но, выходя, сенаторы все говорили, что Его величество насильно извлек этот смысл из реляции своего посла, который говорил совершенно противное тому… Если он нападет на меня, надеюсь, что буду защищаться, а защищаясь, я все-таки скажу, что его надо засадить в сумасшедший дом. Если же нападения не последует, я скажу, что он еще более спятил, всячески стараясь оскорбить меня»[1236]. Императрице хотелось, чтобы общественное мнение Европы снова, как в годы первой Русско-турецкой войны, было на стороне России.
По шведским законам король имел право без согласия парламента вести только оборонительную войну. Для этого нужно было, чтобы первый выстрел прозвучал с русской стороны. Густав III инсценировал несколько провокаций на границе, но они не произвели должного впечатления на шведов[1237]. Более того, еще до начала войны вызвали в шведском обществе насмешки над королем. Всем были известны страстное увлечение Густава III театром и его любовь к ярким экстравагантным жестам. Отряд шведских кавалеристов по приказу монарха переодели «русскими казаками» и велели напасть на маленькую деревушку в Финляндии[1238]. Умопомрачительные наряды, сшитые для драматического спектакля и отражавшие представления шведских театральных портных о русском национальном костюме, полностью дезавуировали мнимых казаков даже в глазах финских приграничных крестьян, иногда видевших маневры русских войск.
Несмотря на то, что случай стал известен при всех дворах Европы и наделал много шума, Густав не унялся и предпринял еще несколько провокаций. 25 июня он «послал переодетых солдат ограбить таможню и схватить таможенного смотрителя с его помощниками поблизости от Нейшлота. Вот благородный способ нападения!» — возмущалась Екатерина. Через десять дней шведы конфисковали барку с дровами, шедшую в Нейшлот, «находившиеся на ней два старые инвалида и один пассажир были захвачены и убиты»[1239]. После таких поступков вставал законный вопрос о здравомыслии Густава III. Его поведение не могло не напомнить Екатерине выходки Петра III, ребячество и легкомыслие которого тоже дорого обходились подданным. Императрице оставалось констатировать, что кузен удался в голштинскую родню.
Реальному открытию боевых действий предшествовала война нервов. Некоторые екатерининские сановники не выдержали напряжения. Так, вице-канцлер И. А. Остерман советовал, не дожидаясь новых покушений, первыми напасть на шведов[1240]. Однако сама императрица обладала поистине ледяным хладнокровием. «Когда его величество прикидывался, что принимает мои вооружения, назначенные в Средиземное море, за вооружения против него, — писала она Гримму, — …я приказала графу Разумовскому передать шведскому министру, что мое намерение — жить в мире и согласии с его величеством и шведским народом; в ответ на это король выслал графа Разумовского… В первый раз на свете высылают посланника за то, что он выразил мирные и дружеские намерения». Между тем понять Густава было не так уж трудно: ставя на одну доску монарха и его подданных, Екатерина намекала на уничтоженную соседом конституцию и показывала шведам, что считает последнюю как бы существующей. Возбудить республиканские брожения в стане врага — наполовину облегчить себе борьбу с ним. При этом годилась самая благородная риторика, императрица прекрасно владела теми методами, которые использовались и против ее страны. «Он видит оскорбление своей чести и славы в том, что его народ называют рядом с ним, — поясняла она позицию Густава. — …По его же мнению нет более народов, а есть короли. Вот величайший деспот»[1241].
Летом начались знаменитые морские сражения на Днепровском лимане, в результате которых турки лишились пятнадцати крупных кораблей и тридцати более мелких судов, что составляло флот, превосходящий мощью Севастопольскую и Херсонскую эскадры. Потери русской стороны не доходили до ста человек[1242]. Командующий турецким флотом Газы-Хасан вынужден был с немногими уцелевшими кораблями бежать из-под стен Очакова, но был разбит у мыса Фидониси авангардом Севастопольской эскадры, которой командовал тогда еще капитан бригадирского чина Ф. Ф. Ушаков[1243]. К концу июня ситуация на Балтике осложнялась. Екатерина пребывала в тревоге, и письма Потемкина с юга очень поддерживали ее. «Боже мой, что бы у нас было, если бы не последние Ваши приятные вести»[1244], — доносил из Петербурга Гарновский.
«Наша публика здесь несказанно обрадована победою, на Лимане одержанною, — писала императрица 20 июня. — На три дня позабыли говорить о шведском вооружении». Это письмо очень интересно, так как писалось Екатериной в течение пяти дней: с 16 по 20 июня. Оно представляет собой своеобразный дневник, показывающий, как сгущались тучи на русско-шведской границе. «16 июня… Здесь слухи о шведском вооружении и о намерении шведского короля нам объявить войну ежедневно и часто умножаются; он в Финляндию перевел и переводит полки, флот его уже из Карлскрона выехал, и его самого ожидают в Финляндии на сих днях… 18 июня. Датчане начали со шведами говорить тоном твердым… 19 июня. Вчерашний день получено известие о шведском флоте, что он встретился с тремя стопушечными кораблями нашими, кои пошли вперед к Зунду, и шведы требовали, чтоб контр-адмирал фон-Дезин им салютовал… Июня, 20 числа. Сего утра из Стокгольма приехал курьер с известием, что король свейской прислал к Разумовскому сказать, чтоб он выехал из Стокгольма»[1245].
Письма Потемкину, отражавшие реальное положение дел и крайнюю серьезность государыни, контрастировали с посланиями Гримму. Последнему Екатерина со страстью и раздражением изливала обиду на Густава, но не забывала отметить редкое легкомыслие противника. «Его шведское величество, высадившись в Финляндии, нашел, однако, что пыл его войск не совсем соответствует его собственному. Тогда, чтоб поднять их дух… он обещает довершить начатое Карлом XII, то есть, по-видимому, гибель Швеции. Сообразно с этим он велел изготовить себе полное вооружение, которое будет носить в битвах: латы, набедренники, наручники и каску со многим множеством перьев… Король простер еще дальше свою предприимчивость и читал в полном собрании Сената мнимые письма оскорбительного свойства, которые он, вероятно, сам сочинил и выдал за мои. Я же не писала ему ни единого письма с 1785 года… Стало быть, он так же лукав, как и безумен. Вот качества поистине геройские. Такие качества встречались ли когда-нибудь в соединении с храбростью?…Если он потерпит неудачи, то у него есть план отправиться в Рим и принять католичество, к которому он очень расположен по причине его пышных обрядов»[1246].
Спрашивается: чего ждать от такого врага? «Вот так король! Он воображает, что ложью и обманом можно добыть себе много чести. Не выйдет, сударь, из этого ровно ничего… он сделается позором и посмешищем для потомства». В обращении к Сенату Густав упомянул «о двух империях», имея в виду Швецию и Россию, что было ему явно не по статусу. А также «о средствах великой державы». Последнее вызвало у Екатерины колкие насмешки. «Как будто неизвестно, что его шведское величество получает четыре миллиона дохода, — издевалась она, — а с этим далеко не уедешь. Он ведет себя как какой-нибудь выскочка: турки дали ему два или три миллиона пиастров, он совсем ошалел от подобной дряни и воображает, что им конца не будет; употреби он их на благо своего королевства, я бы ему попрекать ими не стала»[1247].
Действительно, уважения поступки Густава III не заслуживали. Однако сама по себе ситуация складывалась для России крайне неблагоприятно. Открытие «второго фронта» вблизи Петербурга — опасность, которой не следовало пренебрегать.
Сразу после повреждения черноморского флота бурей императрица обещала Потемкину сформировать на Балтике эскадру и отправить ее в Архипелаг. К лету 1788 года эскадра была готова, но в условиях обострения отношений со Швецией отсылать ее с севера в Средиземное море не стоило. Григорий Александрович первым освободил императрицу от данного слова. «Бог поможет, мы и отсюда управимся»[1248], — писал он. «Буде Бог тучу пронесет… тогда, конечно, отправлю флот, — отвечала Екатерина. — …Везде запрещен первый выстрел и велено действовать только оборонительно»[1249]. Такая осторожность была продиктована желанием императрицы вынудить Пруссию и Англию, тайно подталкивавших Швецию к войне, выразить официальную поддержку России как стороне, подвергшейся нападению. Эта дипломатическая игра увенчалась успехом, лондонский и берлинский дворы сразу после нарушения Густавом III мира высказались в пользу Петербурга[1250], что послужило впоследствии важным козырем на переговорах.
В письмах Гримму Екатерина продолжала жаловаться на шведского короля: «Сэр Фальстаф дурной родственник и дурной сосед; его несправедливость ко мне нечто неслыханное. Я перед ним ни в чем не провинилась, я осыпала его любезностями; я кормила его финляндцев несколько лет, когда в Финляндии был голод… Его величество доказывает, что, незаконно присвоив себе неограниченную власть, он пользуется ею на горе своим подданным для того, чтобы навязать им ссору с соседями. Всякий государь — первое лицо среди своего народа, но один государь не составляет еще всего народа»[1251]. Императрица надеялась, что многие в Швеции будут против войны, и не просчиталась, хотя Густав все-таки развязал боевые действия.
«Бог будет между нами судьей»
26 июня Екатерина сообщила Потемкину, что шведы, так и не объявив войны, атаковали крепость Нейшлот. «Хорошо посмеется тот, кто посмеется последним. Справедливость, право и истина на нашей стороне»[1252], — писала она. Чтобы ободрить жителей столицы, императрица переехала из Царского Села в Петербург. «Иностранцы распространяли слух, будто я уезжаю в Москву, — сообщала Екатерина Гримму, — а туземцы, особенно простой народ, говорили: никогда она не покинет Петербурга при теперешних обстоятельствах»[1253].
Шведский флот под командованием дяди короля герцога Карла Зюдерманландского атаковал Балтийский порт и потребовал от коменданта майора Кузьмина сдачи. В те времена принято было пристраивать на комендантские должности в небольших крепостях старых заслуженных офицеров. Кузьмин был инвалидом, потерявшим в прежних кампаниях руку. Он отвечал с бруствера: «Я рад бы отворить ворота, но у меня одна рука, да и та занята шпагою»[1254]. К счастью для оборонявшихся, к крепости из Кронштадта подошел русский флот под командованием вице-адмирала С. К. Грейга, и шведские корабли вынуждены были выстроиться против него.
Лишь 1 июля секретарь шведского посольства вручил вице-канцлеру ноту Густава III, где излагались условия заключения мира. Россия должна была уступить Швеции свою часть Финляндии и Карелии, а Турции — Крым и все земли по границе 1768 года. Кроме того, Екатерине вменялось в обязанность принять шведское посредничество при заключении мира с Портой, разоружить свой флот, отвести войска от границ и позволить Швеции оставаться вооруженной до подписания русско-турецкого мирного договора[1255].
Сам факт обращения с подобной нотой выглядел оскорбительно, так как война до сих пор не была объявлена. Требования же, изложенные в ней, могли стать уместны только в условиях полного поражения России на севере и на юге. Сегюр, которого императрица ознакомила с этим документом, заметил, что шведский король говорит так, будто одержал уже три значительные победы. «Даже если б он завладел Петербургом и Москвою, — воскликнула в ответ Екатерина, — то я все-таки показала бы ему, на что способна женщина с решительным характером, стоящая во главе храброго и преданного ей народа и непоколебимая на развалинах великого государства!»[1256]
«Вы не поверите, колико государыня огорчена была подачею сей ноты»[1257], — доносил 3 июня Гарновский. Копию документа Екатерина препроводила Потемкину вместе с письмом 3 июля. О Густаве III она сообщала: «Своим войскам в Финляндии и шведам велел сказать, что он намерен… окончить предприятие Карла XII… Теперь Бог будет между нами судьею»[1258]. Шведский король обещал войти в Петербург, опрокинуть статую Петра Великого, принудить Екатерину сложить корону, дать своим придворным дамам завтрак в поверженном Петергофе и отслужить лютеранскую мессу в Петропавловском соборе[1259]. «Мысль о том, что мое имя станет известно в Азии и Африке, так подействовала на мое воображение, что я оставался спокойным, отправляясь навстречу всякого рода опасностям»[1260], — писал Густав III своему фавориту барону Армфельду.
Уверенность шведского короля в скорой победе объяснялась его преувеличенным представлением о слабости противника. «Мы всегда были особенно счастливы тем, что наши неблагожелатели постоянно считали нас слабее, чем мы были на самом деле, — писала Екатерина Гримму, — а кто о нас потерся, тот почувствовал это». Густаву еще только предстояло «потереться» о русских, хотя Швеция уже дважды в XVIII веке неудачно воевала с Россией.
Пока же король не смог взять даже Нейшлот. 6(17) июля произошла битва при Гохланде, после которой шведский флот вынужден был отступить в Свеаборгскую гавань и оказался блокирован там русской эскадрой под командованием адмирала Грейга. Тем не менее неунывающий Густав объявил Гохландскую баталию победой шведов и приказал отпраздновать ее благодарственным богослужением в Стокгольме, чтобы поднять боевой дух жителей столицы[1261].
Ту же цель преследовали и торжества по русскую сторону границы. Правда, они отмечали реальные победы, одержанные на юге. 16 июля в Петербург были привезены турецкие знамена, взятые во время сражений на Лимане. По улицам столицы в Петропавловскую крепость пронесли 45 флагов с уничтоженных под стенами Очакова турецких судов. «Трофеи сегодня с церемонией пошли в собор Петропавловский, и хотя у нас духи отнюдь не уныли, однако сие послужит к народному ободрению, — писала Екатерина 17 июля. — Петербург имеет теперь вид военного лагеря, а я сама как бы в главной квартире… Усердие и охота народная противу сего нового неприятеля велики… Рекрут ведут и посылают отовсюду; мое одно село Рыбачья слобода прислало добровольных охотников 65, а всего их 1300 душ… Тобольскому полку мужики давали по семи сот лошадей; на станции здешний город дал 700 не очень хороших рекрут добровольною подпискою»[1262].
Сравнение столицы с военным лагерем так понравилось Екатерине, что она еще несколько раз повторила его в письмах Гримму: «Здесь я очутилась в обстановке военного города, окруженная всевозможным оружием и боевыми припасами. Все это двигалось и тянулось водой и по суше мимо моих окон; я одним только этим и занималась, и дом мой превратился в главную квартиру, а я безотлучно в нем находилась, чтоб получать известия во всякое время дня и ночи, ежеминутно думая, мечтая, изобретая разного рода планы и средства. Ну, хотите ли, чтоб я вам сказала правду? Среди всего этого я чувствовала себя отлично, необыкновенно довольная собой и другими… 6 июля уверяли, будто в воздухе чувствовался запах пороха». И в другом письме: «Среди всего этого, конечно, и смеются, и сердятся, и читают, и пишут, и болтают вздор»[1263]. Словом, живут. Именно это Екатерина хотела показать корреспондентам в Европе.
Однако, судя по донесениям Гарновского, настроение императрицы в первые дни войны было далеко не таким приподнятым, как она старалась показать. Екатерина часто плакала и в отчаянии говорила, что сама готова встать во главе каре из резервного корпуса, если войска в Финляндии будут разбиты[1264].
Много позднее, в 1795 году, Екатерина описала Гримму свое состояние тех дней: «Есть причина, почему казалось, что я хорошо действовала в эти минуты. Я была одна, почти без всякой помощи, и потому, опасаясь сделать какой-нибудь промах по незнанию или забывчивости, я стала так деятельна, как право не считала себя способной. Я входила в невероятные подробности, до того, что сама сделалась провиантмейстером армии»[1265].
Посреди этих тревог Екатерина получила анонимную немецкую брошюру «Седое Чудовище», чтение которой вызвало у нее двухдневную колику на нервной почве. Автор объявлял о своем беспристрастии, «не допуская всех тех ужасов», которые обычно рассказывались в памфлетной литературе о Екатерине. К описаниям своих «ужасов» императрица уже привыкла, но вот тот факт, что ее ставят «прямо после Марии Терезии», возмутил нашу героиню до глубины души. «Уверена, что есть стороны, в которых я должна уступить ей, — писала корреспондентка Гримму. — Она находила своего мужа весьма любезным; я же о своем по совести не могла сказать того же… Вот как судят о людях! Вот как их знают! Вот как пишут с них портреты! Он говорит, что во мне более хитрости, чем рассудительности или ума… Наконец, он дает почувствовать, что у меня все недостатки женщины»[1266].
Самолюбие — самое уязвимое место Екатерины. Тот, кто бил в эту точку посредством памфлетов, рассчитывал вывести ее из терпения и заставить совершить ошибку. Ту же цель преследовали шведские газетные публикации о победах Густава III: «Он везде благовестит, что взял Нейшлот», а «брат его отправился блокировать Кронштадт. Ну да, как бы не так!.. Они нас бьют на бумаге, а мы их колотим на самом деле!»[1267]. Но и бумажные баталии были важны, тем более что в Пруссии, Англии, Польше перепечатывали шведские, а не русские известия.
К осени ситуация под Петербургом стабилизировалась, и императрица могла вздохнуть спокойнее: русская часть Финляндии была очищена от шведских войск. Флот Густава III блокирован в Свеаборге, финские и шведские офицеры взбунтовались, составив конфедерацию в деревне Аньяла и потребовав созыва сейма, к ним присоединил свой голос Сенат[1268]. Екатерина получила от конфедератов адрес, в котором объявлялось о желании восстановить мир с Россией. Густав III ожидал смерти от руки убийцы и даже намеревался бежать из своего лагеря, где чувствовал себя пленником, в Петербург и у врагов искать защиты от неверных подданных[1269].
«Теперь чаю сейм шведский и финский сам собою соберется, — писала Екатерина Потемкину 18 сентября, — и тогда о сем нам объявят и о готовности к миру, тогда станем трактовать». Однако императрица не позволяла себе слишком обольщаться надеждой на скорое прекращение войны. «Король шведский писал ко всем державам, прося их, чтоб его с нами вымирили, но какой быть может мир тут, где всей Европы интересы замешаны будут?»[1270] — спрашивала она 20 сентября. «Теперь Фальстаф велел сказать прусскому королю и английскому, Генеральным Штатам, датскому двору, королям французскому и испанскому, каждому поодиночке, что он бросается в его объятья и его именно просит содействовать заключению мира, — рассказывала Екатерина Гримму. — …Он стучится во все двери, кроме той единственной, где бы следовало… У семи нянек дитя без глазу… Это злодей и бесхарактерный человек, недостойный занимаемого им места». О шведских войсках она сообщала: «У нас теперь нет ни одной собаки оттуда; все они… полумертвые от голода и страха… отправились восвояси пасти гусей»[1271].
Тогда же Безбородко писал Потемкину: «Король шведский повсюду отведывает заговорить о мире и столько успевает, что многие державы входят за него с предложениями медиации и добрых услуг»[1272]. Свое посредничество предлагали Пруссия и Англия, они пытались построить переговоры так, чтобы увязать дела Швеции, Турции и Польши[1273], что вело к бесконечному затягиванию дипломатической игры и удержанию противоборствующих сторон в состоянии войны.
В начале следующего, 1789 года Густаву III удалось на сейме убедить депутатов, что финские военные — изменники, и начать аресты. «Господин Фальстаф… велел арестовать в Финляндии 94 человека генералов и офицеров, из которых многие, узнав это, бежали к нам… Кажется, этот человек из числа тех, которые злейшего врага имеют в самом себе»[1274], — писала императрица Гримму, дословно повторяя характеристику, когда-то данную Петру III.
«Посбить пруссакам спеси»
Берлинский двор, предлагая «медиацию», фактически пытался диктовать России условия мира. «Государыне крепко хочется посбить пруссакам спеси»[1275], — доносил Гарновский. 25 сентября Совет, на котором председательствовал А. Р. Воронцов, решил отказать Фридриху Вильгельму II в посредничестве и, усилив Украинскую армию Румянцева за счет Екатеринославской, а также Кавказского и Белорусского корпусов, направить ее в Польшу к границе с Пруссией[1276]. «Словом, положено было родить прусскую войну», — заключил донесение управляющий.
Получив подобные известия, Потемкин решил прямо объясниться с императрицей. «Лига сформирована против Вас, — писал он 17 октября об объединении усилий Англии, Пруссии, Швеции и Турции. — От разума Вашего зависит избавить Россию от бедствий… Позволь, матушка, сказать, куда наша политика дошла». Ослабление Франции на международной арене привело к тому, что контролируемые ею ранее страны, такие как Турция и Швеция, отшатнулись к другому покровителю — Англии. В этих условиях Россия, вместо того чтобы не отталкивать Англию и лавировать между Пруссией и союзной Австрией, как советовал Потемкин, разорвала англо-русский торговый трактат. По предложению посла в Лондоне Семена Воронцова, поддержанному в Петербурге его братом Александром, Россия не возобновила коммерческий договор 1766 года, срок которого истекал как раз перед войной. Этот документ, дававший английским купцам большие льготы на русском рынке, сильнее политического союза связывал интересы Англии с Россией и не позволял Лондону совершать враждебные действия. Теперь этот якорь оказался отвязан. Франция, подстрекавшая турок к началу войны, впоследствии оказалась не в силах их остановить. Этим воспользовались другие неприятели России, в частности Пруссия, с которой Петербург обострил отношения под давлением группировки А. Р. Воронцова (так называемого «социетета») и в угоду Австрии. «Сделались мы как будто в каре, — заключал князь свои рассуждения. — Союзен нам один датский двор, которого задавят, как кошку. Я обо всем предсказывал… не угодно было принять, но сделалось, по несчастью, по моему и вперед будет»[1277].
Прусский король Фридрих Вильгельм II, наследовавший Фридриху Великому, возбуждал у Екатерины презрение едва ли не большее, чем Георг III. Последний, по крайней мере, страдал приступами безумия, и его поступки могли трактоваться как проявление слабоумия. Что касается прусского родственника, то он, подобно своему предшественнику, был мистиком и масоном, но не имел отблеска гениальности. К тому же во время путешествия в Россию Фридрих Вильгельм близко сошелся с Павлом Петровичем. Екатерина не раз говорила, что «дети и наследники» великих людей «часто идут в противоположном родителям их направлении». Это оказалось справедливо и по отношению к ее собственному сыну, и по отношению к племяннику Фридриха II. «Настоящее царствование не походит на предыдущее, — писала государыня Гримму. — Этот глуп, нагл, дерзок, тщеславен и не имеет тени здравого смысла. При всем том они ужасно торопливы. Они решают в два, три часа то, о чем я бы раздумывала три недели. Оттого их сообщения бессвязны и непереварены. Вдобавок они ответы перетолковывают по-своему. Таким образом, они кажутся двойственными, тройственными, одним словом, фальшивыми».
Политику прусского короля императрица именовала «хитрым скудоумием» и была в этой оценке не одинока. Принц Генрих, брат Фридриха II, когда-то много потрудившийся для поддержания русско-прусских связей, не находил для племянника доброго слова: «К чему служит то, что я подвергал жизнь свою опасности в одиннадцати походах, что я сделал два путешествия в Россию?.. Все уничтожено, но как? и кем?.. Неспособность начинает распрю, которую впоследствии трудно будет окончить»[1278].
От Екатерины Фридриху Вильгельму доставалось не меньше, чем Густаву III, и надо признать, что ее замечания, будучи доведены до короля, больно били по самолюбию. «Он похож на мещанского сына, вышедшего в люди, которому отец оставил роскошный дом, а он, не понимая, чего это стоило и какими трудами все это собиралось, вообразил себе, что ему все позволено. Но ведь этому когда-нибудь наступит же конец. Господь Бог его покарает: все его здание построено на песке и обратится в прах. Терпение, терпение! Время делает и невозможное возможным»[1279].
Каким же образом, по мнению императрицы, ситуация должна измениться? «Свора Ge и Gu сильна лаем», — рассуждала она. «Атмосфера… наполнена дымом и густыми испарениями, которые рано или поздно будут рассеяны только пушечными выстрелами… Но я побьюсь об заклад, что… сестра Екатерина одержит верх, слышите ли?»[1280]
Итак, «пушечные выстрелы». Помедлив некоторое время из опасения получить от Потемкина резкую отповедь, императрица все же решила посоветоваться с ним. «Друг мой сердечный, — писала она 19 октября, — …король прусский сделал две декларации. Одну в Польшу противу нашего союза с поляками, который… видя, что от того может загораться огонь, я до удобного времени остановить приказала. Другую датскому двору, грозя оному послать в Голштинию тридцать тысяч войска, буде датский двор введет [войска], помогая нам, в Швецию… День ото дня более открывается намерение и взятый ими план не только нам всячески вредить, но и задирать в нынешнее и без того тяжелое для нас время. Думаю, на случай открытия со стороны короля прусского вредных противу России и ее союзника намерений… армию фельдмаршала графа Румянцева обратить противу короля прусского… О сем, пожалуй, напиши ко мне подробнее и скорее, чтоб не проронить мне чего нужного»[1281].
Получив это письмо, князь, как и подозревала императрица, ответил решительным отказом передать значительную часть войск в предполагаемую обсервационную армию. Он указывал, что распыление сил не позволит удержать границу на юге, а начало военных действий сразу против Турции, Швеции и Пруссии гибельно для России. «Вместо того чтобы нам заводить новую и не по силам нашим войну, — писал Потемкин 3 ноября, — напрягите все способы сделать мир с турками и устремите Ваш кабинет, чтобы уменьшить неприятелей России. Верьте, что не будет добра там, где нам сломить всех, на нас ополчающихся»[1282].
Колебания императрицы усилились. «Тревожатся тем, что сделана доверенность к людям, крайне дела наши разстроившим, и что не внимали тому, что его светлость предсказывал», — доносил Гарновский 7 ноября. В то же время Екатерина не могла поступиться достоинством своей державы. «Войны с Пруссией и Англией, кажется, избежать уже нельзя, — продолжал управляющий, — потому что, с одной стороны, короли прусский и английский, приняв на себя вид повелителей вселенной, явным образом мешают нам во многих делах, с другой же, что государыня и совета члены… не полагают мщению соразмерных обстоятельствам пределов, и нет между раздраженными частями посредника».
Государыня была задета за живое: никто не смел предписывать ей законы, распоряжаться ее страной. «Вы говорите, что безумцы утверждают, будто нет более Екатерины, — писала она Гримму о слухах в Европе, — но если б ее и не было, Российская империя, тем не менее, существовала бы, и, конечно, ее никак не задавят ни Фальставы, ни Фридрих-Вильгельм, даже в соединении с другом Абдул Гамидом, и чем более мы выиграем времени, тем более мы явимся в силе»[1283].
Твердое поведение императрицы вселяло уверенность в окружающих. «Лучше бить, чем быть биту, — давно заключила она. — …Я надеюсь, что всякий будет делать свое дело: учителя (европейцы. — О. E.), ученики (турки. — О. Е.) и мы вместе с ними. Мы, по обыкновению, будем бить направо и налево, а у вас всегда слыть побежденными, что нам никогда не мешало идти вперед, не теряя ни пяди земли»[1284]. Однако то были мысли для трансляции. С близким же другом Екатерина не считала нужным ни храбриться, ни лукавить.
7 ноября императрица просила Потемкина не оставлять ее «среди интриг» и настаивала на его скорейшем приезде в столицу после взятия Очакова[1285]. На ту же необходимость указывал и Гарновский, прося поспешить не только «для направления дел», но и для того, чтоб «царицу нашу, колеблющуюся без подпоры, огорчения с ног не свалили»[1286].
Прочитав письма князя о необходимости перемены «политической системы», Екатерина проплакала всю ночь[1287], а наутро написала Григорию Александровичу письмо, полное колких выпадов против Фридриха Вильгельма II. Она обвиняла того в антирусской агитации в Польше. «Сия, чаю, продлится дондеже соизволит вводить свои непобедимые войска в Польшу и добрую часть оной займет. Я же не то, чтоб сему препятствовать, и подумать не смею, чтоб его королевскому прусскому величеству мыслями, словами или делом можно было чем поперечить… Предпишутся мне самые легонькие кондиции, как например: отдача Финляндии, а, может быть, и Лифляндии — Швеции, Белоруссии — Польше, а по Самару реку — туркам, а если сие не приму, то войну иметь могу… Я начинаю думать, что нам всего лучше не иметь никаких союзов, нежели переметаться то туды, то сюды, как камыш во время бури. Я к отмщенью не склонна, но провинции за провинцией не отдам. Законы себе предписывать кто даст? Они позабыли себя и с кем дело имеют!.. Возьми Очаков и сделай мир с турками, тогда увидишь, как осядутся, как снег на степи после оттепели, да поползут, как вода по отлогим местам»[1288].
Положение дел настоятельно требовало присутствия Потемкина в Петербурге, но он должен был вернуться победителем Очакова. К декабрю положение крепости стало критическим. Осадные работы были окончены, что сразу высвободило значительное число солдат для будущего штурма. Турецкий флот удалился зимовать на юг. Помощи осажденным ждать было неоткуда. Утром 6 декабря в результате короткого штурма, продлившегося час с четвертью, крепость пала. Потери турок составляли 9,5 тысячи убитых и 4 тысячи пленных, русская армия лишилась 926 человек убитыми и 1704 ранеными[1289].
Известие о взятии Очакова вызвало ликование в Петербурге и коренным образом изменило ситуацию при дворе в пользу светлейшего князя. Его критики вынуждены были замолчать, а императрица вновь обрела уверенность в себе и сменила слезы на искреннюю радость. «За ушки взяв обеими руками, мысленно тебя целую, друг мой сердечный, князь Григорий Александрович, — писала она 16 декабря. — Все люди вообще чрезвычайно сим счастливым происшествием обрадованы, я же почитаю, что оно много послужит к генеральной развязке дел… Теперь мириться гораздо стало ловчей»[1290].
«Гремел гром 101-го пушечного выстрела; было от 25 до 28 градусов мороза. Радость народная чрезмерна: вот мы опять на своем обычном победном пути, — сообщала Екатерина Гримму. — …Это был хорошо наполненный год… Здоровье мое выдержало все потрясения»[1291].
«Насилу успел»
Известие о скором появлении светлейшего князя в столице вызвало суматоху при дворе и волнение в среде иностранных дипломатов. Создавалось впечатление, что в оставленный дом возвращается строгий и взыскательный хозяин. «У нас теперь такое время, каковому, по Писанию, надлежит быть перед вторым пришествием, — с усмешкой сообщал 3 января Гарновский, — стоящие ошую трепещут, одесную же радуются, судимы будучи плодами дел своих». Даже императрица волновалась. «Говоря иногда о слабости здоровья, признает присутствие его светлости здесь необходимо нужным, — рассказывал управляющий со слов Дмитриева-Мамонова, — и располагает, когда его светлость сюда прибудет, отсель уже никуда не выпускать. Иногда же, помышляя о приезде его светлости, тревожится. Сильно хочется удержать теперешнюю политическую систему, говоря, что и его светлость опрокинуть оную не возможет»[1292].
В письмах Екатерина точно оправдывалась перед Потемкиным: «Как мною сделано все возможное, то мне кажется, что с меня и более требовать нет возможности, не унижая достоинства, а без сего ни жизни, ни короны мне не нужно… а что оскорбления короля прусского принимаю с нетерпением и с тем чувством, с которым прилично, за сие прошу меня не осуждать, ибо я не достойна была бы своего места и звания, если б я сего чувства в своей душе не имела»[1293].
4 февраля Потемкин прибыл в столицу[1294]. Спустя месяц в письме Семену Воронцову Безбородко признался, что присутствие князя принесло заметное облегчение в делах и прекратило на время грызню придворных группировок. Важнейшим результатом усилий Григория Александровича было смягчение наметившейся вслед за Пруссией конфронтации с Англией. «Князь сильно настоял, чтоб все трудности были совлечены с пути, и насилу успел, — заключал Александр Андреевич, — ибо у нас думают, что добрыми словами можно останавливать армии и флоты»[1295].
До 3 марта была закончена работа по составлению плана военных действий на следующую кампанию. Потемкин писал Екатерине: «Взятие Очакова Божией помощью развязывает руки простирать победы к Дунаю… но обстоятельства Польши, опасность прусского короля и содействие ему Англии кладут не только преграду, но и представляют большую опасность. Соседи наши, поляки… находясь за спиною наших войск и облегша границы наши, много причинят вреда, к тому же еще закажут продавать хлеб»[1296]. В качестве неотложных мер князь предлагал, во-первых, усыпить бдительность Пруссии, «маня ее надеждой» приобрести прежний вес в делах русской политики и сделаться посредницей на переговорах; во-вторых, нейтрализовать враждебность поляков, показав, что Россия намерена выделить им после заключения мира часть земли за Днестром; в-третьих, ускорить подписание в Лондоне нового коммерческого трактата, чтобы сделать обострение отношений невыгодным для самой Англии.
Весной 1789 года Франция возобновила попытки заключить союз с Россией. Еще в декабре 1787 года король Людовик XVI изменил внешнеполитическую линию и постарался сблизиться с Петербургом, но безуспешно. В тот момент Екатерина ни на волос не верила французской дипломатии. «Каким образом Франция может мне доставить почетный мир? — спрашивала она Гримма, хлопотавшего перед ней за Версаль. — …Ее посланник не пользуется ни малейшим влиянием… Никакая другая держава, кроме моей собственной, не может доставить мне на деле почетного мира»[1297].
Потемкин подозревал версальский кабинет в лукавстве. Накануне войны, когда французский министр в Стамбуле подталкивал Порту к открытию боевых действий, Сегюр писал, будто Шуазель старается о мире. Одновременно Версаль прилагал усилия, чтобы втянуть Россию в конфликт с Пруссией. Этого-то светлейший князь как раз не хотел. У него был конкретный враг — турки, а в их войсках и крепостях полно французских офицеров и инженеров. «Правда, что французский двор отозвал с десяток французских офицеров из Турции, — писала Екатерина Гримму в начале войны, — но, не говоря о том, что их еще столько же осталось там, новый рой человек в двадцать приехал через Венецию в Константинополь»[1298].
В 1787 году идея союза была «замолчена» русской стороной. Весной 1789 года Екатерина отнеслась к ней благосклоннее, так как питала надежду воспользоваться французским, а не навязываемым ей прусским или английским посредничеством для переговоров с Турцией[1299]. 22 апреля, получив секретное письмо Я. И. Булгакова, все еще находившегося в Семибашенном замке, Потемкин счел нужным пресечь всякие упования императрицы на «честное» посредничество Франции. Шифровка Булгакова содержала запись беседы французского посла в Турции графа Огюста Лорана Шуазель-Гуфье с Капудан-пашой (адмиралом, командующим флотом). «Бесполезно употреблять против императора (Иосифа II. — О. Е.) главные ваши силы, а надлежит вам быть только в оборонительном состоянии, обратить всю силу против России, — говорил посол. — Вам труднее победить русских, ибо они лучше обучены и лучше всех знают, как с вами вести войну». Французский план военных действий для турецких войск состоял в том, чтобы блокировать Севастополь, высадить десант в Крыму и направить крупные силы под Очаков. «Прошу извинить беспорядок моего донесения, пишу украдкою, не знаю, дошли ли мои прежние? Ниоткуда и ни от кого не получаю ни ответа, ни одобрения и в сем состоянии стражду уже семнадцать месяцев. Дай Боже, чтоб только доходило, что я пишу»[1300], — заканчивал свое послание посол.
Не больше доверия вызывали у Потемкина и австрийские дипломаты. «Добивался цесарский посол иметь число наших войск, не прикажите ему давать, — просил князь, — здесь Сегюр узнает, а они все туркам рады показать»[1301].
Екатерина соглашалась с корреспондентом, но ее едва сдерживаемое раздражение против Пруссии прорвалось в приписке: «Англичане и пруссаки не менее же нам вражествуют, да сии сверх того ныне враги особы Екатерины II и, где могут умалять ее славу и честь и отвращать от нее умы и сердца, тут не оставляют приложить труда, а если сыскать могут, кто бы ее убил, то и сие не оставят». Потемкин все же сумел добиться от императрицы более любезного обращения с прусским послом и возобновления переписки с Фридрихом Вильгельмом II. Это послужило внешним знаком того, что двери к сближению Пруссии и России не закрыты.
В то же время князь решительно возражал против заключения союза с Францией, в котором Екатерина и Безбородко видели возможность более успешного противостояния англо-прусскому блоку[1302]. Светлейший предупреждал, что Франция находится в глубочайшем внутриполитическом кризисе и Россия не сможет на нее опереться. 5 июля, всего за несколько дней до штурма Бастилии, когда русский посол в Париже И. М. Симолин продолжал предпринимать усилия к заключению договора[1303], а французский посол в Петербурге Сегюр уверял, что все перемены во Франции к лучшему[1304], Потемкин писал императрице: «Франция впала в безумие и никогда не поправится, а будет у них хуже и хуже»[1305]. Понадобилось всего девять дней, чтоб окончательно развеять иллюзии русской стороны о возможном союзе.
Все время пребывания Потемкина в Петербурге Екатерина чувствовала себя более спокойно и уверенно. Судя по запискам Храповицкого, прекратились частые слезы, тревоги, мелочные выговоры членам ближайшего окружения, вернулись прежние веселые замечания и остроты. Казалось, императрица обрела недостающую опору. 28 апреля двор перебрался в Царское Село[1306], а 2 мая было получено известие о смерти султана Абдул-Гамида в Константинополе. «Как султан умер, то думать надлежит, что дела иной оборот возьмут»[1307], — писала Екатерина Потемкину.
Начало новой кампании звало князя на юг. Императрица тяготилась мыслью о скором расставании. Она вновь оставалась одна, без ближайшего друга и советника. «Хотя и знаю, что отъезд твой необходимо нужен, однако об оном и думать инако не могу, как с прискорбием»[1308], — признавалась Екатерина.
Глава четырнадцатая «КРАСНЫЙ КАФТАН»
Командующий прибыл в армию 22 мая[1309]. Военные действия весны — начала лета развивались успешно, они были перенесены в Молдавию и Валахию, где русские войска одержали победу на реке Серет, после чего наступило временное затишье. В эти дни к Потемкину из Петербурга пришло известие о смешении А. М. Дмитриева-Мамонова с поста фаворита, повлекшее за собой серьезную перестановку политических сил при дворе.
«Краски не важные»
С годами появление рядом с пожилой государыней молодых красавцев-фаворитов выглядело все непристойнее. В памфлетной литературе, выпускавшейся главным образом во Франции, со вкусом повествовалось о разнузданных оргиях «Северной Кибелы». Пробовали перо и отечественные авторы. В рассказе «Седина в бороду, бес в ребро» Н. И. Новиков представил читателям женщину, «которую морщины и седые волоса достаточно обезобразили, но искушением беса ей все казалось, будто она в 18 лет. Наряды, румяны и белилы занимали всю ее голову, она не думала о должностях своих… ей беспрепятственно мечталось, будто молодые мужчины ею пленяются». Частная жизнь императрицы превращалась в публичный скандал, на котором можно было заработать и деньги, и репутацию бойкого публициста.
Между тем в 1789 году Екатерина пережила сильное личное потрясение. Ее вновь оставил возлюбленный. Стоило ли удивляться? Начав с неудач в юности, вряд ли можно надеяться побороть судьбу на склоне лет.
Горько оплаканного Ланского сменил Александр Петрович Ермолов, племянник близкого друга Потемкина В. И. Левашова. Новый «случайный» вельможа получил от покровителя прозвище «Белый негр» за чересчур курчавые волосы и слегка приплюснутый нос[1310].
Связь Екатерины с Ермоловым не была ни прочной, ни особенно сердечной. Она походила на брак по расчету — императрица преследовала цель развеяться и отвлечься от пережитого. При первом же неудовольствии светлейшего князя Ермоловым пожертвовали без особого сожаления. Молодой человек совершил традиционный для большинства своих предшественников промах. Он решил, будто его влияния на Екатерину достаточно, чтобы избавиться от Потемкина и играть собственную политическую роль. Ермолов сделал несколько ложных шагов. Во-первых, сблизился с партией Воронцова — Завадовского; во-вторых, не без их подсказки передал Екатерине, втайне от Потемкина, письмо хана Шагин-Гирея из Калуги. Бывший владыка Крыма жаловался на то, что светлейший якобы утаивает суммы, предназначенные на его содержание[1311]. Императрица отнеслась к делу без благосклонности, на которую рассчитывал Ермолов. В 1786 году он получил бессрочный отпуск и почти всю оставшуюся жизнь провел за границей.
Вскоре Екатерина обратила внимание на нового кандидата, Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова, дальнего родственника и адъютанта Потемкина. 20 июля императрица, Григорий Александрович и очередной «случайный» вельможа втроем пили чай. Мамонов подарил своему покровителю золотой чайник с надписью: «Более соединены по сердцу, чем по крови»[1312]. Мир в маленькой семье Екатерины был восстановлен.
Современники, обычно не расположенные к любимцам Северной Минервы, о Мамонове отзывались в целом доброжелательно. Александр Матвеевич был скромен, хорошо воспитан и очень образован. Он принадлежал к древнему дворянскому роду, ведшему свое происхождение еще от Рюрика. Среди его предков были киевские, а затем смоленские князья, от одного из которых — Дмитрия Александровича — и отходила ветвь Дмитриевых, уже на службе у московских государей получившая прозвание Мамоновых[1313]. Мамоновы обладали крепкими корнями в Москве. Отец фаворита Матвей Васильевич с 1763 года был вице-президентом Вотчинной коллегии, располагавшейся в старой столице. Затем он недолгое время занимал пост наместника Смоленской губернии, но после возвышения сына вновь вернулся в Первопрестольную, чтобы стать уже президентом Вотчинной коллегии. Одновременно его назначили директором Межевой канцелярии, ведавшей вопросами дворянского землевладения — должность в Москве, куда часто съезжалось все русское дворянство, очень заметная.
Придворный анекдот гласил, что когда князь показал императрице портрет Александра Матвеевича, она заметила: «Рисунок хорош, но краски не важные». Действительно, молодой Мамонов был утончен до рафинированности, и в его образе преобладали больше мягкие, акварельные тона, а не густые сочные мазки, свойственные таким натурам, как Орловы и сам Потемкин. На Екатерину смотрело лицо нового поколения русской аристократии, духовно уже близкого эпохе сентиментализма. Мамонов живо напомнил императрице когда-то оставленного ею Станислава Понятовского. Те же образованность, застенчивость, даже апатичность… Интересна характеристика, данная Александру Матвеевичу секретарем саксонского посольства Гельбигом. Обычно раздражительный и резкий, дипломат, говоря о Мамонове, изменил тон. По его словам, новый фаворит «был очень умен, проницателен и обладал такими познаниями… в некоторых научных отраслях, особенно же во французской и итальянской литературах, что его можно было назвать ученым; он понимал несколько живых языков, а на французском говорил и писал в совершенстве»[1314].
Заметив прекрасный слог фаворита, Екатерина привлекла его к ведению переписки с иностранными корреспондентами. Сама она писала по-французски небезупречно, иногда употребляя тяжеловесные немецкие обороты. По собственному выражению императрицы, ей нужна была «хорошая прачка, чтоб стирать написанное». Такой прачкой для Екатерины и стал Дмитриев-Мамонов, серьезно редактировавший ее стиль. Александр Матвеевич и сам писал пьесы, некоторые из них были поставлены в Эрмитажном театре, хорошо рисовал, делал удачные карикатуры мелом, над которыми от души смеялось маленькое придворное общество на камерных собраниях у императрицы. Среди его архива, разобранного уже в первой четверти XIX века дочерью графа, был обнаружен искусно вырезанный силуэт Екатерины.
Обладая врожденным вкусом, Мамонов любил носить красное, гармонировавшее с его черными глазами. Поэтому Екатерина, а за ней и весь двор прозвали нового фаворита «Красный кафтан». В одном из писем барону Гримму императрица писала: «Красный кафтан облекает существо, имеющее прекрасное сердце вместе с большим запасом честности. Ум за четверых, веселость неистощимая, много оригинальности в понимании вещей… Мы скрываем, как преступление, наклонность к поэзии; музыку любим страстно… Словом, мы столько же надежны, сколько ловки, сильны и блестящи».
Протеже Потемкина, Мамонов принадлежал к его партии. Часто отсутствуя в столице, князь нуждался в преданном человеке возле императрицы. Первые годы фавора Александр Матвеевич оправдывал надежды покровителя. Однако близилось время, когда молодой человек, почувствовав степень своего влияния на Екатерину, захотел бы играть первую роль. И тогда конфликт был неизбежен. Так случилось с Зоричем, Корсаковым, Ермоловым. Такая же участь ждала и Мамонова.
Дубровицы
В 1787 году Александр Матвеевич попытался показать покровителю, как много он значит для императрицы. На обратной дороге из Крыма в июне 1787 года Екатерина посетила Москву и перед въездом в город остановилась передохнуть в имении светлейшего князя Дубровицы. Стояла изматывающая жара, дорожная пыль висела в воздухе плотной завесой. Даже лошади, казалось, задыхались, что же говорить о всадниках? Москва была уже недалеко, но свита императрицы стенала, умоляя о привале. Когда 23 июня, ближе к обеду, на горизонте замаячили величественные очертания Дубровиц — подмосковного имения Потемкина, — радостные возгласы невольно вырвались даже из уст самых выносливых спутников Екатерины. Вскоре тенистые липовые аллеи приняли под свою сень вереницу дорожных карет. Дышать стало легче, ветерок с реки Пахры доносил свежесть и прохладу.
Через несколько минут перед измученными путниками открылся вид бело-желтого усадебного дворца, ярко выступавшего на фоне изумрудной зелени парка. Сам хозяин остался на юге. Но его дом был готов принять царскую свиту. У ворот маленький оркестр играл приятную музыку. Издалека слышался перезвон тарелок, спешно расставляемых на столах, в воздухе витали тонкие ароматы изысканных блюд. Князь, зная, что императрица непременно посетит по дороге его усадьбу, за несколько месяцев отправил управляющему подробнейшие инструкции о том, как следует принять государыню и ее гостей. Григорию Александровичу хотелось, чтобы после долгой дороги его пожилая и далеко не блиставшая здоровьем подруга почувствовала себя как дома.
Дубровицы действительно были земным раем и очень понравились Екатерине. Но еще больше они понравились Дмитриеву-Мамонову. Изнеженного красавца, серого от усталости, почти вынесли из кареты; в тиши и прохладе мраморных сеней он пришел в себя, но так и не оправился от увиденного. Великолепное имение с обширным французским парком, усадебным дворцом во вкусе елизаветинского времени и поражавшей своей необычной архитектурой позднего барокко Знаменской церковью пленили воображение 29-летнего вельможи.
По общему мнению, у Мамонова имелся один, но очень весомый недостаток — жадность. После отъезда из Дубровиц Александр Матвеевич принялся слезно умолять императрицу купить для него подмосковное имение Потемкина. Екатерина попала в трудное положение, она знала, как Григорий Александрович любит Дубровицы. Село было приобретено им в 1781 году у князя С. А. Голицына, оно располагалось на старых боярских землях и было застроено с размахом. Хотя сам светлейший там не жил, но денег на приведение в порядок запущенного прежними владельцами имения не жалел[1315]. Особая любовная забота князя о Дубровицах объяснялась тем, что он думал под старость, подобно другим русским отставным вельможам, перебраться в Москву и именно здесь доживать век. Уход Дубровиц из его рук стал для Потемкина первым, еще очень отдаленным знаком того, что судьба не отпустит ему ни времени, ни места для покоя.
Между тем Екатерина считала Дубровицы просто одним из многочисленных имений светлейшего, которые он нередко продавал в казну для уплаты долгов, а затем вновь получал от императрицы в подарок. Поэтому ничего дурного в покупке Дубровиц Екатерина не нашла. Ей приятно было угодить фавориту. Она знала, что Мамонов скучает в ее обществе и иногда даже не скрывает этого. Новый подарок должен был обрадовать его и вызвать хотя бы чувство благодарности. Уже через два дня после посещения Дубровиц, 25 июня, императрица отправила из Коломенского светлейшему князю письмо о своем намерении купить у него имение. «Есть ли вы намерены продавать, то покупщик я верной, а имя в купчую внесем Александра Матвеевича»[1316], — рассуждала она.
Идея Потемкину не понравилась. Он не хотел продавать Дубровицы, но и прямо сказать об этом императрице не мог: Екатерина столько раз выручала его деньгами, сделала так много бесценных подарков, что отказать в пустяковой просьбе значило обидеть ее. Князь велел Гарновскому затягивать дело. Он надеялся, что за военными хлопотами продажа как-нибудь замотается. Не тут-то было. Мамонов штурмовал государыню, словно неприступную крепость.
Светлейший тянул с присылкой купчей, потом документы приходили не в порядке, из них были вычеркнуты имена лучших крепостных мастеров с семьями, которых Потемкин хотел оставить за собой. Мамонов дулся и был неласков, из-за чего Екатерина пребывала в крайнем раздражении на Григория Александровича. Даже такой удар, как начало войны, не смог отвлечь фаворита от повисшей в воздухе сделки.
Обострение политической обстановки усилило придворную роль Мамонова, императрица делилась с ним многими секретными сведениями. Это льстило честолюбию фаворита, но даже возбуждение крупной политической игры не затмевало в его глазах тихих радостей стяжательства. «Александру Матвеевичу приятно чтение реляций, но еще приятнее дела дубровицкие», — не без сарказма замечал Гарновский. «Александр Матвеевич крайне любит собственные свои дела, — с раздражением продолжал управляющий в другом письме. — Прочтя бумаги о несчастий, с флотом случившемся, тотчас спросил меня: „Не пишет ли к вам Василий Степанович (Попов, начальник канцелярии Потемкина. — О. Е.) о бумагах Дубровицких?“»[1317]. Занятой и измученный Потемкин наконец сдался. В сентябре 1787 года сделка была завершена.
Однако в декабре, когда готовился план очаковской кампании, мысль о Дубровицах снова больно задела Потемкина. Для осады крепости, а тем более ее штурма, нужны были специальные военные снаряды: фашины, чтобы засыпать рвы, лестницы, чтобы лезть на стены, — причем все это в огромном количестве. В безлесной степи трудно было найти даже прутик, недаром в мирные годы строительство зданий в Крыму велось из тесаного камня, а времянки сооружали из саманника — тростника, обмазанного глиной. Князь начал доставку дерева из своих огромных имений в Польше, где он владел целой областью Смелой. Но в случае ухудшения отношений польское правительство могло пресечь вывоз древесины. И тут встал вопрос о лесе, который располагался по соседству с Дубровицами и все еще принадлежал Потемкину. Мамонов хотел заполучить и его. Можно себе представить, какими словами князь проклинал жадность своего протеже. Но раздражать императрицу не захотел. Пришлось продать и лес[1318]. Находившийся в Москве отец фаворита сам следил за всеми мелочами сделки и проявлял при этом редкую скаредность. Московскому и дубровицкому управляющим Потемкина (а люди это были оборотистые) не удалось вывезти из имения даже фарфорового сервиза и серебряных ложек. Что же говорить о лесе? Мамонов явно находился в силе. Он все еще поддерживал при дворе партию светлейшего князя, но заставлял за это дорого платить. Кто бы мог подумать, что великолепный подмосковный дворец понадобится Александру Матвеевичу уже вскоре.
Начиная с середины 1787 года Гарновский писал, что «паренек скучает». Фаворит сравнивал свое житье с золотой клеткой. В 1796 году Державин написал стихотворение «Птичка»:
Поймали птичку голосисту И ну сжимать ее рукой. Пищит малютка вместо свисту, А ей твердят: пой, птичка, пой.Эти строки как нельзя лучше подходят для характеристики душевного состояния Александра Матвеевича. Уже после разрыва Екатерина говорила статс-секретарю А. В. Храповицкому: «Он от всех отдалился, избегал даже меня. Его вечно удерживало в его покоях стеснение в груди. А на днях вздумал жаловаться, будто совесть мучает его; но не мог себя преодолеть… Сперва, ты помнишь, имел до всего охоту, и все легко давалось, а теперь мешается в речах, все ему скучно, и все грудь болит»[1319].
Мамонов отличался болезненной мнительностью, ему казалось, что все осуждают его за связь с Екатериной. Со временем он старался реже появляться на людях, запирался в своих комнатах, никого не хотел видеть. Граф А. Ф. Ланжерон писал в мемуарах: «Некоторые из фаворитов умели облагородить свое унизительное положение: Потемкин, сделавшись чуть не императором, Завадовский — пользой, которую приносил в администрации; Мамонов — испытываемым и не скрываемым стыдом»[1320].
Но была и другая причина хандры фаворита. Во дворце Мамонов обратил внимание на молодую фрейлину императрицы Дарью Федоровну Щербатову, дочь генерал-поручика Ф. Ф. Щербатова. По иронии судьбы, ее ко двору устроил тоже Потемкин, несколько лет назад хлопотавший за дочь погибшего во время первой Русско-турецкой войны сослуживца. Запретное чувство оказалось для обоих настолько притягательным, что влюбленные начали украдкой встречаться в доме общих друзей Рибопьеров. Риск только разжигал слабый огонек взаимной склонности, и вскоре желание быть рядом с любимой, как тогда казалось Мамонову, женщиной стало для фаворита наваждением. Он тайком посылал ей фрукты с императорского стола, совершал тысячи опасных поступков, которые могли выдать обоих с головой. Так продолжалось около полутора лет.
Мамонов надеялся, что со временем императрица сама оставит его, и тогда он сможет жениться. Его деловые качества, а также большая осведомленность в самых секретных вопросах тогдашней политики позволяли ему питать иллюзию, что и после отставки с поста фаворита он останется на службе. Но судьба распорядилась иначе. Во время пребывания Потемкина в Петербурге в 1789 году его возмутило почти пренебрежительное обращение Мамонова с императрицей. Покорный в вопросе о Дубровицах, здесь князь был задет за живое. Он довольно резко поставил фаворита на место, а Екатерине посоветовал «плюнуть на него»[1321]. Но Александр Матвеевич был еще очень дорог императрице, и она не решилась последовать дружескому совету. Однако объясниться было необходимо.
В донесении 21 июня Гарновский рассказывал, как стремительно развивались события. После отъезда князя императрица старалась всячески развлечь и расположить к себе Александра Матвеевича, чья холодность и даже грубость мучили ее около года. Поняв, наконец, что она не в силах развеять скуку фаворита, Екатерина написала ему грустное письмо, где предложила оставить ее и жениться. В ответ Мамонов сознался, что уже давно любит фрейлину Щербатову и она отвечает ему взаимностью. Больнее измены Екатерину оскорбил тот факт, что Мамонов все это время лгал и притворялся, вместо того чтобы честно признаться ей. Она простила несчастных влюбленных, считая, что они и без того уже наказаны необходимостью скрывать свое чувство.
«Государыня была у него более четырех часов. Слезы текли тут и потом в своих комнатах потоками», — доносил управляющий. На следующий день состоялся сговор молодых. «Государыня при сем случае желала добра новой паре таковыми изречениями, коих нельзя было слушать без слез»[1322].
1 июля состоялось венчание в придворной церкви, Екатерина по обычаю сама убирала голову невесты бриллиантами. Ее руки дрожали, и она нечаянно уколола девушку золотой иголкой, невеста вскрикнула. Праздник был тихим, в кругу «малого числа приглашенных особ», как писал Гарновский. В качестве свадебного подарка молодые получили 3 тысячи душ и 100 тысяч рублей на обзаведение[1323].
21 июня императрица направила Потемкину письмо обо всем случившемся. Из некоторых прежних замечаний князя она сделала вывод, что Григорий Александрович знал о романе фаворита со Щербатовой. «Если зимою тебе открылись, для чего ты мне не сказал тогда? Много бы огорчения излишнего тем прекратилось, и давно он уже женат был, — упрекала корреспондента Екатерина. — Я ничей тиран никогда не была и принуждения ненавижу. Возможно ли, чтобы Вы меня до такой степени не знали, и что из Вашей головы исчезло великодушие моего характера, и Вы считали бы меня дрянною эгоисткой? Вы исцелили бы меня в минуту, сказав правду»[1324].
Потемкин действительно был осведомлен, благодаря донесениям Гарновского, об интригах различных группировок вокруг романа фаворита с княжной Щербатовой. Но, видя привязанность императрицы к Александру Матвеевичу, он посчитал себя не вправе настаивать на смене «случайного». «Мне жаль было тебя, кормилица, видеть, — объяснял князь свое двусмысленное поведение, — а паче несносна была его грубость»[1325]. Щадя чувства Екатерины, Потемкин лишь осторожно намекнул ей, что Мамонов не стоит ее слез. «Но я виновата, — говорила императрица Храповицкому, — я сама его перед князем оправдать старалась»[1326].
Мамонов вместе с молодой женой покинул Петербург. «Он не может быть счастлив, — сказала Екатерина статс-секретарю, — разница ходить с кем в саду и видеться на четверть часа или жить вместе»[1327]. В этих словах слышится не только ревность, но и глубокая печаль пожилой женщины, прекрасно разбиравшейся в человеческих душах.
Особенно удивило императрицу, что Мамонов надеялся остаться с супругой в Петербурге и продолжать вести дела. Его поступки ничуть не напоминали поведение счастливого человека. Уезжая, он, по словам Гарновского, обещал еще вернуться и «всеми править». Граф мешался в речах и даже изводил оставленную им Екатерину вспышками неожиданной ревности. Неудивительно поэтому, что многие при дворе заговорили о том, что Мамонов повредился в рассудке. «Если б тебе рассказать все, что было и происходило через две недели, то ты скажешь, что он совершенно с ума сошел»[1328], — писала государыня Потемкину после отъезда бывшего фаворита 6 июля. Те же слухи приходили и из Москвы, куда отправились молодые.
«Он не может быть счастлив»
Уже в XIX веке история фаворита, отказавшегося от высокого положения ради любви к юной прелестной девушке, обросла романтическими подробностями. Известный автор популярных сочинений на историческую тему поляк Валишевский, живший в Париже и писавший на французском языке, весьма живо передал этот эпизод из жизни Екатерины. Молодой тщеславный красавец несколько лет разыгрывал перед «влюбленной старухой» спектакль. Но, по мнению Валишевского, в данном случае читатели имели дело «с человеком, у которого низменные инстинкты еще не вполне взяли верх над чувствами высшего порядка. Только цена позора была слишком высока… Но наступил день, когда этот человек, сделавший любовь унизительным орудием своего честолюбия и богатства, пожертвовал тем и другим также ради любви»[1329].
Прекрасный сюжет в духе немецкого романтизма: здесь и нравственное падение обаятельного, но нестойкого героя, и возрождение души под очищающим воздействием любви, и нежная благородная девушка, чье возвышенное чувство помогает герою подняться. Именно такую пьесу под названием «Фаворит» и создала в 1830 году немецкая писательница Бирх Пфейфер. Единственное представление имело громадный успех, театр ломился, зрители рыдали в зале. Правда, после этого русский посол в Берлине добился запрещения спектакля. К сильному неудовольствию растроганной публики.
Но дело в том, что жизнь — самый талантливый писатель, и реальность всегда глубже и сложнее любой, пусть даже самой удачной инсценировки. Прежде всего, не было «влюбленной старухи», комичной в своем самообольщении. Да, Екатерина в 1789 году была уже очень немолода и далеко не так хороша, как пару десятилетий назад. Но она это прекрасно осознавала. Сохранился любопытный анекдот: императрица с одной из пожилых подруг сидела в парке на скамейке, а мимо прошла компания офицеров, не заметив мирно беседовавших дам. Подруга хотела возмутиться тем, что молодые люди даже не отсалютовали государыне. Но Екатерина остановила ее: «Полно, лет 30 назад они бы так не сделали». Одной из обаятельных черт в характере Северной Минервы было ее умение посмеяться над собой, а такие люди нелегко обольщаются.
Но Екатерина знала себе цену. И имела на это право даже в пожилом возрасте. В 1787 году, как раз в то время, когда императрица путешествовала по Крыму в сопровождении 29-летнего Мамонова, юная графиня Вера Николаевна Апраксина, племянница К. Г. Разумовского, написала, как пушкинская Татьяна, письмо Петру Васильевичу Завадовскому, которого часто видела в доме своего дяди. Храбрая девушка встретилась с предметом страсти и сама первая призналась ему в любви, прося жениться на ней. Завадовский был обескуражен. Сентиментальный и сострадательный, он не посмеялся над Верой и ответил, что может стать ее мужем, но полюбить будет не в силах: его сердце навсегда отдано другой женщине. Фавор Завадовского окончился 10 лет назад, а он так и не избавился от тоски. Вера решила, что ее чувство оживит душу любимого человека, но ошиблась, их брак оказался несчастливым: Завадовский говорил правду — кроме Екатерины, ему никто не был нужен[1330].
В это время императрица встречалась в Киеве с представителями польского дворянства, среди которых был Феликс Щенсный-Потоцкий, один из богатейших магнатов, входивший в старошляхетскую оппозицию. Императрице необходимо было расколоть ряды противников Станислава Августа, она обласкала графа Феликса, вела с ним долгие беседы у себя на корабле и возлагала на него почетную ответственность за спасение Польши. Щенсный-Потоцкий был очарован ею. Много лет спустя он рассказывал об этой встрече: «Что за женщина! Боже мой! Что за женщина. Она осыпала дарами своих любимцев, а я бы отдал половину своего состояния, чтоб быть ее любимцем!» Екатерине в это время исполнилось 58 лет, Щенсному-Потоцкому было едва за тридцать. Этот случай должен разочаровать тех, кто полагает, что пожилую императрицу любили только за власть и богатство, которые она могла дать. Обаяние, исходившее от нее, было сильнее возраста и любых предубеждений.
А кроме того, не было актера, который, согласно Валишевскому, «сделал любовь унизительным орудием своего честолюбия». Как много о людях могут рассказать портреты! При взгляде на изображение Дарьи Щербатовой кисти Рокотова не оставляет чувство, что ее лицо кого-то напоминает. Тот же удлиненный, нерусский овал, тяжелый волевой подбородок, похожая складка упрямых тонких губ… Пожилая императрица и молоденькая фрейлина внешне принадлежали к одному типу женщин. В этом состояла грустная тайна Александра Матвеевича. Он тоже любил Екатерину. Но она была уже слишком стара для него. И, когда Мамонов решил оставить пострадавший от времени оригинал, он выбрал не новую картину, а неудачную копию.
За обветшавшим фасадом Екатерины хранились несметные духовные богатства, а что могла дать умному и одаренному Александру Матвеевичу его юная избранница? Мамонов обманулся, за похожей внешностью не было похожей души. Но разве вина Дарьи Федоровны, что она оказалась обыкновенной женщиной? Легкомысленное желание молоденькой фрейлины хоть в чем-то взять верх над госпожой обернулось для нее несчастьем всей жизни. Любимый муж не любил ее.
Дворец в Дубровицах уже в первой четверти XIX века осматривал А. Я. Булгаков. По его словам, весь дом был увешан портретами Екатерины. Культ императрицы являлся заметной чертой русского дворянского быта второй половины XVIII — начала XIX века, однако в усадьбе Мамонова он принял поистине болезненные размеры. Изображения Екатерины находились в каждой комнате, среди них были и маленькие рисунки, сделанные рукой самого Александра Матвеевича[1331]. Как не похоже такое поведение на образ действий человека, вырвавшегося наконец из душивших и унижавших его объятий «влюбленной старухи»! Если бы дело действительно обстояло так, то бывший фаворит постарался бы поскорее избавиться от всего, что напоминало ему о прежней жизни.
Промучившись около года в подмосковной глуши, Александр Матвеевич не выдержал. «Случай, коим я по молодости лет и по тогдашнему моему легкомыслию удален… стал от Вашего величества, беспрестанно терзает мою душу, — писал он Екатерине из Дубровиц. — …Возможно ли, чтобы я нашел случай доказать всем… ту привязанность к особе Вашей, которая, верьте мне, с моею только жизнью кончится».
Императрица ответила на письмо бывшего фаворита. Но обстоятельства ее жизни изменились. Возле нее был уже другой — Платон Зубов. Екатерина справилась о том, как поживают домашние Мамонова, мягко показав тем самым, что просьба Александра Матвеевича теперь, после свадьбы, бессмысленна. «Сколь я к ней ни привязан, — писал Мамонов о семье, — а оставить ее огорчением не почту»[1332]. Это была горькая правда.
«Смиренный человек»
Письмо императрицы 21 июня с рассказом о переменах при дворе повез на юг Николай Иванович Салтыков. Посредник между корреспондентами был избран не случайно, именно его протеже, молодой конногвардейский офицер Платон Александрович Зубов, занял место Мамонова.
Н. И. Салтыков, ставший в отсутствие Потемкина вице-президентом Военной коллегии и сохранивший за собой должность воспитателя великих князей Александра и Константина, вел при дворе сложную игру. Он умело лавировал между Петербургом и Гатчиной, внешне согласовывая интересы императрицы и наследника. Его взгляды на внутреннюю политику отличались крайней реакционностью: преследование подозрительных личностей и организаций, перлюстрация частной переписки, поощрение доносительства — вот меры, которые Салтыков предлагал противопоставить распространявшейся по Европе «французской заразе»[1333]. Как человек он тоже не отличался душевной привлекательностью. Этот сухонький набожный старичок с вкрадчивыми манерами «почитался… умным и проницательным, то есть весьма твердо знал придворную науку», но «о делах государственных» ни разу не подал императрице «мнения противного». «Свойства был нетвердого и ненадежного: случайным раболепствовал, а упавших чуждался»[1334]. Так характеризует Салтыкова молодой статс-секретарь Екатерины Адриан Грибовский, близко работавший с Зубовым в годы фавора последнего.
Приезд Салтыкова с письмом Екатерины и просьба передать через него ответ сразу показали Потемкину, как близко к императрице встал покровитель нового «случайного». Сама же государыня, желая лучше познакомить Григория Александровича с новым любимцем, запечатывала свои послания к князю в письма Зубова, как когда-то заключала их в импровизированные конверты из писем Мамонова. Послания императрицы к светлейшему князю Гарновский стал получать из рук нового фаворита. При первом же знакомстве с Платоном Александровичем управляющий почувствовал, что Зубов, несмотря на отменную почтительность, очень неоткровенен[1335].
Заверения Салтыкова в личной преданности не произвели на Потемкина должного впечатления, он с настороженностью отнесся к главе возвышающейся группировки. В то же время Григорий Александрович жалел императрицу и досадовал на нее за неуместную скорость в замене фаворита. Ему не хотелось отвлекаться от военных дел на придворные интриги. «Матушка, всемилостивейшая государыня, — писал он 5 июля, — всего нужнее Ваш покой, а как он мне всего дороже, то я Вам всегда говорил не гоняться… Я у Вас в милости, так что ни по каким обстоятельствам вреда себе не ожидаю, но пакостники мои неусыпны в злодействах, будут покушаться. Матушка родная, избавьте меня от досад. Опричь спокойствия, нужно мне иметь свободную голову»[1336].
Это письмо показывает, что с самого начала нового фавора Потемкин не испытывал иллюзий относительно Салтыкова и его сторонников. «Злодеи твои, конечно, у меня успеха иметь не могут, но, друг мой, не будь без причины столь подозрителен и стань выше мелочных подозрений»[1337], — отвечала императрица 14 июля. О настроении государыни и ее окружения в эти дни Гарновский свидетельствовал: «Все до сих пор при воспоминании имени его светлости неведомо чего трусят и беспрестанно внушают Зубову иметь к его светлости достодолжное почтение»[1338].
Екатерина боялась, что Потемкин резко воспротивится ее выбору, а потому написала ему о своей благодарности Зубову, оказавшемуся рядом в трудный момент. «При сем прилагаю к тебе письмо рекомендательное самой невинной души… Я знаю, что ты меня любишь и ничем меня не оскорбишь… Приласкай нас, чтобы мы совершенно были веселы»[1339]. Потемкин был поставлен в сложное положение. Он мог бы выразить императрице полное несогласие с новой кандидатурой на пост фаворита и, пока еще привязанность Екатерины к Зубову не окрепла, попытаться оттеснить группировку Салтыковых с занятых позиций. Но Григорий Александрович побоялся ранить сердце своей немолодой и остро страдавшей от одиночества подруги. «Матушка моя родная, могу ли я не любить смиренного человека, который тебе угождает? Вы можете быть уверены, что я к нему нелестную буду иметь дружбу за его к Вам привязанность»[1340], — успокаивал он императрицу 30 июня.
Кроме того, как покровитель Дмитриева-Мамонова Потемкин нес в глазах Екатерины определенную ответственность за его поступки. Мягкость и стремление «ничем не оскорбить» государыню обернулись против князя как политика. Владея всей необходимой информацией об интриге Салтыкова, он позволил ставленнику враждебной партии закрепиться на посту фаворита.
Зато императрица заметно ободрилась, перестала грустить и почти в каждом письме живописала корреспонденту достоинства нового любимца: «Четыре правила имеем: будь верен, скромен, привязан и благодарен до крайности»[1341]; «Я очень люблю это дитя. Он ко мне очень привязан и плачет, как ребенок, если его ко мне не пустят»[1342]. О себе Екатерина сообщала, что «ожила, как муха». Прекратились жалобы на здоровье, она вновь шутила и смеялась в письмах. Литературные занятия государыни тоже свидетельствовали об изменении ее настроения к лучшему: она намеревалась оставить сочинение либретто для опер, за которые обычно бралась в минуты печали, и вернуться к комедиям[1343].
«Grande misere»
Между тем события на юге развивались стремительно. После взятия Очакова — главной черноморской твердыни Порты — русские войска обрушились на Молдавию и Валахию. Турки, не считавшие австрийские войска серьезной преградой на своем пути, попытались в июле 1789 года выйти в тыл главных сил Потемкина, уничтожив примыкавший к правому флангу русской армии корпус принца Фридриха Иосии Саксен-Кобург Заальфельда. Однако командующий, предвидя такой оборот, выдвинул далеко вперед летучий корпус Суворова. Александр Васильевич стремительно двинулся на соединение с австрийцами и понудил Кобурга принять бой с превосходящими силами противника[1344]. 29 июля Потемкин известил императрицу о победе при Фокшанах [1345]. Екатерину особенно обрадовало то обстоятельство, что в фокшанском деле союзники сражались вместе. «Это зажмет рот тем, кто разсеивали, что мы с ними не в согласии»[1346], — с удовольствием заметила она Храповицкому.
Согласие в действительности было хрупким. Заносчивость австрийцев задевала русских военачальников. Еще в марте Безбородко писал С. Р. Воронцову о Румянцеве: «Фельдмаршал не мог сладить с цесарцами, потому что они спесивы. Когда дело дойдет до боя, рады нас пустить вперед, говоря, что мы важнейшая часть, а после сказывают, что император ни с кем не имеет альтернативы, и потому их генерал равного чина должен командовать над нашим»[1347].
В данном случае затрагивался один из важнейших дипломатических вопросов — вопрос о приоритетах и международном престиже государства, к чему Екатерина была очень чувствительна. «Что Кобург после победы храбрится, тому не дивлюсь, им удача не в привычку, — писала она 6 сентября. — В этом отношении они похожи на выскочек, которые дивятся, видя у себя хорошую мебель, и не перестают говорить о ней и ею восхищаться»[1348]. После победы при Рымнике, когда Суворов, соединясь с Кобургом, разбил 80-тысячную армию визиря Гассан-паши, вопрос о приоритете вновь был поднят. В письме 2 октября Григорий Александрович сообщал об австрийцах: «Нашим успехам не весьма радуются, а хотят нашею кровью доставать земли, а мы чтоб пользовались воздухом»[1349].
Осень 1789 года была щедра на победы. 10 сентября Репнин разбил турецкие войска на реке Салче. 14 сентября гребная флотилия под командованием Иосифа де Рибаса взяла Гаджибейский замок, располагавшийся на месте будущей Одессы. 2 октября Потемкин известил Екатерину о захвате казаками полковника М. И. Платова городов Паланки и Аккермана и получении ключей от Белграда-на-Днестре[1350]. 3 ноября на милость победителей сдались Бендеры, их жителям была гарантирована свобода[1351].
Заключение мира после столь блестящей кампании было бы почетным для России и сулило большие выгоды. Турецкая сторона показала готовность к переговорам, освободив Я. И. Булгакова[1352]. Однако такое развитие событий не устраивало берлинский двор. Фридрих Вильгельм II подстрекал Польшу напасть на Россию, пока продолжается война с Турцией и Швецией, и сулил ей за это возвращение земель от Смоленска до Киева, а себе требовал Данциг и Торн с их обширной балтийской торговлей[1353]. «Может быть, они только разводят водицу?» — рассуждала Екатерина в письме Гримму. В трудных обстоятельствах последний начал знакомить ее с содержанием писем принца Генриха, дяди короля, который, оставшись после смерти Фридриха II не у дел, жаловался другу-философу на положение в Пруссии и порой выбалтывал важную информацию. Из его признаний Екатерина сделала вывод, что «пруссаки не имеют большого доверия к своим кормчим»[1354].
Тем не менее следовало готовиться к отражению новой угрозы. В случае открытия Пруссией военных действий против России руками поляков Потемкин предлагал поднять восстание православного населения польской Украины. Если Пруссия начнет новый раздел, захватив у Польши балтийские земли и Австрия присоединится к ней, заняв Волынь, светлейший князь советовал ввести русские войска в воеводства Брацлавское, Киевское и Подольское, где «население все из русских и нашего закона». 9 ноября 1789 года он писал: «Польши нельзя так оставить. Было столько грубостей и поныне продолжаемых, что нет мочи терпеть. Ежели войска их получат твердость, опасны будут нам при всяком обстоятельстве, Россию занимающем, ибо злоба их к нам не исчезнет никогда»[1355].
Екатерина продолжала надеяться на скорый мир с Турцией. Но князь предупреждал ее: «В Цареграде ни об Аккермане, ни о Бендерах, да и о Белграде еще не знают». Никто из турецких чиновников не решался доложить молодому султану о столь крупных поражениях, и Селим III пребывал в неведении, которое умело использовали европейские дипломаты. В результате султан настаивал на временном перемирии, а не на подписании мирного договора. «Как кажется, сие делается для выиграния времени и чтоб чернь успокоить»[1356], — заключал Григорий Александрович.
20 декабря Безбородко сообщил С. Р. Воронцову в Лондон: «Открылись намерения короля прусского… Они предложили Порте оборонительный союз, гарантируя целость ее за Дунаем и полагая действовать, если бы мы перенесли оружие за помянутую реку. Начав же тогда действия, продолжать оные, покуда Порта предуспеет возвратить потерянные ею земли и сделает для себя полезный мир со включением в оном Польши и Швеции… Порта, получив в нынешнюю кампанию сильные удары, соглашается на сии постановления и публиковала набор войска и намерение султанское идти в поход»[1357]. Безбородко признавал, что в подобных условиях вести переговоры невозможно. «Теперь мы в кризисе: или мир, или тройная война, то есть с Пруссией»[1358], — записал Храповицкий слова государыни 24 декабря.
Называя Фридриха Вильгельма II «новым европейским диктатором», Екатерина еще не предполагала, как далеко простираются планы берлинского кабинета. Прусский король предложил сложную систему обмена земель с целью снять противоречия между членами «лиги» и сплотить их перед лицом нараставшей русской экспансии. Швеции за продолжение войны с Россией была обещана Лифляндия; Польша, отказываясь от возможного союза с Петербургом, получала от Австрии Галицию, утраченную по первому разделу; Австрия, в случае выхода из войны, могла вознаградить себя Молдавией и Валахией, а Турция возвращала Крым[1359]. Все это грозило началом новой большой общеевропейской войны.
По обыкновению императрица храбрилась, и ее отзывы о противниках были презрительны: «Франция уже в судорогах, а у них (у пруссаков. — О. Е.) они еще только подготавливаются глупостью, но глупость излечить труднее, чем судороги… Дураков излечивает только могила… Здравый смысл и здравое суждение не прививаются, как оспа». В другой раз, обращаясь к Гримму, она назвала союз своих врагов «grande misere», что «означает сбор самых младших карт, с которыми нельзя взять ни одной взятки; следовательно, когда на руках такая игра, то гораздо чаще приходится проигрывать, нежели выигрывать»[1360]. Тем не менее в письмах ближайшему сотруднику — Потемкину — государыня проявляла полную серьезность. 10 января 1790 года она предупредила Григория Александровича, что Фридрих Вильгельм II наметил «обще с поляками весною напасть на наши владения»[1361]. Берлинский кабинет был уверен, что Россия, обольщенная успехами на юге, не захочет остановить победного шествия по турецким землям, пересечет Дунай и подаст повод к объявлению войны. Смяв немногочисленные корпуса русских войск в Лифляндии и на Украине, Пруссия предполагала начать наступление на Ригу, Киев и Смоленск как раз тогда, когда основные силы армии Потемкина уйдут вглубь турецкой территории и будут отделены от нового театра военных действий водными преградами. «Надлежит врагам показать, что нас сюпонировать не можно и что зубы есть готовы на оборону отечества, — писала Екатерина 1 марта, — а теперь вздумали, что, потянув все к воюющим частям, они с поляками до Москвы дойдут, не находя кота дома. Пространство границ весьма обширно, это правда, но если препятствия не найдут, то они вскоре убавят оных»[1362].
В этих условиях Потемкин должен был так спланировать военные действия, чтобы, с одной стороны, принудить Турцию к миру, а с другой — не удаляться с армией от Молдавии и Польши, прикрывая обширную юго-западную границу как раз в тех местах, где вторжение было наиболее вероятным. Для этого командующий предлагал всю силу удара против Турции перенести на море. «Время флотом их пугнуть»[1363], — писал он. Морским силам на юге требовался деятельный и храбрый руководитель. 14 марта Ф. Ф. Ушаков был назначен командующим флотом[1364].
За месяц до этого, 13 февраля, Фридрих Вильгельм II наконец прямо объявил «господам сеймующимся» в Варшаве о своем желании получить Данциг и Торн. Торговые города должны были достаться Пруссии в оплату за финансовую и военную помощь Польше в ее будущей войне с Россией. Таким образом, прусская сторона умело выдвигала Польшу в авангард нападения на земли соседней империи и тем подставляла поляков под главный удар. Однако именно этот альянс вызвал в Варшаве бурный энтузиазм, так как обещал возвращение Украины и Смоленска. 29 марта 1790 года был заключен прусско-польский оборонительный союз. «Тяжелый здравый смысл, которым иногда обладают немцы, — жаловался по этому поводу принц Генрих, — был разбавлен сарматским соком»[1365]. В этих условиях новый раздел со включением всех заинтересованных сторон — Пруссии и Австрии — представлялся единственным способом предотвратить нападение. План вторжения рассматривался как предупреждающий удар перед совместным нападением Пруссии и Польши. Результатом вступления русских войск в Польшу должно было стать полное отделение трех воеводств, населенных православными[1366].
Из письма принца Генриха императрица знала, что прусские войска вот-вот двинутся в поход. Но куда и зачем? «Вся армия с оружием и обозами будет готова выступить 16-го будущего месяца, — сообщал в апреле дядя короля Гримму, — часть этой армии даже перевезут в Силезию; но что станут там делать? Отвечаю: заключать мир… Только бы Ваша великая приятельница, Като Вольтера, тому не воспротивилась». Таким образом, в самой Пруссии вооружение войск и союз с поляками рассматривали как средство припугнуть Екатерину.
«Великая приятельница неподатлива, — отвечала императрица, — дела свои она поведет не иначе, как по своему разумению, и, конечно, никакие Ge и Gu вместе взятые не заставят ее переменить образ действий». Она считала, что объединять усилия Пруссии и Польши — это то же самое, что «соединить воду и огонь» — много дыма и никакого костра. Принц Генрих вздыхал о пропавших втуне суммах: «Опять наши деньги будут истрачены для других, а не для нас»[1367].
Однако реальное положение России оставалось критическим. С 1790 года она воевала против Турции одна, хотя Австрия еще около полугода не заключала мира. Внутренние неурядицы и волнения в провинциях делали союзницу небоеспособной. Иосиф II вызывал неприязнь подданных. «Страх истинно слушать от приезжающих генералов ко мне, как они все раздражены, — писал Потемкин Екатерине об отношении армии к своему императору, — и говорят так смело, что уши вянут»[1368].
Екатерина искренне сочувствовала Иосифу II. «Об союзнике моем я много жалею, — писала она 6 февраля, — и странно, как, имея ума и знания довольно, он не имел ни единого верного человека, который бы ему говорил пустяками не раздражать подданных. Теперь он умирает, ненавидимый всеми»[1369]. 9 (20) февраля Иосиф II скончался. Это был тяжелый удар для Екатерины. Ее недовольство союзником, серьезные разногласия с ним отошли на второй план. «Я… долго не могла видеть [австрийского] посланника, потому что оба мы едва могли удержаться от рыданий», — писала она Гримму. «Я чувствовала к нему (Иосифу II. — О. Е.) искреннее дружеское расположение, и он меня тоже любил. Не могу вспомнить о нем без умиления. Он мне написал [перед смертью] ужасное письмо; я тотчас отвечала ему, но мое письмо пришло слишком поздно». Император умирал в отчаянии от тяжелейшего кризиса, в котором оставлял страну. Екатерина понимала это: «Что касается моего покойного задушевного друга, я не могу прийти в себя от изумления. Как? будучи рожден, воспитан для своего высокого звания, одарен умом, талантами и знаниями он ухитрился царствовать так плохо? Мало того, что он ни в чем не имел успеха, он еще довел себя до несчастий, среди которых и умер»[1370].
О будущем монархе Екатерина высказывалась доброжелательно: «Я многого ожидаю от его наследника, который на первых порах обнаруживает осторожность, благоразумие, твердость и сознание своего достоинства». В то же время она сознавала, в какое положение попал эрцгерцог Леопольд, приняв империю, обремененную войной и мятежами в провинциях. «Он единственный человек, которому я прощаю его игру, — признавалась наша героиня Гримму. — Если он обманывает нас, то я его поздравляю; если же нет, то я о нем сожалею»[1371].
Потемкин понимал, что перемена на венском престоле повлечет за собой изменение всего курса австрийской внешней политики. В условиях серьезного внутреннего кризиса империя Габсбургов не сможет противостоять Пруссии и на время подчинится ее влиянию[1372]. Совсем иного мнения придерживались представители проавстрийской партии в Петербурге. Они возлагали на нового императора Леопольда II большие надежды. «Я думаю, что его контенанс много пособит нам с честию выпутаться из настоящих обстоятельств, в кои погрузила нас недеятельность или медленность военная, — писал Семену Воронцову Безбородко сразу по получении известия о смерти Иосифа II. — Но уверен, что впредь он не так охотно и слепо на затеи наши поддаваться станет, как покойник, которого можно было считать за нашего наместника и генерала»[1373].
Этим надеждам не суждено было осуществиться. Летом Вена начала переговоры с Пруссией в городе Рейхенбахе в Силезии. Потемкин сразу понял, куда они клонятся. «Король венгерский трактует с королем прусским. Боюсь, чтоб они не оставили нас одних в игре, ибо ничего сюда не сообщают»[1374], — писал он Екатерине 5 июля. Императрица рассчитывала на иной исход переговоров в Рейхенбахе. «Я думаю, что король венгерский старается протягивать негоциации»[1375], — писала она 17 июля в надежде, что австрийская сторона, верная недавно возобновленному на восемь лет союзу 1781 года, не оставит Россию одну «посреди пяти огней». В этом ложном убеждении императрицу старались удержать сторонники проавстрийской группировки, быстро терявшие политический вес в связи с переориентацией курса Вены.
Тем тяжелее для Екатерины было понять, что она обманулась. Уступив давлению прусских и английских дипломатов, Австрия вышла из войны с Портой. 27 июля (7 августа) австрийцы заключили соглашение с Пруссией, по которому Вена в обмен на помощь в Бельгии отказывалась от всех своих завоеваний в турецких владениях, обязывалась подписать перемирие и отозвать бухарестский корпус принца Кобурга. Екатерина назвала рейхенбахские декларации «постыдными»[1376].
«Я никому не мешала заключать мир, и мир был заключен, — писала она Гримму, — зато, правда, он им стоил миллионов». И чуть позднее о том, что на месте Леопольда сама поступила бы иначе: «Венгерцы обещали ему 60 000 войска на их иждивении, только бы он не отказывался от своих завоеваний… Они сказали королю: „Государь, не уступайте ничего, и на этом условии мы вам дадим всё, что будет нужно“. Имея в руках такую силу, можно ли не захотеть помериться в борьбе с дерзостью и неразумием?»[1377]
Безбородко, прежде так восхищавшийся Леопольдом II и уповавший на его помощь, вынужден был признать: «Мы теперь не имеем союзников. Король прусский воспользовался расстройством австрийской монархии и слабостью ныне владеющего императора, поставил его в совершенное недействие, которое, по собственному изъяснению венского двора, не прервется и при самом на нас нападении»[1378].
«Одну лапу мы из грязи вытащили»
Вскоре последовал ответный удар русской дипломатии. 3 (19) августа в Вереле Россия и Швеция подписали мир без всякого посредничества Пруссии или Англии.
С русской стороны к переговорам были допущены граф И. А. Остерман, А. А. Безбородко, граф А. Р. Воронцов и Н. И. Салтыков[1379]. Однако уполномоченный подписывать договор барон О. Г. Игельстром вел через их голову непосредственную переписку с Потемкиным, в которой не только доносил о ходе русско-шведского диалога, но и просил оказать необходимое содействие, жалуясь на негибкую позицию своих начальников[1380]. Потемкин поддерживал мнение Игельстрома перед императрицей. Так, Густав III отказывался удовлетворить желание России и восстановить государственное право, существовавшее в Швеции до переворота 1772 года. «Требования для примирения, чтоб король шведский был без власти начинать войну, было напрасно, ибо сим способом никогда не помиримся. Бросьте его так»[1381], — убеждал Потемкин Екатерину в письме 18 марта. На сей раз императрица была склонна прислушаться к словам советника. Однако заключению мира между Россией и Швецией предшествовала череда летних морских сражений.
Операции на Балтике велись в такой близости от Петербурга, что в город доносилась пушечная стрельба, Екатерина проводила ночи без сна, а граф Безбородко плакал[1382]. В письме 8 июня императрица с удовольствием рассказывала Потемкину, как шведский флот был блокирован русскими эскадрами в Березовом Зунде. «Тут они доднесь еще здравствуют, быв с моря заперты нашим всем флотом корабельным… Если Бог поможет, то кажется, что из сей мышеловки целы не выйдут»[1383].
Екатерина очень зримо описывала ситуацию в письме Гримму: «Возьмите, пожалуйста, карту Балтийского моря и отыщите Выборг. Он находится в глубине залива, на финляндском берегу. Это ближайший за Кронштадтом залив. Так вот, после трехдневных сражений… флот герцога Зюдерманландского… соединился перед этим заливом с галерным флотом под личным начальством самого короля. Выборгский залив весь усеян островами. Тридцать наших галер расположены среди этих островов, город Выборг позади их. Два шведские флота стали между нашими тридцатью галерами, а две эскадры, ревельская и кронштадтская, отрезывают им сообщение с морем и шведскими берегами. Со стороны же Кронштадтского залива стоит принц Нассауский с флотилией из галер, шебек и других гребных судов… более двухсот. Ну, что же он делает, то есть Фальстаф (Густав III. — О. Е.) конечно? Он умирает с голоду и его люди тоже… В этом Выборгском заливе, между подводными камнями и скалами находится с обеих сторон более пятидесяти тысяч человек и, вероятно, когда Вы получите это письмо, все будет покончено»[1384].
22 июня при попытке вырваться из плотного окружения русских эскадр шведы потеряли семь линейных кораблей и два фрегата. Наблюдавший с берега за сражением командир казачьего пикета прислал императрице в Петербург короткую записку: «Наши на море хватают, жгут и теснят неприятеля». Екатерина была в восхищении от спартанского лаконизма этой цидулки. «Пленных тысяч до пяти, пушек до осьми сот, о мелких судах счету нет еще»[1385], — писала она Потемкину. Король с братом потихоньку «сели в баркас между двумя судами с провиантом и таким образом бежали, пока сражались корабли, — рассказывала императрица Гримму. — Вот уже этого, например, я бы не сделала, потому что оно доказывает, что боишься за свою шкуру. Я просто сказала бы своему флоту: „Господа, хочу делить ваши опасности; где вы будете, там и я. Будем жить и умирать вместе!“ Но бежать в самом разгаре опасности это низость, а не ошибка. О, дрянные трусы!». В следующем письме Екатерина добавляла: «О короле ничего не известно. Его завтрак, галера, шлюпка взяты»[1386].
Поражение Густава III произвело тяжелое впечатление в Лондоне и Берлине. Англия выразила немедленную готовность выступить в роли посредника на мирных переговорах[1387]. Однако русский посол в Лондоне Семен Воронцов предупреждал, что английский король «будет ободрять короля шведского к продолжению войны»[1388]. По этому поводу Екатерина писала Гримму: «Мы на все готовы: и принять, и прогнать, и устоять, и драться… и останемся покойны, степенны, учтивы и веселы… в упрямой уверенности… что Господь воинств поддержит и благословит правое дело»[1389].
Однако вслед за блестящей победой русский флот постигло поражение. Командовавший гребной флотилией принц Карл Нассау-Зиген хотел в годовщину вступления Екатерины на престол — 28 июня — нанести шведам новый удар, но был наголову разбит. «После сей прямо славной победы шесть дней последовало несчастное дело с гребною флотилиею, — писала императрица Потемкину 17 июля, — которое мне столь прискорбно, что, после разнесения черноморского флота бурею при начатии нынешней войны, ничто сердце мое не сокрушило как сие»[1390].
Нассау умолял об отставке и возвратил императрице все свои ордена. Уже после заключения мира Екатерина рассказывала об этом Потемкину: «Я писала к Нассау, который просил, чтоб я его велела судить военным судом, что он уже в моем уме судим, понеже я помню, в скольких сражениях он победил врагов империи… что вреднее уныния нет ничего, что в несчастье одном дух твердости видно»[1391]. Императрица довольно точно передала в послании князю содержание и сам дух письма, направленного ею к Нассау-Зигену. «Боже мой, кто не имел больших неудач в своей жизни?.. Покойный король прусский был действительно велик после большей неудачи… все считали все проигранным, и в то время он снова разбил врага»[1392]. Екатерина оказалась права, в дальнейших операциях Нассау сопутствовала удача, «что не мало и помогло миру»[1393].
Однако императрица не могла закрыть глаза на то, что к поражению едва не привели почти пиратские действия флотилии Нассау — так называемая погоня за призами, из-за которой капитаны позабыли свои прямые обязанности. «Не шведский король или его флотилия разбили принца Нассауского, — отвечала Екатерина на соболезнования Гримма, — это произвел… слишком большой пыл его подчиненных, которые считали себя непобедимыми. Он хотел поддержать горячие головы, бросившиеся вперед… пошел к Гохланду, вместо того, чтоб лавировать в шхерах. На это уговорили его, вероятно, его капитаны, потому что они развлекались призами больших шведских кораблей… Если б, вместо того, чтоб гоняться за большими судами, они отрезывали и преследовали гребные суда, что было их прямым делом, всякий исполнил бы свое назначение, и остатки [шведского] флота не повредили бы принцу. Но сделанного не воротишь, и нечего более об этом говорить»[1394].
5 августа императрица сообщала Потемкину радостную весть: «Сего утра я получила от барона Игельстрома курьера, который привез подписанный им и бароном Армфельдом мир без посредничества, а королю прусскому, чаю, сей мир не весьма приятен будет»[1395].
Финальные переговоры велись на Верельском поле между передовыми постами двух армий и направленными друг на друга заряженными пушками. При малейшей попытке шведской стороны увеличить требования Игельстром, взяв свою шляпу, направлялся в расположение русских войск, чтобы начать бой. Наконец король уступил, договор был подписан, и уполномоченные обменялись текстами[1396].
«Так Вы находите наш северный мир прелестным, — писала Екатерина Гримму, — вместе с формой его подписания в открытом поле двумя баронами, из которых один был в состоянии сказать другому: „Я убью тебя, барон, если ты не приступишь со мной прямо к делу“». «Вот одним злом меньше… У меня голова кружится от мирных празднеств… Слава Богу, что она у нас не кружилась во время войны»[1397]. Потемкину государыня сообщала: «Одну лапу мы из грязи вытащили, как вытащить другую, то пропоем аллилуя»[1398].
Как и предполагала императрица, случившееся не могло быть приятно прусскому королю. Берлинский кабинет упустил удобное для нападения на Россию время. Весной и летом прусские и польские войска не могли двинуться, так как армия Потемкина не ушла за Дунай и в любой момент могла всей своей мощью развернуться против них. В конце лета был подписан Верельский мир, и Россия высвободила значительные военные силы на севере. Даже из Рейхенбахского соглашения русская сторона сумела извлечь пользу. Потемкин сократил линию локальной обороны и совершенно блокировал польскую границу.
Любопытно, что барон Гримм узнал о заключении Верельского мира, направляясь во Франкфурт на коронацию нового австрийского императора Леопольда. «Ну, сказал я, разговаривая со своей шапкой: это с ее (Екатерины. — О. Е.) стороны такая мастерская штука, какой мало подобных, и ее завистливые и желчные друзья не так легко ей простят это, как даже то, что она своего двоюродного братца… разбила на голову». «Что до Верельского мира, то я согласна с Вами, — торжествовала Екатерина, — он может быть единственный в своем роде, потому что заключен в трое суток, отчего все гороховые супы и их здешние повара (монархи и послы „лиги“. — О. Е.) потеряли голову»[1399].
Философ оказался прав и в другом. «Друзья» не простили русской императрице этого успеха. Вслед за первым «подарком» бывшие союзники приготовили петербургскому кабинету еще один сюрприз. 19 августа 1790 года Потемкин уведомил корреспондентку, что Вена намерена вступить с Берлином в военный союз, то есть примкнуть к «лиге» и оказаться в числе врагов России[1400].
У этих событий было неожиданное «побочное» действие. Выход Австрии из войны и расторжение альянса с Петербургом нанесли сокрушительный удар по влиянию «социетета». Группировка, сильная поддержкой Венского двора, теперь стремительно теряла вес. Ее уход с политической сцены ознаменовался громким скандалом — имя Александра Воронцова оказалось замешано в деле его подчиненного А. Н. Радищева.
Глава пятнадцатая ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В СИБИРЬ
28 июня 1790 года Екатерина отпраздновала 28-летие со дня своего восшествия на престол. В мирное время во всех церквях Санкт-Петербурга были бы отслужены торжественные молебны, в одной из загородных резиденций — Петергофе или Царском Селе — устроен пышный прием для кавалеров российских орденов, иностранных послов и придворных. Монархиня раздала бы награды отличившимся офицерам и чиновникам и сама не осталась бы без подарков…
Однако шла война. Кавалеры разъехались на театр боевых действий. Иностранные дипломаты отсиживались по резиденциям посольств — шведская «бомбардирада» столицы создавала угрозу для перемещавшихся по улицам экипажей. А придворные ходили как в воду опущенные. Петербург готовился к эвакуации.
И все же «подарки» государыня получила. Их было два.
Первый походил на бомбу, разорвавшуюся прямо у ее ног. Гребная эскадра под командованием Нассау-Зигена, как уже было сказано, потерпела поражение от шведского флота. Путь к столице для неприятеля был открыт.
Второй… выглядел детской бумажной хлопушкой, но резонанс от его хлопка был отчетливо слышен в русской культуре в течение двух последующих столетий. Екатерина нашла у себя на столе книгу Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву».
«Несомненно зажигательное произведение»
В эти тяжелые дни императрицу часто посещала ее старая подруга Екатерина Романовна Дашкова. Вот что она писала о деле Радищева: «Под начальством моего брата по таможне служил один молодой человек по фамилии Радищев; он учился в Лейпциге, и мой брат был к нему очень привязан. Однажды в Российской Академии в доказательство того, что у нас было много писателей, не знавших родного языка, мне показали брошюру, написанную Радищевым. Брошюра заключала в себе биографию одного товарища Радищева по Лейпцигу, некоего Ушакова, и панегирик ему. Я в тот же вечер сказала брату… что его протеже страдает писательским зудом, хотя ни его стиль, ни его мысли не разработаны, и что в его брошюре встречаются даже выражения и мысли, опасные по нашему времени… Этот писательский зуд может побудить Радищева написать впоследствии что-нибудь еще более предосудительное. Действительно, следующим летом я получила в Троицком очень печальное письмо от брата, в котором он мне сообщил, что… Радищев издал несомненно зажигательное произведение, за что его сослали в Сибирь… Этот инцидент и интриги генерал-прокурора внушили моему брату отвращение к службе, и он попросил годового отпуска… однако до истечения срока отпуска он подал прошение об отставке и получил ее»[1401].
Из приведенных строк следует, что княгиня не была лично знакома с Радищевым и вряд ли читала его книгу. История ареста автора «Путешествия из Петербурга в Москву» как будто прошла мимо нее, никак не затронув. Однако следующее сразу за рассказом о Радищеве описание дела Я. Б. Княжнина содержит характерную деталь: «В 1794 году… вдова одного из наших знаменитых драматических авторов Княжнина, попросила меня напечатать в пользу его детей последнюю написанную им… трагедию. Мне доложил об этом один из советников канцелярии Академии наук, Козодавлев, ему я и поручила прочесть ее и сообщить мне, нет ли в трагедии чего-нибудь противного законам или правительству. Козодавлев сообщил мне, что… он ничего не нашел в ней предосудительного и что развязка заключается в торжестве русского государя и изъявлении покорности Новгородом и мятежниками. Тогда я велела напечатать ее… Не знаю, прочла ли ее императрица или граф Зубов, но в результате ко мне явился полицеймейстер и очень вежливо» сообщил, что «императрица приказала ему взять все находящиеся» в Академии наук «экземпляры трагедии, находя ее слишком опасной для распространения в публике… Днем ко мне явился генерал-прокурор Сената Самойлов» и «сообщил, что императрица намекнула и на брошюру Радищева, говоря, что трагедия Княжнина является вторым опасным произведением, напечатанным в Академии»[1402].
Речь шла о трагедии Княжнина «Вадим Новгородский», написанной одновременно с книгой Радищева в 1789 году. В ней главный герой поднимает восстание против призванного править на Руси варяга Рюрика. Потерпев поражение, Вадим предпочел смерть жизни под властью самодержца, пусть и очень добродетельного. Что ни говори, а намек в пьесе выглядел прозрачным, и у императрицы были основания посчитать ее опасной. Особенно в условиях, когда во Франции полыхал якобинский террор, а в январе 1793 года была казнена королевская семья.
На следующий день Екатерина сама выговорила Дашковой: «Что я Вам сделала, что Вы распространяете произведения опасные для меня и моей власти… Знаете ли, что это произведение будет сожжено палачом». «Не мне придется краснеть по этому случаю», — ответила Дашкова. Все экземпляры трагедии действительно сожгли перед Адмиралтейством.
Что дало Екатерине право винить княгиню в распространении крамолы? Ведь Радищев напечатал свою книгу сам, на чердаке собственного дома. А слова императрицы как будто указывали на причастность академии к выпуску «Путешествия из Петербурга в Москву».
Еще в 1783 году государыня подписала указ о создании Российской академии, главой которой была назначена Дашкова. Это учреждение стало научным центром по работе над словарем и грамматикой русского языка. Результаты деятельности академии оказались впечатляющими: в беспрецедентно короткий срок (1789–1794) был издан Словарь Российской академии в шести частях. В его подготовке приняли участие известные ученые, литераторы, преподаватели, государственные деятели: М. М. Щербатов, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин, Я. Б. Княжнин, И. И. Лепехин, С. Я. Румовский, Ф. И. Янкович де Мириево, И. И. Мелиссино[1403]. Выпуск словаря имел огромное значение как в научном, так и в литературном плане. Естественно, что в таких условиях Дашкова и ее сотрудники обращали самое пристальное внимание на так называемых «молодых авторов», от которых ждали очищения и развития русского языка в соответствии с выработанными словарем нормами.
Петербург тем временем вовсе не выглядел литературной пустыней, какой часто представляется читателю наших дней. Из-за трудностей с архаичной лексикой сейчас почти невозможно оценить всю полнокровность литературной жизни, которая кипела в столице России в конце XVIII столетия. Город, как улей пчелами, роился писателями, своими и заезжими. Среди них Радищев уже с 1770-х годов занимал не последнее место. Так, он поддерживал тесные контакты с издателем и просветителем Н. И. Новиковым в петербургский период жизни последнего. В 1772 году в новиковском журнале «Живописец» был помещен «Отрывок путешествия в *** И*** Т***» — первоначальный набросок одной из глав уже тогда задуманного «Путешествия…»[1404].
Созданное Новиковым в 1773 году «Общество, старающееся о напечатании книг» издало переведенное Радищевым сочинение французского революционного писателя Мабли «Размышление о греческой истории». Тогда же Радищев активно посещал общую с Новиковым масонскую ложу «Урания». Когда просветитель уехал в Москву и создал там при университетской типографии новое литературно-философское общество, Радищев оставался в Петербурге, но не прервал старых связей. В 1784 году в Северную столицу перебралась группа бывших московских студентов. Они решили устроить на новом месте литературное объединение подобное московскому. Так возникло «Общество друзей словесных наук», с которым в разное время сотрудничали Г. Р. Державин, И. А. Крылов, И. И. Дмитриев, H. М. Карамзин, А. С. Шишков и др.
Радищев немедленно примкнул к обществу. Он искал для себя родной литературно-масонской среды, где мог бы свободно проповедовать свои взгляды. Других литературных организаций, кроме официальной Российской академии, в столице тогда не было. Действовал еще салон Дарьи Львовой, супруги архитектора и музыканта Николая Львова, куда входили также многие знакомцы Радищева. Но там безраздельно царил Г. Р. Державин с его безупречным стилем и абсолютной лояльностью к власти. Революционно мыслящий автор пришелся бы здесь не ко двору.
Зато в «Обществе друзей» Радищев занял исключительное положение. Благодаря высокому посту, немолодому возрасту и финансовым средствам, находившимся в его распоряжении, он активно влиял на жизнь объединения. Его коллеги-литераторы, вчерашние студенты, еще не продвинувшиеся по службе, во многом зависели от покровительства крупного чиновника.
Общество издавало журнал «Беседующий гражданин». Как вспоминает один из его членов С. А. Тучков, Радищев брал на себя заботу о прохождении публикуемых текстов через цензуру[1405]. Нередко его собственные статьи отличались «вольностью духа», которую разделяли далеко не все «друзья словесных наук». Многие из них откровенно побаивались революционного пыла автора. Но Радищев обладал несомненной административной хваткой. Например, он устраивал подписку на журнал общества «Беседующий гражданин» через книгопродавца Мейснера, который одновременно служил у него под началом мелким таможенным чиновником[1406].
Некоторые статьи Радищева по принципиальным политическим вопросам шли вразрез с позицией журнала. Так, «Беседа о том, что есть сын отечества» содержала критику крепостного права, развитую затем в «Путешествии из Петербурга в Москву». «Не все рожденные в Отечестве достойны величественного имени сына Отечества (патриота), — начинает автор свою „Беседу“. — …Кому неизвестно, что имя сына Отечества принадлежит человеку, а не зверю… Известно, что человек существо свободное, поскольку одарено умом, разумом и свободною волею… Но в ком заглушены сии способности, сии человеческие чувствования, может ли украшаться величественным именем сына Отечества? Он не человек, но что? Он ниже скота…»[1407] Автор делал вывод, что «сыном Отечества» не может быть ни крепостной, лишенный гражданских прав, ни его владелец, таковых прав лишающий.
Для сравнения приведем рассуждение на ту же тему создателя общества М. И. Антоновского: «Крестьянин каждый имеет свою собственность… Что крестьянин вырабатывает или ремеслом своим достает, остается точно ему принадлежащим. Тем владеет он во всю жизнь свою спокойно, отдает в приданое за дочерьми, оставляет в наследство. Без такой свободы и безопасности не могли б крестьяне наживать по сту тысяч рублей и более капитала, чему есть много примеров в России… Такое состояние можно ли назвать невольническим, как думают иностранные и домашние невежды?»[1408]
Кроме того, журнал отличался строгой религиозностью, Радищев же позволял себе в статьях откровенно атеистические высказывания. После выхода «Путешествия…» руководители московских масонов заявляли, что поступок автора являлся «следствием быстрого разума, не основанного на христианских правилах»[1409]. Однако пока Радищев мог помочь обществу и журналу, на его отступления от «христианских правил» закрывали глаза.
Александр Николаевич сумел составить себе имя как литератор с весьма бойким пером. Тот факт, что под пристальным взглядом главы Российской академии оказалось «Житие Федора Ушакова», говорит об определенном статусе автора. Он стал тем, на кого обращали внимание.
«Согрешил в горячности моей»
Дашкова называла Радищева «молодым человеком», хотя в 1790 году ему исполнился 41 год. Он родился в 1749 году и был всего на шесть лет младше княгини. Кроме того, Радищев занимал весьма высокий (и доходный) административный пост заместителя начальника петербургской таможни. Был хорошо известен при дворе, где начинал карьеру еще пажом. Затем на личный счет государыни обучался в Лейпцигском университете (таких особо выделенных августейшим вниманием пансионеров было немного). Пользовался доверием и покровительством А. Р. Воронцова, по его протекции получил из рук императрицы орден Святого Владимира. И, наконец, был женат на А. В. Рубановской, воспитаннице Смольного монастыря одного из первых выпусков, а эти девушки были отмечены личной заботой и вниманием Екатерины.
Кроме того, Радищев происходил из очень состоятельной семьи. В «Путешествии из Петербурга в Москву» он говорит встреченному крестьянину: «У меня, мой друг, мужиков нет, и для того никто меня не клянет»[1410]. Однако в действительности писатель являлся наследственным владельцем трех тысяч душ в разных уездах Российской империи[1411]. Таким образом, Радищев никак не мог быть для Дашковой просто «молодым писателем», имя которого она впервые услышала в академии от сотрудников. Напротив, он, что называется, входил в «свой круг» близких друзей семейства Воронцовых и заметных литераторов, с которыми Екатерина Романовна постоянно общалась. Следует иметь в виду, что при дворе, где служило всего несколько десятков человек[1412], и в литературном полусвете столицы «все всех знали». Литературой в ту пору никто не жил, а зарабатывал хлеб насущный службой (Г. Р. Державин — сенатор, А. П. Сумароков — директор придворного театра). Поэтому разные на первый взгляд сферы знакомств сливались в один большой, недружный клан пишущих чиновников. К нему-то и принадлежал Радищев.
В Петербурге в тот момент публиковалось множество книг, еще больше приходило из-за границы. Петербургская и Московская книжные лавки Академии наук ежегодно распродавали тысячи экземпляров изданий самой разной тематики[1413]. Чтобы заметить в этом море новинку, нужно было твердо знать, что ищешь.
Работа об Ушакове Екатерине Романовне не понравилась: «Брат сказал мне, что я слишком строго осудила брошюру Радищева; прочтя ее, он нашел только, что она не нужна, так как Ушаков не сделал и не сказал ничего замечательного… Я сочла своим долгом сообщить ему», что «человек, существовавший только для еды, питья и сна, мог найти себе панегириста только в том, кто снедаем жаждой распространять свои мысли посредством печати»[1414].
Ни Екатерина Романовна, ни ее брат, куда лучше знавший Радищева, не догадывались, что для панегирика покойному университетскому товарищу у писателя имелись веские личные основания. Страшная смерть Ушакова до глубины души потрясла Александра Николаевича, отбросив длинную тень на его дальнейшую жизнь. Дело в том, что в Лейпциге, несмотря на строгий и даже жестокий надзор наставников, русские студенты предавались порой самому разнузданному разгулу. Поддавшись соблазнам «любострастия», и Ушаков, и сам Радищев «почитали мздоимную участницу любовныя утехи истинным предметом горячности». Проще говоря, разгуливали по борделям. Закончились эти шалости плачевно — «смрадной болезнью». Первым среди товарищей пострадал Федор Ушаков, самый старший и наименее управляемый. В узком студенческом сообществе он играл роль заводилы и постоянно подбивал на неповиновение начальству. Благо начальство в лице гофмейстера майора Бокума вело себя действительно по-скотски: удерживало деньги, присланные студентам из России, унижало и даже пыталось бить своих подопечных. Однако неповиновение «тирану» вышло для недорослей боком, они ударились во все тяжкие и подхватили венерическое заболевание. Ушаков умирал страшно. Он фактически заживо разлагался на глазах у своих испуганных товарищей. Перед кончиной несчастный так страдал, что умолял дать ему яду.
Мучения, перенесенные Ушаковым, подняли его в глазах Радищева до уровня святого, достойного своего «жития». Так верх и низ, грех и святость впервые поменялись местами в сознании будущего писателя. Развратник воспринимался как мученик за свободу, а православный священник, не позволивший умирающему покончить счеты с жизнью, вызывал гнев и отвращение. Отныне Радищев везде и всегда будет отождествлять официальную власть и официальную Церковь, враждебно относясь к обеим:
Власть царска веру охраняет, Власть царску вера утверждает, — Союзно общество гнетут…Пережитое в 1771 году потрясение на долгие годы подарило Радищеву две сокровенные темы творчества: постыдная болезнь и самоубийство. К ним он будет неизменно возвращаться мыслью в течение трех десятилетий. В «Житии Федора Ушакова» у автора еще не хватало смелости откровенно выплеснуть на страницы свои переживания. Поэтому все любовно собранные подробности лейпцигского периода жизни Ушакова кажутся стороннему читателю «ненужными», как сказал А. Р. Воронцов. Раз Ушаков только ел и спал, то о чем же рассуждать?
Радищеву, у которого в 1783 году умерла от странной болезни жена, было о чем рассуждать. Ко времени написания «Путешествия…» он был уже морально готов поделиться с читателем своим горем. Откровенность его исповеди в главе «Яжелбицы» потрясает: «Я проезжал мимо кладбища. Необыкновенный вопль терзающего на себе волосы человека понудил меня остановиться…
— Ведайте, ведайте, что я есмь убийца возлюбленного моего сына… Я смерть его уготовал до рождения его, дав жизнь ему отравленную… Я, я един прекратил дни его, излив томный яд в начало его… Во все время жития своего не наслаждался он здравием ни дня единого; и томящегося в силах своих разверстие яда пресекло течение жизни. Никто, никто меня не накажет за мое злодеяние!..
Нечаянный хлад разлился в моих жилах. Я оцепенел. Казалось мне, я слышал мое осуждение. Воспомянул дни распутный моей юности… Воспомянул, что невоздержание в любострастии навлекло телу моему смрадную болезнь. О, если бы не далее она корень свой испустила! О, если бы она с утомлением любострастия прерывалась! Прияв отраву сию… даем ее в наследство нашему потомству. О, друзья мои возлюбленные, о чада души моей! Не ведаете вы, колико согреших перед вами. Бледное ваше чело есть мое осуждение. Страшусь возвестить вам о болезни, иногда вами ощущаемой. Возненавидите, может быть, меня и в ненависти вашей будете справедливы… Согрешил в горячности моей, взяв в супружество мать вашу. Кто мне порукою в том, что не я был причиною ее кончины? Смертоносный яд… переселился в чистое ее тело, отравил непорочные ее члены… Ложная стыдливость воспретила мне ее в том предостеречь… Воспаление, ей приключившееся, есть плод, может быть, уделенной ей мною отравы».
Обычно исследователи Радищева стыдятся этих строк и не приводят их. Хотя во всей книге они, пожалуй, наиболее искренние и наиболее безжалостные по отношению к самому автору. Однако нести тяжесть личного греха писателю страшно, и он заканчивает длинный покаянный монолог совершенно неожиданно: «Но кто причиною, что сия смрадная болезнь во всех государствах делает столь великие опустошения?.. Разве не правительство? Оно, дозволяя распутство мздоимное… отравляет жизнь граждан»[1415]. Оказывается, в том, что молодой повеса гулял по лейпцигским борделям, виновата Екатерина II, посылавшая деньги на его обучение юриспруденции. А в том, что зрелый Радищев из «ложной стыдливости» не предупредил любимую о своем недуге, — извращенные нормы общественной морали.
Но вернемся к «Житию Федора Ушакова», увидевшему свет в 1789 году. Заключенные в брошюре мысли показались Дашковой «неразработанными» и «опасными по нашему времени». Княгиня абсолютно права. Ведь брошюра повествует вовсе не о том, как кто-то ел и спал. Это рассказ о жизни русского студента на фоне волнений против деспотизма гофмейстера Бокума — единственной доступной тогда для юных бунтарей власти. Этот фон и является в книге Радищева главным. Отталкиваясь от волнений в Лейпциге, автор развивает идеи в духе Французской революции.
Не для печати им уже была написана ода «Вольность».
Возникнет рать повсюду бранна, Надежда всех вооружит; В крови мучителя венчанна Омыть свой стыд уж всяк спешит. …………………………… Ликуйте склепанны народы, Се право мшенное природы На плаху возвести царя.Радищев не отважился поместить в «Житие…» даже отрывки из оды, как сделал позднее в «Путешествии…». Но «Вольность», созданная в 1781–1783 годах, задолго до Французской революции, кладет отсвет на страницы всех последующих произведений автора. Дашкова интуитивно уловила настроение революционного томления, разлитое в брошюре. Поэтическое прозрение или опыт Английской революции позволили Радищеву за десять лет до событий в Париже предсказать судьбу Людовика XVI. Когда французскому монарху отсекли голову, многие зрители из толпы поспешили к эшафоту, чтобы омыть свои платки в крови «тирана».
«Идущу мне…»
«Неразработанный» язык «Жития…» также не понравился Дашковой. И недаром. Княгиня и ее сотрудники столько сил положили на создание словаря современного им русского языка, прививали обществу очищенные от архаики нормы грамматики, старательно разъясняли значение слов и способы их правильного употребления в письменной и устной речи. А тут, точно по недоразумению, на них со страниц брошюры дохнуло бессмертным стилем «Тилемахиды» В. К. Тредиаковского. За полвека язык ушел далеко вперед, да и во времена самого стихотворца так никто уже не говорил. Не зря сотрудники показали княгине брошюру Радищева как пример незнания русского языка.
Они ошибались только в одном. Автор «Жития…» не просто не знал, он знать не хотел их трудов. Изящество слога, легкий язык, «гладкопись», как говорили в XVIII веке, — все это было глубоко чуждо Радищеву. Его интересовали необычные, неудобные языковые формы. Например, в поэзии он презирал столь любимый отечественными стихотворцами четырехстопный ямб, зато экспериментировал с гекзаметрами и сафической строфой. Обожал, когда обилие согласных звуков буквально наезжает друг на друга в одной строчке. То же происходило и в прозе. Обширное использование церковнославянизмов, длиннейшие предложения по семь-восемь строк, обороты, не лезущие ни в какие грамматические нормы: «…идущу мне, нападет на меня злодей…», «…муж и жена… обешиваются прежде всего на взаимное чувств услаждение…» — все это характерные особенности радищевской стилистики.
Исследователи творчества Радищева по-разному отвечают на вопрос: зачем он так писал? Одни считали, что из конспирации. Старался сбить со следа «царских ищеек», когда они будут разыскивать автора крамольного «Путешествия…»[1416]. Другие возражают им, что и «Житие…», и «Дневник одной недели», и многие статьи Александра Николаевича написаны тем же неудобочитаемым языком. Как раз по стилистике автора легче всего было узнать, да он и не особенно скрывался. Скорее, дело в осознанном эксперименте[1417]. Мучительностью и корявостью языка писатель старался передать материальную грубость мира, трудность окружающей его жизни, где нет места ничему легкому и простому. Радищев добивался плотной осязаемости своих слов. Он пытался посредством невообразимо трудного стиля задеть, поцарапать читателя, обратить его внимание на смысл написанного, заставить по несколько раз вернуться к непонятной мысли, разобраться, вникнуть… Возможно, автор не знал, что большинство читателей откладывают книгу там, где им становится сложно. Следом приходит скука. А скука, как писал Пушкин, «холодная муза». Недаром изучение «Путешествия…» по школьной программе отбило желание ближе знакомиться с Радищевым у нескольких поколений наших соотечественников.
Ученые из Российской академии предлагали другой путь. Без словаря не мог бы состояться необыкновенно чистый и легкий язык H. М. Карамзина, а позднее русское образованное общество не было бы готово принять гениальные в своей ясности и простоте языковые нормы Пушкина. Дашкова и ее сотрудники отстаивали одну линию развития русского литературного языка — к максимальной простоте и понятности. А Радищев — принципиально другую — к архаике, усложнению, экспериментам с лексикой и грамматикой. Заслуга Дашковой и ее помощников состояла в том, что они угадали, куда развивается живая русская речь, и потому выиграли поединок с «экспериментаторами». А ведь невидимая битва за язык — порой самая сложная. Речь определяет способ мышления, в конечном счете ментальность целого народа.
Помимо «расстеганного», как тогда говорили, стиля автора и его еще более «расстеганных» идей, у Екатерины Романовны были особые причины для недовольства как самим Радищевым, так и «Обществом друзей» в целом. Эти причины лежали в той области, которую принято называть «литературократией». Речь идет о литературе не как об искусстве создания текстов, а как о процессе издания книг, их распространения, влияния на умы и в конечном счете достижения автором определенного положения в обществе — пророка в своем отечестве.
Осуществляя такой титанический труд, как создание словаря, Дашкова претендовала на очень высокое место в тогдашнем литературном мире. Под ее руководством работала большая группа писателей и ученых, княгиня стояла во главе государственного учреждения, созданного специально, чтобы контролировать литературный процесс. Благодаря этому Екатерина Романовна становилась своего рода «бабушкой русской словесности». С ее официального благословения должны были появляться все значимые книжные новинки русских авторов. Писателям следовало советоваться с академией, уважать мнение княгини.
В то же время в России были разрешены частные типографии и не запрещалось создание самостоятельных сообществ творческих людей. В этих условиях должное уважение проявляли далеко не все. Среди молодых авторов постоянно обнаруживались выскочки, которые игнорировали опыт, опеку, поправки «старших по званию», выказывали пренебрежение к академическим чинам. Скромное поначалу «Общество друзей» со временем расширилось, обзавелось поклонниками и покровителями в чиновной среде, а также среди флотских офицеров. Выпускало свой журнал, то есть претендовало на роль альтернативного центра литературной жизни Петербурга[1418]. Его соперничество с академией обозначалось все резче.
Среди писателей общества Радищев, благодаря своей революционной пафосности, выглядел особенно заметно. Он и раздражал в первую очередь. Но, как ни странно, не столько цензоров, сколько ученых из академии. К началу 1790-х годов Александр Николаевич зарекомендовал себя как политический писатель модного просветительско-революционного толка с откровенной и даже подчеркнутой оппозиционностью к правительству. То, что такой человек продолжает служить и ходит в немалых чинах, получает награды и пользуется благоволением императрицы, только усиливало «ажиотацию» вокруг него.
«Молодые головы» и их покровители
Странное дело, но ни одна из политических статей Радищева не вызвала неудовольствия начальства. А ведь все крамольные мысли, собранные вместе в «Путешествии…», так или иначе звучали в ранних публикациях автора и благополучно прошли цензуру. Никто не преследовал писателя, не изгонял его со службы, не ссылал в Сибирь… В такой нарочитой терпимости правительства был знак времени — в окружении Екатерины находилось место откровенным оппозиционерам, вроде Н. И. Панина или А. Р. Воронцова.
А вот французские дипломаты еще в начале царствования нашей героини замечали, что, отправляя пансионеров за границу, самодержица сама готовит себе непримиримых противников. Так, в 1763 году Бретейль доносил в Париж: «Уже двадцать лет, как правительство неосторожно отпускает многих молодых людей учиться в Женеву. Они возвращаются с головой и сердцем, наполненным республиканскими принципами, и вовсе не приспособлены к противным им законам их страны»[1419]. Из этого делался вывод о близкой революции. Пугачевщина казалась ее предвестником. Сословные реформы Екатерины отсрочили начало нового мятежа, но, по расчетам Версаля, взрыв был неизбежен.
К концу царствования, когда в Париже уже пала Бастилия и свирепствовал якобинский террор, французские авторы не перестали мечтать о потрясениях в России. Однако ожидание скорой смуты сменилось осторожными предположениями о сроке в сто с лишним лет, необходимом для развития третьего сословия. Даже такой восторженный вестник бури, как Шарль Массон, вынужден был признать: «Если французской революции суждено обойти весь мир, несомненно, Россию она посетит после всех. Французский Геркулес как раз на границе этой обширной империи поставит две колонны с надписью: „Крайний предел“, и надолго остановится тут Свобода».
Памфлетист ошибся: русская смута оказалась еще страшнее французской. Но срок, в который созреют семена, брошенные в мерзлую почву, он назвал точно — век.
За время царствования Екатерины русское дворянство ушло далеко вперед по пути нравственного развития. Массон сумел уловить ту неловкость, которую испытывал благородный человек конца XVIII века при мысли о том, что ему придется поцеловать руку государя[1420]. Неслучайно возник анекдот, будто Радищев при награждении его орденом Святого Владимира не преклонил колени перед императрицей. В реальности такого казуса случиться не могло — иначе Екатерине пришлось бы встать на стул, чтобы возложить на кавалера орденские знаки. Но сам по себе рассказ показателен. Он подчеркивает не только вольнодумство будущего автора «Путешествия…», но и тот факт, что просвещенное общество в это время уже тяготилось даже внешними знаками выражения верноподданнических чувств.
Всем этим настроениям Екатерина не просто позволяла существовать, она во многом спровоцировала их. Вспомним ее слова о рассаднике устриц. «Чтобы убедиться, что они вполне здоровы, — писала императрица, — надо в хорошую погоду, когда они раскрываются, кольнуть их острием палки; если, закрываясь, они так ее зажмут, что скорее дадут себя поднять, нежели ее выпустят, то тогда они очень хороши»[1421]. Нельзя сказать, чтобы, распахивая двери для европейских культурных веяний, государыня мечтала именно о революционных «устрицах». Но они были перенесены ею, как сорняки, вместе со здоровыми ростками. В конце царствования Екатерина захотела очистить от них свой рассадник, но стоило ей «кольнуть» «острием палки», как, сжимая створки, раковины едва не прищемили пальцы садовницы.
Массон говорил, что среди знати «есть гордые, великодушные личности», которые, «не будучи последователями системы равенства и свободы», все же являются врагами самодержавия, возмущаясь «тем позорным самоотречением, которое от них требуется». Он имел в виду в том числе и Александра Воронцова. Мироощущение, царившее в кругу «социетета», хорошо передано в письме П. В. Завадовского в Лондон С. В. Воронцову, написанном в 1789 году:
«Страшные издержки без хозяйства, все вышло из порядка; нет связи и соображения; до крайнего приходим истощения… Сия машина требует умственной силы. Судьба же отдаляет время вступить России на степень величия, соразмерную ее могуществу. Ты пожелаешь узнать многие причины. Удовольствуйся одною: несчастье в избрании людей… Люблю Отечество… но живу в такое время, когда льстецы приемлются, а благонамеренные молча вздыхают. Нет способу говорить, что думаешь»[1422].
Так же станут писать оппозиционные дворяне и десять, и пятнадцать, и двадцать пять лет спустя. Стилистически из подобных рассуждений вырастет либеральная мысль александровского царствования. Но главное уже сказано — «несчастье в избрании людей». «Не мы у власти», следует расшифровать этот пассаж, а потому и России не время «вступить на степень величия».
Недовольство Завадовского глубокое и всеобъемлющее. Оно касается и царствования Екатерины, и Отечества в целом, но основано на весьма прозаичном предмете — неудовлетворенности собственным положением в правительстве. На невозможности достигнуть первенства. На жалобы Петра Васильевича стоит обратить внимание хотя бы потому, что они характерны для целого круга умных, образованных, честолюбивых людей, которые стремились занять высшие посты даже ценой переворота всей государственной жизни. Уместно будет привести жесткое высказывание адмирала П. В. Чичагова о разного рода придворных фрондах: «Сколько я знавал этих высокомерных дворян, которые при Екатерине ничем не были довольны, считали себя недостаточно свободными, то и дело роптали на правительство, а при Павле — только дрожали»[1423].
Воронцов и Завадовский принадлежали к числу заядлых фрондеров, но долгие годы оставались при чинах и должностях. В течение двадцати лет Александр Романович управлял российской торговлей. Императрица его недолюбливала, и это чувство было взаимным, поскольку переворот 1762 года прекратил фавор семьи Воронцовых. Их сотрудничество напоминало отношения Екатерины с Паниным. Сходство усиливалось еще и тем, что Александр Романович тоже был проводником идей дворянского либерализма.
При дворе Воронцова называли «медведем», говорили, что он действует «для своих прибытков», мало чем отличаясь от отца, знаменитого мздоимца Романа Большого Кармана[1424]. Человек неуступчивый, медлительный и методичный, Александр Романович обладал феноменальной коммерческой хваткой и умел выжимать деньги буквально из воздуха. Этот утонченно воспитанный вельможа унаследовал торговые способности своей материнской родни, богатых поволжских купцов Сурминых.
Как президенту Коммерц-коллегии, Воронцову подчинялись все таможни. Он контролировал поступление сборов в казну. На руководящие должности в крупнейших из них Александр Романович сам подобрал и расставил чиновников, лично ему обязанных своим продвижением. В 1780 году во главе Петербургской таможни, которая давала три четверти таможенных сборов в стране, Воронцов поставил свою креатуру Г. Ю. Даля, а его помощником был утвержден, тоже по выбору президента, А. Н. Радищев, которому Воронцов начал покровительствовать[1425]. Вторая по значению и сборам таможня находилась в Архангельске — старом порте, через который проходили большие потоки грузов из северных губерний России. В 1784 году в Казенную палату Архангельска советником по таможенным делам был переведен из Вологды другой протеже Воронцова — родной брат А. Н. Радищева, Моисей. Александр Романович установил новый порядок занятия должностей: на места отправлялись только те чиновники, которые прошли стажировку в Петербургской таможне и получили личную рекомендацию Даля[1426]. Это позволяло исключить возможность попадания на таможни «чужих» ставленников. Излишне говорить, какой простор для злоупотреблений открывал подобный принцип.
Действуя в духе старого канцлера А. П. Бестужева-Рюмина, Воронцов, Завадовский и Безбородко согласились принять от Иосифа II солидное вознаграждение и составили при дворе проавстрийскую партию. Бывший сторонник Александра Романовича, Андрей Петрович Шувалов, рассорившись с Воронцовым, писал: «Когда мне случалось говорить с ним о делах государственных способом, его образу мыслей несоответствующим, то он мне всегда отвечал: „Чего Вы хотите от этой сумасшедшей страны и от этого сумасшедшего народа?“ …Сей человек, обогащенный императором и французским двором, не жилец здешнего государства: при первом удобном случае переселится он в чужие края»[1427]. Однако, благодаря словесным выпадам в адрес неограниченной власти, Александр Романович создал себе репутацию либерала. А открытое противостояние временщику — Потемкину — окружило его ореолом честного, неподкупного сына Отечества. Вспоминаются раздраженные слова Екатерины: «Вот как судят о людях! Вот как их знают!»[1428]
Тем не менее за деловую хватку и просвещенность Воронцову прощалось многое. Благостное «незамечание» антиправительственных выпадов в статьях его протеже Радищева позволяло надеяться, что и «Путешествие…» пройдет достаточно спокойно. Единственная уступка, на которую автор пошел, желая избежать неприятностей, — снял свое имя с обложки. Но он не учел, что время изменилось. То, что было возможно в условиях мира и спокойного развития, стало абсолютно неприемлемо в новую военную годину. Одни и те же идеи до и после штурма Бастилии звучали по-разному.
«Источник гордости»
Мало кто из читателей «Путешествия…» сознает, что в тот момент, когда разворачивается действие книги, идет война. Лишь в главе «Спасская Полесть», содержащей выпады против Потемкина, есть намек на то, что время как будто не совсем мирное.
Автор описывает сон некоего монарха, который видит своего военачальника, «посланного на завоевания» и «утопающего в роскоши», в то время как солдаты его «почитаются хуже скота». «Не радели ни о здравии, ни о прокормлении их; жизнь их ни во что не вменялась, лишались они установленной платы, которая употреблялась на ненужное им украшение. Большая половина новых воинов умирали от небрежения начальников, или ненужныя и безвременный строгости. Казна, определенная на содержание всеополчения, была в руках учредителей веселостей. Знаки военного достоинства не храбрости были уделом, но подлого раболепия. Я зрел перед собою единого знаменитого по словам военачальника, коего я отличными почтил знаками моего благоволения; я зрел ныне ясно, что все его отличное достоинство состояло в том только, что он пособием был в насыщении сладострастия своего начальника; и на оказание мужества не было ему даже случая, ибо он издали не видал неприятеля»[1429].
Радищев здесь слово в слово повторил обвинения в адрес Потемкина, звучавшие из уст представителей группировки Воронцова — Завадовского. Опровергая эту клевету, лучший биограф А. В. Суворова А. Ф. Петрушевский между прочим замечал, что «забота Потемкина о солдатах была изумительная»[1430], свою просторную теплую палатку князь отдал раненым, а сам переселился в маленькую кибитку. Войска были обеспечены тулупами, валенками, войлочными палатками и кибитками[1431].
Принц де Линь, видевший Потемкина под Очаковом, писал о князе: «Каждый пушечный выстрел, нимало ему не угрожающий, беспокоит его потому уже, что может стоить жизни нескольким солдатам. Трусливый за других, он сам очень храбр: он стоит под выстрелами и спокойно отдает приказания»[1432].
И этот человек «издалека не видел неприятеля»? Генерал, начавший воевать еще в первую Русско-турецкую войну? Командир, о котором П. А. Румянцев в 1770 году писал: «Не зная, что есть быть побуждаему на дело, он сам искал от доброй своей воли везде употребиться»[1433]? А другой начальник Потемкина князь А. М. Голицын добавлял: «Кавалерия наша до сего времени не действовала с такою стройностью и мужеством, как в сей раз под командою выше означенного генерал-майора»[1434].
Однако среди либерально мыслящих чиновников конца екатерининского царствования, ориентировавшихся прежде всего на Воронцова, не раз говорилось о том, будто война начата ради честолюбия императрицы и светлейшего князя. Показательны записки Романа Максимовича Цебрикова, переводчика Коллегии иностранных дел, прикомандированного к канцелярии Потемкина. 24-летний дворянин, окончивший Лейпцигский и Нюрнбергский университеты, владевший латинским, немецким и французским языками, поначалу обнаруживал на страницах дневника неприязнь к командующему. Что бы Потемкин ни делал, все оказывалось дурно, все достойно порицания или насмешки. Но по мере развития событий Цебриков все мягче и сердечнее отзывается о князе, находит в его действиях разумную заботу об армии и достойные военные распоряжения.
Глядя на движение войск к Очакову — море людей, лошадей, телег, Цебриков поражался: «Почти непонятно, как все устроено и в порядок приведено?…Барабанный бой наводит некий род ужаса, литавров шум воспаляет кровь и есть ужасно величественен». Однако переводчик тут же спохватывается, вспоминая слышанные в Коллегии иностранных дел обвинения против командующего. «На что ты, о, смертный, призван на сей свет! Чтобы быть пленником своих страстей. Сии войска, сии гордые кони, сии бесчисленные обозы — не страстей ли твоих плоды? И самая война, причины которой покрыты верою, справедливыми требованиями и защитою отечества, не чаще ли бывает источником гордости, тщеславия, зависти одной особы, а по большей части еще и частной?»[1435]
Чем не Радищев? И язык, и строй мыслей очень близки. Следует согласиться с теми, кто считал, что, получив образование за границей, в данном случае в Лейпциге, молодые люди «возвращаются с головой и сердцем, наполненным республиканскими принципами». Полвека спустя Николай I, обращаясь к студентам, отправлявшимся в Европу, скажет всего два слова: «Возвращайтесь русскими».
Если судить по «Путешествию…», война происходила где-то далеко от Петербурга, куда словно бы и не долетала канонада. Между тем столица стала прифронтовым городом. Нехватка денег, растянутость коммуникаций, необходимость держать сразу две армии — на севере и на юге — все это создавало крайне опасную ситуацию. Если добавить, что два первых года войны были неурожайными: разразилась страшная засуха, охватившая хлебные районы России, Украины, Польши и Молдавии, — тогда картина станет совсем безрадостной. Однако обо всем этом: войне, засухе, угрозе интервенции — в книге Радищева нет ни слова. Его описание скудного крестьянского обеда: жидкий квас, похожий на уксус, да хлеб с мякиной — существует как будто вне зависимости от голода, подступившего совсем близко к Петербургу. Причина бедствия — хищничество помещиков. «Я обозрел в первый раз внимательно всю утварь крестьянской избы… Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? То, чего отнять не можем, — воздух»[1436].
Обстоятельства написания обычно много рассказывают об авторе и его тексте. Прежде всего, зададимся вопросом: а зачем, собственно, крупный таможенный чиновник в условиях войны путешествовал из Петербурга в Москву, то есть из главной столицы в резервную? Дело в том, что с самого начала столкновений со Швецией группировка Воронцова старалась уверить императрицу, что имеющимися на Балтике силами невозможно защитить ни Финляндию, ни сам Петербург. Готовилась эвакуация столицы, из многочисленных загородных резиденций вывозились ценности[1437]. Неучтенные казной доходы Воронцова по таможенному ведомству были колоссальны. Незадолго до скандала с «Путешествием…» Александр Романович поручил именно Радищеву, как наиболее доверенному лицу, проверить наличие «пропущенных сумм» — то есть имевшихся на таможне, но не прошедших ни по каким документам. Таких денег было выявлено полтора миллиона.
Информация о них очень некстати всплыла во время расследования по делу Радищева. Сам писатель утверждал, что «забытые деньги» предназначались для передачи «их сиятельству президенту», то есть Воронцову, и возвращения в казну. Но граф ни копейки в казну не отдал.
О финансовых делах начальника Радищев знал, быть может, лучше других. Его молчанием во время следствия, вероятно, объясняется та редкая забота о семье ссыльного и о нем самом, которую Александр Романович проявил после суда.
Стоило генерал-прокурору Сената А. А. Вяземскому, по долгу службы обязанному следить за казенными средствами, гласно задать вопрос, откуда взялись на таможне в военное время полтора миллиона «неучтенных денег», как Александр Романович ушел в бессрочный отпуск. Разговоры о том, куда девались государственные средства, всегда вызывали у чиновника непреодолимое «отвращение к службе».
После ареста Радищева Воронцов очень внимательно отнесся к судьбе документов Петербургской таможни. Значительная часть бумаг хранилась у президента Коммерц-коллегии дома, в частности около ста дел, относившихся непосредственно к работе Радищева. Уходя в отпуск, перетекший в 1792 году в отставку, Александр Романович предусмотрительно увез архив с собой из Петербурга в имение Андреевское под Владимиром. И сколько бы впоследствии к нему ни обращались с просьбой о возвращении нужных бумаг, документы продолжали числиться «недосланными»[1438].
Даже если Радищев сам взяток не брал, у него имелись иные способы использовать служебное положение. После его прихода на таможню среди петербургских купцов шутили, что теперь вместо одного начальника нужно давать деньги нескольким подчиненным. Эти самые подчиненные — досмотрщики судов — проверяли груз сразу по прибытии корабля в порт. Пользуясь правом рекомендовать людей на должности, Радищев брал досмотрщиками хорошо знакомых ему по литературным и издательским делам наборщиков, корректоров, печатников. Их собственное ремесло плохо кормило во время войны, а служба на таможне давала верный, хотя и не вполне законный хлеб. Чтобы груз прошел благополучно, без сучка без задоринки, чиновника всегда полагалось «подмазать».
Радищев знал о мелких злоупотреблениях своих подчиненных (копеечных по сравнению с доходами Воронцова), но закрывал на них глаза. Взамен он потребовал услуги за услугу, когда стал готовить свою книгу к выходу в свет. Названные люди трудились над созданием макета «Путешествия…», его корректурой и, наконец, публикацией заветных шестисот экземпляров в личной типографии Радищева на третьем этаже его дома[1439]. Даже если они не разделяли взгляды автора, они не могли отказаться, боясь потерять работу. Не смели наборщики и донести о крамоле из опасения, что их собственные делишки на таможне будут раскрыты. Начальник прекрасно рассчитал глубину личной преданности подчиненных. Конспирация была полной.
Этот случай рисует Радищева вовсе не как человека восторженного и романтического. Трезвый расчет, деловая хватка и даже в какой-то мере беспощадность. А разве история революций знает мало представителей этого типа? К нему принадлежали многие из столь любимых автором «Путешествия…» якобинцев.
«Не сделана ли мною ему какая обида?»
Итак, именно Радищеву Воронцов поручал курирование вывозимых из Петербурга ценностей. Многие тогда покидали столицу и перебирались подальше от театра военных действий. Могли град Петра пасть? В случае объединения шведской и английской эскадр — вполне вероятно. Даже Екатерина не рассчитывала выбраться из опасного положения без потерь. Конечно, она надеялась на лучшее и не собиралась бежать даже в самые опасные дни. Однако силы покидали пожилую императрицу. Екатерине шел уже 62-й год. Порой ее нервы сдавали. После известия о поражении эскадры Нассау императрица пережила тяжелейшее потрясение.
В эти страшные дни у нее на столе и появилось «Путешествие…». До сих пор неизвестно, кто его туда положил. Считается, что в Петербурге заговорили о новинке, государыня заинтересовалась и попросила показать ей текст[1440]. Однако такое развитие событий маловероятно. Город находился на грани эвакуации. Летом 1790 года петербуржцам почти не было дела до книжных лавок. Они собирали свой скарб и готовились бежать при приближении неприятеля. Из шестисот книг, напечатанных автором, разошлось 25 экземпляров. В лавки поступило всего несколько штук. Остальные — подарочные. Их Радищев рассылал известным литераторам (например, Г. Р. Державину), масонам, да и просто друзьям. Но в обстановке возбужденного ожидания шведов всем, по чести сказать, было не до «Путешествия…». Почти все розданные экземпляры автору удалось вернуть, когда он узнал о резких отзывах государыни и грозе, собиравшейся над его головой. Он сложил книги в сундук, намереваясь зарыть их за городом. Таким образом, текст был похоронен самим писателем.
Интерес общества к «Путешествию…» возник позднее, после ареста Радищева, и, собственно говоря, этим-то арестом был вызван. Именно тогда стали создаваться рукописные копии с немногих оставшихся в обороте экземпляров. За конец XVIII–XIX век таких копий было снято около пятидесяти. Даже если принять во внимание, что с одной копией может познакомиться несколько человек, то круг людей, действительно прочитавших «Путешествие…», был значительно уже, чем круг тех, кто о книге только слышал.
Парадоксально, но на развитие русской общественной мысли огромное влияние оказал текст, который мало кто читал. Зато все знали, что автор ругал существующий строй и за это отправился в Сибирь. История книги возбуждала интерес больше, чем сама книга.
Поток важных военных и дипломатических бумаг, проходивших через руки императрицы в это время, был чрезвычайно велик. И все же, увидев текст, государыня не отложила его в сторону, начала читать. А дальше… дальше неясно, что для нашей героини было страшнее: канонада за окнами или неслышные выстрелы с белых аккуратных страниц. Во всяком случае, судя по запискам Храповицкого, в самые тяжелые дни Екатерина вновь и вновь возвращалась к чтению, бралась за перо, писала заметки.
«2 июля. Продолжают писать примечания на книгу Радищева, а он, сказывают, препоручен Шешковскому и сидит в крепости… 7 июля. Примечания на книгу Радищева посланы к Шешковскому. Сказывать изволила, что он бунтовщик, хуже Пугачева, показав мне, что в конце хвалит Франклина, как начинщика (американской революции. — О. E.), и себя таким же представляет. Говорено с жаром о чувствительности (автора. — О. Е.)»[1441].
Всего императрица написала более девяноста помет. За исключением хрестоматийной: «Бунтовщик похуже Пугачева» — их редко приводят. Наверное, потому, что в отличие от текста Радищева они глубоко личностны. Императрица все пыталась понять: что она как человек сделала другому человеку, где обидела, обошла по службе? За что он так больно ударил ее в самый неподходящий момент?
Если Дашкова заметила в Радищеве «писательский зуд», то Екатерина — «необузданные амбиции» и «стремление к высшим степеням». Она писала: «…да ныне еще не дошед, желчь нетерпения разлилась повсюду на все установленное и произвела особое умствование, взятое, однако из разных полу-мудрецов сего века… Не сделана ли мною ему какая обида?»[1442]
Любопытно, но некоторые отзывы Екатерины, в частности о французских «полу-мудрецах» или о фальшивой «чувствительности», почти дословно совпадают с характеристикой, данной тексту Радищева А. С. Пушкиным много лет спустя. «Сетования на несчастное состояние народа, — писал поэт, — на насилие вельмож и проч. преувеличены и пошлы. Порывы чувствительности, жеманной и надутой, иногда чрезвычайно смешны… В Радищеве отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидрота и Реналя; но все в нескладном, искаженном виде, как все предметы криво отражаются в кривом зеркале. Он есть истинный представитель полупросвещения. Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему»[1443].
За всю историю бытования книги Радищева только два автора писали о ней с непониманием и раздражением. Это были Екатерина и Пушкин. Кто бы мог подумать, что их мнение удастся замолчать?
В советское время исследователям полагалось быть в восторге от того, что Русь зовут к топору. Однако странно читать подобные же восторги в наши дни, как если бы Русь к призывам осталась глуха и за топор так и не взялась. «О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и кровию нашею обагрили нивы свои! Что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их исторгнулися великие мужи для заступления избитого племени; но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишены. Не мечта сие, но взор проницает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую: я зрю сквозь целое столетие!»[1444] — восклицал Радищев. И действительно зрел. Вот только является ли уничтожение целого сословия и разорение страны предметом для радости?
Читая такие строки, императрица, должно быть, думала: всюду клин. Вот венец ее блистательного царствования! Во внешней политике скорое военное поражение, во внутренней — нищета, бесправие народа, голод… Вот результаты ее законодательной и административной деятельности — надвигающаяся катастрофа государства, интервенция, кровавый мужицкий бунт. Если трагедия эскадры Нассау согнула Екатерину, то книга Радищева должна была ее окончательно сломить.
Однако вышло по-другому. Екатерина была сделана из очень прочного человеческого материала. Она оставалась государыней в своей стране и вскоре наглядно продемонстрировала это именно на примере дела Радищева. Еще в 1774 году Екатерина писала Потемкину по поводу попытки П. И. Панина присвоить себе диктаторские полномочия: «Дай по-царски поступить, хвост отшибу!» Тогда Григорий Александрович удержал гнев императрицы. Теперь его рядом не было, и Екатерина вознамерилась-таки «отшибить хвост».
На беду русское правительство еще не знало, что лучший способ замять скандал с неугодной публикацией — делать вид, будто ее нет. Тогда о ней вскоре забудут, увлеченные очередной новинкой. Но с книги Радищева этот горький опыт только начинался. «Путешествие…» было первым пробным камнем революционной пропаганды в России. Камень этот попал в цель. Неверное поведение власти в отношении автора создало новый культурный архетип — запретная политическая книга и преследование за ее распространение.
Прозорливый Потемкин предупреждал императрицу после ознакомления с присланным ему «Путешествием…», что не следует уделять случившемуся чрезмерного внимания. Служивший при светлейшем князе мемуарист С. Н. Глинка вспоминал: «В сильной вылазке против князя Григория Александровича он (Радищев. — О. Е.) представил его каким-то восточным сатрапом, роскошествующим в великолепной землянке под стенами какой-то крепости. По этому случаю князь Таврический писал Екатерине: „Я прочитал присланную мне книгу. Не сержусь. Рушением очаковских стен отвечаю сочинителю. Кажется, матушка, он и на Вас возводил какой-то поклеп. Верно и Вы не понегодуете. Ваши деяния — Ваш щит“»[1445].
Однако Екатерина была серьезно оскорблена всем, что прочла у Радищева. Она заявила: «Грех ему! Что я ему сделала? Я занималась его воспитанием, я хотела сделать из него человека полезного Отечеству»[1446]. Совету был дан приказ расследовать дело, «не взирая на лица». Такие жесткие слова касались прежде всего Воронцова. На его «лицо» советникам не следовало «взирать», вынося решение. В июле писатель был приговорен к смерти через отсечение головы. Но 4 сентября 1790 года императрица заменила казнь на десятилетнюю ссылку в Сибирь.
«Шалость» или «Набат революции»
Буквально на следующий день Воронцов передал в крепость 300 рублей на покупку для узника теплой одежды и обуви. Радищева повезли в ссылку закованным «в железа», но Александр Романович добился снятия кандалов. Петербургские сплетники не ошибались, говоря, что граф шлет вслед своему бывшему подчиненному целые обозы. В губернских городах, через которые проезжал Радищев, его ожидали письма, деньги, теплые вещи, книги, привезенные курьерами графа. Но что еще важнее — мягкое отношение местных властей, на которые оказывал из Петербурга давление Воронцов. Все годы пребывания писателя в ссылке граф направлял ему солидную по тем временам финансовую помощь. Сначала по 500 рублей ежегодно, затем, когда Радищев женился на сестре своей покойной супруги Елизавете Васильевне Рубановской и у них родился ребенок, сумма увеличилась до 800 рублей. С появлением на свет второго малыша — до 1000 рублей[1447].
Заметим — благодеяния посыпались на ссыльного писателя именно после смягчения приговора, когда стало ясно, что он рассказал и о чем умолчал. А до того, во время следствия, Воронцов залег на дно, не посещал придворных церемоний, обедов, праздников, сказавшись больным, перестал появляться в Совете. Недоброжелатели обвиняли Александра Романовича чуть ли не в соавторстве с Радищевым или, во всяком случае, в подстрекательстве к написанию крамольной книги. Понадобилось заступничество Безбородко, в личном разговоре уверившего государыню, будто граф узнал о «Путешествии…» позже других[1448].
Пока шло следствие, суд выносил приговор, а императрица два месяца медлила с помилованием, Воронцов вел себя очень тихо. Мнение о том, что Александр Романович, добиваясь от Екатерины помилования Радищева, «бойкотировал» придворные мероприятия, выглядит комично. Отлучка от двора по тем временам значила потерю веса в делах, а Воронцов годами добивался того влияния в Совете, которое у него появилось с началом второй Русско-турецкой войны, когда Потемкин уехал на юг. Это влияние месяц от месяца возрастало (по выражению Гарновского, «другие члены Совета в его присутствии не смеют и пикнуть», «сидят молча, опустив головы») и было подорвано только разбирательством по делу Радищева. Отсутствие Воронцова на советах как раз тогда, когда всплыл вопрос о полутора миллионах, дорогого стоило. Ни о какой помощи, ходатайствах, заступничестве, пока шло следствие и вершился суд, речи быть не могло. Одинокая, всеми оставленная женщина, свояченица Радищева Елизавета Васильевна собрала драгоценности, имевшиеся в доме, и на свой страх и риск отправилась в лодке в Петропавловскую крепость, где вручила их следователю С. И. Шешковскому, за которым закрепилась дурная слава «кнутобойца»[1449]. Считается, что именно эта взятка избавила писателя от допроса с пристрастием. Сам Радищев, узнав, что с ним будет разговаривать Шешковский, упал в обморок. А в день объявления приговора темные волосы Александра Николаевича подернулись сединой[1450].
Воронцов тяжело переживал происходящее. Пока Радищев находился в крепости, он писал своему брату Семену, посланнику в Лондоне: «Я не знаю ничего более тяжелого, как потеря друзей, в особенности когда не распространяешь широко свои связи… Я только что потерял, правда, в гражданском смысле, человека, пользовавшегося уважением двора и обладавшего наилучшими способностями для государственной службы. Его… помощь мне была велика. Это — г-н Радищев; Вы несколько раз видели его у меня, но я не уверен, что Вы хорошо знали друг друга. Кроме того, он исключительно замкнут последние семь или восемь лет (со времени потери жены. — О. E.). Я не думаю, чтобы его можно было заменить; это очень печально. Не был ли он вовлечен в какую организацию? Но что меня, однако, более всего удивило, когда случившееся с ним событие стало широко известно, это то, что я в течение долгого времени считал его умеренным, трезвым и абсолютно ни в чем не заинтересованным, хорошим сыном, отцом и превосходным гражданином… Он только что выпустил книгу под названием „Путешествие из Петербурга в Москву“. Это произведение якобы имело тон Мирабо и всех бешеных Франции»[1451].
Если это письмо не предназначалось графом специально для перлюстрации, то оно свидетельствует о том, что книга Радищева была для Воронцова полной неожиданностью. Настораживает одна деталь. «Путешествие…» было подарено автором своему покровителю, а незадолго до ареста подчиненного Александр Романович советовал ему принести государыне повинную. Из письма же следует, что граф не способен сам оценить произведение и ссылается на чужие мнения: «…якобы имело тон Мирабо». Вроде бы не читал сам.
Впрочем, из внутренней переписки Воронцовых следует, что и Дашкова, вопреки словам в мемуарах, была знакома с «Путешествием…». Брату о книге она высказывалась куда откровеннее, чем в мемуарах, называя ее «набатом революции». Граф в запальчивости возражал: «Если такая шалость оказывается достойной смертной казни, то каким образом должно наказывать настоящих преступников?»[1452]
Итак, все всё читали, но опасались говорить об этом прямо.
Радищев провел в ожидании смертной казни полтора месяца. С 24 июля по 4 сентября. 43 дня, каждый из которых мог стать последним. В минуты отчаяния он грыз серебряную ложку — на ней остались следы зубов[1453].
Человек XVIII века умел наглядно продемонстрировать свои страдания. Не стеснялся публичных слез, обмороков, случались даже прилюдные исповеди. А уж наедине с самим собой… Правда, серебряная ложка как-то выбивается из привычной картины: мрачные сырые стены каземата, несчастный узник в ожидании казни, «кнутобоец» за стеной. Еще больше может удивить меню заключенного:
«Воскресенье: 1. Суп с перловыми крупами. 2. Кислая капуста с сосисками. 3. Жареная говядина.
Понедельник: 1. Суп зеленый с поджаренным белым хлебом. 2. Вынутую из оного говядину облить соусом. 3. Жареный гусь.
Вторник: 1. Горох, протертый с ветчиной и мясом. 2. Картофель. 3. Жареный поросенок.
Среда: 1. Шти или бураки с говядиной. 2. Рыба в соусе или с хреном. 3. Жареные утки.
Четверток: 1. Суп с рисными крупами, с телятиной. 2. Капуста свежая с карменадом. 3. Жареная говядина.
Пятница: 1. Уха с рыбою. 2. Битое мясо. 3. Жареная дичина.
Суббота: 1. Лапша с говядиной. 2. Рыба в соусе. 3. Жареные цыплята»[1454].
Такое меню полагалось привилегированному заключенному, дворянину. А Александра Николаевича никто дворянства не лишал. Правда, и остальные не голодали: каша с маслом, суп с говядиной, по воскресеньям и праздникам жареное мясо, квас. Кроме того, полагалось вино с водой и дважды в день, в 8 утра и в 4 дня, — чай «со всем чайным прибором». Имеются в виду не только чашки с блюдцами и салфетки, но и сладкое — сдобы. Теперь ясно, откуда взялась серебряная ложка.
Кто действительно пострадал, так это старики-родители Радищева. При известии, что их сын — государственный преступник, приговоренный к смерти, мать Феклу Степановну разбил паралич, а зрение отца Николая Афанасьевича помутилось настолько, что он больше не мог писать и читать. Окончательно ослеп Радищев-старший в 1794 году, узнав, что сын женился на свояченице, то есть на близкой родственнице, вопреки религиозному запрету. «Женись ты на крестьянской девке, — диктовал он письмо, — я б ее принял как свою дочь»[1455]. Конец жизни Николай Афанасьевич, замаливая грехи сына, провел в Саровской пустыни, благотворителем которой долгие годы являлся.
Почему Екатерина медлила с помилованием Радищева? Хотела помучить ненавистного вольнодумца? Все обстояло проще. В июле — первой половине августа 1790 года, пока сохранялась угроза Петербургу со стороны шведов, государыне просто было некогда заняться пересмотром дела, да и отчаянность военной ситуации диктовала особую суровость. Но как только гроза миновала, приговор был смягчен. Помилование Радищева было объявлено вскоре после заключения мирного договора в Вереле 14 августа 1790 года, фактически оно праздничное. Жизнь была дарована автору «Путешествия…» в ознаменование счастливого окончания войны.
«Всякий по-своему празднует мир, — писала Екатерина Гримму. — У нас это время увеселений, прощений, помилований, наград и пиров. У соседа моего, только что он вернулся в Стокгольм, первым делом было рубить головы. Боже, Боже, как различно понимаются вещи на этом свете!»[1456]
Однако оставался вопрос, который очень беспокоил императрицу. Ее насторожили подцензурность и абсолютная законность публикации революционной книги в России. Радищев провел свой текст, изъяв из него часть наиболее крамольных страниц, через знакомого цензора О. П. Козодавлева, который служил при Российской академии, то есть был в подчинении Дашковой. Да и книжная лавка Г. К. Зотова, где свободно продавалось «Путешествие…», принадлежала академии.
Теперь выпад Екатерины в адрес княгини: «Трагедия Княжнина является вторым опасным произведением, напечатанным в Академии», — становится понятен. Дашкова оказалась дважды виновата в поощрении крамольных текстов. Мало того, Козодавлев, одобривший публикацию Княжнина, был старым соучеником Радищева по Лейпцигскому университету и хорошим литературным знакомым, взявшимся передать экземпляр «Путешествия…» Г. Р. Державину. Поэт отозвался о книге эпиграммой:
Езда твоя в Москву со истиною сходна, Некстати лишь дерзка, смела и сумасбродна.Лично учредив академию, Екатерина внимательно следила за ее изданиями. Отпечатанная под цензурным грифом академии книжка попала на ее стол совершенно законно. И вызвала законный же гнев на главу академии. Через четыре года, уже в мирное время, императрица припомнила Дашковой старый промах. Одна революционная публикация — случайность, две — метода.
«Глупый мир» и «глупая война»
Вернемся к военным событиям лета — осени 1790 года. Территориальные уступки, которых от Австрии требовала Пруссия на Рейхенбахском конгрессе, не вполне удовлетворяли Лондон, уже начавший подозревать, что сложный размен земель в Европе приведет не к прекращению военного конфликта, а к реальному втягиванию в него Англии. Английское же правительство стремилось оставить за собой роль посредника, навязывавшего сторонам свои условия мира. Поэтому Лондон заявил, что не поддерживает желание Пруссии получить польские земли за счет уступки Австрией Польше части Галиции. Если же Пруссия начнет войну против Австрии, Англия не вмешается в конфликт, предоставив союзницу «ее собственному военному счастью»[1457]. В Пруссии всколыхнулись антибританские настроения, к которым не остался равнодушен даже принц Генрих. «Англичане, эти хваленые островитяне, самые коварные союзники в Европе, — писал он Гримму, — самые хищные на преследование собственных интересов, с пожертвованием интересов своих мнимых союзников»; они, «как лев, оставляют все куски добычи себе»[1458].
Польша тем временем продолжала активные переговоры с противниками России. «Могли бы они думать и делать для своего добра, что хотят, но без грубости для России»[1459], — писал Потемкин направлявшемуся в Варшаву новому послу Я. И. Булгакову. «Генерально вся нация противу нас поднята двумя дворами (прусским и английским. — О. Е.)»[1460]. Не обрадовали Екатерину и заявления, сделанные на сейме Игнатием Потоцким. Граф предлагал «воспользоваться дружбой Пруссии для увеличения могущества Польши». Согласно информации, которую получала императрица, проект Потоцкого состоял в том, «дабы сделать прусского короля королем польским и соединить Пруссию с Польшей»[1461]. «Пруссаки, по введении своего наследника, сядут нам на шею»[1462], — писал ей Потемкин.
Не менее интересные события развивались в приграничном турецком городе Систове, где по инициативе Пруссии собрался дипломатический конгресс из представителей Пруссии, Англии, Голландии, Австрии и Турции для выработки условий мирного договора. Турция, фактически уже понесшая поражение от России, не соглашалась ни на какие уступки по сравнению со своими требованиями в начале войны, поскольку чувствовала за собой мощную поддержку европейских покровителей. В таких условиях Потемкин намеревался просто игнорировать конгресс, созванный специально для дипломатического давления на Россию.
«Глупый мир лучше глупой войны»[1463], — уговаривал Екатерину через Гримма принц Генрих. «Армия [прусская] с боевыми припасами и обозами может к концу месяца выступить в поход; по крайней мере, сделает прогулку в Силезию». Внешняя невозмутимость императрицы была достойна Муция Сцеволы. «Бранденбургские пески останутся песками, но при первой войне все остальное улетучится в дым», — отвечала она. И позднее: «Систовским миром они (противники России. — О. Е.) еще не разрешились, хотя и носятся с ним уже более девяти месяцев; долго же детище их заставляет себя ждать! А как бы не случилось еще и выкидыша!»[1464]
Однако реальным ответом на конгресс в Систове могла стать только весомая военная победа. Поэтому командующий дал согласие на предложенный Суворовым штурм наиболее сильной турецкой крепости в устье Дуная — Измаила[1465]. 11 декабря в результате восьмичасового кровопролитного боя Измаил пал. Потери турецкой стороны были громадны — 26 тысяч человек. Русская армия лишилась десяти тысяч человек убитыми и ранеными, в том числе четырехсот офицеров из 650 участвовавших в штурме.
Известие о падении Измаила достигло Петербурга рано утром 29 декабря 1790 года и было встречено ликованием[1466]. В тот же день Екатерина приказала «отправлять молебствие с большою пушечною пальбою». Это показывает, что императрица сразу же по достоинству оценила случившееся. Однако ответное письмо Потемкину датировано лишь 3 января. Обычно в подобных случаях Екатерина бралась за перо немедленно. Почему же теперь она промедлила пять дней?
Ответ может показаться неожиданным. Падение Измаила было слишком важным событием, чтобы спешить с его оценкой. Екатерина предпочла дождаться первой официальной реакции европейских покровителей Порты и только потом высказать свое мнение об «измаильской эскаладе». 2 января при дворе состоялось заседание Государственного совета, на следующий день утром императрицу посетил великий князь Павел Петрович, с которым она около часа беседовала наедине[1467]. Лишь после этого Екатерина направила в Яссы письмо, содержавшее чрезвычайно важную для ее корреспондента информацию о поведении Пруссии и Англии: «Оба двора здесь уже сказали, что не настоят более о медиации». Это была большая дипломатическая победа, она возбудила новые надежды на скорый мир. «Я думаю, что теперь последует смена визиря, — рассуждала Екатерина, — а при сей откроется тебе случай… трактовать о мире безпосредственно». «Что Небу угодно, то и будет, — писала императрица Гримму. — …бьюсь об заклад чем хотите, что, не смотря на Ge и Gu и всю их шайку, кавалер Селим первый вытащит свою обезьянью лапу из огня, где его заставляли не каштаны жарить, а жечь города и терять провинции»[1468].
Казалось, Порта, наконец, осталась один на один с Россией, покинутая своими тайными союзниками и покровителями. «При случае дай туркам почувствовать, как король прусский их обманывает, то обещая им быть медиатором, то объявить войну нам в их пользу… — просила императрица Потемкина. — Все сие выдумано только для того, дабы турок держать как возможно долее в войне, а самому сорвать где ни на есть лоскуток для себя»[1469].
Светлейший князь предпочитал не обольщаться относительно быстрого заключения мира. Он считал, что изменение позиций Пруссии далеко не так кардинально, как можно было заключить из слов немецких дипломатов в Петербурге. Еще в конце декабря 1790 года он получил копии донесений М. М. Алопеуса из Берлина, в которых посол рассказывал о встрече с любимцем короля бароном И. Р. фон Бишофсвердером, главой берлинских иллюминатов. Фаворит Фридриха Вильгельма II заверил «русского брата», что Пруссия вовсе не желает войны, но, связанная договорными обязательствами с Турцией, будет вынуждена ее начать, если Россия не пойдет на уступки[1470].
Принц Генрих, сам не чуждый братства вольных каменщиков, проклинал новое поколение масонов, обступившее короля. Он считал, что именно их происками Пруссия поставлена на грань разорения. «У вас есть ваши шляпных дел мастера, — писал он Гримму о революционных депутатах во Франции. — …У нас есть свои иллюминаты, свои иллюминаты и еще раз свои иллюминаты… Пруссия теряет во всех отношениях. Казна ее тратится без выгоды для нее. Уважение: но кто станет уважать рабов Англии? Войско: но военных без повода и причины гоняют из одного места в другое, тогда как ни по каким человеческим расчетам нельзя предвидеть для них ни славы, ни выгоды». Гримм вынужден был утешать старого друга: «Кто может расчесть и подчинить законам логики легкомысленные и извилистые пути иллюмината?»[1471]
Между тем план, разработанный берлинским кабинетом, был чрезвычайно соблазнителен для Пруссии: польские войска вторгаются на Украину, а их место в Польше заступают, якобы для поддержки, прусские части, которые отрезают Данциг и Торн вместе с балтийским побережьем.
В случае если Пруссия приступит к осуществлению своего проекта, Потемкин предлагал употребить секретный план действий по возмущению Польской Украины. «Расположения такой важности должны быть проведены с крайней точностью. При устроении могут многие случиться объяснения, которых на бумаге расстояние должное не позволит в полной мере истолковать, — писал князь. — Нужно, всемилостивейшая государыня, мне предстать перед Вами на кратчайшее время»[1472].
Потемкин предсказывал крупный политический кризис, связанный с намерениями Пруссии и Англии спасти Порту от полного разгрома[1473]. К середине февраля его предположения подтвердились. «Получено с курьером письмо барона П. А. Палена, — писал 2 февраля А. В. Храповицкий об известиях от нового русского посла в Стокгольме. — Шведский король имеет предложение от Англии… чтоб 1-е, вооружился против нас, или 2-е, дал свои корабли в соединение с ними, или 3-е, дал бы им свой военный порт, и за все то платят наличными деньгами»[1474]. Англия обещала производить шведскому королю ежегодную субсидию в 600 тысяч гиней в продолжение турецкой войны, а также на случай войны между Россией и Пруссией, даже если Густав III не примет в ней участие, а ограничится одним вооружением[1475].
«Я заключаю по всему, что Россия вступит в весьма бедственную войну, — писал принц Генрих, — ибо друг ее король шведский не останется нейтральным, а англичане посылают 60 кораблей — 40 в Балтийское море, 20 в Черное; или она примет status quo». Комментируя этот пассаж, Екатерина почти вспылила: «Россия вот уже сто лет ни в одной войне ничего не теряла, и ей нельзя предписывать и приказывать, как ребенку… В Лондоне народ пишет мелом на домах: „Не хотим войны с Россией“. Эта черта возобновила мои старые симпатии к английскому народу… Но эту давнюю нежность я вовсе не распространяю на министерство (британский кабинет. — О. E.), потому что оно ее не заслужило»[1476].
6 февраля Храповицкий продолжал перечисление неприятных новостей: «Из разных сообщений и дел политических заключить можно: 1-е, мирясь мы с турками, оставляем за собой Очаков, и граница будет по Днестр. 2-е, турки ни на что не соглашаясь, даже и на уступку нам Тавриды, хотят продолжать войну [вместе] с Пруссией. 3-е, король прусский к тому готов, ждут последнего отзыва Англии, которая к тому же наклонна и подущает уже шведа. 4-е, австрийцы за нас не вступятся: им обещан Белград от Пруссии, кои с согласия англичан берут себе Данциг и Торунь»[1477].
Именно в это время активизировалась переписка между великим князем Павлом Петровичем и Фридрихом Вильгельмом II, которая велась через секретные розенкрейцерские каналы. Русский министр при берлинском дворе Максим Максимович Алопеус, мастер стула петербургской ложи «Гигия», придумал для этой корреспонденции особый шифр[1478]. В Петербурге письма Павла попадали в руки агента прусского посольства Гюттеля, который доносил в Берлин, что в марте 1791 года следует ожидать перемены царствующей особы на российском престоле[1479], если сторонникам великого князя удастся свалить ненавистного главу русской партии[1480], то есть Потемкина.
Некоторые уникальные документы, касавшиеся сношений Павла Петровича и нового главы его партии князя Николая Васильевича Репнина с Берлином, сохранились в бумагах Александра Самойлова, племянника и одного из ближайших сотрудников Потемкина. Эти материалы позволяют сделать вывод, что светлейший князь был хорошо осведомлен о развивавшейся интриге[1481]. Именно о ней он собирался говорить с императрицей по приезде в Петербург. В деле фигурировало имя наследника, поэтому князь не мог позволить себе объясниться с Екатериной «иначе… как на словах».
«Собака, которая много лает»
28 февраля Григорий Александрович прибыл в столицу. «Записки» Храповицкого показывают, что по приезде светлейший князь много времени проводил наедине с Екатериной, составляя документы «для отклонения от войны»[1482] с Англией и Пруссией.
Тем временем в Польше партия во главе с Игнатием Потоцким обнародовала проект новой конституции, предусматривавшей отмену liberum veto, провозглашение польской короны наследственной и назначение саксонского курфюрста наследником Станислава Августа. Торжественное объявление этого законодательного акта происходило 3 мая 1791 года. Политическая реформа была принята меньшинством голосов, на одном воодушевлении зала: на сейме присутствовало 157 депутатов, между тем как отсутствовало 327. Большинство шляхты не симпатизировало идеям конституции. В таких условиях Россия имела возможность создать свою конфедерацию.
«И вот наши миллионы полетят к черту! — возмущался принц Генрих. — Без копейки прибыли»; «Зачем брать себе в союзники этого жалкого шведа и этих тщедушных поляков?»[1483] Письма старого политика имеют любопытную особенность: человек опытный, умный и заслуженный, он ни разу не упомянул о громких событиях тех лет — взятии Измаила, уничтожении турецкого флота. Единственной волновавшей его темой являлись казенные траты. Сам же конфликт, в который намеревалась вмешаться Пруссия, был для него посторонним.
23 июля 1791 года в записке о Пруссии Потемкин намечал возможный ход военных действий: «Я сужу, что пруссаки двинутся для возбуждения поляков и, пустя их на нас, станут делать оказателства к Риге. В таком случае… все корпусы, соединясь как от Киева, так и от белорусской границы, составят… армию. Сия, вступя в Польшу, займет [православные земли], выгнав поляков»[1484].
Польша пала бы первой жертвой противостояния России и «лиги», фактически выставленная союзниками как таран на западной границе. «Обстоятельства… требуют быть нам в готовности, наипаче противу пруссаков, — писал князь. — А как они выгодою большею для себя имеют обращение на нас поляков… то сии последние быть первыми в наших соображениях должны… Делить так, чтоб мало ее осталось»[1485]. Согласно этому плану, коронные земли должны были принадлежать Польше, но, лишившись громадных православных территорий, она становилась мононациональной и монорелигиозной страной.
В то же время Екатерина и ее фактический соправитель повели сложную дипломатическую игру. Каждому из участников Петербург сулил то, чего тот давно желал. Пруссию постарались привлечь обещанием антиавстрийского союза, включавшего и Варшаву[1486]. Это привело к замедлению темпов военных приготовлений Фридриха Вильгельма II. Австрия, до сих пор отказывавшаяся поддержать Россию в случае конфликта с Пруссией, заподозрила, что дело клонится к новому разделу Польши. Боясь остаться «без прибыли», Вена согласилась на совместные с Россией действия, если прусский король первым начнет присоединять польские земли[1487]. Саму Польшу удалось частично нейтрализовать, распространяя слухи, что Россия уступит ей Молдавию из завоеванных турецких владений[1488].
Несмотря на Верельский мир, оставалась угроза нового столкновения со Швецией. О ней в один голос говорили все европейские кабинеты, не веря миролюбию Густава III. «Это злодей, на которого никогда нельзя положиться», — рассуждала Екатерина. Гримм сравнивал шведского короля с «Дон-Кишотом» и давал корреспондентке фантастические советы. По его мнению, Густав «никогда не стремился к другой славе, как к репутации личной храбрости; за эту честь он соглашался быть измолотым, избитым». Стоит только Екатерине «конфиденциально признаться, что… она до смерти им восхищается, то он на всю жизнь будет прикован к ее колеснице». Естественно, государыня отвергла совет «проникнуться удивлением к врагу». Это могло бы произойти только в одном случае, шутила она, «когда бы он победил все соблазны, которыми Ge и Gu его искушают, как демоны святого Антония»[1489].
Густав III намеревался, играя на противостоянии России и «лиги», выторговать для себя наибольшие выгоды. Министром в Россию был назначен генерал Курт фон Стединг, который 1 октября 1790 года прибыл в Петербург и начал зондировать почву на предмет субсидий и мелких территориальных уступок[1490]. Шведский сосед хотел подоить сразу двух коров. В феврале 1791 года он передал Палену проект союзного договора между Россией и Швецией, в котором обещал вспомогательное шведское войско на случай войны с Пруссией в размере 18 тысяч человек и участие Швеции в предотвращении возможного похода английского флота в Балтийское море. Со своей стороны Россия должна была выплатить союзнику 70 тысяч риксдалеров и урегулировать приграничные вопросы.
Екатерина была не настроена идти на уступки и субсидии «северному Амадису». Потемкину пришлось приложить усилия для того, чтобы повлиять на нее. «Английский флот в Балтике нулем будет, — писал князь, — ежели Вы изволите уладить со шведским королем… Будучи же в тесном с ними союзе Россия получит совершенный покой, а ежели бы Вы могли связать такой союз браком, то навеки б одолжили Россию»[1491]. Мысль заключить матримониальный союз между старшей внучкой Екатерины Александрой Павловной и сыном Густава III Густавом Адольфом понравилась королю, а получение требуемой субсидии отвратило его от содействия Англии[1492].
Одновременно полным ходом шли военные приготовления. Были расписаны три армии, прикрывавшие границы России: против Пруссии, против Порты и против Швеции. Главный удар принимал на себя флот[1493]. Формировался новый корпус в Финляндии, командующим которым назначили измаильского героя Суворова.
2 апреля Англия договорилась с Пруссией «выслать тридцать пять линейных кораблей с соразмерным количеством фрегатов в Балтийское море и двенадцать линейных же кораблей и фрегатов в Черное море»[1494]. Британский военный флот уже стоял на якоре в Портсмуте. Горячим сторонником силового давления на Петербург выступал премьер-министр Уильям Питт Младший. Болезненно пережив поражение в войне американских колоний за независимость, многие английские политики и военные были склонны искать поле для реванша. В 1790 году получило новый толчок завоевание Индии. Но этого было мало. Следовало наказать европейских противников Англии. Россию винили за политику вооруженного нейтралитета. Питт считал, что теперь настало время отыграться.
«Великое неудовольствие англичан против России исходит из… начал вооруженного нейтралитета, — писал Гримм, — они никогда не могли и не хотели переварить его. А я им постоянно замечал, что эта доктрина может быть противна только морским тиранам и разбойникам»[1495]. Англичане и были в душе морскими разбойниками, только со времен доброй королевы Елизаветы приобрели внешний лоск благородных джентльменов. «Это самая высокомерная и в делах самая коварная нация»[1496], — не уставал повторять принц Генрих. «Мудрость требует, чтобы она (Екатерина. — О. Е.) заключила мир, отдав свои завоевания туркам»[1497]. Подобные советы крайне раздражали нашу героиню. «Английские корабли не придут ни в Черное море, ни в Балтийское», — отвечала она. «Вовсе не придут, побьемся об заклад». И добавляла: «Мир я все-таки заключу не иначе, как на условиях, мною объявленных»[1498].
В вопросе о войне с Россией Питт не получил поддержки оппозиции и даже многих старых сторонников. Мануфактурные центры Англии работали на русском ввозном сырье, а портовые города жили во многом за счет постоянного товарооборота с Россией. Эти устойчивые торговые связи не раз спасали русско-английские отношения во время политических конфликтов. 29 марта 1791 года Питт открыто объявил парламенту, что британский военный флот предназначен для нападения на Петербург. Русский посол Семен Воронцов развернул в британской прессе кампанию, доказывая экономическую невыгодность для Англии столкновения с Петербургом. На деньги посольства были изданы дешевые анонимные брошюры. В крупных мануфактурных центрах — Манчестере, Лидсе, Норвиче, Уэксфильде — начались митинги и народные собрания, на стенах домов появились надписи: «Не хотим войны с Россией». Одновременно шли дебаты в парламенте. Оппозиция наступала на Питта, главным оппонентом премьер-министра был Чарльз Фокс, который доказывал крайнюю невыгодность противостояния с Россией[1499]. Британский кабинет уже попытался приостановить движение английских купеческих судов к русским берегам. На этом фоне особенно эффектно звучало заявление Екатерины о том, что она прикажет пропускать торговые корабли даже через ряд сражающихся военных судов.
Парламент был засыпан петициями избирателей с требованием голосовать против кредитов для войны с Россией. Чрезвычайно довольная этим Екатерина писала о парламентской оппозиции: «То, что в настоящую минуту не нравится одним, нравится другим… благодаря этому люди привыкают размышлять»[1500].
15 апреля в Балтийское море вышла эскадра В. Я. Чичагова, готовая встретить английский флот[1501], а через десять дней Суворов отправился в Финляндию к вновь укомплектованному корпусу. Настроение в городе царило напряженное. «Что станется с русскими — это их дело, — рассуждал уставший от политической неразберихи принц Генрих. — Мы же будем счастливы, если выпутаемся из этого скверного положения». Екатерина прокомментировала: «Русские останутся русскими»[1502]. В данную минуту у нее не было настроения ни храбриться, ни отшучиваться.
«Для Англии политически хорошо воспользоваться настоящими обстоятельствами для приведения России в то состояние, в котором она в отношении к другим Европейским державам находиться должна»[1503], — писал из Петербурга английский посол Чарльз Уитворт. Как его слова похожи на высказывания французских дипломатов времен первой Русско-турецкой войны!
Однако воевать не пришлось. В самый разгар дебатов в парламенте к Питту пришло убийственное известие о том, что Густав III закрывает для англичан свои гавани. «Король шведский изменил обещаниям, сделанным Пруссии и Англии, — почти с возмущением писал принц Генрих. — …маленький изменник!»[1504] В таких условиях Питт вынужден был отступить. Он приказал вернуть гонца, уже посланного в Петербург с нотой об объявлении войны, флот был разоружен. В Россию для проведения секретных переговоров о мире с Турцией срочно отбыл секретарь английского кабинета Уильям Фалькнер (Фокнер)[1505]. Провал интервенции нанес болезненный удар по самолюбию Питта, он со слезами признавался, что «это величайшее унижение в его жизни»[1506]. 30 апреля Екатерина с облегчением констатировала, что войны не будет. Уитворт доносил в Лондон, что «императрица нимало не склоняется на принятие status quo или какого либо ограничения»[1507]. По поводу попыток увязать интересы всех сторон конфликта в одном договоре государыня с издевкой писала Гримму: «Кто же, будучи хозяином у себя и имея собственную шапку, допустит, чтоб ему воткнули голову в шапку, уже покрывающую несколько голов, которые стукаются и вечно будут стукаться одна о другую?»[1508]
14 мая в Царское Село прибыл Фалькнер[1509]. Екатерина приняла его, любезно побеседовала, не затрагивая спорных вопросов, и лишь в конце позволила себе намек на позицию Англии. «Итальянская гончая собака, принадлежащая императрице, лаяла на мальчика, игравшего перед нею в саду, — доносил Фалькнер. — Она сказала мальчику, чтоб он не боялся, и, оборотясь ко мне, говорила: „Собака, которая много лает, не кусается“»[1510].
«Помолитесь за меня»
Между тем и императрица, и Потемкин находились на пределе сил. Нередко их беседы с глазу на глаз оканчивались ссорами, иногда князь сразу после разговора с Екатериной шел на исповедь[1511]. Разногласия были серьезны. Екатерина считала, что лучший способ достичь мира — это развитие наступления на юге. Потемкин доказывал, что без решительных дипломатических усилий в Берлине даже такая грандиозная победа, как Измаил, ничего не дала для мирных переговоров. 22 апреля императрица написала князю отчаянную записку: «Ежели хочешь камень свалить с моего сердца, ежели хочешь спазмы унимать, отправь скорее в армию курьера и разреши силы сухопутные и морские произвести действие наискорее, а то войну протянешь еще надолго»[1512]. Храповицкий рассказал о ссоре Потемкина и Екатерины, начавшейся 17 апреля: «Захар Зотов (старый камердинер императрицы. — О. Е.) из разговора с князем узнал, что, упрямясь, ни чьих советов не слушают. Он намерен браниться. Плачет (Екатерина. — О. Е.) с досады, не хочет снизойти и переписаться с прусским королем… 22 — Нездоровы, лежат; спазмы и сильное колотье с занятием духа»[1513].
Сохранились воспоминания выросшего в доме Потемкина мальчика-сироты Ф. В. Секретарева, описавшего одну из таких ссор весны 1791 года: «У князя с государыней нередко бывали размолвки. Мне случалось видеть, как князь кричал в гневе на горько плакавшую императрицу, вскакивал с места и скорыми, порывистыми шагами направлялся к двери, с сердцем отворял ее и так ею хлопал, что даже стекла дребезжали и тряслась мебель»[1514]. Немудрено, что после таких ссор императрица могла слечь. Чаще всего Екатерина шла на уступки, как в случае с субсидиями для шведского короля. Однако она очень болезненно относилась ко всему, что задевало интересы «милого дитяти» Платона Зубова. На знаменитое торжество в Таврическом дворце 28 апреля никто из обширного семейства Зубовых не был приглашен самим хозяином. Григорий Александрович предоставил Екатерине право привезти с собой, кого ей захочется. Великолепный праздник, сопровождавшийся фейерверком и демонстрацией пленных турецких пашей[1515], должен был ободрить население столицы.
На следующий день Екатерина сделала специально для Гримма подробное описание торжества. Особенно красивы, по ее словам, были две кадрили, «розовая и небесно-голубая», развлекавшие гостей во время пиршества в зале, «который по размерам и постройке уступит разве только Св. Петру в Риме». «В первой находился господин Александр, во второй сеньор Константин, — сообщала бабушка. — Каждая кадриль состояла из двадцати человек. Это была самая красивая петербургская молодежь обоего пола, и все это было с головы до ног залито бриллиантами… Вот, милостивый государь, как в Петербурге проводят время, несмотря на военный шум и угрозы диктаторов»[1516].
29 апреля, на следующий день после праздника, на котором присутствовала вся императорская фамилия, Потемкин направил Екатерине очень любопытную записку: «Вчерашний день дети Ваши составили собой главное украшение пиршества, увеселяющее сердца всех. Первенец из птенцов орлицы уже оперился. Скоро, простря крыле, будет он плавать над поверхностью; окажется ему Россия как карта пространнейшая: увидит он разпространение границ, умножение армий, флотов и градов, степи заселенные, народы, оставившие дикость, судами покрытые реки… Вот какое прекрасное ему будет зрелище, а нам в нем окажется утешительное удовольствие видеть князя с ангельскими свойствами, кротость, приятность вида, величественная осанка. Он возбудит к себе любовь во всех и благодарность к тебе за воспитание, принесшее такой дар России»[1517].
О ком идет речь? Фразы: «дети Ваши» и «первенец из птенцов орлицы», казалось бы, указывают на Павла Петровича. Замечание о том, что вскоре он сам будет парить над Россией, то есть станет новым владыкой, тоже должны были свидетельствовать в пользу наследника. Однако описание будущего государя никак не вяжется с обликом Павла. Перед нами «князь с ангельскими свойствами», отмеченный «кротостью, приятностью вида и величественной осанкой». В императорской семье нежное прозвище «наш ангел» носил великий князь Александр Павлович. Его воспитанием, в отличие от воспитания сына, Екатерина занималась сама[1518], а именно об этом говорят последние строки записки.
Гримму Екатерина писала: «Г[осподин] Александр совершенно покорил сердце князя Потемкина, который называл его царем души своей, находя, что с красотою Аполлона он соединяет ум и большую скромность… Если б на его место выбирать из тысячи, трудно было бы найти подобного, а уж лучшего никак не отыскать. Нынешнею зимою г. Александр овладел сердцами всех, кто только приближался к нему»[1519]. Речь шла не только о «юных особах», которым великий князь уже начал кружить головы, но и о пожилых вельможах, задумывавшихся о будущем.
О намерении императрицы передать престол внуку в обход Павла Петровича иностранные дипломаты начали доносить уже с 1782 года[1520]. Второй всплеск подобных слухов возник весной — летом 1791 года, когда Екатерина стала часто призывать к себе Александра для беседы о государственных делах, которые становились лишь частично известны Павлу одновременно с «публикой»[1521]. 1 сентября в письме Гримму императрица, касаясь положения дел во Франции, неожиданно проговорилась: «Если революция охватит всю Европу, тогда явится опять Чингиз или Тамерлан… но этого не будет ни в мое царствование, ни, надеюсь, в царствование Александра»[1522]. Эти слова показывают, что Екатерина не предполагала промежутка между своим правлением и правлением внука.
После того как императрице стало известно о сношениях Павла Петровича с берлинским двором, охлаждение между нею и сыном усилилось. Возможно, именно тогда были составлены загадочные документы, передававшие право на престол Александру и, по легенде, хранившиеся у Безбородко, который и передал их Павлу[1523]. Их скрепляли подписи крупнейших государственных деятелей — Потемкина, Суворова, Румянцева…
Конец весны — лето 1791 года двор провел в Царском Селе и Петергофе. Потемкин появлялся там лишь наездами, сопровождая иностранных дипломатов[1524], с которыми продолжал консультации. Редкие, кратковременные визиты князя подали повод для разговоров об ухудшении его взаимоотношений с императрицей[1525]. Однако открытого разрыва Потемкина с Зубовым не произошло, внешне они сохраняли ровные, благожелательные отношения[1526]. Екатерина была этим очень довольна. «При виде князя Потемкина можно сказать, что победы и успехи красят человека. Он возвратился к нам из армии прекрасный, как день, веселый, как зяблик, блистательный, как звезда, более остроумный, чем когда-либо»[1527], — писала она 14 мая принцу де Линю.
Между тем военные действия на юге продолжались весьма успешно. 2 июля курьер привез в Петербург известие о том, что войска генерала И. В. Гудовича взяли штурмом Анапу, 11 июля в столице узнали о победе Н. В. Репнина в сражении при Мачине 28 июня. Была разбита 60-тысячная турецкая армия под предводительством визиря.
В тот же день, 11 июля, послы Великобритании и Пруссии подписали ноту, в которой от имени своих монархов признавали русские условия заключения мира с Турцией: уступка Очакова и прилежащих земель по Днестру. 13 июля Екатерина ездила на молебствие в Казанский собор[1528].
Потемкин окончил переговоры с Фалькнером, 20 июля состоялась отпускная аудиенция английского дипломата, а 24-го ранним утром светлейший князь покинул Царское Село[1529]. О завершении миссии Фалькнера Екатерина через месяц написала Гримму: «Это посредник самый покладистый, какого я когда-либо видела, и если ему всегда будут поручать соглашаться с мнением тех, с кем он ведет переговоры, то можно вперед быть спокойным, что он везде будет иметь успех, как успел здесь, по той причине, что он во всем соглашается с нашими мнениями, а не мы с ним»[1530].
На самом деле «негоциация» с Фалькнером была трудной. Он имел три варианта договора, с последовательными уступками России. Но русская сторона уперлась, и ему пришлось уступить. Недаром принц Генрих заметил, что в настоящую минуту «все зависит от Востока»[1531], как бы «высокомерны» и «коварны» ни были англичане.
Под занавес Россия одержала еще одну громкую победу. 31 июля эскадра Ушакова настигла турецкий флот у мыса Калиакри, где неприятель укрылся под защитой береговых батарей. Ушаков сумел отрезать турок от берега и атаковал, победа была полной. Остатки некогда могущественного флота Порты пришли в Константинополь, где при виде разбитых кораблей началась паника и разнесся слух, что грозный Ушак-паша идет к турецкой столице[1532].
15 августа из Галаца Потемкин сообщил Екатерине о начале переговоров с драгоманом великого визиря[1533]. Между тем у Григория Александровича возобновились приступы болотной лихорадки. Императрица была испугана. Уже после смерти князя она писала Гримму: «С летами и опытом он исправился от многих своих недостатков. Три месяца тому назад, когда он приехал сюда, я говорила генералу Зубову, что меня пугает эта перемена, и что я не вижу в нем его прежних недостатков, и вот, к несчастью, мои опасения оказались пророчеством»[1534].5 октября Потемкин скончался.
Известие о смерти князя достигло Петербурга вечером 12 октября. Был прерван начавшийся было в Эрмитаже бал, и тотчас собрался Государственный совет, заседание которого продолжалось и на следующее утро[1535]. Безбородко сам вызвался ехать в Молдавию для продолжения переговоров[1536].
Императрица была поражена тяжелым ударом. 12 октября Храповицкий записал: «Слезы и отчаяние. В 8 часов пустили кровь». Ночь она провела без сна и около двух часов утра села за письмо Гримму. «Снова страшный удар разразился над моей головой… мой воспитанник, мой друг, можно сказать мой идол, князь Потемкин-Таврический скончался в Молдавии… С прекрасным сердцем он соединял необыкновенно верное понимание вещей и редкое развитие ума… Одним словом, он был государственный человек, как в совете, так и в исполнении. Он страстно, ревностно был предан мне: бранился и сердился, когда полагал, что дело было сделано не так, как следовало… Но в нем было еще одно редкое качество, отличавшее его от всех других людей: у него была смелость в сердце, смелость в уме, смелость в душе. Благодаря этому мы всегда понимали друг друга и не обращали внимания на толки тех, кто меньше нас смыслил»[1537].
Весь следующий день императрица провела в своих покоях, никого не желая видеть. «Жаловались, что не успевают приготовить людей: теперь не на кого опереться, — записал ее слова Храповицкий. — Как можно мне Потемкина заменить?.. Все будет не то. Он настоящий был дворянин, умный человек, меня не продавал; его не можно было купить»[1538]. 22 октября в письме Гримму Екатерина признавалась: «Теперь все бремя на мне: помолитесь за меня»[1539].
Глава шестнадцатая НЕВОЛЬНЫЙ КАМЕНЩИК
Последние годы жизни не принесли Екатерине ни политического, ни семейного покоя. В 1789 году началась революция во Франции, за развитием которой императрица наблюдала с напряженным вниманием и тревогой. В сердце Европы разверзалась колоссальная дыра, поглощавшая одну из могущественнейших и старейших монархий. Международная обстановка стремительно менялась.
Революционный взрыв вызвал в соседних странах волну реакции: закрывались либеральные издания, преследовались якобински настроенные авторы, пресекался поток ввозимой через границу литературы. Были разогнаны масонские ложи революционного направления вроде иллюминатов, торжествовал мрачный мистицизм розенкрейцеров. Особенно это характерно для Пруссии. Однако стеснительные меры пережили Священная Римская империя, Англия, Дания, Швеция. Не осталась в стороне от общего «похолодания» и Россия.
На конец екатерининского царствования приходятся два знаковых события, как бы возвестившие о начале новой, более мрачной эпохи, — во-первых, арест А. Н. Радищева и, во-вторых, суд над Н. И. Новиковым, а также связанные с этим гонения на масонов.
«К чему потребен я?»
След, оставленный Николаем Ивановичем Новиковым в отечественной культуре, столь глубок, что целое десятилетие русского Просвещения называют «новиковским». Это было время полного напряжения творческих сил издателя: сотни наименований книг по истории, географии, естественным наукам, брошюр духовного содержания расходились из Москвы в Петербург, Нижний Новгород, Тверь, Архангельск, Тамбов, Иркутск и другие города[1540]. Такого размаха публикаторской и переводческой работы Россия до этого не знала.
Лучшие годы жизни издателя были связаны с московским масонским братством. Здесь он нашел для себя сотрудников и единомышленников, почерпнул основные нравственно-философские идеи. Масонство пришло в Россию с Запада при Петре I и распространилось среди находившихся на русской службе иностранцев. С царствования Анны Иоанновны и особенно при Елизавете Петровне оно начало затрагивать и русскую знать. Ко времени вступления Новикова в общество в Петербурге действовали ложи английской системы под руководством статс-секретаря императрицы И. П. Елагина. Масонство этого периода было вполне легальным, и вся загадочность, которой окружали себя «братья», проистекала скорее от их тяги творить под покровом тайны, чем от реальной угрозы со стороны правительства.
Новое течение вобрало в себя почти всю образованную часть общества. Именно под воздействием масонства, как бы в его лоне, зародилась будущая отечественная интеллигенция[1541]. Одним из таких рекрутов просвещения был Новиков.
Выходец из старинной, состоятельной помещичьей семьи, известной с XVI века, Николай появился на свет в родовом поместье Авдотьино под Москвой 27 апреля 1744 года. Отец и мать — люди весьма религиозные — воспитывали детей в нравственных традициях православия. Впоследствии Новиков говорил, что «первым его учителем был Бог», а «верность и любовь к престолу были внушены ему покойным родителем», статским советником Иваном Васильевичем Новиковым[1542]. Грамоте мальчик учился у деревенского дьячка, а дальнейшее образование продолжил во французском классе гимназии при Московском университете. В 1760 году Новикова исключили оттуда «за леность и нехожение в классы»[1543]. Иностранных языков он не знал, так как, по его собственным словам, «таковым его не обучали»[1544]. Новикову оставался один путь — военная служба. В 1762 году он поступил в лейб-гвардии Измайловский полк и в числе других гвардейцев принял участие в перевороте, получив чин унтер-офицера[1545]. В 1767 году Новикову представилась возможность трудиться в Уложенной комиссии. Он был послан в Москву служить «по письменной части». Помимо ведения протоколов, Николай Иванович составлял журналы общих собраний депутатов и читал их во время докладов императрице. Однако эта деятельность, мелочная и кропотливая, не вызвала у будущего издателя интереса: ведь он фиксировал чужие мнения, не имея возможности высказать своего. Через год Новикова произвели в прапорщики, но к этому времени молодой человек уже утвердился в желании оставить службу.
В предисловии к журналу «Трутень» он писал о себе: «Всякая служба не сходна с моею склонностью. Военная — кажется угнетающею человечество… приказная — надлежит знать все пронырства… придворная — надлежит знать притворства»[1546]. Вставал вопрос: что делать дальше? «К чему ж потребен я в обществе? — спрашивал издатель. — Без пользы в свете жить, тягчить лишь только землю»[1547]. Позднее Новиков говорил, что именно в это время начал искать «иные пути быть полезным отечеству». Результатом долгих размышлений стала мысль, знаменательная для нарождавшейся интеллигенции. Новиков пришел к выводу, что служить отечеству можно, не служа государству, что общество и государство — суть разные вещи, их интересы иногда не совпадают[1548].
После отставки Новиков поселился в Петербурге, где завязал тесные контакты с типографией Академии наук[1549], и с 1769 года принялся за издание сатирических журналов «Трутень», «Пустомеля», «Живописец», «Кошелек» и др. С помощью печатного слова он пытался «послужить к исправлению нравов» общества. Объектами его критики стали невежество, галломания, казнокрадство и вольтерьянство, понимаемое издателем как «безбожие и потакание телесным порокам». По вопросу о пороках Новиков вступил в полемику с журналом «Всякая всячина», назвав безобидное подтрунивание императрицы над человеческими слабостями «пороколюбием»[1550].
Разочаровавшись в «исправительных» возможностях сатиры, Николай Иванович некоторое время надеялся «пронять» общество живым изображением добродетелей предков. То презрение к родной стране, которое возникало у многих полуобразованных дворян, подверглось беспощадному бичеванию с его стороны. В «Трутне» Новиков изобразил молодого щеголя и галломана, который говорил: «Я не знаю русского языка. Покойный батюшка его терпеть не мог; да и всю Россию ненавидел; и сожалел, что он в ней родился; полно, этому дивиться нечему; она и подлинно этого заслуживает». Таких помещиков издатель называл «скотоподобными завоевателями», «извергами без роду и племени», терзающими Россию как «неприятельскую землю», только для того, «чтобы жрать, спать и развратничать». Рассуждать так значило, по Новикову, «утратить достоинство, честь и совесть»[1551].
Однако у всякого течения мысли есть свои корни. И презрение к России для дворянства XVIII века зиждилось на том резком разрыве с прошлым, который произошел при Петре Великом. Его реформы означали отказ не только от прежнего уклада жизни, но и от старой системы ценностей. Выросло несколько поколений, перенимавших европейские манеры, образ мыслей, круг чтения. Они привыкли сознавать свою принадлежность более зрелой культуре и, оглядываясь на окружавшую русскую реальность, испытывали досаду от ее несоответствия европейским образцам. Кто-то становился нечувствителен к бедам отечества, а кто-то, начитавшись Вольтера и обозрев курятник в собственном имении, пускал себе пулю в лоб. Именно так в 1793 году поступил ярославский помещик И. М. Опочинин, написавший перед смертью: «Отвращение к нашей русской жизни есть то самое побуждение, принудившее меня решить самовольно мою судьбу»[1552]. Для подобного поступка нужно было не только впасть в «жестокую тоску», но и порвать с христианской традицией, запрещавшей самоубийство.
В идеале предполагалось, что европеизированное дворянство понесет просвещение дальше — другим слоям населения, преобразуя жизнь страны по западным образцам. Не без серьезных издержек, но именно таки происходило. Однако побочным результатом петровской модернизации стали «отвращение к нашей русской жизни», уныние и опущенные руки при виде непочатого края дел.
В то же время Россия достигла политического могущества, претендовала на роль великой державы, и ее ученическое положение по отношению к Западу оскорбляло современников. Для человека екатерининской эпохи собственно история начиналась с Петра I. Все, что было до него, — лишь вступление, пролог[1553]. Отсюда и ощущение молодости, силы, способности преодолеть любые преграды, так ярко переданное Г. Р. Державиным: «Доступим мира мы средины», — ставшее аксиомой империи[1554]. Но отсюда же брало начало и наивное упование просвещенных патриотов-стародумов, вроде князя М. М. Щербатова, будто в допетровском прошлом сосредоточивались невиданные духовные сокровища, которые были утрачены по мере европеизации и просвещения на западный лад. Им московская старина представлялась золотым веком, откуда русский человек, как изгнанный из рая Адам, вышел в мир тягот, забот и разврата. То есть и в случае любви к прошлому, и в случае ненависти к нему оно тем не менее не воспринималось образованными русскими XVIII столетия как исторический процесс. Открывая в нем кровь, несправедливость, социальные коллизии, они впадали в нравоучительное негодование и готовы были отказаться от такой первоосновы национального бытия.
Именно на эту развилку и попал Новиков. Начиная в 1773 году публиковать «Древнюю Российскую Вивлиофику» — сборник произведений древнерусской литературы, он писал: «Не все у нас еще, слава Богу! заражены Франциею; но есть много и таких, которые с великим любопытством читать будут описание некоторых обрядов, в сожитии предков наших употреблявшихся; с неменьшим удовольствием увидят некое начертание нравов их и обычаев и с восхищением познают великость духа их, украшенного простотою»[1555]. Однако знакомство с документами прошлого открывало не одну только «великость духа». В допетровской Руси издатель увидел суеверия, дикость нравов, невежество, обрядоверие, нетерпимость ко всему иноземному и к инакомыслящему. Предстояло или закрыть на это глаза, или отнестись с беспристрастием ученого, или, наконец, с негодованием отринуть. Новиков выбрал последний путь. Критические замечания о старой России он вложил в уста гувернера-француза, который призывал ученика строить свое мнение о «древних русских добродетелях» не на словах «старожилов», а на «известиях в иностранных о России писателях»[1556]. В качестве защитника национальных традиций тоже выступил не русский, а «добродетельный немец». Этим приемом издатель пытался добиться внешней беспристрастности, ему казалось неудобным заставить соотечественника открыто произносить похвальные слова о России.
Изменение взглядов издателя не могло не повлиять на «Вивлиофику». Но последняя не была одним только личным начинанием Новикова. Деньги на нее он получил от императрицы, которая сама живо интересовалась отечественной историей, писала заметки и пьесы исторического содержания и остро чувствовала необходимость восстановления преемственности с прошлым.
Екатерина управляла необычным обществом, в котором, с одной стороны, расцветало представление о величии империи, основанное на громких внешнеполитических победах и быстрых успехах просвещения, а с другой — копилось раздражение и недовольство: почему Россия все еще не Европа? Патриотизм и национальный нигилизм только на страницах периодических изданий выглядели двумя противоположными полюсами. В повседневной жизни они соединялись в сознании одного и того же человека, будь то Новиков или Щербатов. Язвили души, делали несчастными. Это трагическое раздвоение можно было преодолеть двояким же путем. Одной рукой сокращая цивилизационный разрыве Европой, а другой — сшивая края раны, нанесенной русской культуре Петром I.
Сознавая опасность потери «франкофонным» русским дворянством национальной языковой идентичности, Екатерина создала Академию русского языка во главе с E. Р. Дашковой для работы над «Словарем». Ту же цель — восстановить связь времен — преследовали и ее исторические занятия. Она предоставила Новикову возможность пользоваться собственным собранием рукописей, обеспечила доступ в государственные архивы[1557]. В результате свет увидели десять томов «Вивлиофики», позднее дополненных вторым изданием из двадцати томов. Поскольку сумму на публикацию выделил кабинет, сборник являлся, по сути, правительственным заказом. Заметим, что государыня помогала издателю уже после их хлесткой журнальной полемики, на которую имела все основания обижаться. Однако соображения дела и пользы всегда брали в нашей героине верх над личными амбициями. Когда надо, она становилась «кроткой, как овечка».
«Познай самого себя»
Разочарование в «великости духа» предков особенно заметно стало проявляться у Новикова с 1775 года. Близкое окружение Екатерины предприняло попытку удержать издателя как сотрудника для правительства. Руководитель английских лож — Елагин — предложил Николаю Ивановичу вступить в мистическое братство, поскольку нравственные искания журналиста были близки вольным каменщикам.
За влияние в России боролись английская, прусская и шведская системы, они вербовали членов и выдавали патенты на устройство новых «братств». Английский путь, в отличие от других, ставил себя «вне политики», что особенно устраивало императрицу. Отвечая на вопросы во время следствия, Новиков писал, что в 1775 году согласился стать масоном, но с условием, чтобы ему «наперед были открыты три первых градуса», и только убедившись, что «там нет ничего против совести», принял предложение.
Николай Иванович вступил в ложу «Астрея». Однако менее чем через год разочаровался в тамошних порядках. Ему скучны были разговоры о мистике, пышные ритуалы и разгадывание символов на масонских коврах[1558]. Новиков видел задачу «братства» в «нравственном совершенствовании», помощи бедным и в просвещении. По его словам, работа «братьев» должна состоять в «искании света», а не в «разгадке древних тайн». Эти две точки зрения на цели ордена впоследствии резко противопоставили масонство петербургское и московские[1559].
Среди членов «Астреи» у Новикова нашлись единомышленники, работой которых с сентября 1777 года стало издание журнала «Утренний свет». «Душа и дух да будут единственными предметами нашими», — писал редактор. Журнал выполнял ту часть масонской работы, которая соответствовала задаче «познай самого себя». «Человек есть нечто возвышенное и достойное… В природе человеческой находится много такого, что внушает в нас истинное к нему почтение»[1560]. Но мир внешний поработил мир внутренний, и человек несчастен именно потому, что ищет счастье не внутри, а вне себя[1561]. В противовес модным у французских просветителей идеям «внешних» свобод, издатель поднял вопрос об «истинной внутренней свободе». Развивая в себе «внутреннее благо», человек освобождается «от рабства внешними условиями жизни», и уже этой свободы не в силах отнять у него никакой тиран. «Ибо добродетельный человек не может быть несчастлив… хотя бы заключен в оковы»[1562].
«Утренний свет» отвергал путь аскетизма и уход от мира[1563]. По мнению журнала, не следовало забывать, что человек не только «сам в себе цель», но и средство, через которое должна осуществляться божественная премудрость. «Всякая вещь в мире есть цель всех других и средство ко всем другим»[1564]. Вырывая себя путем отшельничества из этой цепи, человек отказывается от помощи ближним и замыкается в горделивом созерцании своих добродетелей. Иного пути служения Богу, кроме деятельного служения людям, Новиков не видел. С другой стороны, журнал скорбел, что люди утратили способность черпать из красоты окружающего мира свидетельства о Боге[1565]. Природу изучают науки, следовательно, и Бог познаваем путем научных изысканий, для этого надо создать особую науку — «Нравоучение»[1566]. «Нравоучение» скрыто иногда под «таинственными знаками», их разгадка заключена в «таинствах древних»: «О, сколь было бы желательно, если б подобные им таинства еще поныне находились»[1567]. В последних частях издания все яснее высказывалась мысль о необходимости мистического проникновения в тайны Священного Писания.
1 мая 1779 года Новиков взял в аренду сроком на десять лет типографию Московского университета. Этот выгодный договор стал для него возможен именно благодаря масонским связям. В Первопрестольной, вдали от недреманного ока императрицы, вольные каменщики чувствовали себя свободно и пользовались громадным влиянием. Новиков тесно соединил свои усилия с местным масонским братством и погрузился в издательскую деятельность.
Указ Екатерины 1783 года разрешал открывать частные типографии, чем не преминули воспользоваться мартинисты. Новиков и его друг Иван Васильевич Лопухин завели собственные издательства. Братство активно помогало им деньгами, что позволило в 1784 году открыть акционерную Московскую типографическую компанию. Впоследствии ее деятельность особенно интересовала правительство, так как отчеты о ней направлялись масонскому руководству в Пруссию. Кроме официально зарегистрированных в полиции Новиков и Лопухин завели тайные типографии, где по приказу орденского руководства печатались в русском переводе присланные из Берлина мистические, оккультные и алхимические труды, например «О заблуждениях и истине» Л. К. Сен-Мартена, «Новая Киропедия» А. М. Рамсэя, книги Мигеля де Молина и мадам Гюйон, «Дух масонства» Уильяма Хатчинсона, «Об истинном христианстве» И. Арндта, «О подражании Иисусу Христу» Фомы Кемпийского и др.[1568]
Так, огромное место среди публикуемой Новиковым литературы заняли книги религиозно-нравственного содержания, которые соответствовали его новому пониманию христианства в духе немецкого религиозного философа Иоанна Арндта. Многие из этих текстов были переведены студентами университета и произвели огромное впечатление на русских «братьев»[1569]. Арндт указывал путь к «истинной жизни» через помощь ближним, через возвращение к «настоящему Христу», которого официальная Церковь «заменила Христом из золота», через обретение Царствия Божьего внутри себя[1570]. Таким образом, духовные устремления Новикова оказались близки идеалам протестантизма.
Но русская публика еще не была готова к такого рода изданиям. Это приводило Николая Ивановича в отчаяние. Иногда он просил принять в дар духовные книги тех покупателей, которые напрасно искали в его лавке развлекательного чтения. Плохо разбиравшиеся в конфессиональных тонкостях купцы и мещане брали переводы протестантских и масонских авторов, чтобы почитать, как они выражались, «от божественного». Случалось, Новиков приобретал рукопись «безнравственной», с его точки зрения, книги и сжигал ее, чтобы другой издатель не распространил «соблазна»[1571]. Чаще всего это были романы, написанные в подражание французским. Легко представить чувства авторов, когда они узнавали, что стало с их текстами.
Знаменательным в жизни Новикова стало сближение с И. Г. Шварцем. Выходец из Трансильвании, приехавший в Россию в качестве гувернера, Шварц в 1779 году стал профессором Московского университета по кафедре «философии и биллетров». К этому времени ряд московских масонов, к которым принадлежал и Новиков, не были удовлетворены работой в ложах, где двери открывались для каждого. Искать в них истины или «высших степеней» было невозможно. В 1780 году ими была образована ложа «Гармония», тайная не только для «профанов», но и для «братьев» других лож. Эта ложа представляла собой нечто вроде маленькой «внутренней церкви», где Шварца чтили как «пастора»[1572].
В ноябре 1779 года при Московском университете на пожертвования крупных масонов была образована Педагогическая семинария, готовившая учителей. В ней занималось 30 студентов, содержание каждого обходилось в 100 рублей в год. В марте 1781 года появилось Собрание университетских питомцев, а также специальная Переводческая семинария. Их члены занимались переводами «наилучших мест из древних и новых писателей», а также нравственным воспитанием юношества, подготавливая наиболее одаренных для вступления в братство. Все эти сообщества действовали под непосредственным руководством Шварца. Для воспитанников обеих семинарий был куплен дом, где помещались квартира Шварца и тайная типография, печатавшая духовную литературу.
Лопухин писал: «Цель сего общества была издавать книги духовные и наставляющие в нравственности истинно евангельской, переводя глубочайших о сем писателей на иностранных языках, и содействовать хорошему воспитанию, помогая особливо готовящимся на проповедь Слова Божия… для чего и воспитывалось у нас больше пятидесяти семинаристов, которые отданы были от самих епархиальных архиереев, с великою признательностью»[1573]. Так масонство мало-помалу проникало и в ряды священников.
В 1782 году на базе университета и двух семинарий было открыто Дружеское ученое общество. Его официально разрешил московский главнокомандующий граф З. Г. Чернышев, принадлежавший к прусским масонам еще со времен Семилетней войны. Благословил же общество архиепископ Платон, на словах порицавший масонство, но на деле оказывавший братству весомые услуги. Дружеское ученое общество располагало большими средствами в виде пожертвований, благодаря которым платило стипендии студентам, печатало и распространяло учебники[1574].
Императрица смотрела на деятельность московских мартинистов спокойно и даже сама заказывала книги в университетской типографии, например «Комментарии к английским законам» Блэкстона. Издательская и распространительская деятельность, которой руководил Новиков, приносила солидную прибыль. Цензорские документы показывают, что его продукция широко продавалась от Архангельска до Тамбова, от Нижнего Новгорода до Иркутска. В провинциальных городах на базе книжных лавок возникали масонские ложи, подчиненные московской, чьи сотрудники и ведали снабжением и сбытом[1575].
Очень быстро «Гармония» стала одной из самых влиятельных лож в России. Среди ее членов были куратор Московского университета М. М. Херасков, его сводный брат H. Н. Трубецкой, князь А. А. Черкасский, И. П. Тургенев. Сначала ложа действовала на основе учения французского оккультиста Луи Клода де Сен-Мартена, поэтому московских масонов еще называли мартинистами. Но Шварц задумал преобразовать работу. Прибыв в Москву как негласный эмиссар немецких розенкрейцеров и найдя здесь благоприятную почву для своего учения, он отправился в конце 1781 года в Пруссию и привез оттуда «градус единственного верного предстоятеля теоретической степени соломоновых наук в России»[1576]. Формально Шварц признал зависимость московских лож от «тайных начальников» в Берлине, а вернувшись в Первопрестольную, показал русским «братьям» полученные документы. «Услышав сие, — говорил на допросе Новиков, — все мы крайне были удивлены и сказали ему, что это совершенно против нашего желания, что мы сих связей и союзов не искали и не хотели»[1577]. Именно тогда в отношениях Новикова и Шварца возникла трещина. Тем не менее розенкрейцерство быстро распространилось в старой столице и почти полностью подчинило себе московские ложи. С этого момента «братья» начали посылать немецким «начальникам» донесения о своей деятельности и деньги на благотворительные цели. Взнос составлял 10 рублей с человека[1578] — сумма существенная.
Позднее на допросе издатель заявил, что не знал никого из этих таинственных руководителей: «Кто суть действительно из начальников… мне открыто не было, и я не знаю не только сих, но ниже того, который за моим первым или ближайшим, которого одного только и знать по введенному порядку в ордене я мог». Таковы были традиции масонской работы, но можно усомниться, что человек, занимавший должность начальника «теоретического градуса», не предполагал, кто руководит «братьями» с немецкой стороны. Приближенные кронпринца, а затем короля Фридриха Вильгельма II, Й. фон Вёльнер и хирург Й. Теден «окормляли» прусских масонов и поддерживали переписку с русскими.
На Вильгельмстадтском конвенте прусских масонов 1782 года Россия, по просьбе Шварца, была признана 8-й провинцией, подчинявшейся великому мастеру «строгой системы» герцогу Фердинанду Брауншвейгскому.
«Гордая вольность мыслей»
В 1781 году начал выходить новый ежемесячный журнал «Московское издание», который замышлялся как продолжение «Утреннего света»[1579]. Цель науки, говорилось в нем, «совершенство духа, состоящее в познании бессмертных истин»[1580]. Только чистые сердцем способны открывать истины, которые недоступны гордецам и честолюбцам.
На допросе Новиков, возможно запираясь, показал: «В магии и Каббале не могли из нас никто упражняться, как то по бумагам видно, находясь в нижних только еще градусах, и мне о сих науках, кроме названия их, неизвестно… Кто не упражнялся еще в нижних познаниях, тот не может понимать и разуметь вышних… а могут его разуметь только находящиеся в самых высших градусах». Впрочем, сам издатель никогда особенно не тяготел к мистике.
Тем не менее его новый журнал продолжал попытки совместить веру и разум. Но как это сделать, если религия накладывает на человека жесткие запреты не только в области действий, но и в области помыслов? А для развития науки необходима полная свобода мысли: «вольностью она процветает». «Англичане оказали великие успехи в философии; причина тому гордая вольность их мыслей и сочинений, которые могут быть примером целому свету!» — восклицал Николай Иванович. Настоящая наука должна вырастать из свободной общественной самодеятельности, а не развиваться по инициативе государей, насаждаемая сверху. Ни одна страна, где «рабство связывает душу как бы оковами, не может произвесть что-нибудь великое»[1581]. Читатель легко понимал намек. Страна, где рабство связывает душу, это Россия. Именно в ней науки, как полагали современники, «завелись» по желанию Петра I. Поэтому напрасно ждать здесь чего-нибудь великого.
Взгляды на историю, изложенные в «Московском издании», были наивны и дерзновенны одновременно. Так, журнал пояснял, почему следует изучать «древние таинства». «Люди тем больше знали, чем ближе жили к первым людям, а первые люди сохраняли еще свет того знания, какое они имели до грехопадения». Первый человек «был столь совершенен, что, имея чистый разум, мог проникать в природу вещей». Когда люди стали постепенно лишаться чистоты разума, они начали записывать свои понятия о природе и Боге «особыми начертаниями, или иероглифами», обозначающими свойства вещей. «Когда же со временем люди начали более удаляться от истины и оные начертания становились невразумительными, то рождались науки для объяснения оных»[1582].
Мы рассказываем о религиозно-философских исканиях Новикова, для того чтобы показать несостоятельность мнения, будто Николай Иванович «случайно» оказался в рядах масонов или наивно не предполагал, чем они заняты[1583]. Напротив, Новиков был одним из деятельнейших мартинистов, затем розенкрейцеров, и его духовная жажда утолялась благодаря переводам мистической и оккультной литературы.
Постепенно внутри московского масонства сложились разные направления. Первое, которое возглавил Новиков, стремилось развивать нравственно-религиозную сторону рука об руку с просвещением. Горстка розенкрейцеров, по примеру С. И. Гамалеи, избрала аскетизм. Третьи, их было большинство, во главе со Шварцем занялись изучением мистической стороны орденских обрядов.
Вслед за «Московским изданием» в течение 1782–1783 годов Новиков публиковал ежемесячный журнал «Вечерняя заря», в котором богословско-мистический элемент пронизывал практически все тексты. Идейным вдохновителем нового издания стал Шварц. С августа 1782-го по апрель 1783 года он прочел у себя дома для студентов Педагогической семинарии курс лекций «О трех познаниях»[1584], которые легли в основу статей в «Вечерней заре». Шварц был увлечен идеями немецкого мистика XVII века Якоба Бёме. Главное сочинение последнего «Мистериум магнум, или Изъяснение на первую книгу Моисееву об откровении Божественного существа и о происхождении мира и творения» в переводе на русский язык появилось еще в начале XVIII века. Но настоящий интерес к нему возник только под влиянием книги Сен-Мартена «О заблуждении и истине», вышедшей в России в 1775 году, а до этого ходившей в рукописях.
Согласно Сен-Мартену, человек может путем самосовершенствования оторваться от телесной оболочки, и его душа войдет в непосредственную связь с миром чистых духов, где он и получит свет высшей премудрости. Последняя доступна лишь избранным, которым посылается откровение от Бога[1585]. Шварц построил статьи на основе идей Бёме и Сен-Мартена. По его словам, нужно «призывать Бога, чтобы он снизошел во внутренность души, излил на разум благо премудрости»[1586].
В понимании традиционных христиан Бог сам выбирает тех, кому хочет дать озарение, пути Его выбора непостижимы. В противоположность этому взгляду «Вечерняя заря» утверждала, что адепт должен подготовить себя к откровению, просвещая душу и разум. Истинный масон обязан предпринять огромную работу по самосовершенствованию. «Возрождение и спасение зависят больше от человека, чем от Бога»[1587].
Как же получить озарение? Вслед за гностиками II–III веков розенкрейцеры утверждали, что можно познать таинственный смыл Библии путем мистического слияния с божеством. Для этого следует посвятить себя наукам «божественного происхождения»[1588]. «Откровенная религия доступна лишь магам и каббалистам», — писал Шварц. Это «избранные люди», о которых речь шла еще у Бёме, называвшего пророка Моисея первым магом. «Магия, — рассуждал Шварц, — и есть та божественная наука, с помощью которой маги познают истинный натуральный свет и натуральный дух. Маг — это тот искатель истины, с которым натура говорит обо всех тварях через своего духа и показывает свою сигнатуру»[1589].
«Братья» не хотели ждать, пока Бог пошлет им озарение. Путем магических таинств они старались «вызвать» Бога к себе и понудить Его к откровению. В свободном волеизъявлении было отказано Тому, кто наделил человека свободой воли.
Возможно, рассуждения Шварца испугали Новикова. Увлечение «божественной наукой алхимией» среди московских масонов показалось издателю «несоразмерным». В своей переписке с петербургскими «братьями» он доказывал, что истинное масонство должно заниматься благотворительной деятельностью и просвещением. Из-за разности позиций у Новикова со Шварцем начались серьезные трения. В 1784 году последний внезапно умер, его сменил барон Шрёдер, присланный из Берлина. С ним отношения просветителя обострились еще больше.
И сразу же, как по команде, на Новикова посыпались неприятности из Петербурга. В 1784 году Комиссия по заведению в России народных школ пожаловалась на Николая Ивановича за публикацию двух учебников в обход исключительного права, которым она располагала. Учебники были изъяты, а Новиков выплатил неустойку[1590]. Обычная издательская практика? Однако в том же году внимание императрицы намеренно обратили на «ругательную» «Историю ордена иезуитов», которую начал публиковать Николай Иванович в «Прибавлениях к Московским ведомостям». В «Истории ордена…» Екатерина усмотрела резкие выпады не только против монашеского братства, но и против христианской Церкви вообще, в которой, по словам Новикова, «не так вере учат, как надо». Екатерина направила полицмейстеру Н. П. Архарову указ изъять книгу из печати. «Дав покровительство наше сему ордену, не можем дозволить, чтобы от кого-либо малейшее предосуждение оному учинено было»[1591], — писала она.
Подобным образом цензурный устав защищал все религиозные институты в стране: православные, мусульманские, католические, лютеранские. И снова Новиков пострадал за намеренный обход законодательства. Но главные удары были нанесены издателю не извне, а изнутри ордена. Шрёдер видел в нем сильного соперника в борьбе за влияние на московские ложи. С помощью прусских «начальников» он постарался расчистить себе дорогу и обвинял издателя в «охлаждении к ордену». Реакция из Берлина была немедленной. В 1786 году у Николая Ивановича в наказание за то, что он не «упражняется в упражнениях ордена», забрали все подчиненные ему ложи[1592].
Это был тяжелый удар, совпавший с болезнью Новикова. В письмах Шрёдеру он просил прощения за «гордыню», «умственность», недостаток смирения по отношению к «милосердным отцам и высокочтимым начальникам ордена», говорил, что не в силах спастись без их мудрого руководства. Вспоминается полемика, которую вел издатель с Екатериной, и тот хлесткий тон, которым описывалась «прабабка наша „Всякая всячина“». Ничего подобного «отцы ордена» не позволяли. Когда-то императрица даже поощряла журналистскую вольность, но в конце 1780-х годов над головой Новикова уже сгущались тучи правительственного недовольства.
«Противу-нелепое общество»
До начала 1790-х годов, то есть в течение почти всего своего царствования, Екатерина терпимо относилась к масонству как к духовному течению. Это не исключало ее резких выпадов против кого-либо из адептов, например Калиостро, или попыток пресечь политическую «инфлюэнцию» иностранного двора (прусского, шведского) посредством насаждения в России «дочерних» лож. Как здравомыслящий монарх императрица не могла позволить своим подданным приносить присягу кому-то, кроме нее. В указе по делу московских мартинистов государыня, среди прочего, вменяла им в вину, что «мимо законной, Богом учрежденной власти дерзнули они подчинить себя герцогу Брауншвейгскому, отдав себя в его покровительство и зависимость». Но само по себе масонство — модное развлечение скучающих аристократов — беспокоило ее весьма мало.
Когда наша героиня взошла на престол, ее окружало множество адептов разных систем — Панины, Воронцовы, Чернышевы, Мелиссино, Голицыны, Трубецкие, Елагин, Щербатов. В Кёнигсберге масонскую ложу посещал Григорий Орлов, а его брат Алексей позднее общался с графом Сен-Жерменом и называл последнего «дорогой учитель». Свергнутый с престола Петр III был приверженцем прусского масонства и собирал ложу в Ораниенбауме. Во время переворота 1762 года члены ордена оказались на обеих сторонах.
Судя по действиям Екатерины в первые годы царствования, она не так плохо разбиралась в различных системах, как обычно считают. Или у императрицы были сведущие советники. Царица не могла в полной мере полагаться на членов «берлинской» ветви, так как их главой был Фридрих II. То же можно сказать и о приверженцах «шведской» — бароне И. А. Корфе и Н. И. Панине, долгое время находившихся в Стокгольме на дипломатической службе и вошедших там в орден. Екатерина сделала ставку на «национальные», подконтрольные правительству ложи сравнительно безопасной «английской» системы.
Место провинциального великого мастера занял ее старинный помощник и друг И. П. Елагин, который с самого начала не приветствовал возрождавшийся в масонстве дух «тамплиерства» и «рыцарства». В одной из пьес он даже высмеял Жака де Моле, последнего магистра храмовников, сожженного в 1307 году Филиппом Красивым. Елагин метил в немецких и шведских «братьев», которые видели в гроссмейстере мученика и считали себя продолжателями его дела.
Однако сторонники рационализма и британской простоты недооценили тягу русского образованного сословия к таинственному, замысловатому, обособленному от государственного патронажа. Духовная свобода обреталась «братьями» на извилистых и затененных путях рыцарей храма. «Каждый год соотношение сил между различными масонскими системами в Европе менялось, — пишет современный исследователь ордена. — В германских государствах было заметно влияние масонства „шведского“. Скрытое противодействие двух центров — Берлина и Стокгольма — серьезно влияло на дипломатию европейских государств и на борьбу различных придворных группировок. Не стала исключением и Россия»[1593].
Неудивительно, что глава партии великого князя и сторонник шведской формы правления Никита Панин, вопреки собственным ожиданиям, сделался лишь второй фигурой русского масонства — великим наместным мастером. В борьбе за орденское первенство он использовал свое политическое положение, а за права Павла — масонские связи. На очень раннем этапе интересы «братства» соприкоснулись с интересами цесаревича. Благодаря усилиям Панина получить для наследника корону, Екатерина начала, во многом справедливо, отождествлять сторонников сына и членов одной из иностранных систем, сначала «шведской», позднее «прусской».
С приближением совершеннолетия великого князя Панин стал искать способ отделить овец от козлищ, вывести сторонников Павла из-под руководства Елагина и создать отдельную систему, объединенную общностью духовной и политической цели. В 1773 году в Стокгольм для восстановления связей со шведскими «братьями» отправился переводчик канцелярии Панина И. У. Ванслов.
Тем временем под управлением Елагина находилось 14 лож, придерживавшихся так называемого «слабого наблюдения». В них было всего три степени или градуса: ученик, товарищ и мастер. Такая простота явно не удовлетворяла большинство адептов. В 1770 году на русскую службу поступил барон Г. Рейхель, который привез из Брауншвейга более замысловатую систему с усложненным ритуалом. К нему сразу потянулись «масонские толпы». Через шесть лет Рейхель стал уже настолько силен, что Елагин предпочел объединиться с ним и перейти под общее главенство герцога Фердинанда Брауншвейгского. Тогда же, в 1776 году, русские масоны Панина заключили со шведскими союз. Произошло разделение по сугубо политическому признаку. Сторонники Павла повернули головы к Стокгольму, приверженцы Екатерины и индифферентно настроенные — к Брауншвейгу. Любопытно, что в духовной сфере адепты искали одного и того же — высших степеней и сложного ритуала, но получили искомое из разных рук. Эзотерическое знание, по убеждению многих, сосредоточивалось у розенкрейцеров как продолжателей дела тамплиеров. По легенде, орден был восстановлен немецким религиозным деятелем X. Розенкрейцем, жившим на рубеже XIV и XV веков. Его фамилия означает «розовый крест», поэтому символом братства стал злато-розовый крест. Орден рыцарей храма был строго иерархичным, включал много градусов, что само по себе воспринималось как длинная и трудная дорога к истине. Он укрепился и в Швеции, и в Германии.
Панину удалось убедить петербургских «братьев», что высшие «истинные» степени масонства имелись только в Стокгольме, а посещая елагинские ложи, адепты попусту тратят время, ибо там нет знаний. Племянники Никиты Ивановича — молодые князья Гавриил Петрович Гагарин и Александр Борисович Куракин — друзья наследника Павла, стали руководителями шведской системы в России.
В сентябре 1776 года Куракин был послан дядей в Швецию с официальной миссией: известить соседей о втором браке цесаревича с принцессой Софией Вюртембергской (в православии Марией Федоровной). Глава шведского масонства, брат короля герцог Карл Зюдерманландский посвятил Куракина в орден и вручил ему патент на создание управляющих органов «шведской» системы в России. Верховный капитул решено было открыть во время визита в Петербург Густава III. Зная об этом, императрица всячески старалась уклониться от посещения кузена, а когда он прибыл, неусыпно следила за ним. Летом 1777 года, когда риск посвящения Павла казался очень велик, с Густава буквально не спускали глаз. Поэтому он ограничился только посещением ложи «Аполлон». Что, впрочем, не помешало новой системе пустить корни на русской почве, к ней присоединилась 21 ложа.
Во главе петербургских «братьев» встал гроссмейстер Г. П. Гагарин, подчинявшийся герцогу Зюдерманландскому. Высшим правлением считался «Капитул Феникс». Кроме столичных, по «шведским» актам работали ложи в Митаве, Казани, Нижнем Новгороде, Пензе. В Кинбурне действовала военная ложа, мастером стула которой был еще один племянник Панина — князь Николай Васильевич Репнин. В Кронштадте в ложу «Нептун» входили адмиралы А. Г. Спиридов и С. К. Грейг[1594].
Екатерине не мог понравиться тот факт, что многие военные и государственные деятели тайно подчинены иностранному принцу. Попытка объединить все русские ложи в одну систему под эгидой герцога Карла вызвала резкое противодействие Елагина. Он заявил императрице, что неразумно вручать иноземцу руководство движением, фактический глава которого — Панин — распоряжается внешней политикой России. Брат шведского короля, писавший в инструкции для Гагарина, что «каждый капитул… обязан во всем и без замедления повиноваться Директории»[1595], то есть ему лично, преувеличивал свой вес в русских делах.
В ответ императрица направила в дочерние ложи «шведской» системы петербургского полицмейстера П. В. Лопухина «для узнания и донесения Ее величеству о переписке их с герцогом Карлом Зюдерманландским». Выяснилось, что русские «братья» получали из Стокгольма денежную помощь. Екатерина сочла это неуместным и в ноябре 1781 года предложила Гагарину отправиться служить в Москву. Такой поворот ясно показывал, что государыне неугодно иностранное подчинение для русских вольных каменщиков. Жаждущие тайных знаний адепты, как волна, отхлынули от столичных «шведских» лож. А начавшаяся в 1788 году война со Швецией почти пресекла «орденское» влияние герцога Карла.
К этому времени личное отношение Екатерины к «братству» было испорчено и помимо Павла. В 1779 году Петербург посетил граф Калиостро (сицилиец Джузеппе Бальзамо), выдававший себя за «великого кофта» (копта), представителя египетских мудрецов, обладателя философского камня и алхимика. Его пребывание в Северной столице сопровождалось скандалом с вымогательством денег, мнимыми исцелениями и даже возможной подменой больного ребенка на здорового. И хотя петербургские масоны не признали Калиостро за «своего», для императрицы их философствования и его «фокусы» представляли собой вещи одного порядка. Просто «великий кофт» был схвачен за руку, а остальные пока укрывались в тени храма.
Результатом этого убеждения стали статья Екатерины «Тайна противу-нелепого общества», изданная по-русски, по-немецки и по-французски[1596], а также три пьесы, в которых члены братства выводились в роли шарлатанов и обманщиков. Прежде чем взяться за перо, наша героиня ознакомилась с кое-какой масонской литературой, которой ее, надо думать, снабдил Елагин, и «нашла в ней одно сумасбродство».
«Сила наша действует повсюду»
2 февраля 1786 года на подмостках столичных театров появилась комедия «Обманщик», где под именем Калифалкжерстона был выведен Калиостро. В доме доверчивых простофиль Самблиных живет приезжий маг, который обещает хозяину сварить золота, чтобы тот мог рассчитаться с долгами. Он уверяет, будто знавал Александра Македонского, когда тот завоевывал Персию: «Я ему поднес анкерок вина… который ему столько понравился, что натри дни остался в моем доме… и последний вечер пьянехонько встал из-за стола». Находятся простаки, готовые верить его словам. «Ведь это давно, мой друг! — восклицает хозяин дома. — А ты рассказываешь, как будто с неделю назад; чудесный ты человек!» Здравомыслящие люди — молодой дворянин Додин и крепостная девка Марья — давно разгадали, что перед ними опасный лгун, но долго не могут втолковать этого барам. «Когда заговорят они между собою, право, мы ничего не понимаем», — жалуется служанка. Язык Калифалкжерстона стилизован под тексты масонских трактатов: «Познание наше обширно, как вселенная… Сила наша действует повсюду… Качества наши суть количества». На что Додин резонно замечает: «Невесть с ума сошел, невесть притворяется». Для «великого делания» Калифалкжерстону нужны бриллианты. «Я малые алмазы переделываю большими, — говорит он Додину. — Например, безделушка, которая у тебя на руке, перстень, буде мне отдашь, я тебе его возвращу величиною в один камень, втрое противу того, как он теперь, лишь прибавь на сто червонных чистого золота». У доверчивого Самблина маг выпрашивает складень с бриллиантами и пытается сбежать, но его задерживают при выезде из города. Котлы, в которых он якобы варил золото, «один лопнул, а другой полетел на воздух». «Удивляюсь Вам, — говорит Додин бывшему покровителю обманщика, — как… Вы могли дать веру подобным бредням, которыми, выманивая от Вас наличные деньги, обещаньями пустыми умел Вас прельстить».
Здесь следует забежать вперед и сказать, что весной 1792 года Новикову в Шлиссельбурге был предложен вопрос: «Делано ли золото, буде делано, то сколько и куда употребляли?»[1597] Правительство не совсем понимало происхождение богатств самого издателя и тех громадных сумм, которые «братья» тратили на благотворительность. Если в 1786 году императрица смеялась над верой невежд в алхимию, то к началу следствия была готова заподозрить в «братьях» фальшивомонетчиков. Вопрос о поддельных ассигнациях вставал и в связи с тайными типографиями масонов.
В том же 1786 году в обеих столицах поставили комедии «Обольщенный» и «Шаман Сибирский». Они были рассчитаны на простую (не в смысле происхождения, а в смысле образования и духовных запросов) публику, способную дивиться легковерию одних персонажей и искренне осуждать обман других. Тем не менее в первых же сценах новой пьесы императрица затронула крайне болезненную тему: разрыв семейных связей у членов ордена, замена их на внутреннее «братство», почитаемое выше любви к родителям, жене и детям. Мать главного героя — Радотова — собирается выехать из дома сына, поскольку не может смотреть, как тот учит дочь масонским принципам. «Иной хотя явно бредит и вздор несет, — жалуется она на окружение главного героя, — другой шепчет, говорит, будто с духами. Чертями, что ли, населили дом? Даже и ребятам нелепицу сажают в голову… Пришла ко мне в горницу внучка моя, Таисия, увидела на столе передо мною стоит стакан с цветами; она начала целовать листочки; я спросила, на что? она на то сказала, что на каждом листе душок обитает… Я от страха обмерла! Век чего мы боялись! Предков наших в ужас приводило! От чего отплевывались, чего слышать не хотели и от чего уши заграждали, с тем… сам отец ныне наставник и учитель! И для того уже здесь более оставаться не хочу».
Пьеса была специально посвящена московским масонам. И в первых же словах пожилой героини звучало прямое обвинение ордена в уходе от христианства. «Весь дом свой приводишь ты в печаль и уныние», — упрекает Радотова его свояк, брат жены Бритягин. На что слышит: «Я в счастливом самом состоянии, я в беседах самых лучших. Для меня теперь хотя жена, дети, родня, друзья умри; все сие меня не тронет более, как это. (Щелкает пальцами)». Бритягин удивлен: «Что же в тебе могло истребить вдруг все естественные связи и чувства?» С легким высокомерием главный герой отвечает: «Душевное удовольствие предпочтительно всякой иной связи и чувствам». Теперь радость его состоит «во внутреннем спокойствии для испытания того, что от глаз наших закрыто».
Бритягин потрясен и обвиняет мужа сестры в эгоизме: «Это называется предпочитать своевольное хотение… и, отводя глаза от всего света, обратить взор на одного только себя». Но Радотов непробиваем. «Я иду иметь сообщение с равными со мною необходимостями», — гордо заявляет он. Домашние обсуждают положение и приходят к неутешительному заключению: «Я его почитаю обманутым… Варит золото, алмазы, составляет из росы металлы… домогается иметь свидание неведомое какими невидимками… Голову ему свернули каббалистические старые бредни; для разобрания каких-то цифров достал он еврейского учителя… Сей бедный жид потаенно здесь торгует в лоскутном ряду».
Нащупала Екатерина и другое неприятное свойство обратившихся к масонству людей. Их сектантскую нетерпимость. Радотова раздражают чужие мысли и чувства. «Их главный порок тот, что с моими не согласны», — говорит он. Внутренний покой кажется теперь герою самым важным в жизни: «Равнодушие во всех случаях подкрепляет человека». Однако внутренне Радотов остается порядочным человеком, желающим блага ближнему. Именно это и привело его в орден. «Они в намерении имеют потаенно заводить благотворительные разные заведения, — говорит один из персонажей о „братстве“, — как то: школы, больницы и тому подобное, и для того стараются привлекать к себе людей богатых». Бритягин резонно возражает: «Дела такого роду на что производить скрытно?» Вопрос повисает в воздухе. Ни у Екатерины, ни у публики нет на него ответа.
Попытка Ивана Лопухина обосновать причины таинственности ничего не объясняет: «Для чего, говорили, тайно делать хорошее? Ответ на это легок. Для чего в собраниях так называемых лучших людей или публики не только никогда не говорят, да и не можно говорить о Боге, о добродетели, о вечности, о суете жизни, о том, сколь порочны люди и как нужно им заботиться о нравственном своем исправлении»[1598]. О Боге говорили в Церкви. А обсудить пути помощи ближнему можно было и открыто. Таинственность масонских собраний, с одной стороны, вовсе не предполагала криминала, с другой — не объяснялась пороками общества.
«Обман не явен в деле»
Между тем государыня обращалась не только к самим московским «братьям», но и к так называемому «начальству» — светским и духовным должностным лицам, которые, по ее мнению, попустительствовали «нелепым умствованиям». Комедия писалась в 1785 году, когда генерал-губернатор старой столицы Я. А. Брюс и архиепископ Платон получили приказ освидетельствовать книжные публикации Новикова, чтобы установить, не заключен ли в них «раскол». Кроме того, Платон должен был испытать твердость издателя в вере и «нашел его таким христианином, каких бы желал он, чтоб было больше»[1599].
Эта фраза, часто приводимая в трудах о Новикове, взята из мемуаров Лопухина, друга и сподвижника издателя, который с видимой искренностью и горячностью доказывал именно христианские добродетели членов «братства»: «Единое сие заключается в духе Христовом — долженствующим быть истинною жизнью человека — в духе чистой любви к Богу и ближнему, которое есть единственный источник совершенной добродетели»[1600]. В разговоре с графом А. Г. Орловым, «который меня лично столько же любил, сколько был против общества нашего и правил его», Лопухин оправдывался: «Мы издали много книг. Конечно, на каждой странице почти каждой из них найдете вы поучение, что надобно истреблять в себе самолюбие, смиряться, все сносить, принимая все от руки Божией, покоряться властям»[1601].
Тем не менее Платон составил список из двадцати трех «сумнительных» книг. Под боком у архиепископа разрасталось целое духовное направление, весьма мало согласное с православием. Но он привычно предпочитал бороться со вчерашними врагами — «гнусным и юродивым порождением так называемых энциклопедистов». Их труды в первую очередь и попали в список. При этом Платона нельзя обвинить в близорукости. Он прекрасно был знаком с предметом беспокойства государыни и частным образом осуждал масонство. «Часто бывал я тогда у преосвященного… — писал Лопухин. — Он очень в разговорах восставал против нашего общества; однако ж расставались мы всегда приятелями»[1602].
Архиепископ обладал и умом, и образованностью, и необходимой политической зоркостью. Возможно, именно поэтому он предпочел уклониться от прямого столкновения с людьми, без сомнения, сильными, связанными с наследником Павлом — то есть с теми, кому, казалось, принадлежит будущее. Из двадцати трех названных им книг императрица запретила только шесть, остальные вернулись в лавки. Зато все изъятые были масонскими. Например, розенкрейцерская повесть «Хризомандер», «Химическая псалтырь», приписываемая Парацельсу, и сочинение Штарка «О древних мистериях, или О таинствах, бывших у всех народов». Последнее, по словам Платона, восхваляло язычество и утверждало, что Церковь ведет свои обряды от языческих ритуалов[1603].
Как мы помним, в «Утреннем свете» говорилось, что ответы на многие вопросы мироздания скрыты в «таинствах древних», и выражалось желание, чтобы «подобные им таинства еще по ныне находились»[1604]. Лопухин также отстаивал это мнение: «Мистерии древних служат сильным доказательством возможности добрых и полезных обществ тайных»[1605]. Такие рассуждения позволили Екатерине поставить знак равенства между новыми «магами» типа Калифалкжерстона и шаманами народов Севера. Если мудрости следует искать в языческих обрядах прошлого, то почему не в живых реликтах, среди диких племен, населявших империю? Взгляд весьма здравый с позиции современной эзотерики и фольклористики.
Комедия «Шаман Сибирский» повествовала о том, как приехавшая из Иркутска семья тамошнего чиновника Бобина привезла с собой шамана Амбан-Лая, который якобы вылечил барыню. На самом деле слуги разбили склянку с приготовленным им целебным настоем, побоялись сказать и поставили другую — с водой. А госпожа Бобина поправилась сама.
Амбан по пьесе не столько плох, сколько дик и плутоват. Мудрость его, вычитанная из древней китайской книги, напоминает буддизм. При этом оказывается, что между масонами и шаманским искусством немало общего: «Шаманы тому учатся по степеням. Сей прошел сто сорок степеней; на каждой они имеют правила, чтоб исподволь дойти до восхитительных».
В пьесе есть неожиданный поворот. Слуга Прокофий, рассуждая о бегстве шамана, говорит, что «городовым колдунам завидно» от успехов заезжего. Эта мысль показывает, что императрица понимала, до какой степени соперничество между разными системами создает погоду в масонской среде, и учитывала возможность оговора одних адептов другими из соображений конкуренции.
Падкие на всякую новинку жители столицы оказались готовы признать языческого жреца и мудрецом, и колдуном, и целителем. У него мигом появляются последователи, что позволяет шаману открыть целую школу — прямой выпад против московских масонов. Естественно полиция заинтересовалась новым заведением, что привело бедного Бобина в трепет. Приятель говорит ему: «Как сведают заподлинно, колико его учение не сходствует с общим установлением, то достанется и тому, кто привез лжеучителя». И это также было выпадом в адрес мартинистов. Как узнает правительство, насколько опубликованные книги не соответствуют христианству, так «достанется» и тем, кто переводил, печатал, распространял «лжеучителей».
Угроза прозвучала в конце 1786 года. И была проигнорирована. До расследования оставалось пять лет. Екатерина еще избирала «кроткие способы… ко исправлению», например, постановку пьес и прозрачные намеки. «У подобных мудрецов, буде обман не явен в деле, то по крайней мере, в мыслях или за пазухою», — предостерегала она зрителей. «Следуя мнимым правилам, обманываете сначала сами себя, а потом и тех, кои вам подают веру», — обращалась императрица к членам «братств». Возможно, те уповали на высокое покровительство. А возможно, комедии казались им слишком простыми для утонченных умов. Так и было на самом деле. Но в отличие от обычных писателей наша героиня имела громадную власть, которую не пускала в ход очень долго.
В январе 1786 года она приказала московскому начальнику полиции П. В. Лопухину освидетельствовать устроенную орденом больницу для работников типографии, а также школы, «буде от них заведены», «чтоб тут раскол, праздность и обман не скрывались»[1606]. Полицмейстеру было велено передать Новикову, что он пользуется арендованной типографией, дабы просвещать общество, а не выпускать книги, «наполненные новым расколом для обмана и уловления невежд». Этими словами императрица прямо напоминала об изъятых из оборота масонских трудах. Лопухин фактически покрыл издателя, ответив в Петербург, что под патронажем ордена нет ни учебных заведений, ни больницы. Тем временем Новиков, сохранивший у себя запас запрещенных книг, пустил их в продажу в Москве[1607].
Этот шаг Екатерина не могла воспринять иначе как издевательство. Посетив Первопрестольную на обратном пути из Крыма, она имела беседы с московским духовенством и обратила внимание на то, что множество книг религиозного содержания печатались в светских типографиях, нарушая установленную законом монополию Святейшего синода. На этом Синод терял немалую прибыль, а издательство Новикова, напротив, богатело, пуская в оборот деньги состоятельных «братьев» и возвращая ордену займы сторицей. Финансовую заинтересованность розенкрейцеров в процветании печатной деятельности Новикова нельзя скидывать со счетов, говоря о длительной неуязвимости издателя.
Обычно, когда возникали конфликтные ситуации между властями и московской университетской типографией, Екатерина действовала мягче, чем требовал закон, отделяя собственно масонские труды от остального потока. Однако на этот раз ее терпение истощилось. В июле 1787 года она приказала составить список духовных текстов, выпущенных частными издательствами, и запретила публикацию церковных книг и богословских трудов в обход Святейшего синода и Комиссии народных училищ. Нет оснований считать это личным выпадом против Новикова, поскольку права печатать религиозную литературу также лишились типографии Академии наук, Кадетского корпуса и Сената[1608]. То была общая правительственная политика: прибыльную и духовно безопасную монополию получил Синод.
Цензоры предоставили императрице список из 313 наименований, больше половины вошедших в него книг оказались напечатаны у Новикова. 299 изданий Екатерина распорядилась вернуть в лавки, 14 как масонские изъяли из оборота, почти все они принадлежали Новикову. Среди них имелись тексты, запрещавшиеся вторично, например «Новая Киропедия» А. М. Рамсэя. Обнаружив в книгах «выражения, противные Священному Писанию и низкие по отношению к Божеству», государыня назвала Новикова фанатиком. Срок аренды университетской типографии истекал в 1789 году. Решено было его не продлевать.
Напомним, все это происходило одновременно с охлаждением отношений Николая Ивановича с орденом. Благодаря интригам Шрёдера новое берлинское начальство фактически игнорировало издателя. Руководитель немецких «братьев» Й. К. фон Вёльнер с 1786 года занимал министерское кресло в правительстве Фридриха Вильгельма II и предпочитал поддерживать переписку с русскими адептами через Николая Трубецкого, а не через провинившегося Новикова. Помимо нелюбви издателя к мистике тому имелись и чисто финансовые причины. После конфискации запрещенных книг у Николая Ивановича начались денежные трудности. Поскольку ранее розенкрейцеры вложили немало средств в Типографическую компанию, теперь они ждали прибыли. Но ее не было. Барон Шрёдер, чувствуя, что из Петербурга потянуло холодом, отправился на время в Пруссию, откуда предпочел не возвращаться. Он обещал привезти помощь из Берлина, но вместо этого потребовал вернуть прежние кредиты[1609].
Осенью 1787 года Новиков фактически бежал из Москвы от долгов и отправился в родовое имение Авдотьино, где посвятил себя новому делу — борьбе с охватившими губернию засухой и голодом. «Всякий, у кого есть дети, не может равнодушно отнестись к известию о том, что огромное число несчастных малюток умирает на груди своих матерей, — писал он. — Я видел исхудалые бледные личики, воспаленные глаза, полные слез и мольбы о помощи, тонкие, высохшие ручонки, протянутые к каждому встречному с просьбой о корке черствого хлеба… Целые тысячи людей едят древесную кору, умирают от истощения. Если бы кто поехал сейчас в глухую деревню в нищенскую хату, у него сердце содрогнулось бы при виде целых куч полуживых крестьян, голодных и холодных. Он не мог бы ни есть, ни пить, ни спать спокойно до тех пор, пока не осушил бы хоть одной слезы, пока не утолил бы лютого голода хоть одного несчастного, пока не прикрыл бы хоть одного нагого»[1610].
Такие письма московским друзьям помогали собрать средства для нуждающихся. Давний почитатель Новикова, сын богатого владельца уральских заводов Григорий Максимович Походящий вручил издателю громадную по тем временам сумму в 50 тысяч рублей на закупку хлеба и семенного зерна. Благодаря этому Новиков развернул широкую помощь голодающим. Его шаги нельзя назвать чистой благотворительностью: с одной стороны, они спасали людей, с другой — давали немалую прибыль. В Авдотьине были возведены амбары, из которых запасы выдавались крестьянам сотни близлежащих деревень. За зерно должники платили деньги или отрабатывали оброк в поместье Новикова на прядильно-ткацкой фабрике, на обжиге кирпича или на строительстве[1611]. Уже в крепости издатель отвечал на вопросы следствия: «Из некоторых селений работою платили и обрабатыванием полей по собственной моей системе… Осенью оказалось, что хлебом и деньгами едва ли и третья часть уплачены были… С того времени построен у меня хлебный магазин, в котором и содержалось всегда готового хлеба [на сумму]… от 5 до 10 тыс. рублей. Посредством обрабатывания полей и расчистки побросанных мест и посев хлеба у меня в деревне увеличился… почти до невероятного числа»[1612].
Нельзя не заметить, что за время бедствия Авдотьино разбогатело и поднялось, а окрестные мужики, спасенные от голодной смерти, оказались в долговой зависимости от помещика-благотворителя. Деньги Походящину так и не вернулись, из-за чего тот сам фактически разорился.
Издательскими делами Новиков занимался уже от случая к случаю, больше времени проводя в Авдотьине, подальше от кредиторов и розенкрейцерского начальства. У московских адептов даже сложилось впечатление, что брат Коловион (масонское имя Новикова) тяжело болен и удалился на покой. Когда в 1792 году Николая Ивановича арестовали, граф К. Г. Разумовский насмехался над Прозоровским: «Вот расхвастался, как город взял, стариченка, скорченного гемороидами, взял под караул, да одного бы десяцкого или будошника за ним послать»[1613].
Действительно, к моменту ареста Новиков уже давно не появлялся в старой столице. В 1789 году закончилась аренда типографии Московского университета. А к 1791 году была свернута деятельность Типографической компании, находившейся в неоплатных долгах. Тогда же Новиков пережил другой страшный удар — скончалась его жена Александра Егоровна, оставив на руках отца троих детей: Ивана, Варвару и Веру. Двое старших, сын и дочь, страдали эпилепсией.
«Самая старая пушка»
Московские масоны были убеждены, что подозрение к ним внушено Екатерине Потемкиным. Иван Лопухин писал: «Один хитрый на то время вельможа и царедворец в часы колебания своего могущества… для поддержания себя выдумал навлечь подозрение на существовавшую будто связь с обществом нашим у ближайшей к престолу особы (наследника Павла. — О. E.). Искусно внуша такое подозрение, искусно же не допускал он и до розыска; вероятно, для того, что, не имев сердца жестокого, при всей своей политической нещадности не хотел он жертвовать людьми, никакого зла ему не причинившими».
По мнению Лопухина, «розыск бы обличил его выдумку, которая тогда обратилась бы во вред ему самому». Однако на деле всякая попытка властей освидетельствовать труды московских типографий только вызывала дополнительные подозрения. И в конечном счете расследование, предпринятое уже после смерти светлейшего князя, не «обличило его выдумку», а подтвердило связь великого князя Павла с «братством» и берлинскими «начальниками».
Лопухин передал ход рассуждений монархини и ее фактического соправителя, как их понимали розенкрейцеры: «Он старался только питать вселенное им подозрение, выставляя себя за знающего все, что в государстве происходит, с тем, что когда он хранитель особы государыниной, то ей нечего опасаться — он все предупредит. По сему расположению [мыслей] удерживал он от строгостей; и все следствия возбужденного подозрения и гнева государыни на общество долго ограничивались тем, что несколько раз запечатаны были и пересмотрены изданные нами книги»[1614]. Как только «хранителя особы государыниной» не стало, исчез щит, одновременно прикрывавший ее от хитростей сторонников Павла, а их от расправы со стороны властей. Барьер рухнул. «Братство» оказалось с Екатериной один на один.
Тем не менее виновником гибели московских мартинистов традиционно представляют именно Потемкина. Подготавливая письма императрицы и светлейшего князя к печати, Я. Л. Барсков в первые годы советской власти шел в своих рассуждениях еще дальше Лопухина: «Когда русское масонство раскинулось по всей стране и московские розенкрейцеры образовали его ядро, „князь тьмы“, как называли они Потемкина, донес императрице о сношениях с Павлом этой единственной сорганизованной партии; жертвой этого „предостережения“ пал Н. И. Новиков»[1615].
Однако следует помнить, что масонство времен Екатерины менее всего походило на политическую партию в современном понимании. Ее ячейками были книготорговые лавки, вокруг которых собирались немногочисленные читатели, искавшие эзотерических знаний. Видимо, Потемкин хорошо понимал разницу между петербургскими политиками от розенкрейцерства и «масонскими толпами» в Москве и провинции.
Екатерина же нанесла удар по всем. Опасность положения, в котором она очутилась после смерти светлейшего князя, диктовала резкость мер. В лице братьев Зубовых императрица старалась обрести новых «хранителей» государства. Но тем не хватало опыта, знаний, таланта. А их хитроумный покровитель Салтыков — более царедворец, чем политик — не обладал элементарной порядочностью. Все это определило ход и методы московского разбирательства.
С другой стороны, императрице противостояли люди в высшей степени странные. С горячностью и искренностью они продолжали отрицать вину, даже когда были изобличены собственными письмами, оказавшимися в руках правительства. Это подтверждало худшие подозрения Екатерины: у «сектантов» произошло смешение нравственных понятий, ложь вне ордена уже не означала ложь в полном смысле слова, «братья» говорили, мыслили и чувствовали в разных плоскостях с допрашивавшими их чиновниками.
Это особенно ярко заметно при сравнении «Записок» Лопухина и показаний Новикова. Читая первые, нельзя не сочувствовать молодому масону и трудно не верить в невиновность ордена. «Коварство, клевета, злоба, невежество и болтовство публики питали их (подозрения. — О. Е.) и подкрепляли… Все сие усилилось с началом революции в Париже в 1789 году, которой произведение тогда приписывали тайным обществам и системе философов; только ошибка в этом заключении была та, что общества оные и система были совсем не похожи на наши. Нашего общества предмет была добродетель… Той же философии (просветительской. — О. Е.) система отвергать Христа… А обществ оных (иллюминатов. — О. Е.) предмет был заговор буйства (революция. — О. E.), побуждаемого… стремлением к… неестественному равенству»[1616].
Лопухин справедливо отвергал саму мысль, будто только тайное общество могло стать причиной возмущения во Франции. «Злоупотребление власти… угнетение народа, безверие и развратность нравов — вот одни источники революции». Он доказывал принципиальную разницу между революционно настроенными иллюминатами и углубленными в духовную сферу мартинистами, даже написал соответствующий катехизис для «братьев». «Из того, что бывают тайные общества вредными, — рассуждал молодой масон, — никак не можно с благоразумием заключить, чтоб не могли быть и полезные». Но ему отчего-то никто не верил.
«Много имели мы неприятелей, а защитников с голосом никого, ни при дворе, нигде», — сокрушался он. Это была неправда. Сама неуязвимость московских «братьев» во время неоднократных проверок говорит о высоком покровительстве. «Мы столько были невинны, что и не старались оправдываться, а только при случаях простодушно говорили правду о цели и упражнениях нашего общества». «Открывали на почте наши письма и… копии… отсылали государыне», — жаловался Лопухин. Но в них не находили «ничего, кроме очень доброго и полезного для сердец наших и для отечества»[1617]. Однако наступление на московских «братьев» продолжилось. Вместо главнокомандующего П. Д. Еропкина, «человека разумного», то есть не причинявшего ордену хлопот, в июле 1790 года в старую столицу был послан князь А. А. Прозоровский. Еще раньше, в марте, по настоянию Салтыкова, началась перлюстрация частной переписки в Москве[1618].
Осторожный Потемкин писал императрице по этому поводу: «Ваше величество выдвинули из Вашего арсенала самую старую пушку, которая будет непременно стрелять в Вашу цель, потому что собственной не имеет. Только берегитесь, чтобы она не запятнала кровью в потомстве имя Вашего величества»[1619]. Очень откровенное и резкое высказывание. Если Григорий Александрович был встревожен контактами наследника Павла с прусским королем, то его не в меньшей степени беспокоили нарочито грубые меры правительства в Москве.
В оценке Прозоровского светлейший князь сходился с Лопухиным. При нем «подозрения, шпионства и все виды притеснений обществу нашему до крайней степени возросли». Не называя имен, Лопухин указывал на Зубова и Салтыкова, для которых раздувание московского дела являлось ступенью к возвышению: «Это было действие замысловатейших и сильнейших при дворе, нежели он; которые действие свое вмешали в план упрочивания и большего со временем возвышения своей фортуны; а князя Прозоровского только выставляли и употребляли, как самое надежное по характеру его орудие».
С легкой руки Лопухина в историографии утвердилось представление о Прозоровском как о недалеком служаке, который воображал, будто раскрыл в Первопрестольной целый заговор. Придирки его к масонам выглядели и смешно, и курьезно. «Он везде видел зло и опасность, особливо подозревал он раздачу милостыни. Обо мне отзывался… что я ее так много раздаю, что едва ли не делаю фальшивых ассигнаций… приплетая тут и типографию». То, что «братья» называли милостыней, представлялось правительству подкупом сторонников, раздачей средств потенциальным участникам возмущения в пользу Павла. Так устраивался любой переворот. Разница в терминологии не могла сбить императрицу с толку.
В этой тревожной обстановке в Москву, словно бы по частным делам, был направлен один из ближайших сотрудников императрицы, выдающийся дипломат и хитроумный царедворец Александр Андреевич Безбородко. Екатерина во многом полагалась на его мнение и даже называла в письмах своим «фактотумом», то есть главным доверенным лицом.
Но на сей раз Безбородко занял двойственную позицию. С одной стороны, он не мог не исполнить поручения монархини. С другой — обладая тонким политическим чутьем, понимал, что люди, против которых ему предстоит действовать, с каждым днем набирают всё бо́льшую силу. Недалеко время, когда они попытаются потеснить Екатерину с трона, тогда исход борьбы будет более чем неясным. Ссориться со сторонниками завтрашнего государя — Павла — казалось Александру Андреевичу неразумным.
«В начале 1791 года, — писал Лопухин, — князь Безбородко… под видом прогулки приезжал в Москву с Николаем Петровичем Архаровым для того, чтоб произвести над нами следствие, с указом о том князю Прозоровскому… Вручение указа сего для исполнения предоставлено было усмотрению на месте князю Безбородко. Однако он подлинно, погуляв несколько недель в Москве, возвратился, ничего не предпринимая и не отдав указа». Позднее Прозоровский горько сетовал на нерешительность Александра Андреевича. Лопухин же увидел в поведении инспектора политические причины.
«Безбородко ни к чему не приступал по своей проницательности, по мягкосердечию своему и, может быть, по некоторым личным уважениям дворским. Впрочем, он… был совершенно против всего того, что с нами делали, и после мне даже говорил… еще при жизни государыни… что сие дело не соответствовало ее славе». Поведение Безбородко показательно: Лопухин в 1794 году жил еще под надзором, а сам бывший «фактотум», благодаря Зубовым, оказался не удел. «Почти при первом свидании знакомства» с опальным розенкрейцером он заявил ему, что не согласен с действиями Екатерины против масонов. Такая информация, стороной дойдя до Павла, должна была помочь опытному придворному приобрести симпатии будущего императора.
Однако из-за своей двойственности и уклончивости Александр Андреевич оказал ордену медвежью услугу. «Не мог он, или не имел довольно твердости не исполнить сделанного ему поручения… а представил причину неудобности… которая на несколько месяцев удержала следствие, но подозрения умножила до крайности. Он сказал, что я сжег бумаги, и что через то скрылися следы к улике и к основательному исследованию»[1620].
Лопухин уверял, что, желая «очистить бюро», действительно сжег ненужные документы, но всю важную корреспонденцию сохранил. Позднее в разговоре с графом Алексеем Орловым, оправдывая орден и говоря, что может представить доказательства «невинности», Иван Васильевич получил в ответ: «Какие же схватить бумаги, когда ты их сожжешь… Ты первый сжег перед приездом сюда Безбородко с Архаровым».
Узнав о случившемся, Безбородко обрадовался возможности ничего не делать в шаткой обстановке. Нет, Александр Андреевич не оставил старую хозяйку, но обнаружил колебания. Что еще больше насторожило Екатерину, ибо она увидела призрак измены в стане своих былых приверженцев, среди людей, всем ей обязанных.
«С своею тенью сражались»
Между тем тяжбы по долгам Типографической компании продолжались. Вернуть деньги, одолженные издателю «братьями», не представлялось возможным, а над головой ордена копились грозовые тучи. Тогда Г. П. Гагарин, некогда возглавлявший капитул «Феникс», пожаловался императрице на Новикова, обвинив последнего в финансовых махинациях[1621]. Это позволяло перевести стрелки с крупных розенкрейцеров в Москве на фактически отошедшего от дел несостоятельного должника и сосредоточить основной удар на нем.
Екатерина сделала вид, что ее устраивает подобная комбинация. Потянув за новиковские нити, она могла выудить на свет много тайных сведений. Совсем не обязательно было сразу пускать их в ход. Но знать и при случае использовать следовало. В ноябре 1791 года императрица приказала Прозоровскому узнать, чем Новиков занят в Авдотьине: какие здания строит, что за предпринимательство затеял, каковы источники его внезапно выросшего состояния?
Расследование могло тянуться еще не один месяц, но внешние события подстегнули Екатерину. В начале марта в Стокгольме на маскараде выстрелом из пистолета был смертельно ранен шведский король Густав III. 2 апреля неожиданно скончался австрийский император Леопольд II, поползли слухи о его отравлении. В Петербург приходили известия, большей частью разглашаемые поляками, будто французские якобинцы намерены подослать к русской императрице убийц. Сохранять внутреннее спокойствие среди подобных новостей было трудно. «Я в восторге, что при таких обстоятельствах Вы еще в состоянии шутить, — писала наша героиня Гримму 4 апреля. — Что до меня касается, то я боюсь одуреть от всех потрясающих нервы событий, как например: неожиданная смерть императора [Леопольда], убийство короля шведского, развязка событий, ежедневно ожидаемых во Франции, да еще и бедная королева португальская вздумала сойти с ума»[1622].
7 апреля статс-секретарь А. В. Храповицкий записал в дневнике, что Густав «точно умер от раны, и по вскрытии тела нашли пулю, гвозди и дробь… День 9 числа секретный указ здешнему губернатору, чтобы искать француза, проехавшего через Кёнигсберг 22-го марта с злым умыслом на здоровье Ее величества. Взяты предосторожности на границе и в городе»[1623].
14-го Екатерина продолжала рассказывать Гримму: «Послушайте-ка, якобинцы печатают и объявляют на все стороны, что собираются убить меня, и поспешили отправить с этой целью трех или четырех человек, которых приметы мне отовсюду присылают. Я полагаю, что если б они в самом деле замышляли такое дело, то так не распространяли бы слух о нем, чтоб он дошел до меня». В Варшаве польские почитатели революции держали пари, что 3 мая или 1 июня императрицы «уже не будет на этом свете». В обычном для себя тоне приподнятого подтрунивания Екатерина просила корреспондента осведомляться в назначенные дни, жива ли она. «В конце XVIII столетия, кажется, считается заслугой убивать людей из-за угла»[1624].
За день до этого письма, 13 апреля, Прозоровский получил новый указ — узнать, не Новиков ли у себя в тайной типографии в Авдотьине издал раскольническую книгу «История о отцах и страдальцах Соловецких». Этого сочинения князь в Москве не нашел, зато в лавках продавались книги, запрещенные еще в 1786 году. Прозоровский опечатал книжный склад, принадлежавший Новикову, и распорядился доставить издателя в город. 22 апреля в Авдотьине появился советник уголовной палаты А. Д. Олсуфьев и предъявил хозяину ордер на обыск.
Того, что было найдено, с лихвой хватило для учреждения суда. Тайной типографии не обнаружили, но сняли с полок 23 запрещенные книги и 48 изданий, напечатанных без разрешения. Во время обыска с сыном издателя Иваном и дочерью Варварой случился припадок эпилепсии. Когда Николаю Ивановичу объявили об аресте, он упал в обморок. А один из его слуг попытался перерезать себе горло[1625]: лучше умереть, чем открыть секреты «братства». На следующий день за Новиковым был отправлен отряд гусар[1626].
В конце месяца императрица перебралась в Царское Село. Караулы резиденции были усилены. В письмах она позволяла себе шутить, но на самом деле ей было не до смеха. 28 апреля Храповицкий записал: «Свернутая бумажка, чернилами закапанная, лежала на малом столике в опочивальне; тут собственноручно написано: „Буде умру в Царском Селе, то похоронить в погребальной церкви; в городе — то в новой церкви св. Алек. Невского; в Петергофе — то в Серг. пустыне; в Москве — то в Донском монастыре“»[1627]. И это писала женщина, намеревавшаяся, по предсказанию ораниенбаумского садовника, дожить до 80 лет. Стало быть, мысли о смерти — от руки ли французского якобинца, доморощенного ли революционера — посещали ее.
Весной 1792 года, рассказывая Гримму о слухах, будто ее вот-вот убьют, императрица грозилась: «Как только будет можно, я постараюсь проучить негодяев за такие речи». Ни до Парижа, ни до Варшавы она пока не могла дотянуться. Собственные же возмутители спокойствия были под рукой. Изъятые у издателя документы свидетельствовали, что «братьями» старой столицы руководил прусский министр Вёльнер из Берлина, что наследнику Павлу делались предложения вступить в орден и принять на себя руководство им, что Баженов трижды побывал у великого князя с масонскими книгами: в 1784, 1787 и 1791 годах[1628].
Масла в огонь подлил и Г. П. Гагарин, с которым Прозоровский имел беседу об ордене. Он, как и многие «братья» в тот момент, старался доказать Екатерине разницу между «старым» и «новым» масонством и выставлял Новикова «сторонником всеобщего равенства в обличье человеколюбца». «Князь Гагарин, бывший некогда гроссмейстером франкмасонов в Москве, утверждает, что знает наверное, что якобинские идеи зародились именно на собраниях этого общества»[1629], — доносил Прозоровский в Петербург.
Появление имени Павла в деле сразу закрывало возможность обычного суда. Екатерина распорядилась доставить Новикова кружным путем в Шлиссельбург, где расследование повел уже глава Тайной экспедиции С. И. Шешковский. По дороге опасались не то бегства узника, не то нападений «братьев» из провинциальных городов с целью освободить его. Екатерина предписала везти Новикова так, чтобы «его никто не видел», и приглядывать, как бы арестант «себя не повредил». Лопухин насмехался над этими предосторожностями: «Его везли на Ярославль и на Тихвин… предписано было с особливой осторожностью проезжать Ярославль, потому де, что в нем была некогда масонская ложа… Можно прямо сказать, что с своею тенью сражались»[1630].
Так дело выглядело из России. Но рассматривать действия правительства по отношению к Новикову следует в контексте международных событий. Именно о связях «братьев» с якобинцами, о их иностранной переписке и об участии в этом наследника Павла Прозоровский допрашивал Лопухина, князя H. Н. Трубецкого и И. П. Тургенева «как главных сообщников». «Вопросы были сочинены очень тщательно. Сама государыня изволила поправлять их… Все металось на подозрение связей с ближайшею к престолу особою… прочее же было… только для расширения завесы».
Молодой масон открещивался от всего и слышал произнесенные Прозоровским вполголоса слова: «Не так бы с ними надобно». На попытки Лопухина объяснить разницу между иллюминатами и розенкрейцерами главнокомандующий отвечал именно так, как понимал дело всякий не сопричастный масонству человек: «Пусть вы не они, да все то же»[1631].
«Человек натуры острой»
В Шлиссельбурге у Новикова не было возможности отпираться, хотя он до последнего отрицал связи и с Берлином, и с Павлом. Прозоровский, конечно, не был знатоком масонских систем и при личном общении с московскими адептами показал себя человеком неприятным. Но он — профан чистой воды — обратил внимание на некоторые важные особенности ордена. Изучив захваченные бумаги, князь пришел к выводу, что в 1780–1781 годах «братство» вело активную переписку с ложами во Франции, Италии, Австрии, Швейцарии и Голландии. По его словам, ложа в Москве была предназначена «править ложами всей империи», а подчинялась после Вильгельмсбадского конгресса «ложе-матери» в Берлине. Общая численность посещавших ложи составляла, по подсчетам Прозоровского, около восьмисот человек.
Князь особо обратил внимание государыни на то, что розенкрейцеры «подбирали в братство» лиц состоятельных и высокопоставленных, «известных в публике и у двора». Приказания неизвестных начальников воспринимались «как бы сам Бог приказывал». «Где Христос управляет или они его вдохновением, — рассуждал князь, — то тут другого правительства как гражданского, так и духовного быть не может… Все заключенные в их секту… удаляются от всякого государственного служения… В государственных делах упражняющийся из них человек должен все сказать им, что ему вверено». Старого служаку удивило, что ни в одной прочитанной им бумаге нет слов «государь» или «отечество». Это привело его к неутешительному выводу: «Да, кажется, отечества быть у них не может». Это был первый случай столкновения русской власти с вненациональной организацией.
Найденное в бумагах сочинение «О разных родах государственного правления» только лишний раз подтвердило императрице, что московские масоны мыслят в том же русле, что и французские якобинцы, только последние уже вышли на улицы. В брошюре доказывалось, что лучшей формой государственного устройства является выборный Сенат, где заседают «почтенные мужи и от народа депутаты». Государыня была названа «самовластной», анонимному автору не нравилось, что «все зависит от нее»[1632].
К этому времени Екатерина уже достаточно наслышалась и начиталась о делах французского Национального собрания. Еще в июне 1790 года она с негодованием писала Гримму: «Какое падение! Большие дороги зарастают терниями… До сих пор считали достойным виселицы каждого, замышляющего погибель своей страны, а вот целая нация, или лучше сказать тысяча двести депутатов ее занимаются этим»[1633]. Дальнейшее развитие событий во Франции еще больше убеждало императрицу, что мир сошел с ума. «Кровь кипит в жилах даже за 700 миль от ваших домашних очагов, когда я вижу, что у вас происходит, — писала она 13 января 1791 года. — …Никогда не знаешь, живы ли вы еще среди всех смут, убийств и грабежей в этом вертепе разбойников, захвативших власть во Франции, чтоб превратить ее в Галлию времен Кесаря… Если б я была на месте Артуа и Конде (принцев, братьев короля. — О. E.), я бы сумела употребить в дело эти триста тысяч французских рыцарей. Честное слово: или я бы погибла, или они спасли бы отечество»[1634].
Но во Франции в тот момент не было ни Цезаря, ни Екатерины. «Я боюсь и начинаю понимать, что у друга моего (французского короля. — О. Е.) голова не соответствует его месту и положению». Если бы императрица могла знать, как неудачно пошутила. Вскоре гильотина исправит положение головы Людовика XVI. А пока он сам не понимал, что делать. «Этот наихристианнейший король подпишет ли антихристианскую конституцию?» — возмущалась наша героиня. 25 сентября 1791 года в Петербурге узнали, что монарх опять пошел на поводу у депутатов. «Ну вот таки сэр Людовик XVI влепил свою подпись под этой сумасбродной конституцией и спешит принести присягу, которой, конечно, не сдержит… Но кто же эти люди, без всякого разумения заставляющие его делать все эти глупости?.. Подумаешь, что у них нет ни совести, ни чести. Я ужасно сержусь, я топнула ногой, читая все эти мерзости. Тьфу, какие негодники!»[1635]
Менее всего Екатерина хотела попасть сама или поставить своих наследников в положение, подобное положению французского короля. Занимаясь делом Новикова, она переносила негодование против якобинцев на тех, кого считала потенциальными заговорщиками. На тех, кто угрожал лично ей.
В Шлиссельбурге издателя совсем не случайно поместили в каземат № 9, где много лет назад был убит Иван Антонович. Намек выглядел прозрачным. Вы ищете моего свержения, моей смерти? Вспомните, что произошло с теми, кто хотел этого до вас. Еще совсем недавно императрица писала Гримму: «У меня никогда не было врагов, которые бы за это жестоко не поплатились, но не по моему злопамятству». Действительно, почти все недруги Екатерины кончали плохо, но часто наша героиня не предпринимала для этого никаких усилий, предоставив дело Провидению. Даже в том, что происходило во Франции, она видела перст судьбы: «Вот двадцать лет как французы хотели съесть меня; еще менее времени прошло с тех пор, как они делали все на свете, чтобы создать из турок грозную силу; но эти не помогут наихристианнейшему королю в его несчастий, а я ни минуты в том не отказывала»[1636].
Сначала Новиков отвечал на все вопросы уклончиво. Из его показаний выходило, что он был против «строгого наблюдения», но принял «седьмой градус». С петербургскими братьями не переписывался, в Москве «масонством совсем не занимался», опасался Шварца, но стал вторым после него человеком — начальником «теоретического градуса», то есть ведал переходом «братьев» от низших степеней к высшим. Фактически отсевом «масонских толп» и выявлением достойных. Шешковский, ознакомившись с присланными из Москвы бумагами, пометил на протоколе допроса: «Деяния его совсем противны его изречениям»[1637].
Документы ордена, написанные рукой Новикова, не позволяли поверить, что он «совсем мало знал» о делах «братства». Среди прочего Екатерину интересовала присяга масонов. Издатель отвечал, что сам был принят без каких-либо обрядов, остальные тоже. Ему показали текст, написанный им же, где говорилось, что в орден принимают «с ужасными клятвами», целованием креста и Евангелия. Согласно этой присяге, адепт должен был «в неразрывной верности ордену состариться… начальникам всякое послушание оказывать… перед высокопросвещенным собратством ни о какой тайне не умалчивать» и даже «правительству о тайне орденской никакою грозимою казнью не открывать»[1638].
Прозоровский писал Шешковскому из Москвы о Новикове: «Такого коварного и лукавого человека я… мало видел. К тому же человек натуры острой, догадливый и характер смелый и дерзкий… Весь предмет его только в том, чтобы закрыть его преступления»[1639].
Глава Тайной экспедиции и сама Екатерина готовы были согласиться с такой характеристикой. Императрица не имела причин сочувствовать Новикову. В печати, не называя имен, он неоднократно наносил ей личные оскорбления. Еще в «Трутне» редактор писал: «Госпожа „Всякая всячина“ на нас прогневалась и наши нравоучительные рассуждения называет ругательствами. Но теперь вижу, что она меньше виновата, нежели я думал. Вся ее вина состоит в том, что на русском языке изъясняться не умеет». Это был удар ниже пояса, намек на немецкое происхождение государыни. Она столько лет учила русский, усвоила живую суть языка, собирала пословицы и поговорки, читала летописи, писала заметки по русской истории и пьесы на русском же, уверяла Вольтера в «силе и красоте языка нашего», создала академию для составления «Словаря», внушала иностранным авторам, желавшим взяться за историю России, что, не зная русского, такой труд не поднять. А ее уличали в неверном употреблении слова «ругательство»!
Ни один текст Екатерины, будь то журнальная статья, или указ, не выходил из кабинета без проверки статс-секретарями грамотности написанного. В конце концов, Екатерина могла вернуть Новикову упрек. «Рассматривать человека надлежащим образом во всех окрестностях его»[1640], — сказано, без сомнения, по-русски. Но в своем глазу бревна не видно, и издатель продолжал: «Госпожа „Всякая всячина“ написала, что пятый лист „Трутня“ уничтожает. И это как-то сказано не по-русски — уничтожить, то есть в ничто превратить есть слово, самовластию свойственное, а таким безделицам, как ее листки, никакая власть неприлична»[1641]. Здесь автор уже играл с огнем, заявляя, что человеку, плохо знающему русский и выпускающему бездельные журналы, власть неприлична.
Эта полемика происходила в мае 1769 года. Оценим терпение «самовластной» императрицы. Она никогда не забывала личных оскорблений, но и не карала только за них. Теперь Екатерина могла сказать, что не ее злая воля, а игры Новикова с законом привели его в Шлиссельбург. На следствии Николай Иванович поклялся именем Бога, что не знал ни о какой корреспонденции с иностранными принцами. Ему предъявили письма Шварца не одному Фердинанду Брауншвейгскому, но и другому крупному прусскому масону Карлу Гессен-Кассельскому, с которым обсуждался вопрос о возведении Павла в ранг Великого Провинциального Мастера. После демонстрации письма Баженова о встречах с великим князем узник назвал себя «совершенным преступником»[1642].
«Масса слов…»
Получив признание заключенного, следовало остановиться и подумать. Екатерина не любила резких шагов. Даже когда дело казалось решенным, но требовало крутых мер, императрица медлила, представляла себе последствия. С годами она все лучше понимала свою покойную свекровь Елизавету Петровну. Во всяком случае, пословица: «Семь раз отмерь, один отрежь» — подходила ей теперь как нельзя лучше.
Финальное расследование дела московских мартинистов велось до конца лета. 1 августа Екатерина подписала указ Прозоровскому относительно Новикова: «15 лет Шлиссельбургской крепости для покаяния в своих злодеяниях»[1643]. Это был приговор без формального суда. Только на основании раскрытых следствием обстоятельств. Перед тем как обнародовать свое решение, императрица две недели продержала проект документа у себя «в куверте», как тогда говорили.
Ей было над чем поразмыслить. Приговором по делу Новикова оказались бы задеты слишком многие высокие персоны. Стоило ли их тревожить? Настраивать против себя? С другой стороны, оставлять осиное гнездо в доме казалось опасно. «Братья» создали вокруг Павла цепь приверженцев, с каждым днем их могущество возрастало. Екатерина ощущала угрозу, а в таких случаях она предпочитала действовать.
Смерть Потемкина заставила ее врагов зашевелиться. Многие почувствовали уязвимость государыни. «Теперь все, как улитки, станут высовывать головы»[1644], — жаловалась Екатерина Храповицкому. Момент для сторонников Павла выглядел благоприятным. Если бы наша героиня сумела отразить их натиск сейчас, она получила бы еще несколько лет относительно спокойной жизни. Для этого следовало разорвать связь наследника с берлинскими «братьями» и примерно покарать розенкрейцеров внутри страны.
Тронуть крупных тузов, вроде Репнина, Гагарина или Куракина, Екатерина не могла, как когда-то не имела возможности наказать Панина. Их опасно было загонять в угол, ведь тогда действия сторонников ее сына стали бы непредсказуемыми. Последние могли оказать ожесточенное сопротивление, а императрица старалась не доводить до крайностей. Худой мир лучше доброй ссоры. Тем не менее представителей «прусской» партии стоило напугать. Точно так же как «либеральную» воронцовскую группировку остерегли делом Радищева, мистиков от политики символически предупредили, осудив Новикова.
Среди московских «братьев» издатель был самым видным, а по материалам следствия выходило, что и самым виновным. Его били для примера. Рассуждая о своем положении после смерти светлейшего князя, Екатерина писала Гримму: «Но как быть? Надо действовать… Опять я должна воспитывать себе людей, и конечно, оба генерала Зубова подают наибольшие надежды». Но «надо время, старание, опытность», «а конец этого столетия вовсе не предвещает гениев»[1645].
После обнародования приговора издателю страх действительно, как электрический разряд, пробежал по рядам столичных масонов и на время парализовал их. Именно такой реакции и добивалась императрица. Даже Храповицкий почувствовал себя неуютно, посчитал нужным «изъясниться о старом масонстве» и оправдаться тем, что перевел «Тайну противу-нелепого общества». «Кажется, что выслушан хорошо и некоторыми отзывами отделен от нынешних мартинистов», — с облегчением записал Александр Васильевич. В кабинете отныне лежал «белый картон» со списком членов лож, по которому государыня справлялась при назначении того или иного чиновника: «Не мартинист ли?»[1646]
Екатерина намеренно показала Павлу записку Баженова, где архитектор сообщал «братьям» о разговоре с великим князем и о благорасположении последнего к ордену. Наследнику пришлось отвечать письменно.
«Масса слов, из которых одна половина лишена смысла, — заявлял цесаревич, — а другая состоит из слов, которыми злоупотребили, ибо я думаю, что дело идет о ком-нибудь, кто желал опереться на вашего покорного слугу, который когда-либо мог требовать… достоверных известий о секте, к которой он, конечно, не принадлежал. Нужно было быть бы сумасшедшим или глупцом для того, чтобы быть при чем-нибудь во всем этом, разве только по сплетням передней. Впрочем, всякое объяснение кажется мне бесполезным».
Ни сумасшедшим, ни глупцом Павел себя не считал, обвинял сплетников и интриганов, заявлял, что его слова извратили те, кто искал покровительства в будущем, но самое главное — никакого отношения к «секте» он не имел. Ему казалось «бесполезным» разубеждать мать, тем не менее формальный отказ от ордена устроил Екатерину. Она сообщила Зубову: «Приложенный пасквиль, у Новикова найденный, показан мною великому князю, и он, прочтя, ко мне возвратил с приложенною цедулою, из которой оказывается, что на него все вышеисписанный пасквиль всклепал и солгал, чему я охотно верю»[1647].
Сим дело для Павла закрывалось. А вот для остальных приверженцев злато-розового креста — нет. Единственным из московских масонов, кому наследник отважился помочь немедленно, был Баженов. Тот самый человек, который «всклепал» на цесаревича «пасквиль» и «злоупотребил» его словами. Окажись он в крепости рядом с Новиковым, и неизвестно, как далеко зашло бы расследование. Чувствуя опасность, Василий Иванович закрыл школу зодчества, созданную им в Москве, и поспешил в Петербург. Цесаревич назначил его главным архитектором гатчинского двора. Теперь тронуть Баженова без огласки императрица не могла: пошли бы толки, что она арестовывает приближенных сына и скоро доберется до него самого. Репнин был направлен генерал-губернатором в Ригу и Ревель, что выглядело как почетное удаление из столицы. Производство служивших при нем лиц осуществлялось только после тщательной проверки.
Из конфискованных у Новикова книг Прозоровский передал 1965 экземпляров в Заиконоспасский монастырь, где еще со времен Славяно-греко-латинской академии имелась богатейшая библиотека, 5194 — в Московский университет. А 18 656 «вредоносных» сочинений были преданы огню на Болотной площади в июне 1794 года. По неразберихе в костер полетели не только масонские тексты, но и, например, «Юлий Цезарь» Шекспира в переводе молодого H. М. Карамзина[1648]. Так любившая русские пословицы Екатерина могла бы сказать: «Лес рубят, щепки летят».
Сам Новиков был оставлен в Шлиссельбурге. Нет оснований утверждать, как это делалось в советской историографии, будто издатель пострадал за просветительскую, тем паче за благотворительную деятельность, якобы вызывавшую ревность у Екатерины[1649]. В вину ему ставилось именно «уловление известной особы», то есть наследника. Нельзя не заметить также, что еще до начала правительственных гонений Николай Иванович был подвергнут суровому остракизму внутри ордена, а в 1792 году фактически сыграл роль «козла отпущения» за остальных «братьев».
Обращает на себя внимание разница в наказаниях издателя и других московских адептов. Соратников Новикова — Трубецкого и Тургенева — выслали в собственные деревни под Москвой, а Лопухина даже оставили в городе из «снисхождения к его дряхлому отцу»[1650]. Из-под ареста он написал Екатерине такое трогательное письмо, что, по словам В. С. Попова, императрица плакала, читая его: «Государыня, я не злодей! Мать отечества! Я один из вернейших твоих подданных и сынов его… Никогда мысль одна против тебя не обращалась в душе моей… Буде существует какая на мне клевета, то я уверен, что все исчезнет от единого воззрения твоей прозорливости»[1651].
Каменное сердце смягчилось бы от таких слов. А наша героиня была по-немецки сентиментальна и по-русски сострадательна. Но в отношении Новикова эти чувства не шевельнулись в ней. Современники объясняли суровый приговор и личной неприязнью Екатерины после журнальной полемики, и тайнами, связанными с Павлом, и берлинским следом.
Однако еще в комедии «Обольщенный» императрица показала, что не ставит на одну доску «вымогателей» и их невольных сообщников. Трубецкого, Тургенева и Лопухина императрица посчитала «в числе обманутых», на них «лишь пало подозрение по причине тесного… обхождения» с Новиковым. Последний же, помимо прочего, был виновен, на взгляд Екатерины, в «краже» — о невозврате занятых денег вопияли многие заимодавцы, между тем Авдотьино процветало. Одних долгов на издателе нашлось на сумму свыше 700 тысяч рублей[1652]. Дома и склады Новикова в Москве пустили с молотка. В 1795 году последовал указ о продаже имения с публичных торгов. Правда, аукцион удалось отсрочить до смерти Екатерины, а Павел прекратил преследование[1653].
Но было в отношении императрицы к Новикову и нечто, кроме рационального неприятия. 18 сентября после чтения дела Ивана Тургенева она сказала Храповицкому: «Всех мартинистов обманывал… Шрёдер. Он при смерти оставил запечатанную духовную, и в ней точно нашли, что все это обман, в котором он сознавался. Они до того доходили, что призывали чертей: все найдено в бумагах Н[овикова], и ему от Шрёдера тысяч шесть досталось»[1654]. Испуганный статс-секретарь «отражал нелепость, дивился легковерию». Но чьему? Екатерины, решившей, что мартинисты призывали чертей? Или самих адептов, полагавших магический акт возможным? Государыня не любила мистики, но в данном случае в ней говорила не просвещенческая насмешка над тем, чего нельзя пощупать руками, а обычная религиозная гадливость.
Тем не менее Екатерина сознавала суровость приговора. Новикову было позволено взять с собой в Шлиссельбург личного врача Багрянского и лакея. Эти люди добровольно разделили с Николаем Ивановичем заключение. По случаю своего освобождения издатель устроил торжественный обед, где рядом с собой на равных посадил и слугу. Впрочем, это не помешало ему вскоре продать крепостного за две тысячи рублей[1655]. Своего молодого секретаря из крестьян, над образованием которого Николай Иванович сам немало потрудился и которого любил настолько, что вместе обедал, барин забрил в солдаты. «Вот вам и мартинист, передовой человек!» — возмущался, услышав эту историю, князь П. А. Вяземский. Для Новикова же дело выглядело просто: «Парень избаловался»[1656].
В поведении Николая Ивановича по выходе из крепости много необъяснимого. Существует даже версия о его духовном перерождении в результате ареста и четырехлетнего заключения. На следующий же день после смерти матери Павел I подписал указ об освобождении ряда узников, список открывался именем Новикова. Носились слухи, будто император сделает его «университетским директором», но после краткого свидания наедине Павел расстался с издателем навсегда. Громадные долги не были сняты с плеч старика, а нищенское положение имения поправлено. Косвенным образом это свидетельствовало о недовольстве монарха. Государь забрал к себе дело московских мартинистов, и после убийства оно было найдено в его комнате.
Никто из прежних «братьев» не помогал Новикову, даже не виделся с ним, сам он теперь отзывался об ордене скептически. Своему, пожалуй, последнему другу Д. П. Руничу Николай Иванович советовал не сближаться в Москве с масонами[1657]. Видимо, просветитель понимал, что орденские «начальники» подставили его под удар. Остаток дней он прожил в Авдотьине, где и скончался уже после Наполеоновского нашествия.
Заключение «КАПЛЯ В МОРЕ»
Последние пять лет жизни Екатерины были отмечены глубоким увяданием физических и нравственных сил. Тем, кто знал императрицу в лучшие годы, тяжело было смотреть на царственную тень былой мощи и силы. Она все еще сохраняла остроту ума и трезвость политических суждений. На просьбу французских роялистов вооруженной рукой извне задавить «гидру революции» государыня ответила предупреждением — интервенция погубит дело монархии во Франции: как только нога иностранного солдата пересечет границу, даже колеблющиеся французы встанут под знамена якобинцев, защищая свою родину. Будущее показало, что престарелая государыня была права: «Республика всегда в конце концов превращается в монархию… На счет контрреволюции положитесь на самих французов, они это сделают лучше, чем все союзные государи»[1658].
Незадолго до появления на политическом горизонте Наполеона она писала Гримму: «Если Франция справится со своими бедами, она будет сильнее, чем когда-либо… но для этого нужен человек недюжинный, ловкий, храбрый, опередивший своих современников и даже, может быть, свой век… Если найдется такой человек, он стопою своею остановит дальнейшее падение, которое прекратится там, где он станет»[1659]. Многолетний опыт позволял императрице видеть развивающиеся события, как в чашке воды.
Внешняя политика конца царствования оказалась столь же активной, как и на протяжении предшествующих трех десятилетий. Это объяснялось не столько наступательными идеями самой государыни, сколько опасной и быстро менявшейся международной ситуацией. План действий, намеченный еще Потемкиным в отношении Польши, был осуществлен уже после его смерти, в 1792 году, и привел ко второму разделу Речи Посполитой. Противники польской конституции 3 мая составили Торговицкую конфедерацию, подкрепив вступление русских войск на территорию Польши официальным призывом. Пруссия, не желая уступать, также ввела свои войска, но не для защиты польских реформ, как она обещала варшавским сторонникам, а для отторжения Познани и приграничных с Силезией земель. Россия получила Волынь, Подолию и часть Литвы. «Вы меня не поздравляете с колыбелькой русскою, — писала в августе 1793 года Екатерина графу И. Г. Чернышеву, — то есть с присоединением к империи трех прекрасных и многолюдных губерний?»[1660]
Однако второй раздел Польши не поставил точку в судьбе старого противника, а лишь привел в движение те общественные силы, которые, по выражению Екатерины, развернули «истинно якобинское знамя бунта» Тадеуша Костюшко. Второй раздел также в полной мере не осуществил плана, представленного Потемкиным. Главная идея этого документа состояла в отторжении от Речи Посполитой всех земель, не входящих в Коронную Польшу и населенных не польским и не католическим населением. Однако пока этого не произошло.
После того как войска под командованием Суворова заняли Варшаву и взяли в плен Костюшко, в начале 1795 года между Австрией и Россией состоялось соглашение об условиях третьего раздела, а в октябре того же года был подписан договор с Пруссией. По третьему разделу Россия получила остаток Литвы, территорию между Неманом и верхним течением Буга, а также Курляндию. Австрии достались воеводства Краковское, Сандомирское и Люблинское. Пруссии — остальная часть Польши.
Екатерина отклонила предложение принять титул польской королевы, заявив, что не притронулась ни к одной пяди коронных польских земель[1661]. Присоединенные к России части Польши некогда, как писала императрица, составляли одно целое с Россией и даже были «колыбелькой» для русских. Однако третьим разделом оказался нарушен главный принцип проектов Потемкина: хотя Российская империя и не взяла себе коронных территорий, их получили другие участники — Австрия и Пруссия. Вместо появления на карте небольшой, слабой, но однородной в этническом и религиозном отношении страны Польша вообще перестала существовать как отдельное государство. Это обернулось национальной трагедией для поляков, но не прибавило спокойствия и странам-участницам разделов. Напротив, породило клубок противоречий в новом, XIX столетии между немецкими государствами, Российской империей и вошедшими в их состав польскими землями. Польский вопрос на долгие десятилетия стал головной болью держав Центральной Европы, особенно после Наполеоновских войн, когда основные территории Речи Посполитой по решениям Венского конгресса оказались отданы России. Сам факт существования в теле империи развитой, густо населенной территории, готовой взбунтоваться при любом затруднительном для Петербурга политическом обороте, ослаблял страну. Восстания 1830 и 1863 годов фактически превратились в полноценные войны. А деятельность польской эмиграции в Париже и Лондоне активно влияла на общественное мнение Европы, создавая отталкивающий образ России.
Вряд ли Екатерина и ее сподвижник могли предвидеть столь драматичное развитие событий. Они отвечали на вызовы своего времени и сумели выйти победителями из противостояния с целой лигой европейских государств. Однако, как и предвидел Потемкин, польскую «колыбельку» трогать не стоило.
Екатерине выпала честь решить три болезненных вопроса, оставшихся в наследство от предшественников, — польский, турецкий и шведский. Однако, по мнению императрицы, оставалось еще многое сделать, чтобы влияние России в международных делах стало непререкаемым. «Соединить Каспийское море с Черным и оба их с Северными морями; направить торговлю Китая и Ост-Индии через Туркестан; это значило бы возвысить империю на степень могущества выше всех остальных империй Азии и Европы»[1662], — писала она.
Но иностранные дела значили для Екатерины в конце царствования куда меньше, чем положение дома. По мере того как она старела, все острее вставал вопрос о преемнике. Лишившись опоры в лице Потемкина, императрица уже не могла с прежней энергией направлять борьбу придворных группировок в нужное ей русло и решиться, наконец, на трудный шаг — перемену наследника.
Ни сама Екатерина, ни годами поддерживавшие ее вельможи не хотели видеть на престоле Павла Петровича. Государыня опасалась отмены своих реформ (что и произошло), пожилые сановники — личной мести нового монарха. Отношения императрицы с сыном стали еще более напряженными. Надежду и утешение давали внуки. Старшему из них, великому князю Александру, бабушка прочила корону.
Казалось бы, мудрая правительница должна была позаботиться о воспитании сына. Слепить его по своему образу и подобию. Однако жизнь сложилась иначе. Мемуаристы отмечали большие способности Павла к точным наукам, военному делу, интерес к искусству, мистической философии… и тяжелый характер. Последний не удалось исправить воспитанием. Напротив, с годами, по мере того как Павел все нетерпеливее ожидал короны, в нем развились ипохондрия, желчность, мстительность, злопамятность, неумение прощать обиды. Людей он воспринимал как заводных марионеток и был ровен с ними лишь до тех пор, пока они неукоснительно исполняли его приказания.
Симптомы нервного расстройства проявлялись у цесаревича с каждым годом все ярче, заставляя императрицу бояться за судьбу своей страны, которая могла попасть в руки душевно больного человека. И в не меньшей степени — за судьбу собственного сына, который, при всем уме, образовании и благих намерениях, мог восстановить против себя подданных, как когда-то его отец, и поплатиться за это головой. Один из руководителей заговора против Павла I граф Петр Алексеевич Пален писал вскоре после переворота 11 марта 1801 года своему другу графу Александру Ланжерону о состоянии императора: «Вы не можете знать, как далеко ушла в своем развитии его быстро прогрессировавшая ненормальность. Она привела бы его к кровавым расправам. Такие случаи, впрочем, и бывали. Никто из нас не был уверен в своем завтрашнем дне. Скоро должны были везде начаться эшафоты»[1663].
Пален — один из руководителей заговора против Павла, заинтересованное лицо, и его слова можно было бы не принимать в расчет, если бы они не подтверждались независимыми лицами. Французская художница М. Виже-Лебрен, которой император заказал портрет супруги, привела в мемуарах странный случай: «Наши сеансы происходили всегда после обеда, и обычно на них присутствовал сам император со своими сыновьями, Александром и Константином… Император неизменно был весьма любезен. Однажды, когда я стояла за мольбертом, он собственноручно принес мне чашку кофе и дождался, чтобы отнести ее обратно… Я поставила позади императрицы в качестве спокойного фона ширму. Во время перерыва Павел вдруг стал прыгать и выделывать всяческие штуки, подражая обезьянам; он царапал ширму и делал вид, что хочет залезть на нее. Забава сия продолжалась изрядно долго. Было видно, что Александр и Константин страдали от сих выходок при иностранке, да и мне самой тоже было неловко за него»[1664]. Павел мог вести себя доброжелательно, даже ласково, и вдруг «органчик» в его голове ломался.
Фрейлина николаевского двора А. О. Смирнова-Россет, воспитывавшаяся под покровительством Марии Федоровны, записала слова нескольких близких к покойному императору лиц. Престарелая фрейлина Кочетова обронила в разговоре с девушкой: «Несчастный Павел был ненормален. Как только было ветрено, он уже волновался, и m-ll Нелидова поддерживала ему голову». Сама бывшая фаворитка Екатерина Ивановна Нелидова, к которой вдовствующая императрица часто посылала Россет с поручениями, рассказывала: «Взрывы злобы у государя были кратки, болезненны и ужасны. Когда ему не поддавались, он успокаивался». Августейшая вдова вспоминала, что ее муж обожал развлекаться криками среди ночи: «Во дворце пожар!» или «Украли бриллианты!» Когда наскучившие его шуткой родные отвечали ему: «Мы спим», — он «начинал разговаривать с часовыми, и было слышно, как он ходил по коридору. Он ужасно страдал от бессонниц. Иногда императрица вставала и всю ночь ходила с ним, пока он не успокаивался; она сама ухаживала за ним. Пробовали давать ему наркотики, но они не действовали на него, а только вызывали страшные мигрени»[1665].
Екатерина знала о сыне ту горькую правду, в которую не хотели поверить многие его заочные сторонники, не довольные политикой государыни и возлагавшие большие надежды на скромного и одаренного великого князя. К несчастью для Павла, предчувствия матери оправдались. Его короткое царствование стало не торжеством конституционных принципов, а чередой репрессий, и сопровождалось серьезными перекосами во внешней и внутренней политике России.
«Трудно описать, в каком вечном страхе мы живем, — писала граф В. П. Кочубей. — Боишься собственной тени. Все дрожат, так как доносы следуют за доносами, и им верят, не справляясь, насколько они соответствуют действительности. Все тюрьмы переполнены заключенными. Какой-то ужасный кошмар душит всех… Теперь появилось распоряжение, чтобы всякая корреспонденция шла только через почту. Отправлять письма через курьеров, слуг и оказией запрещается. Император думает, что каждый почтмейстер может прочесть любое письмо. Хотят раскрыть заговор, но ничего подобного нет… Я не сохраняю писем, я их жгу»[1666]. Неудивительно, что «вечный страх» завершился цареубийством 11 марта 1801 года. Зная эту грустную развязку, можно с уверенностью сказать, что Екатерина, годами отстраняя Павла Петровича от короны, не только оберегала свою власть, но и спасала сына от неминуемой гибели.
Лишившись общения с новорожденным ребенком сразу после того, как мальчик появился на свет, Екатерина не научилась любить его с той трепетной нежностью, которая характерна для ее отношения к внукам — Александру и Константину. Их она приняла от купели, ими занималась, их баловала и воспитывала. Именно по отношению к ним в ее сердце развернулось щемящее чувство материнства, не отягченное борьбой за власть, политическим соперничеством и интригами.
Из двух претендентов — сына и внука — Екатерина выбирала внука, обосновывая это образованием и душевными качествами Александра, который, по ее мнению, никогда не смог бы стать тираном, но был достаточно подготовлен к труду государя, чтобы не упустить управление страной из своих рук. Имеется множество сведений о том, что императрица заготовила необходимый акт. По одной из версий, А. А. Безбородко находился в числе тех государственных деятелей, кто своей подписью скрепил завещание Екатерины, передававшее престол внуку. Старый царедворец знал, где хранится документ, и после смерти императрицы отдал его Павлу I. Историки по-разному оценивают достоверность этой истории, но известно, что сразу после восшествия нового государя на престол Безбородко был осыпан милостями. Павел I пожаловал ему княжеское достоинство, назначил канцлером и подарил 16 тысяч душ. Современники часто упрекали канцлера в малодушии и считали, что, прояви он в нужный момент твердость, правления Павла можно было избежать. После смерти Александра Андреевича даже возникла сатира, изображавшая, как Екатерина на небесах встречает покойного и осыпает его горькими упреками за то, что он не выполнил ее последнюю волю. По другой версии, великий князь Александр сам передал в руки отца документ, позволявший ему стать императором, минуя родителя.
Так или иначе, смерть помешала осуществлению планов Екатерины. Императрица скончалась 6 ноября 1796 года. В завещании, написанном за много лет перед этим, еще в 1792 году, она просила похоронить ее «на ближной городовой кладбище» и «носить траур пол года, а что менее того, то луче». В конце текста стоит недвусмысленное распоряжение: «Отдалить от советов обоих пол немцов»[1667]. Имелись в виду Павел Петрович и его супруга Мария Федоровна, которых Екатерина не считала русскими.
Со смертью императрицы история перевернула новый лист. Современники и потомки называли покойную великой государыней и великой блудницей, но очень редко задавались вопросом: была ли Екатерина по-настоящему счастлива? У нее не было того, что почти каждая женщина считает воплощением счастья: дома — тихой пристани, любящего верного мужа, любимых и дорогих сердцу детей. Ее дом превратился в громадную империю, которую она в письмах иностранным корреспондентам часто именовала: «мое маленькое хозяйство» или «мое небольшое поместье». В этом «маленьком» хозяйстве Екатерина справлялась с делами так же умело, как казанская помещица с хлопотами по засолке огурцов и просушке перин на солнце.
Если бы судьба оставила ее в Штеттине и уготовила путь гарнизонной жены прусского генерала, она и там заняла бы подобающее место. Как писал Г. Р. Державин: «Екатерина в низкой доле была б великая жена!» Но ее блестящий ум, ее огромные творческие силы остались бы без применения. Счастьем для Екатерины стала возможность реализовать заложенный в ней интеллектуальный и нравственный потенциал. Она была рождена, чтобы властвовать, добилась короны и царствовала со славой. У каждого человека свои мерки счастья, а счастье «не так слепо, как его себе представляют».
Как же сама императрица оценивала результаты своего правления? Казалось бы, после стольких блестящих побед у нее не было причины преуменьшать личные заслуги. В одном из писем Потемкину, с которым Екатерина не лукавила, сказано: «Россия велика сама по себе, а я что ни делаю, подобно капле, падающей в море»[1668].
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Великий князь Петр Федорович и великая княгиня Екатерина Алексеевна с арапчонком. Е.-Р. Лисчевская. 1756 г.
Петергоф. Большой дворец, Большой каскад. 1753 г. Раскрашенный офорт Ш. Нике
Рядовой гренадерской роты лейб-гвардии Измайловского полка в парадной форме. 1760-е гг.
Венчальное платье великой княгини Екатерины Алексеевны. 1745 г.
Княгиня Е. Р. Дашкова. Гравюра Г. И. Скородумова
Г. Г. Орлов. Гравюра А. Радига с портрета А. Рослина
Великая княгиня Екатерина Алексеевна. Л. Ревон
И. И. Бецкой. Гравюра А. Рослина
Граф Н. И. Панин. Гравюра А. Радига с портрета А. Рослина
Портрет великого князя Павла Петровича. Неизвестный художник. 1750-е гг.
Портрет Алексея Бобринского, сына Екатерины II и графа Г. Г. Орлова. Веник К. Б. Копия с портрета Христенека. 1882 г.
Императрица Елизавета Петровна. Гравюра А. Рослина. 1750-е гг.
И. И. Шувалов. М.-Л. Виже-Лебрен. 1795 г.
Ст. Понятовский. Неизвестный художник. Конец 1760-х гг.
Сержант Мушкетерского полка. 1762 г.
Офицер Лейб-кампании в кавалергардском уборе. Гравюра. 1742–1762 гг.
П. А. Румянцев. Неизвестный художник. 1770-гг
З. Г. Чернышев. А. Рослин. 1770-гг.
Аллегория Екатерины II. Гравюра. 1770-е гг.
Триумф Екатерины II. Гравюра. 1762 г.
Екатерина II в маскарадном костюме. Ф. С. Рокотов. Долгое время считался портретом сына Екатерины II и Г. Г Орлова А. Г. Бобринского
Великая княгиня Екатерина Алексеевна. Г. X. Грот. 1759 г.
Коронационные торжества Екатерины II. Торжественный въезд императрицы в Кремль. Де Велли. 1763 г.
Екатерина II. Ст. Торелли. 1762–1766 гг.
Миропомазание императрицы в Успенском соборе Московского Кремля
Коронация императрицы в Успенском соборе Московского Кремля
Документы дела Д. Н. Салтыковой из канцелярии Сената. 1767 г.
Обнародование манифеста Екатерины II по делу Д. Н. Салтыковой 18 октября 1768 года. А. Я. Колпашников. Гравюра
Чтение Наказа Екатерины II о новом Уложении депутатам Уложенной комиссии 29 июня 1767 года. Р. Н. Негодаев. Гравюра. XIX в.
Древо закона. Гравюра. Конец XVIII в.
Екатерина II в образе Минервы. Ш. Ришар. 1789 г.
Н. А. Репнин на Польском сейме выступает против шляхетской оппозиции. Р. Н. Негодаев. Гравюра. XIX в.
Бюст А. Г. Орлова. Ф. И. Шубин. 1771 г.
Чесменский бой. 25–26 июня 1770 года. И. К. Айвазовский
Портрет Е. И. Пугачева, написанный поверх портрета Екатерины II. Неизвестный художник. 1773 г.
П. И. Панин принимает пленного Е. И. Пугачева у доставившей его воинской команды. Гравюра. XVIII в.
Екатерина II в русском платье. В. Эриксен. 1772 г.
Князь Г. А. Потемкин-Таврический. Б. Лампи. 1780-е гг.
Аллегория победы Екатерины II над турками. Ст. Торелли. 1772 г.
A. A. Безбородко. Неизвестный художник
С. Р. Воронцов. Ж.-Л. Вуаль. 1770-е гг.
Письмо Екатерины II Г. А. Потемкину. 1784 г.
Екатерина II в дорожном костюме. М. Шибанов. 1787 г.
М. Дмитриев-Мамонов. М. Шибанов. 1787 г.
Дорожный возок Екатерины II. Гравюра
Вид Гатчинского дворца в конце XVIII века
Екатерина II в окружении семьи и вельмож. «О подданные отменно счастливые! Она вас любит как своих детей». Гравюра. 1782 г.
Бюджет государственного ассигнационного банка Российской империи. 1787 г.
Понтонный мост через Неву у Сухопутного шляхетского корпуса. 1797 г.
Екатерина II принимает турецких послов. Г. Диваль. 1762 г.
Французская карикатура на завоевательные планы Екатерины II. Императрица перескакивает из Петербурга в Константинополь. Внизу изображены монархи Европы. 1787 г.
Бюст А. В. Суворова. В. И. Демут-Малиновский. 1814 г.
Золотая кружка с изображениями медалей А. В. Суворова
Карта штурма Очакова. 1789 г.
Штурм Измаила 11 декабря 1790 года. С. П. Шифляр. Раскрашенная гравюра
Золотая табакерка А. В. Суворова
Н. В. Репнин. Д. Г. Левицкий. 1780-е
П. А. Зубов, шеф Кавалергардского полка. 1793–1796 гг.
Штурм Очакова. Неизвестный художник. Раскрашенная гравюра. 1789 г.
Рядовой конной артиллерии. 1794–1796 гг.
Унтер-офицер и обер-офицер Кавалергардского корпуса. 1763–1796 гг.
Г. А. Потемкин во главе Кавалергардского отряда. М. М. Иванов. 1780-е гг.
Кавалергардский отряд на берегу Невы. М. М. Иванов. 1780-е гг.
Праздник в Таврическом дворце. Благодарственный прием Екатерины II князем Г. А. Потемкиным. Р. Н. Негодаев. Гравюра. XIX в.
Павловский дворец. А. Е. Мартынов. Конец XVIII в.
Медальон с изображением Екатерины II. Конец XVIII в.
Портрет великого князя Константина Павловича. С. Ф. Рокотов. Начало 1780-х
Портрет великой княгини Александры Павловны. Д. Г. Левицкий. 1790 г.
Екатерина II, путешествующая по своему государству в 1787 году. Ф. Де Мейс
Подорожная на имя А. Н. Радищева, подписанная генерал-прокурором А. А. Вяземским. 1772 г.
И. П. Елагин. Неизвестный художник. 1780-е гг.
Н. И. Новиков. Д. Г. Левицкий. 1780-е гг.
Перезахоронение останков Петра III императором Павлом I 8 декабря 1796 года. Н. Анселин. Гравюра
Император Павел I и члены императорской фамилии в Петропавловском соборе у гробниц Петра III и Екатерины II. Неизвестный художник. Гравюра. Конец XVIII в.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ЕКАТЕРИНЫ II
1729, 21 апреля — в семье штеттинского коменданта родилась дочь, принцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская.
1744, 28 июня — наша героиня приняла православие и получила новое имя — Екатерина.
1745, 21 августа — венчание с великим князем цесаревичем Петром Федоровичем.
1754, 20 сентября — рождение сына Павла Петровича.
1757, 9 декабря — рождение дочери Анны Петровны (возможно, от Ст. Понятовского).
1758, 14 февраля — арест канцлера А. П. Бестужева-Рюмина.
24 апреля — первый допрос-разговор у Елизаветы Петровны.
23 мая — второй разговор, убедивший императрицу оставить Екатерину в России.
1759, зима — первая встреча с E. Р. Дашковой.
Весна — в окружении великой княгини Екатерины начинают замечать Г. Г. Орлова.
1761, 20 декабря — смерть императрицы Елизаветы Петровны.
1762, 18 февраля — Петр III подписал Манифест о вольности дворянства.
11 апреля — рождение сына от Г. Г. Орлова. Мальчик получил имя Алексей и фамилию Бобринский, став родоначальником новой дворянской ветви.
8 июня — заключение союзного договора с Пруссией.
28 июня — переворот, возведший Екатерину II на престол.
3–6 июля — возможные даты смерти Петра III в Ропше.
13 сентября — торжественный въезд в Москву для коронации.
22 сентября — коронация в Успенском соборе Московского Кремля. Запрещение закупки и приписки крестьян к заводам.
1763–1768 — дело Д. Ф. Салтыковой (Салтычихи).
1763, 30 января — маскарад «Торжествующая Минерва».
Весна — дело Федора Хитрово. Указ об отмене пытки во время следствия. Реформа Сената.
1764, 26 февраля — указ о секуляризации церковных земель.
5 мая — подписание Устава воспитательного общества при Смольном монастыре.
Лето — путешествие Екатерины II в Прибалтийские губернии.
4 июля — заговор В. Я. Мировича, убийство императора Ивана Антоновича.
1766 — генеральное межевание в России.
1767, весна-лето — путешествие Екатерины II по Волге.
30 июля — созыв Уложенной комиссии.
1768, 12 октября — приглашенный из Англии хирург Томас Димсдейл привил оспу Екатерине II и великому князю Павлу Петровичу.
Т. Димсдейл основывает в России оспопрививание, осуществляет операции в Петербурге и Москве, обучает русских врачей безопасному методу прививания.
1768–1774 — первая Русско-турецкая война.
1770, 15 марта — открытие Воспитательного дома в Петербурге.
26 июня — Чесменское сражение, уничтожение турецкого флота.
8 и 21 июля — победы при Ларге и Кагуле.
16 сентября — взятие Бендер.
1771 — Чумной бунт в Москве.
1772 — первый раздел Польши.
1773, 4 декабря — Екатерина II вызывает письмом Г. А. Потемкина в Петербург.
1773–1775 — Пугачевщина.
1774, 10 июля — Кючук-Кайнарджийский мирный договор с Турцией.
1774 — Дени Дидро посетил Россию и много беседовал с Екатериной II.
1774/75, зима — тайное венчание Екатерины II и Г. А. Потемкина в церкви Самсония, что на Выборгской стороне в Петербурге.
1775, 17 марта — Манифест о свободе предпринимательства.
12 или 13 июля — рождение дочери от Г. А. Потемкина. Девочка получила имя Елизавета и усеченную фамилию отца — Тёмкина.
7 ноября — публикация «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи». Губернская реформа.
1777, июнь — визит шведского короля Густава III в Россию.
1780, 28 февраля — Декларация о вооруженном нейтралитете.
24 мая — встреча с австрийским монархом Иосифом II в Могилеве.
1781, 18 мая — заключение союза с Австрией.
1782, август — приезд в Россию Теодора Янковича де Мириево, начало школьной реформы.
1783 — присоединение Крыма к России. Георгиевский трактат о протекторате России над Грузией.
1784, 25 июня — смерть А. Д. Ланского.
1785, 21 апреля — Жалованные грамоты дворянству и городам.
1786 — «Устав народным училищам в Российской империи».
1787,1 января — началось путешествие Екатерины II в «Киев и область Таврическую».
25 апреля — встреча с польским королем Станиславом Августом Понятовским в Каневе.
1787–1791 — вторая Русско-турецкая война.
1788, 6 декабря — взятие Очакова.
1789,1 июля — венчание А. М. Дмитриева-Мамонова с Д. Ф. Щербатовой.
1790, 4 сентября — приговор по делу А. Н. Радищева.
1791, 21 декабря — подписание Ясского мирного договора с Турцией.
1788–1790 — Русско-шведская война.
1790, 3 марта — подписание Верельского мирного договора со Швецией.
11 декабря — падение Измаила.
1791, 31 июля — уничтожение турецкого флота у мыса Калиакри.
5 октября — смерть Г. А. Потемкина.
1792, 1 августа — приговор по делу Н. И. Новикова.
1793 — второй раздел Польши.
1795 — третий раздел Польши.
1796, 6 ноября — Екатерина II скончалась.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. М., 1999 (серия «ЖЗЛ»).
Анисимов Е. В. Иван VI Антонович. М., 2008 (серия «ЖЗЛ»).
Бессарабова Н. В. Путешествия Екатерины II по России. М., 2005.
Бильбасов В. А. Дидро в Петербурге. 1773–1774. СПб., 1884.
Бильбасов В. А. История Екатерины II. Т. 1–2. Берлин, 1900.
Брикнер А. Г. История Екатерины Второй. Т. 1–2.СПб., 1885.
Валишевский К. Вокруг трона. М., 1989.
Валишевский К. Роман одной императрицы. М., 1989.
Гаврилова Л. М. Екатерина Нерусской историографии. Чебоксары, 1996.
Екатерина II и ее окружение. М., 1996.
Екатерина. Путь к власти. М., 2003.
Елисеева О. И. Повседневная жизнь благородного сословия в золотой век Екатерины. М., 2008.
Елисеева О. И. Потемкин. М., 2005 (серия «ЖЗЛ»).
Заичкин И. А., Почкаев И. Н. Екатерининские орлы. М., 1996.
Зорин А. Кормя двуглавого орла… Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII — первой трети XIX века. М., 2004.
Ибнеева Г. В. Путешествия Екатерины II: Опыт «освоения» имперского пространства. Казань, 2006.
Иванов О. А. Загадки писем Алексея Орлова из Ропши // Московский журнал. 1995. № 9, 11; 1996. № 1–3.
Иконников В. С. Значение царствования Екатерины II. Киев, 1897.
Кабузан В. М. Народы России в XVIII веке. Численность и этнический состав. М., 1990.
Каменский А. Б. «Под сению Екатерины…». Вторая половина XVIII века. СПб., 1992.
Каменский А. Б. Жизнь и судьба императрицы Екатерины Великой. М., 1997.
Каменский А. Б. От Петра I до Павла I. М., 1999.
Карамзин H. М. Записка о древней и новой России. М., 1991.
Кизеветтер А. А. Городовое положение Екатерины II 1785 г. Опыт исторического комментария. М., 1909.
Кизеветтер А. А. Исторические силуэты. Ростов-на-Дону, 1997.
Ключевский В. О. Сочинения. Т. 5. М., 1958.
Кросс А. Русские на берегах Темзы в XVIII веке. М., 1997.
Лаппо-Данилевский А. С. Очерки внутренней политики императрицы Екатерины II. СПб., 1898.
Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. М., 1992.
Любавский М. К. История царствования Екатерины II. СПб., 2001.
Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002.
Марасинова E. И. Власть и личность. Очерки русской истории XVIII века. М., 2008.
Медушевский А. И. Конституционные проекты в России XVIII — начала XX в. М., 2000.
Мыльников А. С. Петр III. М., 2002 (серия «ЖЗЛ»).
Наказ императрицы Екатерины II, данный комиссии о сочинении проекта нового уложения / Под ред. Н. Д. Чечулина. СПб., 1907.
Овчинников Р. В. Следствие и суд над Е. И. Пугачевым и его сподвижниками. М., 1995.
Омельченко О. А. Кодификация права в России в период абсолютной монархии. М., 1989.
Омельченко О. А. «Законная монархия» Екатерины II. М., 1993.
Павленко Н. И. Екатерина Великая. М., 1999 (серия «ЖЗЛ»).
Переписка российской императрицы Екатерины II и господина Вольтера. М., 1803.
Письма и бумаги императрицы Екатерины II, хранящиеся в Императорской Публичной библиотеке. СПб., 1873.
Плугин В. А. Алехан, или Человек со шрамом. Жизнеописание графа Алексея Орлова-Чесменского. М., 1996.
Сафонов М. М. Завещание Екатерины II. СПб., 2001.
Со шпагой и факелом. 1725–1825. Дворцовые перевороты в России. М., 1991.
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Т. 23–28 // Сочинения. Кн. XII–XIV. М., 1993–1994.
Сочинения императрицы Екатерины II. СПб., 1901. Т. 1–12.
Строев А. Ф. «Те, кто поправляет фортуну». Авантюристы просвещения. М., 1998.
Труайя А. Екатерина Великая. М., 1997.
Тычинина Л. В., Бессарабова Н. В. Княгиня Дашкова и императорский двор. М., 2006.
Флоровский А. В. Из истории екатерининской законодательной комиссии. Одесса, 1910.
Черкасов П. П. Двуглавый орел и королевские лилии. Становление русско-французских отношений в XVIII веке. 1700–1775. М., 1995.
Черкасов П. П. Екатерина II и Людовик XVI. М., 2004.
Чечулин Н. Д. Очерки по истории русских финансов в царствование Екатерины II. СПб., 1906.
Эйдельман Н. Я. Твой восемнадцатый век. М., 1991.
Экштут С. А. На службе российскому левиафану. М., 1998.
Эриксон К. Екатерина Великая. Смоленск, 1997.
Примечания
1
Сборник Русского исторического общества (далее: Сб. РИО). Т. 13. СПб., 1874. С. 260–261.
(обратно)2
Екатерина II. Записки. М., 1989. С. 69.
(обратно)3
Сб. РИО. Т. 23. СПб., 1878. С. 51.
(обратно)4
Там же. С. 55.
(обратно)5
Екатерина II. Записки // «Слово». 1988. № 8. С. 79.
(обратно)6
Там же.
(обратно)7
Там же. С. 78.
(обратно)8
Цит. по: Валишевский К. Роман одной императрицы. М., 1989. С. 73.
(обратно)9
Екатерина II. Записки // «Слово». 1988. № 8. С. 78–79.
(обратно)10
Там же. С. 78.
(обратно)11
Там же.
(обратно)12
Гаррис Дж. Письма // Русская старина. 1908. IX. С. 439.
(обратно)13
Екатерина II. Записки // «Слово». 1988. № 8. С. 81.
(обратно)14
Грибовский А. М. Записки о императрице Екатерине Великой. М., 1989. С. 44.
(обратно)15
Екатерина II. Записки // «Слово». 1988. № 8. С. 81.
(обратно)16
Там же.
(обратно)17
Записки императрицы Екатерины Второй. СПб., 1907. С. 7.
(обратно)18
Перро Ш. Рикэ-хохолок. М., 1991. С. 11.
(обратно)19
Екатерина II. Записки // «Слово». 1988. № 8. С. 81.
(обратно)20
Казанова Д. История моей жизни. М., 1990. С. 582.
(обратно)21
Екатерина II. Записки // «Слово». 1988. № 9. С. 74.
(обратно)22
Там же. № 8. С. 78.
(обратно)23
Там же. С. 80.
(обратно)24
Цит. по: Брикнер А. Г. История Екатерины Второй. Т. 1. СПб., 1885. С. 5.
(обратно)25
Каменский А. Б. «Под сению Екатерины…». СПб., 1992. С. 22.
(обратно)26
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 267.
(обратно)27
Екатерина II. Записки // «Слово». 1988. № 9. С. 73.
(обратно)28
Там же. С. 74.
(обратно)29
Там же. С. 75.
(обратно)30
Там же. № 8. С. 80.
(обратно)31
Гарновский М. А. Записки // Русская старина. 1876. № VI. С. 207.
(обратно)32
Екатерина II. Записки // «Слово». 1988. № 8. С. 79.
(обратно)33
Там же. С. 80.
(обратно)34
Там же. С. 78.
(обратно)35
Там же.
(обратно)36
Там же. С. 84.
(обратно)37
Дашкова E. Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 7.
(обратно)38
Екатерина II. Записки // «Слово». 1988. № 8. С. 82.
(обратно)39
Фридрих II. Из записок о России в первой половине XVIII в. // Русский архив. 1877. Т. 15. Кн. 1. С. 19.
(обратно)40
Екатерина II. Записки // «Слово». 1988. № 8. С. 82.
(обратно)41
Там же. № 9. С. 75.
(обратно)42
Там же. С. 76.
(обратно)43
Екатерина II. Записки // «Слово». 1988. № 9. С. 77.
(обратно)44
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 26–28.
(обратно)45
Брикнер А. Г. История Екатерины Второй. Т. 1. С. 34.
(обратно)46
Фридрих II. Из записок о России в первой половине XVIII в. С. 19–20.
(обратно)47
Грот Я. Воспитание Екатерины II //Древняя и новая Россия. 1875. Т. 1. С. 10.
(обратно)48
Каменский А. Б. «Под сению Екатерины…». С. 16.
(обратно)49
Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. М., 1999 (серия «ЖЗЛ»), С. 385.
(обратно)50
Екатерина II. Записки // «Слово». 1988. № 9. С. 77.
(обратно)51
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 114.
(обратно)52
Там же. С. 486–487.
(обратно)53
Мардефельд фон А. Записка о важнейших персонах при русском дворе // Лиштенан Ф.-Д. Россия входит в Европу. М., 2000. С. 269–270.
(обратно)54
Финкинштейн фон К. В. Общий отчет о русском дворе 1748 // Там же. С. 290.
(обратно)55
Рюльер K. де. История и анекдоты революции в России в 1762 г. // Екатерина II и ее окружение. М., 1996. С. 51–52.
(обратно)56
Бумаги императрицы Екатерины II, хранящиеся в Государственном архиве Министерства иностранных дел. Т. 1. СПб., 1871. С. 1.
(обратно)57
Цит. по: Брикнер А. Г. История Екатерины Второй. Т. 1. С. 44.
(обратно)58
Екатерина II. Записки // «Слово». 1988. № 9. С. 78–79.
(обратно)59
Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1. М., 1993. С. 137.
(обратно)60
Там же. С. 138.
(обратно)61
Екатерина II. Записки // «Слово». 1988. № 9. С. 78–79.
(обратно)62
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 257.
(обратно)63
Цит. по: Брикнер А. Г. История Екатерины Второй. Т. 1. С. 44.
(обратно)64
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 258.
(обратно)65
Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002. С. 29.
(обратно)66
Екатерина II. Записки // «Слово». 1988. № 9. С. 79.
(обратно)67
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 254.
(обратно)68
Екатерина II. Записки // «Слово». 1988. № 8. С. 79.
(обратно)69
Бумаги императрицы Екатерины II, хранящиеся в Государственном архиве Министерства иностранных дел. Т. 1. С. 7.
(обратно)70
Там же. С. 80.
(обратно)71
Цит. по: Брикнер А. Г. История Екатерины Второй. Т. 1. С. 44.
(обратно)72
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 256.
(обратно)73
Екатерина II. Записки // «Слово». 1988. № 9. С. 78–79.
(обратно)74
Записки императрицы Екатерины Второй. СПб., 1907. С. 476.
(обратно)75
Там же. С. 482.
(обратно)76
Там же. С. 44.
(обратно)77
Там же. С. 469, 470, 476.
(обратно)78
Штелин Я. Записки о Петре III // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 4.
(обратно)79
Записки императрицы Екатерины Второй. СПб., 1907. С. 315.
(обратно)80
Там же. С. 115.
(обратно)81
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 259.
(обратно)82
Записки императрицы Екатерины Второй. СПб., 1907. С. 97.
(обратно)83
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 259.
(обратно)84
Записки императрицы Екатерины Второй. СПб., 1907. С. 115.
(обратно)85
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 260.
(обратно)86
Екатерина II. Записки // «Слово». 1988. № 10. С. 84.
(обратно)87
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 501.
(обратно)88
Екатерина II. Записки // «Слово». 1988. № 10. С. 86.
(обратно)89
Труайя А. Екатерина Великая. М., 1997. С. 21.
(обратно)90
Штелин Я. Указ. соч. С. 26.
(обратно)91
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 260.
(обратно)92
Черкасов П. П. Двуглавый орел и королевские лилии. М., 1995. С. 44.
(обратно)93
Мардефельд А. фон. Записка о важнейших персонах при русском дворе. С. 280.
(обратно)94
Черкасов П. П. Указ. соч. С. 44, 45.
(обратно)95
Лиштенан Ф.-Д. Россия входит в Европу. С. 126.
(обратно)96
Штелин Я. Указ. соч. С. 26.
(обратно)97
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 259–264.
(обратно)98
Брикнер А. Г. История Екатерины Второй. Т. 1. С. 43.
(обратно)99
Там же. С. 37.
(обратно)100
Екатерина II. Записки // «Слово». 1988. № 9. С. 81; № 10. С. 82.
(обратно)101
Там же.
(обратно)102
Там же. № 9. С. 81; № 10. С. 82.
(обратно)103
Иванов О. А. Павел — Петров сын? // Загадки русской истории. XVIII в. М., 2000. С. 162.
(обратно)104
Труайя А. Указ. соч. С. 43–44.
(обратно)105
Иванов О. А. Указ. соч. С. 157–159.
(обратно)106
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 269.
(обратно)107
Записки императрицы Екатерины Второй. СПб., 1907. С. 483.
(обратно)108
Екатерина II. Записки // «Слово». 1988. № 9. С. 81.
(обратно)109
Там же. № 10. С. 81–82.
(обратно)110
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 264.
(обратно)111
Екатерина II. Записки // «Слово». 1988. № 10. С. 82–83.
(обратно)112
Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. С. 30.
(обратно)113
Там же. С. 31.
(обратно)114
Екатерина II. Записки // «Слово». 1988. № 10. С. 84.
(обратно)115
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 271.
(обратно)116
Екатерина II. Записки // «Слово». 1988. № 10. С. 84–85.
(обратно)117
Там же. С. 86.
(обратно)118
Русский вестник. 1883. № 1. С. 197.
(обратно)119
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 271–272, 275, 276.
(обратно)120
Екатерина II. Записки // «Слово». 1988. № 10. С. 87.
(обратно)121
Там же. С. 88.
(обратно)122
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 264.
(обратно)123
Писаренко К. А. Повседневная жизнь русского двора в царствование Елизаветы Петровны. М., 2003. С. 815.
(обратно)124
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 280.
(обратно)125
Былое. Пг.,1919. № 14. С. 79.
(обратно)126
Екатерина II. Записки // «Слово». 1988. № 10. С. 89.
(обратно)127
Сб. РИО. XIII. С. 406.
(обратно)128
Екатерина II. Записки // Слово. 1988. № 10. С. 81.
(обратно)129
Там же. 1989. № 3. С. 75.
(обратно)130
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 73.
(обратно)131
Там же. С. 51.
(обратно)132
Тургенев А. М. Записки // Былое. Пг., 1919. № 14. С. 79.
(обратно)133
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 89.
(обратно)134
Валишевский К. Роман одной императрицы. С. 10.
(обратно)135
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 100.
(обратно)136
Тургенев А. М. Указ. соч. С. 82.
(обратно)137
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 73.
(обратно)138
ОР РГБ. Ф. 369. Собр. Бонч-Бруевича В. Д. К.375. Ед. хр. 29. Л. 4.
(обратно)139
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 128.
(обратно)140
Валишевский К. Указ. соч. С. 31.
(обратно)141
Тургенев А. М. Указ. соч. С. 85.
(обратно)142
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 501.
(обратно)143
Madariaga I. de. Russia in the Age of Catherine the Great. New Heaven and London, 1981. P. 343.
(обратно)144
Понятовский С. Мемуары. М., 1995. C. 196.
(обратно)145
Там же. С. 136.
(обратно)146
Там же. С. 138–139.
(обратно)147
Корберон М. Д. Интимный дневник шевалье де Корберона, французского дипломата при дворе Екатерины II // Екатерина II и ее окружение. М., 1996. С. 127.
(обратно)148
А. Т. Болотов в Кенигсберге. Калинин, 1990. С. 107.
(обратно)149
Жизнь и приключения Андрея Тимофеевича Болотова, описанные самим им для своих потомков. Т. 2. М., 1993. С. 129.
(обратно)150
Чечулин Н. Д. Екатерина II в борьбе за престол. Л., 1924. С. 101.
(обратно)151
Там же. С. 100.
(обратно)152
Переписка великой княгини Екатерины Алексеевны и английского посла Чарльза Г. Уилльямса // Русский архив. 1909. Т. 228. С. 27.
(обратно)153
Там же. С. 52.
(обратно)154
Там же. С. 47–48.
(обратно)155
Чечулин Н. Д. Указ. соч. С. 94.
(обратно)156
Переписка великой княгини Екатерины Алексеевны и английского посла Чарльза Г. Уилльямса. С. 186.
(обратно)157
Чечулин Н. Д. Указ. соч. С. 96.
(обратно)158
ОР ГБЛ. Ф. 369. Собр. Бонч-Бруевича В. Д. К. 375. Ед. хр. 29. Л. 7.
(обратно)159
Тургенев А. И. Российский двор в XVIII в. СПб., 2005. С. 153–154.
(обратно)160
Черкасов П. П. Указ. соч. С. 118–119.
(обратно)161
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 168.
(обратно)162
Анисимов Е. В. Россия в середине XVIII в. // В борьбе за власть. Страницы политической истории России XVIII века. М., 1988. С. 263.
(обратно)163
Янькова Е. П. Рассказы бабушки. Л., 1989. С. 18.
(обратно)164
Екатерина II. Записки. СПб., 1907. С. 403–404.
(обратно)165
Анисимов Е. В. Указ. соч. С. 274–276.
(обратно)166
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 436.
(обратно)167
Понятовский С. Указ. соч. С. 130.
(обратно)168
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 437.
(обратно)169
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 179.
(обратно)170
Соловьев С. М. Сочинения. Кн. XIII. Т. 25. М., 1994. С. 429–431.
(обратно)171
Там же. С. 445–446.
(обратно)172
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 194.
(обратно)173
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 450.
(обратно)174
Там же. С. 452–456.
(обратно)175
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 195.
(обратно)176
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 461.
(обратно)177
Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. С. 44.
(обратно)178
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 195.
(обратно)179
Записки княгини E. Р. Дашковой. Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Лондон, 1859. С. 301–304.
(обратно)180
Дашкова Е. Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. C. 7.
(обратно)181
Там же.
(обратно)182
Сафонов М. М. Екатерина Малая и ее «Записки» // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 19.
(обратно)183
Дашкова E. Р. Записки. 1743–1810. С. 15–16.
(обратно)184
Екатерина II пишет о себе в третьем лице.
(обратно)185
Екатерина II. Записки о перевороте 1762 года // Со шпагой и факелом. 1725–1825. Дворцовые перевороты в России. М., 1991. С. 345.
(обратно)186
Дашкова E. Р. Указ. соч. С. 16–17.
(обратно)187
Письма императрицы Екатерины II // Записки княгини E. Р. Дашковой. М., 1990. С. 302–303.
(обратно)188
Там же. С. 303.
(обратно)189
Рюльер К. К. История и анекдоты революции в России в 1762 г. // Екатерина II и ее окружение. С. 67–68.
(обратно)190
Письма императрицы Екатерины II // Записки княгини E. Р. Дашковой. С. 303–304.
(обратно)191
Там же.
(обратно)192
Дашкова E. Р. Указ. соч. С. 19.
(обратно)193
Бильбасов В. А. История Екатерины Второй. Т. 1. Берлин, 1900. С. 453.
(обратно)194
Там же. С. 410.
(обратно)195
Анисимов Е. В. Указ. соч. С. 408.
(обратно)196
Шумахер А. История низложения и гибели Петра III // Со шпагой и факелом. 1725–1825. Дворцовые перевороты в России. С. 272.
(обратно)197
Две заметки императрицы Екатерины II // Русский архив. 1863. Кн. 7. Стб. 566–568.
(обратно)198
Шумахер А. Указ. соч. С. 272.
(обратно)199
Строев А. Ф. Авантюристы просвещения. М., 1998. С. 311.
(обратно)200
Бильбасов В. А. Указ. соч. 423.
(обратно)201
Анисимов Е. В. Указ. соч. С. 242.
(обратно)202
Шумахер А. Указ. соч. С. 271.
(обратно)203
Записки княгини E. Р. Дашковой. С. 25–27.
(обратно)204
Екатерина II. О смерти императрицы Елизаветы Петровны // Сочинения. М., 1990. С. 463.
(обратно)205
Две заметки императрицы Екатерины II. Стб. 566–568.
(обратно)206
Черкасов П. П. Указ. соч. С. 227–228.
(обратно)207
Русский архив. 1879. Т. 1. С. 363–364.
(обратно)208
Шумахер А. Указ. соч. С. 272.
(обратно)209
Понятовский С. Указ. соч. С. 167.
(обратно)210
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 197.
(обратно)211
Ассебург А. Ф. Записка о воцарении Екатерины II // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 293.
(обратно)212
Фавье Ж. -Л. Русский двор в 1761 году // Там же. С. 198, 200.
(обратно)213
Мыльников А. С. Петр III. М., 2002 (серия «ЖЗЛ»). С. 140.
(обратно)214
Шумахер А. История низложения и гибели Петра III. С. 273.
(обратно)215
Мыльников А. С. Указ. соч. С. 136.
(обратно)216
Каменский А. Б. «Под сению Екатерины…». С. 81.
(обратно)217
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 463.
(обратно)218
Дневник статского советника Мизере // Екатерина. Путь к власти. С. 55.
(обратно)219
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 465.
(обратно)220
Тургенев А. И. Российский двор в XVIII веке. С. 198.
(обратно)221
Дашкова Е. Р. Записки. 1743–1810. C. 22.
(обратно)222
Штелин Я. Записки // Екатерина. Путь к власти. С. 32.
(обратно)223
Дашкова E. Р. Указ. соч. С. 21.
(обратно)224
Письма Петра III к Фридриху II // Екатерина. Путь к власти. С. 211.
(обратно)225
Шумахер А. История низложения и гибели Петра III. С. 272.
(обратно)226
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 468.
(обратно)227
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 206.
(обратно)228
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 470, 471.
(обратно)229
Там же. С. 464.
(обратно)230
Шумахер А. Указ. соч. С. 272.
(обратно)231
Штелин Я. Указ. соч. С. 34.
(обратно)232
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 464, 465.
(обратно)233
Звягинцев А. Г., Орлов Ю. Г. Око государево. Российские прокуроры. XVIII век. М., 1994. С. 91.
(обратно)234
Там же. С. 103–105.
(обратно)235
Черкасов П. П. Двуглавый орел и королевские лилии. С. 230–231.
(обратно)236
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 199, 201, 202.
(обратно)237
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 282.
(обратно)238
Штелин Я. Указ. соч. С. 38.
(обратно)239
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 202.
(обратно)240
Рюльер К. К. История и анекдоты революции в России в 1762 г. С. 274.
(обратно)241
Штелин Я. Указ. соч. С. 38.
(обратно)242
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 275.
(обратно)243
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 470.
(обратно)244
Там же.
(обратно)245
Щербатов М. М. О повреждении нравов в России // Столетие безумно и мудро. Век XVIII. М., 1986. С. 374.
(обратно)246
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 200.
(обратно)247
Каменский А. Б. Указ. соч. С. 79.
(обратно)248
Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. С. 52.
(обратно)249
Полное собрание законов (далее: ПСЗ). T. XV. № 11 577.
(обратно)250
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 471–472.
(обратно)251
Черкасов П. П. Указ. соч. С. 274.
(обратно)252
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 14.
(обратно)253
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 201.
(обратно)254
ПСЗ. T. XV. № 11 445.
(обратно)255
Мадариага И. де. Указ. соч. С. 50.
(обратно)256
Каменский А. Б. Указ. соч. С. 60–61.
(обратно)257
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 200.
(обратно)258
Штелин Я. Указ. соч. С. 34.
(обратно)259
Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. М., 1986. С. 429.
(обратно)260
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 203–204.
(обратно)261
Мыльников А. С. Указ. соч. С. 136.
(обратно)262
ПСЗ. T. XV. № 11 538.
(обратно)263
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 465.
(обратно)264
Каменский А. Б. Указ. соч. С. 80.
(обратно)265
Комиссаренко А. И. Ликвидация земельной собственности феодального духовенства в России // Феодализм в России. М., 1987. С. 167.
(обратно)266
Штелин Я. Указ. соч. С. 38.
(обратно)267
ПСЗ. T. XV. № 11 503.
(обратно)268
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 203.
(обратно)269
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 60.
(обратно)270
Мадариага И. де. Указ. соч. С. 52.
(обратно)271
Болотов А. Т. Указ. соч. T. 2. C. 171–172.
(обратно)272
Черкасов П. П. Указ. соч. С. 424.
(обратно)273
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 65.
(обратно)274
Штелин Я. Указ. соч. С. 35.
(обратно)275
Мадариага И. де. Указ. соч. С. 50.
(обратно)276
Шумахер А. Указ. соч. С. 274–275.
(обратно)277
Каменский А. Б. Указ. соч. С. 67.
(обратно)278
Серков А. И. Русское масонство 1731–2000. Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 959.
(обратно)279
Семека А. В. Русское масонство в XVIII в. // Масонство. М., 1991. С. 132.
(обратно)280
Каменский А. Б. Указ. соч. С. 68.
(обратно)281
Манифесты по поводу восшествия на престол императрицы Екатерины II // Екатерина. Путь к власти. С. 274.
(обратно)282
Штелин Я. Указ. соч. С. 40.
(обратно)283
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 10.
(обратно)284
Дашкова E. Р. Указ. соч. С. 21.
(обратно)285
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 206–207.
(обратно)286
Щербатов М. М. Указ. соч. С. 374.
(обратно)287
Мыльников А. С. Указ. соч. С. 145.
(обратно)288
Письма Петра III к Фридриху II. С. 209.
(обратно)289
Штелин Я. Указ. соч. С. 55.
(обратно)290
Черкасов П. П. Указ. соч. С. 231.
(обратно)291
Щербатов М. М. Указ. соч. С. 358.
(обратно)292
Шумахер А. Указ. соч. С. 273–274.
(обратно)293
Анекдоты об этом событии // Со шпагой и факелом. С. 347.
(обратно)294
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 223.
(обратно)295
Мыльников А. С. Указ. соч. С. 137.
(обратно)296
Миних Б. К. Записки. СПб., 1874. С. 95.
(обратно)297
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 468.
(обратно)298
Там же. С. 471.
(обратно)299
Штелин Я. Указ. соч. С. 34.
(обратно)300
Анисимов Е. В. Указ. соч. С. 410.
(обратно)301
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 478.
(обратно)302
Штелин Я. Указ. соч. С. 39.
(обратно)303
Звягинцев А. Т., Орлов Ю. Г. Указ. соч. С. 82.
(обратно)304
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 59.
(обратно)305
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 478.
(обратно)306
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 22–23.
(обратно)307
ПСЗ. T. XV. № 11 529.
(обратно)308
Шумахер А. Указ. соч. С. 275.
(обратно)309
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 25.
(обратно)310
ПСЗ. T. XV. № 11 581.
(обратно)311
Письма графа А. Г. Орлова к Екатерине II // Екатерина. Путь к власти. С. 270.
(обратно)312
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 471, 475.
(обратно)313
Екатерина II. Записки // Со шпагой и факелом. С. 336.
(обратно)314
Фавье Ж.-Л. Указ. соч. С. 202.
(обратно)315
Черкасов П. П. Указ. соч. С. 235.
(обратно)316
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 199.
(обратно)317
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 31.
(обратно)318
Письма Фридриха II к Петру III. С. 216.
(обратно)319
Письма императора Петра III к прусскому королю Фридриху II… С. 208–209.
(обратно)320
Там же. С. 211.
(обратно)321
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 222.
(обратно)322
Шумахер А. Указ. соч. С. 275.
(обратно)323
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 25.
(обратно)324
Архив князя Воронцова. Кн. 7. М., 1875. С. 537.
(обратно)325
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 217.
(обратно)326
Анекдоты об этом событии. С. 347.
(обратно)327
Брикнер А. Г. История Екатерины Второй. М., 1991. С. 102.
(обратно)328
Штелин Я. Записки // Екатерина. Путь к власти. С. 49.
(обратно)329
Русский двор сто лет тому назад. СПб., 1907. С. 130, 131, 133.
(обратно)330
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 204.
(обратно)331
Черкасов П. П. Двуглавый орел и королевские лилии. С. 244.
(обратно)332
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 205.
(обратно)333
Русский двор сто лет тому назад. С. 131.
(обратно)334
Дневник статского советника Мизере // Екатерина. Путь к власти. С. 59.
(обратно)335
Русский двор сто лет тому назад. С. 131.
(обратно)336
Штелин Я. Указ. соч. С. 42.
(обратно)337
Манифесты Екатерины II // Екатерина. Путь к власти. С. 274.
(обратно)338
Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. С. 57–58.
(обратно)339
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 210.
(обратно)340
Рюльер К. К. История и анекдоты революции в России в 1762 г. С. 64.
(обратно)341
Каменский А. Б. «Под сению Екатерины…». С. 59.
(обратно)342
Мыльников А. И. Петр III. С. 162.
(обратно)343
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 210.
(обратно)344
Дашкова E. Р. Записки. 1743–1810. С. 25.
(обратно)345
Мыльников А. С. Указ. соч. С. 178.
(обратно)346
Штелин Я. Указ. соч. С. 37.
(обратно)347
Сб. РИО. Т. 18. С. 272.
(обратно)348
Письма Петра III к Фридриху II // Екатерина. Путь к власти. С. 210.
(обратно)349
Щербатов М. М. О повреждении нравов в России // Столетие безумно и мудро. С. 373–374.
(обратно)350
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 62.
(обратно)351
Штелин Я. Указ. соч. С. 38.
(обратно)352
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 61.
(обратно)353
Штелин Я. Указ. соч. С. 40.
(обратно)354
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 66.
(обратно)355
Анисимов Е. В. Иван Иванович Шувалов — деятель русского Просвещения // Вопросы истории. 1985. № 7. С. 96.
(обратно)356
Болотов А. Т. Записки. Т. 2. СПб., 1871. С. 178.
(обратно)357
Штелин Я. Указ. соч. С. 40.
(обратно)358
Шумахер А. Указ. соч. С. 274.
(обратно)359
Ассебург А. Ф. Записки о воцарении Екатерины II // Екатерина. Путь к власти. С. 294.
(обратно)360
Анекдоты об этом событии // Со шпагой и факелом. С. 347.
(обратно)361
Дашкова Е. Р. Указ. соч. С. 38–39.
(обратно)362
Там же. С. 26–27.
(обратно)363
Штелин Я. Указ. соч. С. 35.
(обратно)364
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 25.
(обратно)365
Мадариага И. де. Указ. соч. С. 55.
(обратно)366
Державин Г. Р. Избранная проза. М., 1984. С. 34.
(обратно)367
Болотов А. Т. Указ. соч. С. 179.
(обратно)368
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 83.
(обратно)369
Понятовский С. А. Мемуары. С. 167.
(обратно)370
Екатерина II. Записки // Со шпагой и факелом. С. 337.
(обратно)371
Понятовский С. А. Указ. соч. С. 161–162.
(обратно)372
Мадариага И. де. Указ. соч. С. 62.
(обратно)373
Предания о князе Потемкине Таврическом // Русский архив. 1907. Кн. 2. № 5.
(обратно)374
Плугин В. А. Алехан, или Человек со шрамом. Жизнеописание графа Алексея Орлова-Чесменского. М., 1996. С. 53.
(обратно)375
Рульер К. К. Указ. соч. С. 63.
(обратно)376
Дневник статского советника Мизере. С. 60.
(обратно)377
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 24.
(обратно)378
Екатерина II. Записки княгине E. Р. Дашковой // Записки княгини E. Р. Дашковой. М., 1990. С. 302.
(обратно)379
Дашкова Е. Р. Указ. соч. С. 30.
(обратно)380
Шумахер А. Указ. соч. С. 276–277.
(обратно)381
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 75.
(обратно)382
Бёкингхэмшир Д. Г. Первый год правления Екатерины II // Екатерина II и ее окружение. С. 123.
(обратно)383
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 79.
(обратно)384
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 73.
(обратно)385
Плугин В. А. Указ. соч. С. 52.
(обратно)386
Дашкова Е. Р. Указ. соч. С. 35.
(обратно)387
Ассебург А. Ф. Указ. соч. С. 294.
(обратно)388
Понятовский С. А. Указ. соч. С. 167.
(обратно)389
Екатерина II. Записки княгине E. Р. Дашковой. С. 302.
(обратно)390
Дашкова Е. Р. Указ. соч. С. 36.
(обратно)391
Там же. С. 31.
(обратно)392
Шумахер А. Указ. соч. С. 279.
(обратно)393
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 80.
(обратно)394
Екатерина II. Записки // Со шпагой и факелом. С. 337.
(обратно)395
Понятовский С. А. Указ. соч. С. 162.
(обратно)396
Екатерина II. Записки княгине E. Р. Дашковой. С. 310.
(обратно)397
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 58.
(обратно)398
Плугин В. А. Указ. соч. С. 54.
(обратно)399
Донесения прусского посланника Гольца Фридриху II о восшествии на престол Екатерины Великой // Екатерина. Путь к власти. С. 259.
(обратно)400
Черкасов П. П. Указ. соч. С. 257.
(обратно)401
Донесения прусского посланника Гольца Фридриху II… С. 236.
(обратно)402
Безобразов П. В. О сношениях России с Францией. М., 1892. С. 264.
(обратно)403
Там же. С. 265.
(обратно)404
Черкасов П. П. Указ. соч. С. 256.
(обратно)405
Безобразов П. В. Указ. соч. С. 265.
(обратно)406
Кобеко Д. Ф. Екатерина II и Даламбер // Исторический вестник. 1884. № 4. С. 107–126.
(обратно)407
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 72.
(обратно)408
Дашкова Е. Р. Указ. соч. С. 30–31.
(обратно)409
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 72.
(обратно)410
Строев А. Ф. Авантюристы просвещения. С. 315.
(обратно)411
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 85.
(обратно)412
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 76.
(обратно)413
Бильбасов В. А. История Екатерины. Т. 2. СПб., 1890. С. 8.
(обратно)414
Строев А. Ф. Указ. соч. С. 314.
(обратно)415
Бильбасов В. А. Указ. соч. Т. 2. С. 635.
(обратно)416
Казанова Дж. История моей жизни. С. 533–534.
(обратно)417
Каменский А. Б. Указ. соч. С. 91.
(обратно)418
Дашкова E. Р. Указ. соч. С. 23, 32.
(обратно)419
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 204.
(обратно)420
Донесения прусского посланника Гольца Фридриху II… С. 238.
(обратно)421
Штелин Я. Указ. соч. С. 35.
(обратно)422
Лиштенан Ф.-Д. Россия входит в Европу. С. 112.
(обратно)423
Русский архив. 1867. № 1. С. 92.
(обратно)424
Письма Фридриха II к Петру III. С. 222–223.
(обратно)425
Письма императора Петра III к прусскому королю Фридриху II. С. 211.
(обратно)426
Русский архив. 1867. № 1. С. 92.
(обратно)427
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 77.
(обратно)428
Письма Фридриха II к Петру III. С. 216.
(обратно)429
Там же. С. 214.
(обратно)430
Письма императора Петра III к прусскому королю Фридриху II. С. 207.
(обратно)431
Письма Фридриха II к Петру III. С. 215.
(обратно)432
Письма императора Петра III к прусскому королю Фридриху II. С. 208.
(обратно)433
Письма Фридриха II к Петру III. С. 217.
(обратно)434
Там же. С. 217.
(обратно)435
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 205.
(обратно)436
Письма Фридриха II к Петру III. С. 218.
(обратно)437
Там же. С. 219.
(обратно)438
Письма императора Петра III к прусскому королю Фридриху II. С. 209–210.
(обратно)439
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 60.
(обратно)440
Письма Фридриха II к Петру III. С. 220–221.
(обратно)441
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 59.
(обратно)442
Письма Фридриха II к Петру III. С. 231.
(обратно)443
Письма императора Петра III к прусскому королю Фридриху II. С. 211.
(обратно)444
Письма Фридриха II к Петру III. С. 224, 226, 227.
(обратно)445
Екатерина II. Записки // Со шпагой и факелом. С. 336.
(обратно)446
Письма Фридриха II к Петру III. С. 228.
(обратно)447
Щебальский П. К. Политическая система Петра III. М., 1870. С. 179.
(обратно)448
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 72.
(обратно)449
Там же. С. 231.
(обратно)450
Черкасов П. П. Указ. соч. С. 258.
(обратно)451
Екатерина II. Записки // Со шпагой и факелом. С. 336.
(обратно)452
Дашкова Е. Р. Указ. соч. С. 29.
(обратно)453
Екатерина II. Письма княгине Дашковой. С. 310.
(обратно)454
Дашкова E. Р. Указ соч. С. 28.
(обратно)455
Русский архив. 1878. T. II. С. 288.
(обратно)456
Екатерина II. Записки // Со шпагой и факелом. С. 336.
(обратно)457
Каменский А. Б. Указ. соч. С. 90.
(обратно)458
Екатерина II. Записки // Со шпагой и факелом. С. 337.
(обратно)459
Брикнер А. Г. История Екатерины Второй. М., 1991. С. 111.
(обратно)460
Саблуков Н. А. Записки // Русский архив. 1869. С. 1890–1891.
(обратно)461
Мыльников А. С. Указ. соч. С. 165.
(обратно)462
Понятовский С. А. Мемуары. С. 167.
(обратно)463
Екатерина II. Анекдоты об этом событии // Со шпагой и факелом. С. 341.
(обратно)464
Рюльер К. К. История и анекдоты революции в России в 1762 г. С. 86.
(обратно)465
Там же. С. 76.
(обратно)466
Дашкова E. Р. Записки. 1743–1810. С. 42.
(обратно)467
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 77.
(обратно)468
Стало быть, после переворота разговоры о записке велись в окружении Дашковой. Несмотря на фривольность в трактовке образа юной героини, Рюльер ближе всего из заговорщиков стоял именно к Екатерине Романовне и передавал ее версию событий, только не через полвека, как сестры Вильмот, а по горячим следам. Например, оборот: «думая присвоить своей фамилии честь революции» — очень близок к пассажу Дашковой:
«Вся революция послужила только к опасному для отечества возвышению Григория Орлова». Можно не сомневаться, что, с точки зрения Орловых, да и императрицы, «честь революции» присваивала именно Дашкова.
Рассказывая о том, как каждый из заговорщиков намеревался поступить в случае провала, Рюльер замечал: «Княгиня не приготовила себе ничего и думала о казни равнодушно». Оставим эту маленькую ложь на совести дипломата: ночь, проведенная в терзаниях, красноречиво свидетельствовала о душевном состоянии Екатерины Романовны.
(обратно)469
Записки княгини E. Р. Дашковой. М., 1990. С. 56.
(обратно)470
Ассебург А. Ф. Записка о воцарении Екатерины II // Екатерина. Путь к власти. С. 295.
(обратно)471
Екатерина II. Из записок о перевороте 1762 года // Со шпагой и факелом. С. 337.
(обратно)472
Понятовский С. А. Указ. соч. С. 162–163.
(обратно)473
Плугин В. А. Алехан, или Человек со шрамом. С. 70–76.
(обратно)474
Шумахер А. История низложения и гибели Петра III // Со шпагой и факелом. С. 281.
(обратно)475
Екатерина II. Анекдоты об этом событии. С. 342.
(обратно)476
Понятовский С. А. Указ. соч. С. 163.
(обратно)477
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 77.
(обратно)478
Понятовский С. А. Указ. соч. С. 163.
(обратно)479
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 88.
(обратно)480
Понятовский С. А. Указ. соч. С. 163.
(обратно)481
Манифест по поводу восшествия на престол императрицы Екатерины II // Екатерина. Путь к власти. С. 272.
(обратно)482
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 83.
(обратно)483
Понятовский С. А. Указ. соч. С. 163.
(обратно)484
Воронцов С. Р. Автобиография // Русский архив. 1876. Кн. I. С. 36.
(обратно)485
Державин Г. Р. Избранная проза. М., 1984. С. 35–36.
(обратно)486
Екатерина II. Анекдоты о перевороте 1762 г. // Со шпагой и факелом. С. 343.
(обратно)487
Шумахер А. Указ. соч. С. 281.
(обратно)488
Позье И. Записки придворного брильянтщика // Со шпагой и факелом. С. 324.
(обратно)489
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 85.
(обратно)490
Дашкова E. Р. Записки. 1743–1810. С. 43.
(обратно)491
Записки княгини E. Р. Дашковой. С. 58–59.
(обратно)492
Екатерина II. Анекдоты об этом событии. С. 341.
(обратно)493
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 90.
(обратно)494
Позье И. Указ. соч. С. 326.
(обратно)495
Шумахер А. Указ. соч. С. 286.
(обратно)496
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 88.
(обратно)497
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 92.
(обратно)498
Там же.
(обратно)499
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 219.
(обратно)500
Дневник статского советника Мизере. С. 64.
(обратно)501
Шумахер А. Указ. соч. С. 284–284.
(обратно)502
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 87.
(обратно)503
Екатерина II. Продолжение анекдотов // Со шпагой и факелом. С. 343.
(обратно)504
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 86.
(обратно)505
Дашкова E. Р. Записки. 1743–1810. С. 45.
(обратно)506
Екатерина II. Продолжение анекдотов. С. 344–345.
(обратно)507
Дашкова E. Р. Записки. М., 1987. С. 73.
(обратно)508
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 86.
(обратно)509
Записки Екатерины II // Со шпагой и факелом. С. 340.
(обратно)510
Там же.
(обратно)511
Позье И. Указ. соч. С. 325.
(обратно)512
Шумахер А. Указ. соч. С. 282–283.
(обратно)513
Позье И. Указ. соч. С. 323.
(обратно)514
Екатерина II. Продолжение анекдотов… С. 343.
(обратно)515
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 85.
(обратно)516
Понятовский С. А. Указ. соч. С. 168.
(обратно)517
Гольц Б. Донесения Фридриху II о восшествии на престол Екатерины Великой II // Екатерина. Путь к власти. С. 234–235.
(обратно)518
Шумахер А. Указ. соч. С. 295.
(обратно)519
Позье И. Указ. соч. С. 327–328.
(обратно)520
Державин Г. Р. Указ. соч. С. 37.
(обратно)521
Плугин В. А. Указ. соч. С. 85.
(обратно)522
Корберон М. Д. Из Записок // Екатерина. Путь к власти. С. 191.
(обратно)523
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 218.
(обратно)524
Шаховской Я. П. Записки // Екатерина II и ее окружение. С. 107–108.
(обратно)525
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 99.
(обратно)526
Штелин Я. Записка о последних днях царствования Петра III // Со шпагой и факелом. С. 316.
(обратно)527
Шумахер А. Указ. соч. С. 292.
(обратно)528
Там же. С. 281.
(обратно)529
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 83.
(обратно)530
Штелин Я. Записки // Екатерина. Путь к власти. С. 42.
(обратно)531
Понятовский С. Указ. соч. С. 164.
(обратно)532
Сиверс Д. Р. Записки // Со шпагой и факелом. С. 331–332.
(обратно)533
Штелин Я. Указ. соч. С. 319.
(обратно)534
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 91.
(обратно)535
Дневник статского советника Мизере. С. 64.
(обратно)536
Понятовский С. А. Указ. соч. С. 164.
(обратно)537
Шумахер А. Указ. соч. С. 287.
(обратно)538
Там же. С. 291.
(обратно)539
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 224.
(обратно)540
Понятовский С. А. Указ. соч. С. 164–165.
(обратно)541
Отречение Петра III // Со шпагой и факелом. С. 269.
(обратно)542
Ассебург А. Ф. Указ. соч. С. 298.
(обратно)543
Там же.
(обратно)544
Екатерина //. Продолжение анекдотов. С. 344.
(обратно)545
Там же. С. 170.
(обратно)546
Дашкова E. Р. Записки. 1743–1810. С. 48.
(обратно)547
Там же. С. 47.
(обратно)548
Там же.
(обратно)549
Там же.
(обратно)550
Екатерина II. Продолжение анекдотов. С. 342.
(обратно)551
Кросс А. Г. Британские отзывы о E. Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 24–25.
(обратно)552
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 97–98.
(обратно)553
Дашкова E. Р. Записки. 1743–1810. С. 51.
(обратно)554
Там же. С. 48.
(обратно)555
Понятовский С. А. Указ. соч. С. 166.
(обратно)556
Державин Г. Р. Указ. соч. С. 36–37.
(обратно)557
Позье И. Указ. соч. С. 329.
(обратно)558
Понятовский С. А. Указ. соч. М., 1995. С. 166.
(обратно)559
Державин Г. Р. Указ. соч. С. 37–38.
(обратно)560
Рюльер К. К. История и анекдоты революции в России в 1762 г. С. 97.
(обратно)561
Донесения прусского посланника Гольца Фридриху II о восшествии на престол Екатерины Великой. С. 252, 256.
(обратно)562
Щербатов М. М. О повреждении нравов в России // Столетие безумно и мудро. С. 375.
(обратно)563
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 479–480.
(обратно)564
Русский двор сто лет тому назад. СПб., 1907. С. 158.
(обратно)565
Понятовский С. А. Мемуары. С. 168.
(обратно)566
Брикнер А. Г. История Екатерины Второй. Т. 1. СПб., 1885. С. 144.
(обратно)567
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 471–474.
(обратно)568
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 106.
(обратно)569
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 478.
(обратно)570
Щербатов М. М. Указ. соч. С. 365.
(обратно)571
Русский двор сто лет тому назад. С. 158.
(обратно)572
Русский архив. 1864. Т. 2. С. 750–751.
(обратно)573
Там же. С. 276.
(обратно)574
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 173.
(обратно)575
Брикнер А. Г. Указ. соч. С. 147.
(обратно)576
Донесения прусского посланника Гольца Фридриху II… С. 240–253.
(обратно)577
Там же. С. 252.
(обратно)578
Бильбасов В. А. История Екатерины II. Берлин, 1900. Т. 2. С. 298.
(обратно)579
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 163.
(обратно)580
Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. С. 304.
(обратно)581
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 145.
(обратно)582
Брикнер А. Г. Указ. соч. С. 270.
(обратно)583
Там же. С. 274.
(обратно)584
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 156.
(обратно)585
Лиштенан Ф. -Д. Россия входит в Европу. С. 191.
(обратно)586
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 157.
(обратно)587
Понятовский С. А. Указ. соч. С. 172.
(обратно)588
Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1967. С. 109.
(обратно)589
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 117.
(обратно)590
Строев А. Ф. Авантюристы Просвещения. М., 1998. С. 313.
(обратно)591
Мадариага И. де. Указ. соч. С. 305.
(обратно)592
История дипломатии. М., 1941. Т. 1. С. 285.
(обратно)593
Понятовский С. А. Указ. соч. С. 170.
(обратно)594
История дипломатии. Т. 1. С. 294.
(обратно)595
Там же. С. 159–160.
(обратно)596
Бильбасов В. А. Исторические монографии. СПб., 1904. Т. 4. С. 291.
(обратно)597
Понятовский С. А. Указ. соч. С. 167.
(обратно)598
Рюльер К. К. История и анекдоты революции в России в 1762 г. С. 97–98.
(обратно)599
Донесения прусского посланника Гольца Фридриху II… С. 246.
(обратно)600
Там же. С. 249.
(обратно)601
Понятовский С. А. Указ. соч. С. 175–178.
(обратно)602
Валишевский К. Вокруг трона. С. 95.
(обратно)603
Понятовский С. А. Указ. соч. С. 172–173.
(обратно)604
Там же. С. 173, 175.
(обратно)605
Екатерина II. Продолжение анекдотов // Со шпагой и факелом. С. 342.
(обратно)606
Дашкова E. Р. Записки. 1743–1810. С. 53.
(обратно)607
Рюльер К. К. Указ. соч. C. 98.
(обратно)608
Там же.
(обратно)609
Дашкова E. Р. Указ. соч. С. 51.
(обратно)610
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 138.
(обратно)611
Ассебург А. Ф. Записка о воцарении Екатерины II // Екатерина. Путь к власти. С. 299.
(обратно)612
Понятовский С. А. Мемуары. С. 165.
(обратно)613
Каменский А. Б. «Под сению Екатерины…». С. 134.
(обратно)614
Дашкова E. Р. Записки. 1743–1810. С. 50.
(обратно)615
Рюльер К. К. История и анекдоты революции в России в 1762 г. С. 96–97.
(обратно)616
Архив князя Воронцова. Кн. 5. Ч. 1. М., 1872. С. 145, 172.
(обратно)617
Понятовский С. А. Указ. соч. С. 165.
(обратно)618
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 95.
(обратно)619
Имя этого должностного лица С. М. Соловьев прочел как «Силин», а К. А. Писаренко — как «Савин».
(обратно)620
Соловьев С. М. Сочинения. Кн. XIII. Т. 25. М., 1994. С. 125.
(обратно)621
Писаренко К. А. Несколько дней из истории «уединенного и приятного местечка» // Загадки русской истории. XVIII в. С. 386.
(обратно)622
Брикнер А. Г. История Екатерины Второй. Т. 1. СПб., 1885. С. 128.
(обратно)623
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 96.
(обратно)624
Там же.
(обратно)625
Сб. РИО. Т. 140. СПб., 1912. С. 637.
(обратно)626
Екатерина II. Записки // Со шпагой и факелом. С. 339.
(обратно)627
Шумахер А. Указ. соч. С. 290.
(обратно)628
Державин Г. Р. Сочинения. М., 1984. С. 36.
(обратно)629
Три письма Петра III из Ропши к Екатерине II // Екатерина. Путь к власти. С. 268.
(обратно)630
Иванов О. А. Загадки писем Алексея Орлова из Ропши // Московский журнал. 1995.№ 11.C. 18.
(обратно)631
ПСЗ. T. XXIV. № 177 759.
(обратно)632
Шумахер А. Указ. соч. С. 292.
(обратно)633
Штелин Я. Записки // Екатерина. Путь к власти. С. 42.
(обратно)634
Сиверс Д. Р. Записки // Со шпагой и факелом. С. 334–335.
(обратно)635
Шумахер А. Указ. соч. С. 298.
(обратно)636
Три письма Петра III из Ропши к Екатерине II. С. 269.
(обратно)637
Шумахер А. Указ. соч. С. 298.
(обратно)638
Сб. РИО. Т. 7. СПб., 1873. С. 107.
(обратно)639
Шумахер А. Указ. соч. С. 298.
(обратно)640
Писаренко К. А. Указ. соч. С. 349.
(обратно)641
РГАДА. Ф. 1.№ 25.Л.7.
(обратно)642
РГВИА. Ф. 3543. Оп… 1. № 1229. Л. 446.
(обратно)643
РГАДА. Ф. 1.№ 25.Л.8.
(обратно)644
Понятовский С. А. Указ. соч. С. 165.
(обратно)645
Шумахер А. Указ. соч. С. 298.
(обратно)646
Иванов О. А. Указ. соч.//Московский журнал. 1995. № 11. С. 18; № 12. С. 15, 16.
(обратно)647
Сб. РИО. Т. 140. С. 638.
(обратно)648
Штелин Я. Записка о последних днях царствования Петра III. С. 320.
(обратно)649
Иванов О. А. Указ. соч. // Московский журнал. 1995. № 11. С. 17.
(обратно)650
Позье И. Записки // Со шпагой и факелом. С. 331.
(обратно)651
Cб. РИО. Т. 140. С. 637.
(обратно)652
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 99.
(обратно)653
Шумахер А. Указ. соч. С. 299.
(обратно)654
Иванов О. А. Указ. соч. // Московский журнал. 1995. № 9. С. 19.
(обратно)655
Понятовский С. А. Указ. соч. С. 165.
(обратно)656
Манифесты по поводу восшествия на престол императрицы Екатерины II // Екатерина. Путь к власти. С. 279.
(обратно)657
Бильбасов В. А. История Екатерины II. Т. 2. Берлин, 1900. С. 124–129.
(обратно)658
Писаренко К. А. Указ. соч. С. 332–333.
(обратно)659
Понятовский С. А. Указ. соч. С. 165.
(обратно)660
Екатерина II. Письмо С. А. Понятовскому // Со шпагой и факелом. С.311.
(обратно)661
Выскочков Л. В. Николай I. М., 2006 (серия «ЖЗЛ»). С. 492–497.
(обратно)662
Письма графа А. Г. Орлова к Екатерине II // Екатерина. Путь к власти. С. 271.
(обратно)663
Плугин В. А. Алехан, или Человек со шрамом. С. 122.
(обратно)664
Дашкова E. Р. Указ. соч. С. 55–56.
(обратно)665
Каменский А. Б. Указ. соч. С. 137.
(обратно)666
Сб. РИО. Т. 17. С. 44.
(обратно)667
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 100.
(обратно)668
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 227.
(обратно)669
Дашкова E. Р. Указ. соч. С. 81–82.
(обратно)670
Там же. С. 55.
(обратно)671
Головина В. Н. Мемуары // История жизни благородной женщины. М., 1996. С. 113–114.
(обратно)672
Каменский А. Б. Указ. соч. С. 133.
(обратно)673
Дашкова E. Р. Указ. соч. С. 55.
(обратно)674
Русский архив. 1890. Кн. 3. № 12. С. 553.
(обратно)675
Корберон М. Д. Интимный дневник // Екатерина II и ее окружение. С. 126–127.
(обратно)676
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 228.
(обратно)677
Шумахер А. Указ. соч. С. 299.
(обратно)678
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 228.
(обратно)679
Понятовский С. А. Указ. соч. С. 173, 174.
(обратно)680
Исторический вестник. 1884. № 10. С. 11.
(обратно)681
Дашкова E. Р. Указ. соч. С. 55–56.
(обратно)682
Письма графа А. Г. Орлова к Екатерине II // Екатерина. Путь к власти. С. 271.
(обратно)683
Иванов О. А. Указ. соч. // Московский журнал. 1995. № 9,11,12; 1996. № 1,2, 3.
(обратно)684
Тургенев А. И. Указ. соч. С. 226.
(обратно)685
Плугин В. А. Указ. соч. С. 280.
(обратно)686
Шумахер А. Указ. соч. С. 299–300.
(обратно)687
Отечественная история. 1998. № 1. С. 195.
(обратно)688
Овчинников Р. В. Из наблюдений над источниками «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки» А. С. Пушкина // История СССР. 1991. № 3. С. 146–158.
(обратно)689
Русский архив. 1904. Т. 3. № 11. С. 420–421.
(обратно)690
Писаренко К. А. Указ. соч. С. 290–300.
(обратно)691
Русская философия второй половины XVIII в.: Хрестоматия / Сост. Б. В. Емельянова. Свердловск, 1990. С. 212–213.
(обратно)692
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 119.
(обратно)693
Знаменитые россияне XVIII–XIX вв. СПб., 1996. С. 204–205.
(обратно)694
Сб. РИО. Т. 140. С. 637–638.
(обратно)695
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 120.
(обратно)696
Там же. С. 73.
(обратно)697
Каменский А. Б. Указ. соч. С. 143.
(обратно)698
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 99.
(обратно)699
Шумахер А. Указ. соч. С. 291.
(обратно)700
Сб. РИО. Т. 140. С. 638.
(обратно)701
Понятовский С. А. Указ. соч. С. 171, 173.
(обратно)702
Плугин В. А. Указ. соч. С. 126.
(обратно)703
Донесения прусского посланника Гольца Фридриху II… С. 258.
(обратно)704
Исторический вестник. 1884. № 10. С. 8.
(обратно)705
Донесения прусского посланника Гольца Фридриху II… С. 242.
(обратно)706
Шумахер А. Указ. соч. С. 300–302.
(обратно)707
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 101.
(обратно)708
Первые месяцы царствования Екатерины Великой. Из донесений прусского посланника Гольца Фридриху II // Русский архив. 1901. № 11. С. 30.
(обратно)709
Донесения прусского посланника Гольца Фридриху II… С. 247.
(обратно)710
Шумахер А. Указ. соч. С. 300–302.
(обратно)711
Исторический вестник. 1884. № 10. С. 11–12.
(обратно)712
Донесения прусского посланника Гольца Фридриху II… С. 258–259.
(обратно)713
Сб. РИО. СПб., 1873. Т. 12. С. 37–38.
(обратно)714
Исторический вестник. 1884. № 10. С. 11–12.
(обратно)715
Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. С. 67–68.
(обратно)716
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 99.
(обратно)717
Брикнер А. Г. История Екатерины Второй. М., 1991. С. 135.
(обратно)718
Сб. РИО. Т. 7. С. 108–110.
(обратно)719
Дашкова E. Р. Записки. 1743–1810. С. 51–53.
(обратно)720
Сб. РИО. Т. 7. С. 132.
(обратно)721
Донесения прусского посланника Гольца Фридриху II… С. 257–258.
(обратно)722
Каменский А. Б. Жизнь и судьба императрицы Екатерины Великой. М., 1997. С. 82.
(обратно)723
Донесения прусского посланника Гольца Фридриху II… С. 257–258.
(обратно)724
Рюльер К. К. Указ. соч. С. 104.
(обратно)725
Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. 1. СПб., 1880.
(обратно)726
Вейдемейер А. Царствование Елизаветы Петровны. СПб., 1834.
(обратно)727
Понятовский С. А. Мемуары. С. 109.
(обратно)728
Плугин В. А. Алехан, или Человек со шрамом. С. 139.
(обратно)729
Янькова Е. П. Рассказы бабушки. С. 269.
(обратно)730
Заичкин И. А., Почкаев И. Н. Екатерининские орлы. С. 143.
(обратно)731
Васильчиков А. А. Указ. соч. С. 200.
(обратно)732
Заичкин И. А., Почкаев И. Н. Указ. соч. С. 144.
(обратно)733
Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. С. 199.
(обратно)734
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 197–200.
(обратно)735
Бёкингхэмшир Д. Г. Первый год правления Екатерины II // Екатерина II и ее окружение. С. 123.
(обратно)736
Дашкова E. Р. Записки. 1743–1810. С. 61.
(обратно)737
Иванов О. А. Княгиня Дашкова и граф Орлов: причины конфликта // Московский журнал. 1998. № 7. С. 46–49; № 8. С. 53–57.
(обратно)738
Брикнер А. Г. История Екатерины Второй. Т. 1. СПб., 1885. С. 156–157.
(обратно)739
Дашкова E. Р. Указ. соч. С. 63.
(обратно)740
Там же. С. 65.
(обратно)741
Там же. С. 70.
(обратно)742
Огаркова Н. А. Церемонии, празднества, музыка русского двора. XVIII — начало XIX века. СПб., 2004. С. 32.
(обратно)743
Вдовина Л. Н. Риторика праздника: Москва в дни маскарада «Торжествующая Минерва» // Екатерина Великая и Москва. Тезисы докладов научной конференции. М., 1997. С. 8–9.
(обратно)744
Карев А. А. Образ Екатерины II. Парадный портрет и похвальная ода // Там же. С. 5–7.
(обратно)745
Огаркова Н. А. Указ. соч. С. 50.
(обратно)746
ПСЗ. T. XV. № 11 643.
(обратно)747
Каменский А. Б. «Под сению Екатерины…». С. 144–145.
(обратно)748
Брикнер А. Г. История Екатерины II. С. 162.
(обратно)749
Сб. РИО. Т. 7. С. 269–270.
(обратно)750
Карташов А. Очерки истории русской церкви. Т. 2. Париж, 1959. С. 464, 472.
(обратно)751
Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. С. 199.
(обратно)752
Ерошкин Н. П. История государственных учреждений. С. 115.
(обратно)753
Чечулин Д. Н. Очерки истории русских финансов в царствование Екатерины II. СПб., 1906. С. 315–316.
(обратно)754
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 128–129.
(обратно)755
Переписка императрицы Екатерины II с разными особами. СПб., 1807. С. 36.
(обратно)756
Автобиография Платона, митрополита Московского. М., 1887. С. 26–27.
(обратно)757
Бессарабова Н. В. Путешествия Екатерины II по России. М., 2005. С. 32.
(обратно)758
Сегюр Л. Ф. Записки графа Сегюра о пребывании в России в царствование Екатерины II (1785–1789). СПб., 1865. С. 144, 154–155.
(обратно)759
Московские ведомости. 1767. Приб. № 46.
(обратно)760
Сегюр Л. Ф. Указ. соч. С. 115.
(обратно)761
Казанова Дж. История моей жизни. С. 547–548.
(обратно)762
Бильбасов В. А. Походы Екатерины II по Волге и Днепру // Бильбасов В. А. Исторические монографии. Т. 3. СПб., 1901. С. 233.
(обратно)763
Бессарабова Н. В. Указ. соч. С. 115.
(обратно)764
Русский архив. 1878. Т. 3. № 9–12. С. 112.
(обратно)765
Сб. РИО. Т. 10. С. 37.
(обратно)766
Бильбасов В. А. История Екатерины Второй. Т. 2. СПб., 1891. С. 290.
(обратно)767
Бессарабова Н. В. Указ. соч. С. 44.
(обратно)768
Казанова Дж. Указ. соч. С. 548.
(обратно)769
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 195.
(обратно)770
Брикнер А. Г. История Екатерины Второй. Т. 1. СПб., 1885. С. 176.
(обратно)771
Сб. РИО. Т. 8. С. 364.
(обратно)772
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 302–303.
(обратно)773
Брикнер А. Г. Указ. соч. С. 180.
(обратно)774
Бильбасов В. А. История Екатерины II. Берлин, 1900. Т. 2. С. 347.
(обратно)775
Мадариага И. де. Указ. соч. С. 73.
(обратно)776
Сокр. — зд.: переворот (фр.).
(обратно)777
Русский архив. 1863. С. 479.
(обратно)778
Бантыш-Каменский Д. М. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. СПб., 1840. Т. 1. С. 226.
(обратно)779
Дашкова E. Р. Записки. 1743–1810. С. 68.
(обратно)780
Плугин В. А. Алехан, или Человек со шрамом. С. 160.
(обратно)781
Русская старина. Т. 25. С. 505–506.
(обратно)782
Брикнер А. Г. Указ. соч. С. 188.
(обратно)783
Дашкова E. Р. Указ. соч. С. 69.
(обратно)784
Бильбасов В. А. Указ. соч. Т. 2. С. 635.
(обратно)785
Мадариага И де. Указ. соч. С. 74–75.
(обратно)786
Державин Г. Р. Избранная проза. С. 45.
(обратно)787
Дашкова Е. Р. Указ. соч. С. 68.
(обратно)788
Там же. С. 69.
(обратно)789
Брикнер А. Г. Указ. соч. С. 175.
(обратно)790
Веселая Г. А., Фирсова E. Н. Москва в судьбе княгини Дашковой. М., 2002. С. 100.
(обратно)791
Казанова Дж. Указ. соч. С. 548.
(обратно)792
Черкасов П. П. Двуглавый орел и королевские лилии. С. 281.
(обратно)793
Брикнер А. Г. Указ. соч. С. 190–191.
(обратно)794
Бунин И. А. Окаянные дни. М., 1990. С. 74.
(обратно)795
Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. С. 201.
(обратно)796
Судиенкин И. Г. Салтычиха. 1730–1801 // Русская старина. 1874. № 8. С. 498.
(обратно)797
Там же. С. 511.
(обратно)798
Анисимов Е. В. Указ. соч. С. 283–284.
(обратно)799
Русская старина. 1874. № 8. С. 533.
(обратно)800
О бытии помещичьим людям и крестьянам в повиновении и послушании у своих помещиков, и о неподавании челобитен в собственные ее величества руки // Ковалинский М. Хрестоматия по русской истории. Т. 3. Пг.,1923. С. 99.
(обратно)801
Дашкова E. Р. Записки. 1743–1810. С. 136.
(обратно)802
Сочинения императрицы Екатерины II. СПб., 1901. Т. 12. С. 169.
(обратно)803
Пушкин А. С. Собрание сочинений. Т. 6. М., 1962. С. 433.
(обратно)804
Екатерина II. Мысли из тайной тетради // Памятник моему самолюбию. М., 2003. С. 67.
(обратно)805
Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. С. 880.
(обратно)806
О приеме Адмиралтейской коллегии присылаемых от помещиков для смирения крепостных людей и об употреблении их в тяжкую работу // Ковалинский М. Хрестоматия по русской истории. Т. 3. С. 98–99.
(обратно)807
Игнатович И. И. Помещичьи крестьяне накануне освобождения. СПб., 1902. С. 24.
(обратно)808
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 484.
(обратно)809
О бытии помещичьим людям и крестьянам в повиновении и послушании у своих помещиков… С. 99.
(обратно)810
Семевский В. И. Крестьяне в царствование Екатерины II. Т. 1. СПб., 1881. С. 206–212.
(обратно)811
Там же.
(обратно)812
Бессарабова Н. В. Путешествия Екатерины II по России. С. 44.
(обратно)813
Бильбасов В. А. Поход Екатерины II по Волге и Днепру. С. 255–257.
(обратно)814
Московские ведомости. 1767. № 52.
(обратно)815
Орлов В. Г. Дневник путешествия по Волге. 1767 // Биографический очерк графа Владимира Григорьевича Орлова / Сост. В. Орлов-Давыдов. Т. 1.СПб., 1878. С. 33–34.
(обратно)816
Сб. РИО. Т. 10. СПб., 1872. С. 180.
(обратно)817
Там же. С. 189, 210.
(обратно)818
Там же. Т. 42. С. 353, 354.
(обратно)819
Там же. Т. 10. С. 207, 208,211.
(обратно)820
Там же. С. 204.
(обратно)821
Там же. С. 206.
(обратно)822
Вольтер Ф. М. Избранные сочинения. М., 1997. С. 762.
(обратно)823
Бильбасов В. А. Указ. соч. С. 239.
(обратно)824
Орлов В. Г. Указ. соч. C. XIII.
(обратно)825
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 128.
(обратно)826
Бильбасов В. А. Указ. соч. С. 240.
(обратно)827
Санкт-Петербургские ведомости. 1767. № 38.
(обратно)828
Сб. РИО. Т. 10. С. 201.
(обратно)829
Там же. С. 210.
(обратно)830
Бессарабова Н. В. Указ. соч. С. 114.
(обратно)831
Там же. С. 52.
(обратно)832
Московские ведомости. 1767. Приб. № 42.
(обратно)833
Орлов В. Г. Указ. соч. С. 32, 38.
(обратно)834
Санкт-Петербургские ведомости. 1767. Приб. № 44.
(обратно)835
Сб. РИО. Т. 10. С. 203.
(обратно)836
Бессарабова И. В. Указ. соч. С. 164–165.
(обратно)837
Ибнеева Г. Аби-Патша. Путешествие Екатерины II по Волге // Родина. 2000. № 10. С. 39.
(обратно)838
Екатерина II. Памятник моему самолюбию. М., 2003. С. 52.
(обратно)839
Сб. РИО. Т. 10. С. 199–200.
(обратно)840
Ибнеева Г. Указ. соч. С. 41.
(обратно)841
Сб. РИО. Т. 10. С. 199–200.
(обратно)842
Ибнеева Г. Указ. соч. С. 41–43.
(обратно)843
Сб. РИО. Т. 10. С. 207.
(обратно)844
Орлов В. Г. Указ. соч. С. 326.
(обратно)845
Алексеев М. П. Вольтер и русская культура XVIII века//Вольтер. Статьи и материалы. Л., 1947. С. 15.
(обратно)846
Штранге М. М. Русское общество и французская революция 1789–1794 гг. М., 1956. С. 37.
(обратно)847
Нечкина М. В. Вольтер и русское общество // Вольтер. Статьи и материалы. М.; Л., 1948. С. 63.
(обратно)848
Казанова Дж. История моей жизни. С. 578.
(обратно)849
Порошин С. А. Записки. СПб., 1844. С. 217.
(обратно)850
Елагин И. П. Повесть о самом себе // Русский архив. 1864. Кн. 1.С. 101.
(обратно)851
Русский архив. 1864. Кн. 2. С. 751.
(обратно)852
Новые тексты переписки Вольтера. Письма к Вольтеру. Л., 1970. С. 10.
(обратно)853
Джеджула К. Е. Россия и Великая Французская революция. Киев, 1972. С. 126–127.
(обратно)854
Терновский Ф. Русское вольтерьянство при Екатерине II и эпоха реакции // Труды Киевской духовной академии. 1868. № 3. С. 410.
(обратно)855
Макогоненко Т. П. Радищев и его время. М., 1956. С. 14–15.
(обратно)856
Гольбах П. Система природы. М., 1940. С. 430.
(обратно)857
Джеджула К. Е. Указ. соч. С. 133–134.
(обратно)858
Там же. С. 135.
(обратно)859
Сб. РИО. Т. 10. С. 223.
(обратно)860
Там же. С. 37.
(обратно)861
Екатерина II. Памятник моему самолюбию. М., 2003. С. 40.
(обратно)862
Джеджула К. Е. Указ. соч. С. 139.
(обратно)863
Переписка российской императрицы Екатерины Вторыя с господином Вольтером с 1763 по 1778 г. Ч. 1. М., 1803. С. 40–41.
(обратно)864
Там же. С. 49.
(обратно)865
Новые тексты переписки Вольтера. Письма к Вольтеру. С. 282.
(обратно)866
Артамонов С. Д. Вольтер и его век. М., 1980. С. 210.
(обратно)867
Сегюр Л. де. Пять лет при дворе Екатерины II // Екатерина II и ее окружение. С. 218–220.
(обратно)868
Дашкова E. Р. Записки. 1743–1810. С. 45.
(обратно)869
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 23.
(обратно)870
Екатерина II. Памятник моему самолюбию. С. 55.
(обратно)871
Там же. С. 204.
(обратно)872
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 401.
(обратно)873
Екатерина II. Памятник моему самолюбию. С. 78.
(обратно)874
ПСЗ. T. XVII. № 12 347. С. 82–83.
(обратно)875
Корберон М. Д. Записки // История России и дома Романовых в мемуарах современников. XVII–XX вв. Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 115.
(обратно)876
Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. С. 87–91.
(обратно)877
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 23.
(обратно)878
Сочинения императрицы Екатерины II. СПб., 1901. T. XII. С. 169.
(обратно)879
Черкасов П. П. Двуглавый орел и королевские лилии. С. 271.
(обратно)880
Каменский А. Б. «Под сению Екатерины…». С. 178.
(обратно)881
Сб. РИО. Т. 10. С. 31.
(обратно)882
Там же. 1867. Т. 1.С. 283.
(обратно)883
Мадариага И. де. Указ. соч. С. 251–257.
(обратно)884
Переписка российской императрицы Екатерины Вторыя с господином Вольтером с 1763 по 1778 г. Ч. 1. С. 41.
(обратно)885
Там же. С. 49.
(обратно)886
Сб. РИО. Т. 4. С. 62.
(обратно)887
Мадариага И. де. Указ. соч. С. 247.
(обратно)888
Сегюр Л. де. Записки о пребывании в России // Россия XVIII века глазами иностранцев. Л., 1989. С. 322.
(обратно)889
Переписка российской императрицы Екатерины Вторыя с господином Вольтером с 1763 по 1778 г. Ч. 1. С. 58–59.
(обратно)890
Русский архив. 1865. С. 488.
(обратно)891
Державин К. Н. Вольтер. М., 1946. С. 252.
(обратно)892
Дидро Д. Замечания на «Наказ» Екатерины II для депутатов комиссии по составлению законов // История России от дворцовых переворотов до Великих реформ. М., 1997. С. 119.
(обратно)893
Сегюр Д. де. Пять лет при дворе Екатерины II. С. 220.
(обратно)894
Сафонов М. М. Глаз философа и глаз суверена. Дидро в Петербурге // Родина. 2003. № 8. С. 37–38.
(обратно)895
Кабузан В. М. Народы России в XVIII веке. М., 1990. С. 190–193.
(обратно)896
Дружинина Е. И. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года (его подготовка и заключение). М., 1955. С. 95.
(обратно)897
Черкасов П. П. Указ. соч. С. 348.
(обратно)898
Ленрут Э. Великая роль. Король Густав III, играющий самого себя. СПб., 1999. С. 102–103.
(обратно)899
Мадариага И. де. Указ. соч. С. 330.
(обратно)900
Понятовский С. А. Мемуары. С. 233–234.
(обратно)901
Александров П. А. Северная система. М., 1914. С. 118–119.
(обратно)902
Мадариага И. де. Указ. соч. С. 330.
(обратно)903
Черкасов П. П. Указ. соч. С. 356.
(обратно)904
Морской сборник. 1849. Т. II. С. 811.
(обратно)905
Переписка российской императрицы Екатерины Вторыя с господином Вольтером с 1763 по 1778 г. Ч. 1. С. 152–155.
(обратно)906
Там же. С. 124.
(обратно)907
Там же. С. 129.
(обратно)908
Там же. С. 184.
(обратно)909
Там же. С. 185.
(обратно)910
Державин К. Н. Вольтер. С. 253.
(обратно)911
Переписка российской императрицы Екатерины Вторыя с господином Вольтером с 1763 по 1778 г. Ч. 1. С. 165.
(обратно)912
Там же. С. 162.
(обратно)913
Там же. С. 148.
(обратно)914
Сб. РИО. Т. 13. С. 258–259.
(обратно)915
Брикнер А. Г. Указ. соч. С. 353.
(обратно)916
Барсков Я. Л. Письма имп. Екатерины II к гр. П. В. Завадовскому // Русский исторический журнал. 1918. Кн. 5. С. 225.
(обратно)917
Сб. РИО. Т. 13. С. 41.
(обратно)918
АВПР. Ф. Сношения с Турцией. № 1678. Л. 113–115.
(обратно)919
Архив Государственного Совета. Т. 1.4. 1. С. 432.
(обратно)920
Сб. РИО. Т. 13. С. 259.
(обратно)921
Щербатов М. М. О повреждении нравов в России // Столетие безумно и мудро. Век XVIII. С. 377.
(обратно)922
Корберон М. Д. Указ. соч. С. 131.
(обратно)923
Грот Я. К. Бумаги императрицы Екатерины II, хранящиеся в Государственном архиве Министерства иностранных дел // Сб. РИО. Т. 13. С. 275.
(обратно)924
Екатерина II. Проект письма об условиях увольнения от двора гр. Г. Г. Орлова // Сб. РИО. Т. 3. С. 270–273.
(обратно)925
Валишевский К. Вокруг трона. С. 359–361.
(обратно)926
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 501.
(обратно)927
Сорокин Ю. А. Павел I // Вопросы истории. 1989. № 11. С. 49.
(обратно)928
Барсков Я. Л. Указ. соч. С. 225.
(обратно)929
Сб. РИО. Т. 12. С. 431.
(обратно)930
Там же. Т. 19. С. 420.
(обратно)931
Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. М., 1992. С. 21.
(обратно)932
Сорокин Ю. А. Указ. соч. С. 50.
(обратно)933
Эйдельман Н. Я. Письма Екатерины II Г. А. Потемкину // Вопросы истории. 1988. № 7. С. 116–117.
(обратно)934
Брикнер А. Г. Потемкин. СПб., 1891. С. 22.
(обратно)935
Там же. С. 23.
(обратно)936
Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка. 1769–1791. М., 1997. С. 504.
(обратно)937
Шумигорский Е. С. Император Павел I и масонство // Масонство в его прошлом и настоящем. М., 1991. С. 138–139.
(обратно)938
Осьмнадцатый век. Исторический сборник / Изд. П. Бартенев. М., 1868. Кн. 1.С. 96.
(обратно)939
Шильдер Н. К. Император Павел Первый. М., 1996. С. 93.
(обратно)940
РГАДА. Ф. 1274. Оп… 1. № 162.
(обратно)941
Русский архив. 1876. Кн. 2. С. 38.
(обратно)942
Русская старина. 1873. Т. 8. С. 343.
(обратно)943
РГАДА. Ф. 1.№ 54.Л. 3 об.
(обратно)944
РГАДА. Ф. 5. № 85.4. 1.Л.255.
(обратно)945
Там же.
(обратно)946
Там же. Л. 160.
(обратно)947
Там же. Л. 338.
(обратно)948
Там же. Л. 279.
(обратно)949
Там же. Л.265.
(обратно)950
Русский архив. 1906. № 12. C. 614.
(обратно)951
Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 34.
(обратно)952
Сб. РИО. T. 13. C. 432.
(обратно)953
Брикнер А. Г. Потемкин. С. 28–29.
(обратно)954
Дружинина Е. И. Кючук-Кайнарджийский мир… С. 278–308.
(обратно)955
Самойлов А. Н. Жизнь и деяния генерал-фельдмаршала князя Григория Александровича Потемкина-Таврического // Русский архив. 1867. № 7. Стб. 1020.
(обратно)956
Сб. РИО. Т. 1.С. 100.
(обратно)957
Цит. по: Черкасов П. П. Екатерина II и Людовик XVI: русско-французские отношения 1774–1792. М., 2001. С. 380.
(обратно)958
Самойлов А. Н. Указ. соч. Стб. 1021.
(обратно)959
КФЦЖ 1774 г. СПб., 1864. С. 403.
(обратно)960
Ходасевич В. Ф. Державин. М., 1988. С. 59.
(обратно)961
Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка. 1769–1791. М., 1997. С. 516.
(обратно)962
Сб. РИО. Т. 13. С. 421–428.
(обратно)963
Там же.
(обратно)964
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 3–3 об. Этими словами в подлиннике оканчивается записка.
(обратно)965
Суворов А. В. Письма. М., 1987. С. 501.
(обратно)966
Ходасевич В. Ф. Указ. соч. С. 59.
(обратно)967
Архив Государственного Совета. СПб., 1869. T. I. Ч. 1. Стб. 454.
(обратно)968
Ходасевич В. Ф. Указ. соч. С. 59.
(обратно)969
Суворов А. В. Письма. М., 1987. С. 500.
(обратно)970
Самойлов А. Н. Указ. соч. Стб. 1021.
(обратно)971
Овчинников Р. В. Следствие и суд над Е. И. Пугачевым и его сподвижниками. М., 1995. С. 55–85.
(обратно)972
Архив Государственного Совета. Т. 1.4. 1. Стб. 455–456.
(обратно)973
Овчинников Р. В. Указ. соч. С. 138–176.
(обратно)974
Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь // Русские мемуары. Избранные страницы. XVIII век. М., 1988. С. 183.
(обратно)975
РГАДА. Ф. 5. Ч. 2. Л. 50.
(обратно)976
Державин К. Н. Вольтер. С. 255.
(обратно)977
Переписка российской императрицы Екатерины Вторыя с господином Вольтером с 1763 по 1778 г. Ч. I. С. 175–177.
(обратно)978
Там же. С. 178.
(обратно)979
Там же. С. 179.
(обратно)980
Там же. С. 185.
(обратно)981
Там же. С. 193.
(обратно)982
Там же. С. 199.
(обратно)983
КФЦЖ 1775 г. СПб., 1878. С. 56.
(обратно)984
Шильдер Н. К. Указ. соч. С. 105.
(обратно)985
ПСЗ. СПб., 1830. T. XX. № 14. С. 303.
(обратно)986
Вопросы истории. 1989. № 9. С. 98.
(обратно)987
Сб. РИО. Т. 19. С. 468.
(обратно)988
Сорокин Ю. А. Павел I. С. 57.
(обратно)989
Брикнер А. Г. Эпизод из истории Екатерины II. Смерть великой княгини Натальи Алексеевны // Новь. 1886. T. XI. № 18. С. 107–118.
(обратно)990
АВПР. Ф. Сношения России с Францией. Оп. 93/6. № 273. Л. 1–5.
(обратно)991
Сорокин Ю. А. Указ. соч. С. 50–51.
(обратно)992
Там же.
(обратно)993
КФЦЖ 1775 г. СПб., 1878. С. 520.
(обратно)994
Сб. РИО. Т. 27. С. 33.
(обратно)995
Там же. С. 44–46.
(обратно)996
Там же. С. 28.
(обратно)997
Русский архив. 1878. № 8. С. 29.
(обратно)998
Сб. РИО. 1885. Т. 42. С. 346.
(обратно)999
Wraxall. Historical memoirs of my own time. London, 1815. P. I. P. 107.
(обратно)1000
КФЦЖ 1776 г. СПб., 1880. С. 186.
(обратно)1001
Сорокин Ю. А. Указ. соч. С. 52.
(обратно)1002
Casteras. Vie de Catherina II. Paris, 1797. P. 160–163.
(обратно)1003
Фонвизин М. Политическая жизнь в России М. А. Фонвизина // Библиотека декабристов. Вып. IV. 1907. С. 32–33.
(обратно)1004
РГАДА. Ф- 1.№ 54. № 96.
(обратно)1005
Барсков Я. Л. Письма Екатерины II Г. Н. Потемкину // Вопросы истории. 1989. № 8. С. 115.
(обратно)1006
Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. С. 760–768.
(обратно)1007
Бильбасов В. А. Исторические монографии. СПб., 1901. Т. 3. С. 244.
(обратно)1008
Переписка российской императрицы Екатерины Вторыя с господином Вольтером с 1763 по 1778 г. Ч. I. С. 58.
(обратно)1009
Мадариага И. де. Указ. соч. С. 730–731.
(обратно)1010
Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву // Столетие безумно и мудро. М., 1986. С. 250.
(обратно)1011
Каменский А. Б. «Под сению Екатерины…». С. 251.
(обратно)1012
Дашкова Е. Р. Записки. 1743–1810. С. 80–81.
(обратно)1013
Фонвизин Д. И. Собрание сочинений. В 2 т. М.; Л., 1954. Т. 2. С. 441, 466.
(обратно)1014
Корберон М. Д. Записки // Екатерина. Путь к власти. С. 174.
(обратно)1015
Сегюр Л. де. Пять лет при дворе Екатерины II // Екатерина II и ее окружение. С. 148–158.
(обратно)1016
Миранда Ф. де. Путешествие по Российской империи. М., 2001. С. 214–217.
(обратно)1017
Столетие безумно и мудро. М., 1986. С. 277.
(обратно)1018
ПСЗ. T. XX. № 14 392.
(обратно)1019
Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. С. 129–136.
(обратно)1020
Любавский М. К. История царствования Екатерины II. СПб., 2001. С. 99.
(обратно)1021
Лаппо-Данилевский А. С. Очерк внутренней политики императрицы Екатерины II. СПб., 1898. С. 60–61.
(обратно)1022
Екатерина II. Памятник моему самолюбию. М., 2003. С. 68.
(обратно)1023
Омельченко О. А. «Законная монархия» Екатерины Второй: Просвещенный абсолютизм в России. М., 1993. С. 276–277.
(обратно)1024
Середа Н. В. Реформа управления Екатерины Второй. М.,2004. С.364.
(обратно)1025
Переписка российской императрицы Екатерины Вторыя с господином Вольтером с 1763 по 1778 г. Ч. I. С. 214.
(обратно)1026
Там же. С. 182, 183.
(обратно)1027
Там же. С. 211.
(обратно)1028
Там же. С. 184.
(обратно)1029
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 22.
(обратно)1030
Хрестоматия по русской истории. Т. 3. М., 1923. С. 146.
(обратно)1031
Чичагов П. В. Записки. М., 2002. С. 41.
(обратно)1032
Екатерина II. Памятник моему самолюбию. С. 58.
(обратно)1033
Боголюбов В. Н. И. Новиков и его время. М., 1916. С. 54–55.
(обратно)1034
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 15.
(обратно)1035
ПСЗ. T. XVI. С. 668–669.
(обратно)1036
Там же. С. 345.
(обратно)1037
Заичкин И. А., Почкаев И. Н. Екатерининские орлы. С. 227–234.
(обратно)1038
Сб. РИО. 1873. Т. 12 369–371.
(обратно)1039
Переписка российской императрицы Екатерины Вторыя с господином Вольтером с 1763 по 1778 г. Ч. 1. С. 78–79.
(обратно)1040
Там же. С. 90.
(обратно)1041
Письма Екатерины II девице Левшиной // Дашкова E. Р. Записки. М., 1990. С. 334.
(обратно)1042
Петинова Е. Фрейлины ее величества. СПб., [б. г.] С. 17.
(обратно)1043
ПСЗ. T. XVI. С. 344.
(обратно)1044
Там же. T. XVII. С. 1056.
(обратно)1045
Лещиловская И. И. Русско-сербские связи в области педагогики во второй половине XVIII в. (Ф. И. Янкович де Мириево) // E. Р. Дашкова и эпоха Просвещения. М., 2005. С. 99–101.
(обратно)1046
Костяшов Ю. В. Сербы в Австрийской монархии в XVIII веке. Калининград, 1997. С. 176.
(обратно)1047
Смагина Т. Я. Янкович де Мириево//Исторический лексикон. XVIII век. М., 1996. С. 291–292.
(обратно)1048
Екатерина II. Памятник моему самолюбию. М., 2003. С. 69.
(обратно)1049
История дипломатии. Т. 1. С. 284.
(обратно)1050
Екатерина II. Памятник моему самолюбию. С. 130.
(обратно)1051
Валишевский К. Роман одной императрицы. С. 73.
(обратно)1052
Архив князя Воронцова. Кн. 25. С. 333.
(обратно)1053
Брикнер А. Г. История Екатерины Второй. СПб., 1985. С. 263.
(обратно)1054
Черкасов П. П. Двуглавый орел и королевские лилии. С. 290.
(обратно)1055
Соловьеве. М. Сочинения. Кн. XIV. Т. 27–28. М., 1994. С. 168–171.
(обратно)1056
Брикнер А. Г. Указ. соч. С. 300.
(обратно)1057
Сб. РИО. Т. 7. С. 373.
(обратно)1058
Державин К. Н. Вольтер. С. 252.
(обратно)1059
Брикнер А. Г. Указ. соч. С. 349.
(обратно)1060
Переписка российской императрицы Екатерины Вторыя с господином Вольтером с 1763 по 1778 г. Ч. 1. С. 55–56.
(обратно)1061
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 236.
(обратно)1062
Там же. Л. 258.
(обратно)1063
Там же. Л. 147 об.
(обратно)1064
Madariaga I. de. Russia in the Age of Catherine the Great. London, 1982. P. 567.
(обратно)1065
Сб. РИО. T. 23. C. 561.
(обратно)1066
Екатерина II. Памятник моему самолюбию. С. 60.
(обратно)1067
Русский исторический журнал. Кн. 5. 1918. С. 249.
(обратно)1068
Там же. С. 257.
(обратно)1069
Брикнер А. Г. Указ. соч. С. 448.
(обратно)1070
Леннрут Э. Великая роль. Король Густав III, играющий самого себя. С. 107.
(обратно)1071
ГАРФ. Ф. 728. Оп… I. № 416. Л. 51.
(обратно)1072
Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка. М., 1997. С. 676.
(обратно)1073
Леннрут Э. Указ. соч. С. 106.
(обратно)1074
Родина. 1997. № 10. С. 84.
(обратно)1075
Сорокин Ю. А. Павел I. С. 50.
(обратно)1076
Эйдельман Н. Я. Грань веков // В борьбе за власть. Страницы политической истории России XVIII века. М., 1988. С. 317–319.
(обратно)1077
Сафонов М. М. Конституционный проект Н. И. Панина — Д. И. Фонвизина // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 6. Л., 1974. С. 280.
(обратно)1078
Миранда Ф. де. Путешествие по Российской империи. С. 605.
(обратно)1079
Ameth et Geffroy. Marie-Antoinette. Correspondence secrete entre Marie-Therese et le Mercy-Argenteau. Paris, 1874. VIII. P. 404–405.
(обратно)1080
Брикнер A. Г. Указ. соч. C. 342–343.
(обратно)1081
Papers and correspondence of James Harris. London, 1844. V. I. P. 175.
(обратно)1082
Русская старина. 1908. № 9. C. 439.
(обратно)1083
Брикнер А. Г. Указ. соч. С. 379.
(обратно)1084
Там же. С. 375.
(обратно)1085
Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 58.
(обратно)1086
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 110–111.
(обратно)1087
Ameth A.-R. Maria Therezia und Jozeph. Paris, 1874. V. III. P. 305.
(обратно)1088
Сб. РИО. T. 9. C. 51.
(обратно)1089
Там же. T. 23. C. 128.
(обратно)1090
Ameth A.-R. Maria Therezia und Jozeph. V. III. P. 251–255.
(обратно)1091
Брикнер A. Г. Указ. соч. C. 380.
(обратно)1092
Ameth A.-R. Maria Therezia und Jozeph. V. III. P. 256–259.
(обратно)1093
Papers and correspondence of James Harris. V. I. P. 324–340.
(обратно)1094
Брикнер A. Г. Указ. соч. C. 393.
(обратно)1095
Там же. C. 394.
(обратно)1096
Ameth A.-R. Jozeph II und Katharinavon Russland. Wien 1869. P. 143–157.
(обратно)1097
РГАДА. Ф. 5. № 85. 4. I. Л. 105–106 об.
(обратно)1098
История дипломатии. T. 1. C. 291.
(обратно)1099
Брикнер A. Г. Потемкин. СПб., 1991. С. 62.
(обратно)1100
Там же. С. 60–64.
(обратно)1101
Григорович Н. Канцлер князь Александр Андреевич Безбородко в связи с событиями его времени // Сб. РИО. 1881. Т. 29.
(обратно)1102
См. подробнее: Елисеева О. И. Потемкин. М., 2005 (серия «ЖЗЛ»).
(обратно)1103
Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерина Великой. М., 2002. С. 606.
(обратно)1104
История дипломатии. Т. 1. С. 310.
(обратно)1105
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 98–99.
(обратно)1106
Гаррис Д. Донесения британскому правительству. С. 55.
(обратно)1107
История дипломатии. Т. 1. С. 310.
(обратно)1108
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 105–106 об.
(обратно)1109
Лопатин В. С. Указ. соч. С. 43.
(обратно)1110
Там же. С. 45.
(обратно)1111
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 44.
(обратно)1112
Самойлов А. Н. Жизнь и деяния генерал-фельдмаршала князя Григория Александровича Потемкина-Таврического // Русский архив. 1867. № 7. Стб. 1204–1215.
(обратно)1113
Сочинения и письма Хемницера по подлинным его рукописям. СПб., 1873. С. 48.
(обратно)1114
Лопатин В. С. Указ. соч. С. 49.
(обратно)1115
Там же. С. 63.
(обратно)1116
Сб. РИО. Т. 27. С. 206–207.
(обратно)1117
АВПР. Ф. 5. № 591. Ч. 1.Л. 105–106 об.
(обратно)1118
Брикнер А. Г. Указ. соч. С. 400.
(обратно)1119
Сб. РИО. Т. 27. С. 221.
(обратно)1120
Там же. С. 249–250.
(обратно)1121
РГАДА. Ф. 1. № 43. Л. 76–77 об.
(обратно)1122
Брикнер А. Г. Указ. соч. С. 400.
(обратно)1123
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 456–456 об.
(обратно)1124
Там же. Ф. 1. № 43. Л. 86.
(обратно)1125
Лашков Ф. Князь Г. А. Потемкин-Таврический как деятель Крыма. Симферополь, 1890. С. 15.
(обратно)1126
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 506.
(обратно)1127
РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 9. Л. 2–3.
(обратно)1128
Die Papieren des Gustav der III-s. Hamburg, 1845. V. III. P. 193.
(обратно)1129
Ленрут Э. По-родственному // Родина. 1997. № 10. C. 85.
(обратно)1130
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 502.
(обратно)1131
Там же. Ф. II.Оп. 1.№ 913.Л. 1–2.
(обратно)1132
Дашкова E. Р. Записки. 1743–1810. С. 140.
(обратно)1133
Русская старина. 1908. № 6. С. 627.
(обратно)1134
Герц А. фон. Российский двор в 1780 г. // Потемкин. От вахмистра до фельдмаршала. СПб., 2002. С. 199.
(обратно)1135
Щербатов М. М. О повреждении нравов в России // Столетие безумно и мудро. С. 378.
(обратно)1136
Дашкова E. Р. Записки. 1743–1810. С. 151, 163.
(обратно)1137
Валишевский К. Вокруг трона. С. 370.
(обратно)1138
Там же. С. 371.
(обратно)1139
Сб. РИО. Т. 26. С. 281.
(обратно)1140
Пашков Ф. Указ. соч. С. 6.
(обратно)1141
Там же. С. 8–10.
(обратно)1142
Брикнер А. Г. Потемкин. СПб., 1891. С. 76.
(обратно)1143
Сегюр Л. де. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II // Россия XVIII века глазами иностранцев. Л., 1989. С. 453.
(обратно)1144
Храповицкий А. В. Памятные записки статс-секретаря императрицы Екатерины II. М., 1990. С. 30.
(обратно)1145
Киевская старина. 1891. № 9. С. 417.
(обратно)1146
Брикнер А. Г. История Екатерины Второй. Т. 2. М., 1991. С. 407.
(обратно)1147
Сб. РИО. Т. 26. С. 284.
(обратно)1148
Брикнер А. Г. Путешествие Екатерины II в Крым // Исторический вестник. 1885. № 9. С. 460–461.
(обратно)1149
Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка. С. 775.
(обратно)1150
АВПР. Ф. 5. № 591. Ч. 1.Л. 109–110.
(обратно)1151
Альперович М. С. Франсиско де Миранда в России. М., 1986. С. 76–78.
(обратно)1152
Сб. РИО. Т. 26. С. 284.
(обратно)1153
КФЦЖ 1787 г. СПб., 1886. С. 333.
(обратно)1154
Брикнер А. Г. Путешествие Екатерины II в Крым… С. 460.
(обратно)1155
Сегюр Л. -Ф. Указ. соч. С. 442.
(обратно)1156
Брикнер А. Г. Путешествие Екатерины II в Крым… С. 465.
(обратно)1157
Сегюр Л.-Ф. Указ. соч. С. 443.
(обратно)1158
Брикнер А. Г. Путешествие Екатерины II в Крым… С. 462.
(обратно)1159
Дружинина Е. И. Северное Причерноморье. 1775–1800. М., 1959. С. 27.
(обратно)1160
Minerva. 1797–1800.
(обратно)1161
Дружинина Е. И. Указ. соч. С. 27.
(обратно)1162
Лопатин В. С. Указ. соч. С. 112.
(обратно)1163
Киевская старина. 1891. № 7. С. 28, 31.
(обратно)1164
Сб. РИО. Т. 26. С. 405.
(обратно)1165
Там же. Т. 23. С. 499.
(обратно)1166
Там же. С. 450.
(обратно)1167
Там же. Т. 26. С. 183.
(обратно)1168
КФЦЖ 1787 г. СПб., 1886. С. 432.
(обратно)1169
Брикнер А. Г. История Екатерины Второй. Т. 2. М., 1991. С. 408.
(обратно)1170
Храповицкий А. В. Указ. соч. С. 29.
(обратно)1171
Брикнер А. Г. Потемкин. СПб., 1891. С. 96.
(обратно)1172
Сборник Отделения русского языка и словесности Имп. Академии наук (далее: СОРЯС). 1884. Т. 33. С. 9.
(обратно)1173
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 239.
(обратно)1174
Екатерина II. Памятник моему самолюбию. М., 2003. С. 42.
(обратно)1175
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 37.
(обратно)1176
РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 10. Л. 8–10.
(обратно)1177
ОР РНБ. Ф.73.№ 262.Л.З.
(обратно)1178
Соловьев С. М. История падения Польши. М., 1863. С. 174.
(обратно)1179
ОР РНБ. Ф.73. № 262. Л. 4–7.
(обратно)1180
Сб. РИО. Т. 23. С. 418.
(обратно)1181
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 2.
(обратно)1182
Там же. С. 9.
(обратно)1183
Там же. С. 10.
(обратно)1184
Там же. С. 4.
(обратно)1185
АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 343–344.
(обратно)1186
ОР РНБ Ф. 73. № 262. Л. 10.
(обратно)1187
Храповицкий А. В. Памятные записки. М., 1962. С. 38.
(обратно)1188
Гарновский М. А. Записки // Русская старина. 1876. № 2. С. 52.
(обратно)1189
Там же. С. 247.
(обратно)1190
Там же. С. 258.
(обратно)1191
АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 143–143 об.
(обратно)1192
РГАДА. Ф. 5. № 55. Ч. II. Л. 43.
(обратно)1193
АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 152–152 об.
(обратно)1194
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 52–52 об.
(обратно)1195
Гарновский М. А. Указ. соч. // Русская старина. 1876. № 2. С. 256; № 3. С. 473–474.
(обратно)1196
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 8.
(обратно)1197
Гарновский М. А. Указ. соч. // Русская старина. 1876. № 2. С. 254.
(обратно)1198
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 49–50.
(обратно)1199
Гарновский М. А. Указ. соч. // Русская старина. 1876. № 27. С. 263.
(обратно)1200
Петрушевский А. Ф. Генералиссимус князь Суворов. СПб., 1900. С. 185.
(обратно)1201
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 550 об.
(обратно)1202
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 4.
(обратно)1203
Суворов А. В. Документы. М., 1949–1953. Т. 2. С. 342.
(обратно)1204
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 6.
(обратно)1205
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 56.
(обратно)1206
АВПР Ф. 75. № 585. Л. 185–186.
(обратно)1207
Там же. Л. 368–372 об.
(обратно)1208
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 64–67 об.
(обратно)1209
Сб. РИО. 1880. Т. 27. С. 447.
(обратно)1210
Там же.
(обратно)1211
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 548–549.
(обратно)1212
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 56–57.
(обратно)1213
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 549.
(обратно)1214
Там же. Л. 557–560.
(обратно)1215
Сб. РИО. Т. 23. С. 424.
(обратно)1216
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 6.
(обратно)1217
Там же. С. 10.
(обратно)1218
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 561–561 об.
(обратно)1219
Сб. РИО. Т. 27. С. 460.
(обратно)1220
АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 182 об.
(обратно)1221
Там же. Л. 168 об. — 169.
(обратно)1222
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 79–80.
(обратно)1223
Там же. Л. 79.
(обратно)1224
АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 195 об. — 196.
(обратно)1225
Там же. Л. 86 об.
(обратно)1226
Там же. Л. 78–79 об.
(обратно)1227
Там же. № 589. Л. 87.
(обратно)1228
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 11–12.
(обратно)1229
Там же. С. 9–13.
(обратно)1230
РГВИА. Ф. ВУА. № 2388. Л. 20.
(обратно)1231
Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка. 1769–1791. С. 822.
(обратно)1232
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 68.
(обратно)1233
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 12.
(обратно)1234
Архив Государственного Совета. СПб., 1869. Т. 1. С. 493.
(обратно)1235
Григорович Н. Канцлер князь Александр Андреевич Безбородко в связи с событиями его времени // Сб. РИО. 1881. Т. 29. С. 2.
(обратно)1236
Сб. РИО. Т. 23. С. 449.
(обратно)1237
Брикнер А. Г. История Екатерины Второй. Т. 2. СПб., 1885. С. 452.
(обратно)1238
Рогинский В. В. Густав III // Исторический лексикон. XVIII век. М., 1996. С. 229.
(обратно)1239
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 17.
(обратно)1240
Гарновский М. А. Указ. соч. // Русская старина. 1876. № 5. С. 15.
(обратно)1241
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 15–18.
(обратно)1242
Петрушевский А. Ф. Указ. соч. С. 184.
(обратно)1243
Ордер Г. А. Потемкин М. И. Войновичу 10 июля 1788 г. // Бумаги… СПб., 1893. С. 350.
(обратно)1244
Русская старина. 1876. № 5. С. 24.
(обратно)1245
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 110–112.
(обратно)1246
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 20.
(обратно)1247
Там же. С. 22.
(обратно)1248
Русская старина. 1876. № 7. С. 475.
(обратно)1249
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 125–128 об.
(обратно)1250
Григорович Н. Указ. соч. С. 28.
(обратно)1251
Cб. РИО.Т. 23. С. 451.
(обратно)1252
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 113.
(обратно)1253
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 27.
(обратно)1254
Энгельгардт Л. Н. Записки // Русские мемуары. М., 1988. С. 259.
(обратно)1255
Григорович Н. Указ. соч. С. 30.
(обратно)1256
Segur, Count de. L. Memoirs and Recollections of Count Segur, Ambassador from France to the Courts of Russia and Prussia. London, 1827. P. 382.
(обратно)1257
Русская старина. 1876. № 5. C. 23.
(обратно)1258
РГАДА. Ф. 5. № 85.4. II. Л. 117–117 об.
(обратно)1259
Брикнер А. Г. Указ. соч. С. 456.
(обратно)1260
Segur, Count de. L. Op. cit. P. 387.
(обратно)1261
Брикнер А. Г. Указ. соч. С. 460.
(обратно)1262
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 121.
(обратно)1263
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 26.
(обратно)1264
Русская старина. 1876. № 5. С. 26.
(обратно)1265
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 48.
(обратно)1266
Там же. С. 24–25.
(обратно)1267
Там же. С. 25.
(обратно)1268
Брикнер А. Г. Указ. соч. С. 459–462.
(обратно)1269
Шильдер И. К. Екатерина II и Густав III, король шведский // Русская старина. 1876. № 11. С. 434.
(обратно)1270
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 141.
(обратно)1271
СОРЯС. 1884. T. 33. C. 28–29.
(обратно)1272
Сб. РИО. 1879. T. 26. C. 299.
(обратно)1273
Григорович H. Указ. соч. C. 41.
(обратно)1274
СОРЯС. 1884. T. 33. C. 31.
(обратно)1275
Сб. РИО. 1879. T. 26. C. 223.
(обратно)1276
Архив Государственного Совета. СПб., 1869. T. I. С. 615.
(обратно)1277
АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 281 об. — 282 об.
(обратно)1278
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 75.
(обратно)1279
Там же. С. 57–58.
(обратно)1280
Там же. С. 55.
(обратно)1281
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 145–147.
(обратно)1282
АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 285 об.
(обратно)1283
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 46.
(обратно)1284
Там же. С. 47.
(обратно)1285
РГАДА. Ф. 5. № 85.4. II. Л. 152.
(обратно)1286
Там же. С. 229.
(обратно)1287
Храповицкий А. В. Указ. соч. С. 140.
(обратно)1288
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 151–151 об.
(обратно)1289
Ведомость об убитых и раненых во время штурма Очакова // РГВИА. Ф. 52. Оп. 2.№ II. Л. 74.
(обратно)1290
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 149.
(обратно)1291
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 30–31.
(обратно)1292
Гарновский М. А. Записки // Русская старина. 1876. № 6. С. 234.
(обратно)1293
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 427.
(обратно)1294
КФЦЖ 1789 г. СПб., 1888. С. 70.
(обратно)1295
Сб. РИО. 1879. Т. 26. С. 424–425.
(обратно)1296
АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 299–301.
(обратно)1297
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 11.
(обратно)1298
Там же. С. 8.
(обратно)1299
Брикнер А. Г. Указ. соч. С. 488.
(обратно)1300
Русский архив. 1866. Стб. 1577–1685.
(обратно)1301
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 70.
(обратно)1302
Соловьев С. М. Европа в конце XVIII века // Русский вестник. 1862. Т. 39. С. 443.
(обратно)1303
Григорович Н. Указ. соч. С. 55.
(обратно)1304
Гарновский М. А. Указ. соч. // Русская старина. 1876. № 7. С. 414.
(обратно)1305
АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 336 об.
(обратно)1306
КФЦЖ 1789 г. СПб., 1888. С. 180.
(обратно)1307
РГАДА. Ф. 5.№ 85. Ч. II. Л. 156.
(обратно)1308
Там же. Л. 106.
(обратно)1309
АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 123–123 об.
(обратно)1310
Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка. 1769–1791. С. 765.
(обратно)1311
Сегюр Л. де. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II // Россия XVIII века глазами иностранцев. С. 392.
(обратно)1312
Храповицкий А. В. Памятные записки. М., 1862. С. 12.
(обратно)1313
См. подробнее: Дмитриевы-Мамоновы А. И. и В. А. Дмитриевы-Мамоновы. СПб., 1912.
(обратно)1314
Русская старина. 1899. № 4. С. 93.
(обратно)1315
Тарунов А. М. Дубровицы. М., 1991. С. 51–55.
(обратно)1316
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 30.
(обратно)1317
Русская старина. 1876. № 2. С. 265.
(обратно)1318
Тарунов А. М. Указ. соч. С. 57–58.
(обратно)1319
Храповицкий А. В. Указ. соч. С. 195.
(обратно)1320
Лонжерон А. Ф. Записки // Потемкин. Последние годы. СПб., 2003. С. 127.
(обратно)1321
Храповицкий А. В. Указ. соч. С. 195.
(обратно)1322
Гарновский М. А. Записки // Русская старина. 1876. № 7. С. 299–302.
(обратно)1323
Русская старина. 1876. № 7. С. 403.
(обратно)1324
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 167–167 об.
(обратно)1325
Там же. Л. 3 об.
(обратно)1326
Храповицкий А. В. Указ. соч. С. 195.
(обратно)1327
Там же.
(обратно)1328
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 163.
(обратно)1329
Валишевский К. Вокруг трона. С. 379.
(обратно)1330
Барсков Я. Л. Письма имп. Екатерины II к гр. П. В. Завадовскому // Русский исторический журнал. Кн. 5. 1918. С. 238.
(обратно)1331
Письма А. Я. Булгакова к К. Я. Булгакову // Русский архив. 1901. Кн. 5. С. 12.
(обратно)1332
Тарунов А. М. Указ. соч. С. 60–61.
(обратно)1333
Семевский М. И. Князь Платон Александрович Зубов. Биографический очерк. 1768–1822 // Русская старина. 1876. № 9. С. 50.
(обратно)1334
Грибовский А. М. Записки о императрице Екатерине Второй. М., 1989. С. 7.
(обратно)1335
Там же. С. 406–413.
(обратно)1336
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 7–7 об.
(обратно)1337
Там же. 167–167 об.
(обратно)1338
Гарновский М. А. Указ. соч. // Русская старина. 1876. № 7. С. 404.
(обратно)1339
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 164.
(обратно)1340
Там же. Ф. 1. № 43. Л. 42.
(обратно)1341
Там же. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 167.
(обратно)1342
Там же. Л. 184.
(обратно)1343
Храповицкий А. В. Указ. соч. С. 205.
(обратно)1344
Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 161–162.
(обратно)1345
РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 13. Л. 122.
(обратно)1346
Храповицкий А. В. Указ. соч. С. 203.
(обратно)1347
Сб. РИО. Т. 26. С. 424–425.
(обратно)1348
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 183.
(обратно)1349
АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 132–133.
(обратно)1350
РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 14. Л. 41–42.
(обратно)1351
АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 130.
(обратно)1352
Там же. Л. 326.
(обратно)1353
Лопатин В. С. Указ. соч. С. 176.
(обратно)1354
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 72.
(обратно)1355
Сб. РИО. Т. 29. С. 67.
(обратно)1356
РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 15. Л. 140–141.
(обратно)1357
Сб. РИО. Т. 26. С. 418–419.
(обратно)1358
Храповицкий А. В. Указ. соч. С. 214.
(обратно)1359
Костомаров Н. И. Последние годы Речи Посполитой. СПб., 1870. С. 195–198, 252.
(обратно)1360
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 76, 78.
(обратно)1361
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 214.
(обратно)1362
Там же. Л. 218.
(обратно)1363
АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 325.
(обратно)1364
Бумаги князя Григория Александровича Потемкина-Таврического. СПб., 1893. С. 18.
(обратно)1365
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 76.
(обратно)1366
АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 137–137 об.
(обратно)1367
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 73–77.
(обратно)1368
АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 324 об.
(обратно)1369
РГАДА. Ф. 5. № 85.Ч. II. Л. 216.
(обратно)1370
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 57.
(обратно)1371
Там же. С. 71.
(обратно)1372
АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 139.
(обратно)1373
Сб. РИО. Т. 26. С. 422.
(обратно)1374
РГАДА. Ф. 5. № 43. Л. 28.
(обратно)1375
Там же. № 85. Ч. II. Л. 239.
(обратно)1376
Там же. Л. 245.
(обратно)1377
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 74, 83.
(обратно)1378
Сб. РИО. Т. 29. С. 84.
(обратно)1379
Григорович Н. Канцлер князь Александр Андреевич Безбородко в связи с событиями его времени // Сб. РИО. 1881. Т. 29. С. 70.
(обратно)1380
Там же. С. 84.
(обратно)1381
АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 355 об.
(обратно)1382
Храповицкий А. В. Указ. соч. М., 1862. С. 221.
(обратно)1383
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 232–232 об.
(обратно)1384
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 36.
(обратно)1385
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 235–235 об.
(обратно)1386
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 38–39.
(обратно)1387
Брикнер А. Г. История Екатерины Второй. Т. 2. СПб., 1885. С. 482.
(обратно)1388
Сб. РИО. Т. 29. С. 74.
(обратно)1389
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 43.
(обратно)1390
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 239.
(обратно)1391
Там же. Л. 253–253 об.
(обратно)1392
Сб. РИО. 1867. Т. 1. С. 210–211.
(обратно)1393
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 253 об.
(обратно)1394
СОРЯС. Т. 33. С. 41.
(обратно)1395
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. П. Л. 2.
(обратно)1396
Апраксин С. С. Журнал происшествий войны против шведов в 1788, 1789 и 1790 годах // Русская старина. 1876. № 11. С. 431.
(обратно)1397
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 42.
(обратно)1398
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 246.
(обратно)1399
Там же. С. 43.
(обратно)1400
РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 19. Л. 66.
(обратно)1401
Дашкова E. Р. Записки. 1743–1810. С. 171–172.
(обратно)1402
Там же. С. 173.
(обратно)1403
Каменский А. Б. «Под сению Екатерины…». С. 392.
(обратно)1404
Семенников В. П. Литературно-общественный круг Радищева // Радищев. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. С. 214.
(обратно)1405
Тучков С. А. Записки. СПб., 1906. С. 36.
(обратно)1406
Семенников В. П. Указ. соч. С. 242.
(обратно)1407
Радищев А. Н. Беседа о том, что есть сын Отечества // Радищев. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. С. 249.
(обратно)1408
Антоновский М. И. Новейшее повествовательное землеописание // Там же. С. 250.
(обратно)1409
Барсков Л. Я. Переписка московских масонов XVIII века. 1780–1792. Пг.,1915. C. XXXIV.
(обратно)1410
Радищев А. Н. Указ. соч. С. 132.
(обратно)1411
Шторм Г. П. Потаенный Радищев. М., 1968. С. 124.
(обратно)1412
Шепелев Л. Е. Титулы, мундиры, ордена. Л., 1991. С. 159.
(обратно)1413
Хотеев П. И. Книга в России в середине XVIII в. Частные книжные собрания. Л., 1989. С. 5.
(обратно)1414
Дашкова Е. Р. Указ. соч. С. 171.
(обратно)1415
Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву // Столетие безумно и мудро. М., 1986. С. 201–202.
(обратно)1416
Илюшин A. A. Радищев//Исторический лексикон. XVIII век. М., 1996. С. 558–559.
(обратно)1417
Зубков Н. Александр Николаевич Радищев // Русская литература от былин и летописей до классики XIX века. М., 1998.
(обратно)1418
Семенников В. П. Указ. соч. С. 262.
(обратно)1419
Сб. РИО. Т. 140. С. 127.
(обратно)1420
Массон Ш. Секретные записки о России времени царствования Екатерины II и Павла I. М., 1996. С. 133–136.
(обратно)1421
Екатерина II. Памятник моему самолюбию. М., 2003. С. 55.
(обратно)1422
Завадовский П. В. Письма С. Р. Воронцову // Потемкин. От вахмистра до фельдмаршала. СПб., 2002. С. 243–244.
(обратно)1423
Чичагов П. В. Записки. М., 2002. С. 22.
(обратно)1424
Знаменитые Россияне XVIII–XIX веков. СПб., 1996. С. 35.
(обратно)1425
Удовик В. А. Символ веры А. Р. Воронцова // Воронцовы — два века в истории России. Материалы научной конференции. Владимир, 1992. С. 9.
(обратно)1426
Скепнер Л. С. А. Р. Воронцов и М. Н. Радищев // Там же. С. 9125.
(обратно)1427
Русская старина. 1876. № 6. С. 224–231.
(обратно)1428
Там же. С. 24–25.
(обратно)1429
Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву // Столетие безумно и мудро. С. 156.
(обратно)1430
Петрушевский А. Ф. Генералиссимус князь Суворов. СПб., 1900. С. 249–250.
(обратно)1431
Лопатин В. С. Письма, без которых история становится мифом // Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка 1769–1791. М., 1997. С. 849.
(обратно)1432
Там же. С. 68–69.
(обратно)1433
Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1865. Т. 2. С. 112.
(обратно)1434
Самойлов А. Н. Жизнь и деяния генерал-фельдмаршала князя Григория Александровича Потемкина-Таврического // Русский архив. 1867. № 7. Стб. 998.
(обратно)1435
Цебриков Р. М. Вокруг Очакова. 1788 г. Дневник очевидца // Потемкин. Последние годы. СПб., 2003. С. 74.
(обратно)1436
Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву // Столетие безумно и мудро. С. 250–251.
(обратно)1437
Гарновский М. Записки // Русская старина. 1876. № 5. С. 26.
(обратно)1438
Шторм Г. П. Указ. соч. С. 81.
(обратно)1439
Там же. С. 63.
(обратно)1440
Макогоненко Г. П. Радищев и его время.
(обратно)1441
Храповицкий А. В. Указ. соч. С. 226–227.
(обратно)1442
Бабкин Д. С. Процесс А. Н. Радищева. М.; Л., 1952. С. 164.
(обратно)1443
Пушкин А. С. Александр Радищев // Полн. собр. соч. Л., 1978. Т.7. С. 246.
(обратно)1444
Радищев А. Н. Указ. соч. С. 240.
(обратно)1445
Русский вестник. 1842. № 7–8. С. 17.
(обратно)1446
Там же. С. 18.
(обратно)1447
Удовик В. А. Указ. соч. С. 12.
(обратно)1448
Там же. С. 11.
(обратно)1449
Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. СПб., 1994. С. 268.
(обратно)1450
Шторм Г. П. Указ. соч. С. 11.
(обратно)1451
РГАЛИ. Ф. 1261. Он. 3. № 43. Л. 432.
(обратно)1452
Архив кн. Воронцова. T. IX. С. 181.
(обратно)1453
Шторм Г. П. Указ. соч. С. 11.
(обратно)1454
Каменский А. Б. Указ. соч. С. 118.
(обратно)1455
Русский вестник. 1858. T. XVIII. С. 421.
(обратно)1456
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 40.
(обратно)1457
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 207.
(обратно)1458
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 79.
(обратно)1459
АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 58.
(обратно)1460
Там же. Л. 345–345 об.
(обратно)1461
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 2. Л. 269 об.
(обратно)1462
РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 20. Л. 2–3.
(обратно)1463
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 82.
(обратно)1464
Там же. С. 74–75.
(обратно)1465
Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 195–196.
(обратно)1466
Державин Г. Р. Избранная проза. М., 1984. С. 130.
(обратно)1467
КФЦЖ 1791 г. СПб., 1890. С. 23–34.
(обратно)1468
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 66.
(обратно)1469
РГАДА- Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 277–278 об.
(обратно)1470
Там же. Ф. 1. Оп… 1. № 43. Л. 35 об.
(обратно)1471
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 80–81.
(обратно)1472
АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 211–212.
(обратно)1473
Там же. Л. 217.
(обратно)1474
Храповицкий А. В. Памятные записки. М., 1862. С. 237–238.
(обратно)1475
Григорович Н. Канцлер князь Александр Андреевич Безбородко в связи с событиями его времени // Сб. РИО. Т. 29. С. 84.
(обратно)1476
СОРЯС. Т. 33. 1884. С. 78–79.
(обратно)1477
Храповицкий А. В. Указ. соч. С. 238.
(обратно)1478
Барсков Я. Л. Переписка московских масонов XVIII века. 1780–1792. Пг., 1915. С. 294.
(обратно)1479
Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. Пг., 1917. С. 237–239.
(обратно)1480
Лопатин В. С. Указ. соч. С. 214.
(обратно)1481
Барсков Я. Л. Указ. соч. С. 250.
(обратно)1482
Храповицкий А. В. Указ. соч. С. 241.
(обратно)1483
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 86.
(обратно)1484
РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 22. Л. 53–54 об.
(обратно)1485
Там же. Л. 74–75.
(обратно)1486
АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 51–57 об.
(обратно)1487
РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 22. Л. 75.
(обратно)1488
Там же. Л. 56.
(обратно)1489
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 62–63.
(обратно)1490
Леннрут Э. Великая роль. Король Густав III, играющий самого себя. С. 374–375.
(обратно)1491
РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 22. Л. 56–56 об.
(обратно)1492
Храповицкий А. В. Указ. соч. С. 243.
(обратно)1493
АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 76.
(обратно)1494
Там же. № 1070. Л. 1.
(обратно)1495
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 64.
(обратно)1496
Там же. С. 88.
(обратно)1497
Там же. С. 87.
(обратно)1498
Там же. С. 78, 80, 87.
(обратно)1499
Родина Т. А. Русский дипломат в Лондоне. Дипломатическая деятельность С. Р. Воронцова // Россия и Европа. Дипломатия и культура. М., 1995. С. 24–25.
(обратно)1500
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 88.
(обратно)1501
Храповицкий А. В. Указ. соч. С. 241.
(обратно)1502
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 84.
(обратно)1503
РГАДА. Ф. 1261. Оп… 1. № 1065. Л. 38.
(обратно)1504
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 86.
(обратно)1505
Воронцов С. Р. Автобиография // Русский архив. 1876. № 1. С. 47–50.
(обратно)1506
Родина Т. А. Указ. соч. С. 25.
(обратно)1507
РГАДА. Ф. 1261. Оп… 1. № 1075. Л. 11.
(обратно)1508
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 90.
(обратно)1509
Храповицкий А. В. Указ. соч. С. 242.
(обратно)1510
РГАДА. Ф. 1261. Оп… 1. № 1075. Л. 17.
(обратно)1511
Храповицкий А. В. Указ. соч. С. 241.
(обратно)1512
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 289.
(обратно)1513
Храповицкий А. В. Указ. соч. С. 240.
(обратно)1514
Корсаков А. Н. Рассказы о былом // Исторический вестник. 1884. Т. 15. № i.e. 164.
(обратно)1515
Пыляев М. И. Старый Петербург. СПб., 1889. С. 308.
(обратно)1516
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 100.
(обратно)1517
АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 203.
(обратно)1518
Брикнер А. Г. История Екатерины Второй. М., 1991. С. 770–772.
(обратно)1519
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 101.
(обратно)1520
Harris J. Diaries and Correspondence of James Harris, firsl Earl of Malmebury. London, 1844. V. 2. P. 19.
(обратно)1521
Брикнер А. Г. Указ. соч. C. 776.
(обратно)1522
Сб. РИО. Т. 23. С. 555.
(обратно)1523
Григорович Н. Указ. соч. С. 349–354.
(обратно)1524
КФЦЖ 1791 г. СПб., 1890. С. 4297.
(обратно)1525
Семевский М. И. Кн. Платон Александрович Зубов // Русская старина. 1876. № 8. С. 46–47.
(обратно)1526
АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 59, 60.
(обратно)1527
Сб. РИО. 1885. Т. 42. С. 163.
(обратно)1528
КФЦЖ 1791 г. СПб., 1890. С. 469–476.
(обратно)1529
Там же. С. 506.
(обратно)1530
СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 67.
(обратно)1531
Там же. С. 88.
(обратно)1532
Бумаги князя Григория Александровича Потемкина-Таврического. СПб., 1895. С. 247–252.
(обратно)1533
РГАДА. Ф. 1. № 43. Л. 100.
(обратно)1534
Сб. РИО. Т. 23. С. 561.
(обратно)1535
КФЦЖ 1791 г. С. 679.
(обратно)1536
Храповицкий А. В. Указ. соч. С. 252.
(обратно)1537
Сб. РИО. Т. 23. С. 561.
(обратно)1538
Храповицкий А. В. Указ. соч. С. 252.
(обратно)1539
Сб. РИО. Т. 23. С. 562.
(обратно)1540
Madariaga I. Russia in the age of Catherine the Great. P. 524.
(обратно)1541
Тукалевский В. H. H. И. Новиков и И. Г. Шварц // Масонство. М., 1991. С. 190.
(обратно)1542
Антонова H. Л. Авдотьино. М., 1991. С. 17–18.
(обратно)1543
Тукалевский В. Н. Указ. соч. С. 177.
(обратно)1544
Письма С. И. Гамалеи. М., 1836. Кн. 1. С. 270.
(обратно)1545
Тукалевский В. Н. Указ. соч. С. 177.
(обратно)1546
Трутень. 1769. 4.1. С. 8.
(обратно)1547
Там же. С. 10.
(обратно)1548
Бакунина Т. А. Знаменитые русские масоны. М., 1991. С. 29.
(обратно)1549
Пекарский П. Дополнения к истории масонства в России XVIII века. СПб., 1869. С. 11.
(обратно)1550
Трутень. 1769. Ч. I. С. 5.
(обратно)1551
Новиков Н. И. Избранные сочинения. М.; Л., 1954. C. XIII.
(обратно)1552
Трефолев Л. Н. Предсмертное завещание русского атеиста // Исторический вестник. 1883. № 1. С. 225.
(обратно)1553
Каменский А. Б. «Под сению Екатерины…». С. 389.
(обратно)1554
Экштут С. А. На службе российскому левиафану. М., 1998. С. 21–38.
(обратно)1555
Новиков Н. И. Указ. соч. С. 373.
(обратно)1556
Боголюбов В. Н. И. Новиков и его время. С. 79–83.
(обратно)1557
Каменский А. Б. Указ. соч. С. 391.
(обратно)1558
Лонгинов М. Н. Новиков и московские мартинисты. М., 1867. С. 101.
(обратно)1559
Тукалевский В. Н. Искания русских масонов. СПб., 1911. С. 18.
(обратно)1560
Утренний свет. 1777. Ч. II. С. 277.
(обратно)1561
Там же. С. 252–253.
(обратно)1562
Там же. С. 22.
(обратно)1563
Там же. Ч. IV. С. 187.
(обратно)1564
Там же. Ч. I. С. 279.
(обратно)1565
Там же. 1778. Ч. VII. С. 62.
(обратно)1566
Там же. Ч. IX. С. 212.
(обратно)1567
Там же. Ч. VIII. С. 181.
(обратно)1568
Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. С. 832–834.
(обратно)1569
Лопухин И. В. Записки. М., 1990. С. 19–21.
(обратно)1570
Арндт И. Об истинном христианстве. М., 1784.
(обратно)1571
Бакунина Т. А. Указ. соч. С. 32.
(обратно)1572
Тукалевский В. Н. Указ. соч. С. 218.
(обратно)1573
Лопухин И. В. Указ. соч. С. 20.
(обратно)1574
Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. С. 207.
(обратно)1575
Мадариага И. де. Указ. соч. С. 834.
(обратно)1576
Лонгинов М. Н. Указ. соч. С. 155.
(обратно)1577
Тукалевский В. Н. Указ. соч. С. 201.
(обратно)1578
Madariaga I. Russia in the age of Catherine the Great. London, 1981. P. 522.
(обратно)1579
Московское издание. 1781. Ч. II. C. XI.
(обратно)1580
Там же. C. XII.
(обратно)1581
Московское издание. Ч. I. С. 286.
(обратно)1582
Там же. C. XXV.
(обратно)1583
Платонов О. А. Терновый венец России. М., 1995. С. 50.
(обратно)1584
Тукалевский В. Н. Указ. соч. С. 205.
(обратно)1585
Боголюбов В. Н. Указ. соч. С. 291.
(обратно)1586
Вечерняя заря. 1782. Ч. I. С. 185–186, 192; Ч. II. С. 319.
(обратно)1587
Там же.
(обратно)1588
Тукалевский В. Н. Указ. соч. С. 213–214.
(обратно)1589
Там же. С. 216.
(обратно)1590
Западов В. А. К истории правительственных преследований Н. И. Новикова // XVIII век. Л., 1976. С. 38.
(обратно)1591
Сб. РИО. Т. 27. С. 338.
(обратно)1592
Боголюбов В. Н. Указ. соч. С. 260–261.
(обратно)1593
Серков А. Великий мастер живет в Стокгольме // Родина. 1997. № 10. С. 97.
(обратно)1594
Там же. С. 98.
(обратно)1595
Лонгинов М. Н. Новиков и московские мартинисты. М., 1867. С. 110.
(обратно)1596
Мадариага И. де. Указ. соч. С. 835.
(обратно)1597
Сб. РИО. Т. 2. СПб., 1868. С. 117.
(обратно)1598
Лопухин И. В. Указ. соч. С. 23.
(обратно)1599
Там же. С. 24.
(обратно)1600
Там же. С. 21.
(обратно)1601
Там же. С. 47.
(обратно)1602
Там же. С. 29.
(обратно)1603
Западов В. А. Указ. соч. С. 39.
(обратно)1604
Утренний свет. 1777. Ч. VIII. С. 181.
(обратно)1605
Лопухин И. В. Указ. соч. С. 28.
(обратно)1606
Сб. РИО. Т. 28. С. 362.
(обратно)1607
Мадариага И. де. Указ. соч. С. 837.
(обратно)1608
Западов В. А. Указ. соч. С. 41.
(обратно)1609
Антонова Н. Л. Указ. соч. С. 57.
(обратно)1610
Там же. С. 44.
(обратно)1611
Мадариага И. де. Указ. соч. С. 839.
(обратно)1612
Антонова Н. Л. Указ. соч. С. 45.
(обратно)1613
Лопухин И. В. Указ. соч. С. 49.
(обратно)1614
Там же. 24.
(обратно)1615
ОР ГПБ. Ф. 369. Собр. Бонч-Бруевича В. Д. К. 375. № 29. Л. 17.
(обратно)1616
Лопухин И. В. Указ. соч. С. 27.
(обратно)1617
Там же. С. 28–29.
(обратно)1618
Семевский М. И. Кн. Платон Александрович Зубов. С. 605.
(обратно)1619
Барсков Я. Л. Переписка московских массонов XVIII века. С. 251.
(обратно)1620
Лопухин И. В. Указ. соч. С. 46.
(обратно)1621
Платонов О. А. Указ. соч. С. 52.
(обратно)1622
Сб. РИО. Т. 33. С. 190–191.
(обратно)1623
Храповицкий А. В. Памятные записки. М., 1862. С. 264.
(обратно)1624
Сб. РИО. Т. 33. С. 191.
(обратно)1625
Сафонов М. М. Завещание Екатерины II. СПб., 2002. С. 165.
(обратно)1626
Антонова Н. Л. Указ. соч. С. 58.
(обратно)1627
Храповицкий А. В. Указ. соч. С. 265.
(обратно)1628
Мадариага И. де. Указ. соч. С. 841.
(обратно)1629
Сб. РИО. Т. 2. С. 104–105.
(обратно)1630
Лопухин И. В. Указ. соч. С. 49.
(обратно)1631
Там же. С. 52, 55.
(обратно)1632
Сафонов М. М. Указ. соч. С. 163–164.
(обратно)1633
Сб. РИО. Т. 33. С. 127.
(обратно)1634
Там же. С. 144.
(обратно)1635
Там же. С. 175.
(обратно)1636
Там же.
(обратно)1637
Сб. РИО. Т. 2. С. 123.
(обратно)1638
Там же. С. 134.
(обратно)1639
Сафонов М. М. Указ. соч. С. 173.
(обратно)1640
Новиков Н. И. О достоинстве человека в отношении к Богу и миру // Русская философия второй половины XVI11 века. Свердловск, 1990. С. 151.
(обратно)1641
Антонова Н. Л. Указ. соч. С. 56.
(обратно)1642
Сб. РИО. Т. 2. С. 117–122.
(обратно)1643
Лонгинов М. Н. Указ. соч. С. 114–115.
(обратно)1644
Русская старина. 1876. T. XVI. С. 592.
(обратно)1645
Сб. РИО. Т. 33. С. 181–182.
(обратно)1646
Храповицкий А. В. Указ. соч. С. 292.
(обратно)1647
Сб. РИО. Т. 27. С. 398–399.
(обратно)1648
Моисеева Г. Н. Дополнительные данные к обстоятельствам преследования Н. И. Новикова // XVIII век. Л., 1976. Сб. II. С. 150.
(обратно)1649
Макогоненко Г. П. Николай Новиков и русское просвещение XVIII века. М.; Л., 1951.
(обратно)1650
Пиксанов Н. К. И. В. Лопухин // Масонство в его прошлом и настоящем. Т. I. М., 1914. С. 231.
(обратно)1651
Лопухин И. В. Указ. соч. С. 58.
(обратно)1652
Мадариага И. де. Указ. соч. С. 845.
(обратно)1653
Антонова Н. Л. Указ. соч. С. 63.
(обратно)1654
Храповицкий А. В. Указ. соч. С. 276.
(обратно)1655
Каменский А. Б. Указ. соч. С. 400.
(обратно)1656
Вяземский П. А. Записные книжки. 1813–1848. М., 1963. С. 110–111.
(обратно)1657
Русский биографический словарь. СПб., 1918. С. 594.
(обратно)1658
Русский архив. 1878. № 10. С. 219–222.
(обратно)1659
Там же. С. 210.
(обратно)1660
Письма и бумаги императрицы Екатерины II. СПб., 1873. С. 95.
(обратно)1661
Брикнер А. Г. История Екатерины Второй. СПб., 1885. Т. 2. С. 514.
(обратно)1662
Екатерина II. Памятник моему самолюбию. М., 2003. С. 56.
(обратно)1663
Хрестоматия по русской истории. Пг., 1923. С. 287.
(обратно)1664
Виже-Лебрен М.-Л. Воспоминания. СПб., 2004. С. 85.
(обратно)1665
Смирнова-Россет А. О. Записки. М., 1999. С. 101.
(обратно)1666
Хрестоматия по русской истории. С. 287.
(обратно)1667
Записки императрицы Екатерины Второй. СПб., 1907. С. 720.
(обратно)1668
РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 111.
(обратно)

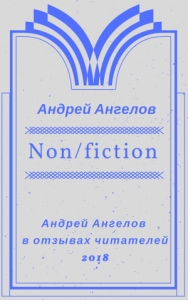

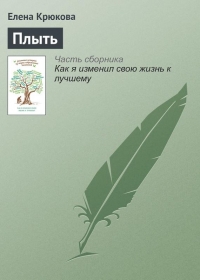



Комментарии к книге «Екатерина Великая», Ольга Игоревна Елисеева
Всего 0 комментариев